Т.А. Горькова. «Я сам себя заколдовал…» (Владимир Злобин: вехи судьбы и творчества)
Последние десятилетия XX века характеризуются особым интересом к литературе первой русской эмиграции, которая стала рассматриваться как единый литературный процесс. В это время увидели свет многие произведения писателей, творивших на чужбине. Но все же остается немало представителей эмигрантской литературы, чье творчество пока еще тайна за семью печатями. Одним из них является В.А. Злобин, имя которого всегда находилось в тени его могучих покровителей — Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, властителей дум Серебряного века. Между тем Злобин — самобытный поэт, талантливый критик и публицист.
Владимир Ананьевич Злобин родился в июле 1894 г. в Санкт-Петербурге в семье богатого купца, который оставил свое дело и семью, отправившись странствовать по России. В начале 1910-х годов Злобин поступил на филологический факультет Петербургского университета. Тогда судьба и свела его с Мережковскими. С Зинаидой Николаевной Гиппиус Злобина познакомил Н.А. Оцуп, его товарищ по университету. Злобин стал бывать на «воскресениях» Мережковских. «…Мое первое впечатление о салоне Мережковских и о самой Гиппиус было не из лестных, — вспоминал впоследствии Злобин. — Крашеные рыжие волосы, кирпичный румянец, какие-то шали, меха, в которых она куталась, делали ее похожей на чучело. Неприятно звучал ее голос морской птицы. Все в ней и вокруг нее казалось неестественным, вплоть до монокля, который она впоследствии заменила лорнетом, и узких надушенных папирос. Надо было много времени и громадное терпение, чтобы сквозь эту бутафорию добраться до ее настоящей человеческой сущности…» Гиппиус и Злобина первое время связывали отношения учителя и ученика. Гиппиус учила Володю писать стихи, знакомила с тайнами поэтического мастерства. Вскоре отношения стали более дружескими. В «Черных тетрадях» Гиппиус 27 июля 1918 г. записала: «Злобины, мать и сын-студент, мой большой приятель, живут с нами на Красной Даче нынче, на второй половине»[1].
Будучи литературным секретарем Мережковских, Злобин настолько сблизился с ними, что, когда надежды на нормальную жизнь в советской России не стало, «голодающий буржуй», как назвал сам себя Злобин, вместе Мережковскими и Д.В. Философовым покинул Петроград. Ночью 24 декабря 1919 г. все четверо отправились через Москву в Бобруйск и Гомель, нелегально перешли линию польского фронта и через Минск в середине февраля 1920 г. прибыли в Варшаву. З.Н. Гиппиус писала о Злобине в своем «Варшавском дневнике»: «…он, в свою меру, во всей… польской эпопее, был вместе с нами: и у Оссовецкого, и в Польско-Русском обществе, и у мессианистов, и лекции читал тоже везде с нами. <…> И если был у него характер поактивнее, то было бы, конечно, еще лучше. Он мог бы завязывать связи собственные с людьми, с которыми мы не могли связаться, благодаря нашему положению и, главное, нашему возрасту. <…> Этого, благодаря Володиному характеру, пока не выходило. Он просто оставался «на наших стезях». Я надеялась, впрочем, что в конце концов будет именно то, что нужно, и пока оставляла, как есть»[2].
Разочаровавшись в Пилсудском после заключения Польшей мира с советской Россией, Мережковские и их спутники — Философов и Злобин — 20 октября 1920 г. выехали в Париж.
В Париже, столице русского эмигрантского рассеяния, по инициативе Мережковских было создано литературно-философское общество «Зеленая лампа», секретарем которого стал Злобин.
Об этом периоде жизни Злобина остались воспоминания его современника Ю. К. Терапиано: «Элегантный, сдержанный, говорящий как-то особо, слегка размеренно, всегда определенно, твердо высказывающий свои взгляды, пунктуально-точный во всех литературных делах и встречах, Владимир Ананьевич, можно без преувеличения сказать, был «точкой опоры» квартиры на rue du Colonel Bonnet, и Мережковские во всем полагались на «Володю». <…> Он рассылал приглашения на собрания «Зеленой лампы», хлопотал, чтобы вовремя нанять зал, заведовал контролем…»[3]
Однако Злобин выполнял не только секретарские обязанности, но и непосредственно участвовал в работе «Зеленой лампы»: читал доклады, выступал в дискуссиях, редактировал стенограммы в журнале «Новый корабль» (1927–1928), где был членом редакционной коллегии. Он стал незаменимым человеком для Мережковских: ведал не только литературной частью, связями с издателями, но и вел всю хозяйственную жизнь этой семьи: «делал покупки, готовил еду, стирал и гладил» и даже заботился о золотой рыбке Мережковских по имени Константин[4].
С приходом фашистов в Париж Мережковские в 1940 г. переехали в Биарриц, небольшой городок на юге Франции. Положение супружеской четы оказалось бедственным — средств к существованию практически не было. Злобин как мог обустраивал их быт. В интервью Темире Пахмус в августе 1967 г. Терапиано рассказал, что «В. Злобин, который заботился о Мережковских, не знал, на какие средства их прокормить. Он буквально заставил Д.С. произнести речь по радио…в честь немцев»[5].
О роли, которую сыграл литературный секретарь Мережковских в том, что они «позорно закончили свой идеологический путь», пишет и другой мемуарист, который считает, что Злобин в большой степени ответствен «за все безобразия последнего периода жизни Мережковских». Злобина, «злого духа их дома, решавшего все практические дела и служащего единственной связью с внешним главным реальным миром», он называет основным виновником выступления Мережковского по радио в 1940 г., в котором тот приветствовал нападение Германии на СССР. «Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживем», — пишет Яновский в своих воспоминаниях. — Восьмидесятилетнему Мережковскому, кощею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. “В чем дело, — уговаривал Злобин. — Вы ведь утверждали, что Маркс — Антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть — он антидьявол”»[6].
Так ли это было, сегодня судить трудно. Остается только принять эти высказывания современников к сведению, памятуя о том, что национал-социалистов Злобин предпочитал большевикам, которых могла стереть с лица земли только германская армия с русскими национальными военными формированиями (см. его статью «Мережковский и его борьба с большевизмом»)[7], и что такие сильные личности, как З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский, были вполне самостоятельны в своих поступках.
Кроме того, надо учитывать и тот факт, что отношения Мережковского и Гиппиус со своим литературным секретарем складывались не всегда идеально.
По всей вероятности, покровители Злобина, «наши гении», как он иронично-почтительно называл их, в какой-то мере сами ограничивали свободу и инициативу молодого человека В дневниках Гиппиус оценочные характеристики Злобина окрашены чувством недовольства: «Варшавский дневник», 25 ноября 1921 г., Париж. «…Володя очень доверчив. Наивен, невинен — в общежитии, в смысле условного «savoir vivre» <«умение жить» — фр>. Он не имел «светской практики» и не умел вовремя приходить — вовремя уходить, выгодно быть и выгодно не быть. <…> Последнее время при Дерентале Володя и уходил. <…> Большей частью, едва являлся Савинков <…>, Володя уходил. Потом, если мы пили чай, я его звала — приходил, но был тенью, что совершенно естественно…»[8]
«Год войны». 24 июня 1939 г.: «Володя в доме, как чужой, он ведет какую-то свою жизнь, мы видим его только за repas <завтраком — фр. >, затем он бесследно исчезает, получив обычные 100 фр<анков> на завтра (с сегодняшним долгом)»[9].
9 декабря 1939 г. при отъезде из Биаррица в Париж: «С Вол<одей> ссорились (невоспитан и двойная жизнь»)»[10].
В письме Грете Герелль, шведской художнице, другу дома, помогавшей им материально, 19 сентября 1939 г. из Биаррица Мережковский также сообщает об отстраненности Злобина от них: «Бедный Володя заперся на ключ в своей комнате индивидуалиста, куда он никого не пускает. Возможно, это наша вина, Зины и моя, что мы недостаточно его любили и оставили его совсем одного. Мне его очень жаль, но я не могу себя заставить войти к нему. Надеюсь, впрочем, что в Париже пойдет лучше, когда завертится жизнь внешняя, общественная, чем здесь, в этом “раю авантюристов”»[11].
Несмотря на некоторые разногласия, Злобин остался с Мережковскими и выступал не только в качестве поверенного в их делах и прислуги, но и сиделки после смерти Дмитрия Сергеевича. Он, безусловно, находился под влиянием магии этих могучих личностей. «Я сам себя заколдовал…» — так скажет он о себе в одном из стихотворений.
В то же время Злобин, конечно, оказывал некое влияние на повседневную жизнь. Так, в 1943 г. он уговорил Зинаиду Николаевну написать книгу о муже. И хотя она считала, что писать такую книгу еще очень рано, все же взялась за нее, потому что «Володя сказал, что это единственный способ заработать немного денег, чтобы заплатить за квартиру и еду. <…> Володя уже продал ее, и это очень неприятно… Моя работа стала тяжелее в этих условиях, я борюсь с собой, так как знаю, что насильственный труд не дает добрых результатов» (письмо З.Н. Гиппиус Г. Герелль)[12].
Книга «Дмитрий Мережковский» осталась незавершенной, она опубликована только в 1951 г. (Париж, YMCA-Press) Злобиным, ставшим после смерти З.Н. Гиппиус наследником и хранителем архива Мережковских.
Разногласия со Злобиным отразились и в стихах Гиппиус. В 1941–1942 гг. она посвящает ему стихотворение:
Одиночество с Вами… Оно такое. Что лучше и легче быть ОДНОМУ. Оно обнимает густою тоскою, И хочется быть совсем ОДНОМУ. Тоска эта — нет! — не густая — пустая. В молчаньи проще быть ОДНОМУ. Птицы-часы, как безвидная стая, Не пролетают — один к ОДНОМУ. Но ваше молчание — не беззвучно, Шумы, иль тень их, всё к ОДНОМУ. С ними, пожалуй, не тошно, не скучно, Только желанье — быть ОДНОМУ. <…> В нем только что-то праздно струится… А ночью так страшно быть ОДНОМУ. Может быть, это для вас и обидно. Вам, ведь, привычно быть ОДНОМУ — И вы не поймете… И разве не видно, Легче и вам, без меня — ОДНОМУ.И еще три стихотворения Гиппиус, последовавшие одно за другим в 1943–1944 г. — «Я должен и могу тебя оставить…», «Не хлебом единым…» и «Я был бы рад, чтоб это было…», — посвящены Злобину, с которым Зинаида Николаевна ведет воображаемый разговор, высказывая свои обиды:
Так вот, скажу: пекусь о брюхе — Да и не только о своем! А от докучливой старухи, Что мне и вечером и днем Бурчит, что надобно о духе Вперед заботиться, — в ответ Я отмахнулся, как от мухи… Не говоря ни да, ни нет. На харю старческую хмуро Смотрю и каменем молчу. О чем угодно думай, дура, А я о духе не хочу.Эти стихи проникнуты тем же настроением своей незащищенности и одиночества. Но следует помнить, что Зинаида Николаевна требовала любить — «не как-нибудь другого, // А совершенно как себя».
Старую, больную, тяжелую в общении Зинаиду Николаевну Злобин не оставлял до последнего часа — он оставался, по сути, единственным близким ей человеком. А через шесть лет после ее смерти начал писать статьи, посвященные ей. Впоследствии они сложились в книгу «Тяжелая душа», увидевшую свет уже после смерти автора.
В предисловии к книге Злобин подчеркивает, что написанное им «не есть биография З.Н. Гиппиус в том смысле, в каком это обычно принято понимать». Рассуждая о правде и вымысле в мемуарной литературе, он обращает внимание читателя, что не всегда вымысел следует «понимать как искажение или подмену действительности. Это скорее некая художественная правда, какая в иных случаях к действительности ближе, чем воспроизведение фактов чисто фотографическое». Взгляд человека, знавшего тяжелую душу этой неординарной женщины не понаслышке, многое объяснял в ее личности. Подробно останавливается Злобин и на религиозных устремлениях Гиппиус, в которых ее «тяжелая душа» как-то смешивала образ Христа и добра с образом дьявола и зла». Не скрывал он и интимных подробностей отношений Гиппиус и Философова. Рецензируя книгу, Б. Нарциссов заметил: «…что делать, если душа поэта тяжелая, темная, может быть, темная прежде всего для него самого? Тогда нужно, чтобы кто-то, кто эту душу знает до потайных ее уголков, объяснил нам «самое Главное» в этой “тяжелой душе”.
Именно таким объяснением является книга Злобина о Зинаиде Гиппиус. Автор был близким другом четы Мережковских. Видно, что он любил этих двух своеобразных и столь разных людей; но книга написана с любящей беспощадностью. Почему был беспощаден Злобин к самым интимным сторонам тяжелой души поэта Зинаиды Гиппиус? Да потому, что поэту нужно быть беспощадно откровенным с самим собой, а поэт Зинаида Гиппиус, чрезвычайно щедрая на слова и в письмах, и в дневниках, заботливо скрыла за этими обильными словами свое “самое Главное”»[13].
Из супругов Мережковских отдавая предпочтение Зинаиде Николаевне, Злобин пишет в своей книге, что «… в их браке руководящая, мужская роль принадлежит не ему, а ей. Она очень женственна, он — мужествен, но в плане творческом, метафизическом роли перевернуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рожает он». Злобин считал, что влияние З.Н. на мужа весьма велико. Она, по его мнению, — автор идей, ставших основой его философской системы. Этот союз был необходим Мережковскому. В то же время он высоко ценил и Дмитрия Сергеевича, который был «человеком редкой душевной чистоты. <.. > Он был гениальный труженик, большой эрудит… понимал и ценил европейскую культуру как свою родную» (статья Злобина «Серебряный век»).
Верность Мережковским выразилась и в отношении Злобина к архиву писателей: он считал своим долгом передать его на родину. В 1963 г., уже очень больной, он приехал в Берлин в русский «Комитет по возвращению на родину» и 16 июня направил председателю комитета В.И. Кириллову заявление:
Глубокоуважаемый Василий Иванович!
Как Вам известно, я являюсь законным наследником литературных прав Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус. В моем распоряжении находится обширный и интересный архив, в котором находятся черновики их произведений, письма их и к ним, газетные вырезки со статьями, посвященными критике их произведений, и большой фотографический отдел, а также некоторые еще не изданные рукописи.
Этот архив я считаю своим долгом передать в распоряжение советского правительства как большую культурную ценность, которая не может принадлежать частному лицу. Мне хотелось бы передать этот архив незамедлительно, т. к. мне уже 69 лет и пока я еще в силах лично завершить это дело.
Одновременно с этим письмом я передаю Вам роман З. Гиппиус «Чужая любовь» в рукописи (единственный экземпляр) и рукопись-дневник «Серое с красным», который она писала в Биаррице во время немецкой оккупации…
Для передачи архива я готов войти в контакт личный или письменный с лицами, которым это дело будет поручено…[14]
Копию письма со своей пояснительной запиской В.И. Кириллов вскоре направил в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ):
…На наш взгляд, было бы целесообразно пригласить Владимира Ананьевича в Советский Союз. Он привезет с собой все находящиеся у него произведения Мережковского и Гиппиус. По его словам, они займут примерно 3 чемодана. Расходы до Советского Союза может взять на себя комитет.
Нам известно, что Злобин получает во Франции небольшую пенсию и испытывает материальные затруднения. В качестве вознаграждения, на наш взгляд, необходимо выделить В.А. Злобину, если Вы располагаете такой возможностью, некоторую сумму в советской валюте для того, чтобы он смог приобрести некоторые вещи в Советском Союзе…[15]
Письмо, как было принято в то время, направили в вышестоящие организации. Однако три чемодана рукописей крупнейших русских писателей не заинтересовали советских чиновников и ответа не последовало. Вскоре в архив пришла посылка, в которой находились радиопьеса Мережковского «Дмитрий Самозванец», дневник и роман Гиппиус «Чужая любовь».
Поэтическое наследие В.А. Злобина невелико. Печататься он начал в студенческие годы. В 1915 г. в Петрограде вместе с Л.М. Рейснер был редактором журналов «Богема» и «Рудин». Впоследствии он написал рассказ «Ларисса» о своих встречах с нею и ее отцом, профессором Петербургского университета. Участвовал также в студенческом «Кружке поэтов».
В 1918 г. опубликовал шесть стихотворений в сборнике «Арион» (Пб.: Сирин, 1918), о которых Н. Гумилев писал в рецензии: «Из шести его вещей три, помеченные 1916 годом, страдают неврастенической расплывчатостью.
Дыхание короткое, как у загнанного зверя, слишком сложно задуманные эффекты не удаются, слова тусклы и слабо прилажены друг к другу, чувствуется, что это начало. Стихи 1918 года значительно проще. Правда, в них еще нет ни силы выражения, ни радости всепоглощающей мысли, и они звучат скорее как разговор с самим собою, чем как обращенье, но в них есть какая-то благая тишина, в которой дух может беспрепятственно развиваться, если это ему суждено.
А дух тревоги, дух унылый, Тревогу жизненных невзгод С собой, как ветер легкокрылый, Бесследно время унесет…[16]В первые годы эмиграции стихи Злобина появлялись в печати редко, как и публицистические произведения. В 1922 г. он выступил со статьей «Тайна большевиков» в мюнхенском сборнике «Царство антихриста».
В 1920–1930 годы печатался в журналах «Новый дом», «Встречи», «Числа». В 1927–1928 г. был совместно с Ю. Терапиано и Л. Энгельгардтом редактором журнала «Новый корабль» (вышло четыре номера). Публиковался также в журналах «Современные записки», «Звено», «Возрождение», «Новый журнал». С «Современными записками», однако, вскоре испортил отношения, заявив, что журнал не выполняет своего предназначения: вместо того чтобы «собирать русскую культуру», журнал «обезличивает свободу»[17].
В периодической печати (журналы «Возрождение», «Новый журнал» и др.) постоянно публикуются и стихи Злобина. Но первая и единственная поэтическая книга Злобина «После ее смерти» (Париж: Рифма) появилась лишь в 1951 г., когда ее автору было под 60. Она получила высокую оценку критики. Ю. Иваск писал: «Создается впечатление, что появился новый поэт, уже давно печатавшийся, но еще никем не узнанный»[18].
Он причислил Злобина к «петербургской поэтической школе», но обращал внимание, что тот «существенно изменил в стихах петербургской школе: слова, ритмы — знакомы, но интонация другая».
«В своих стихах он часто отталкивается от непосредственных жизненных впечатлений (также — от снов) и стремится выявить скрытую в них духовную основу, Божественную волю. Так, он часто вводит мотивы смерти, обращается к образам души ангелов, сатаны, рая и ада, затрагивает основы небесной и земной любви, а также посмертного существования и связи с умершими». Образный язык Злобина обнаруживает происхождение от символизма, это язык космических обобщений»[19]. Современные критики отмечали также, что стихи Злобина, вполне самостоятельные, носят в то же время отпечаток влияния Гиппиус.
Литературно-критические работы Злобина появляются большей частью после войны. В 1950-х годах он публикует свои статьи в основном под рубрикой «Литературный дневник». Мысли его постоянно обращены к России. В рамках рубрики он часто затрагивает вопросы политические, вернее, рассматривает жизнь в России, прежде всего литературную, через призму политических событий. Будучи убежденным антибольшевиком, Злобин разоблачает приверженцев коммунистического строя, предрекая их скорую гибель. Но он разделяет «человеков» и «человекообразных», лишенных воли и фантазии, которым не нужна идея свободы и на которых опирается власть. Его интересует многое: и съезд советских писателей, и преследования Б.Л. Пастернака, его отказ от Нобелевской премии, и то, почему М. А. Шолохов не стал писать продолжение романа «Поднятая целина», и постановки пьес по романам Достоевского. Так, он дает оценку спектаклям «Бесы», поставленным в России и Париже. При этом его рецензия далеко выходит за рамки отзыва на постановку, превращаясь в философское эссе о Боге и человеке.
Конечно, многое из того, что написал Злобин, принадлежит истории (XX съезд, Хрущев и т. д.). Но некоторые его статьи актуальны и сегодня, например, о тайном замысле США расчленить Россию через отторжение ее национальных окраин.
В числе самых важных тем, которые волновали Злобина, — роль первой русской эмиграции и оценка ее вклада в русскую литературу. Публицист убежден, что в сложных жизненных обстоятельствах русская эмиграция сохранила национальное достоинство, находясь на чужбине. С любовью он пишет о выдающихся поэтах и прозаиках русского зарубежья — Владимире Смоленском, Георгии Иванове, Владимире Набокове.
Злобин одинаково не приемлет и прагматичного Запада, и СССР. Обращаясь к товарищам по эмигрантским страданиям, он пишет в стихотворении «Накануне» (1952).
Ни Запада с его угасшей славой, Пристрастья наших дедов и отцов, Когда еще с Российскою Державой Был крепок Мир, ни новых мудрецов, Что, властвуя, готовят гибель мира, Летящего неведомо куда, — Мы не хотим, о нет! и наша лира Не воспоет их рабство никогда.В статье «Голос крови» содержится основополагающее мировоззренческое суждение Злобина об отношении к родине: «Расстояние, отделяющее нас сейчас от России, приблизительно то же, как в начале изгнания. Но тогда мы от России отдалялись, отталкивались, теперь же к ней приближаемся».
В.А. Злобин мечтал, как и большинство изгнанников, побывать когда-нибудь на родине. Однако этому не суждено было сбыться. После тяжелой болезни он скончался в Париже 9 декабря 1967 г.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК
Д.С. Мережковский и его борьба с большевизмом[20]
I
В предвоенной, большевизантствующей Европе Д.С. Мережковский[21] своим антибольшевизмом, да еще на христианской основе, был не ко двору.
Не ко двору был он и при Гитлере[22] — не как антикоммунист и даже не из-за своего христианства, с которым «Propaganda Staffel»[23] на худой конец еще могла бы, морща нос, примириться. Но совершенно для нее неприемлемо было отношение Мережковского к России, его неколебимая вера в ее национальное возрождение.
О неколебимости этой веры немцы знали (кому знать полагалось) по еще довоенным статьям Мережковского (следили за русской зарубежной прессой пристально) и по его публичным выступлениям. Но и во время войны Мережковский своих взглядов не скрывал. Что немцы могут найти в них что-либо предосудительное, ему и в голову не приходило.
Его книги были запрещены во всех немцами занятых странах, не говоря уже о самой Германии, где его знаменитый «Леонардо»[24] продавался из-под полы. Исключение было сделано для одной Франции, но чисто теоретическое. Произведения Мережковского французские издатели покупали, но не печатали — из-за «недостатка бумаги».
Одну книгу, впрочем — «Europe face a l’URSS»[25], — издательство «Mercur de France» каким-то чудом выпустить умудрилось — в самом конце оккупации.
Это было новое, переработанное и дополненное издание давно распроданной антикоммунистической книги «Le Regne de l’Antichrist»[26]. В него вошли нашумевшие в свое время «Открытые письма» Мережковского к «сильным мира сего», в том числе письма к папе Пию XI[27], и ряд статей, разоблачающих подпольную работу большевиков в Европе.
Ныне это издание — библиографическая редкость. Не оттого, однако, что оно распродано, а исключительно благодаря усердию французских коммунистов, целиком его уничтоживших вскоре после освобождения Парижа от немцев.
Расправа — не менее решительная — ждала и автора. К нему на его парижскую квартиру, 11-бис авеню дю Колонель Бонне, явилось несколько вооруженных пулеметами мрачного вида личностей, перепугавших насмерть консьержку. Но Мережковского в живых уже не было, и «мстители» ретировались несолоно хлебавши.
Вообще коммунистической «Немезиде»[28] с Мережковскими не везло. Ускользнула от ее карающей десницы и З.Н. Гиппиус, расправа с которой должна была произойти 15 октября 1945 г., т. е. через шесть недель после ее смерти.
II
На этом коммунисты, однако, не успокоились. Началась посмертная травля Мережковского. Но травили его, главным образом, не как антикоммуниста. Зазорного в этом даже по тем временам не было ничего. Скорее — наоборот. После того как большевики начали хозяйничать в своих «зонах» и распространять свое влияние на Балканах, особенно же после захвата ими Чехословакии, союзники поняли, что метод и режим советский от национал-социалистического мало чем отличается и что, если уж выбирать, преимущество не на стороне большевиков. Сказал же Бевин[29] с трибуны парламента в бытность свою министром иностранных дел в кабинете Эттли[30]: «Единственная разница между Гитлером и Сталиным — это, что Гитлер уже мертв».
Таким образом, травля Мережковского за его непримиримость к советской власти могла бы, при всеобщем раздражении против надоевших до смерти большевиков, дать результат обратный, например третье издание «Europe face а l’URSS». С этим надо было считаться и действовать осторожно. А с другой стороны, как Мережковского обезвредить? Чем? Обвинить его в сотрудничестве с немцами? В антисемитизме? Но ведь этому, кроме дураков и невежд, не поверил бы никто.
Однако выбора у коммунистов не было. Да и время шло. И вот в «Честном слоне» начала появляться то одна заметка, то другая. (Этот «Слон» — юмористический большевистский листок, издававшийся в освобожденном от немцев Париже, был вскоре самими же большевиками прекращен за свое, даже на их вкус, чрезмерное подхалимство.)
В одной из этих заметок говорилось, что Мережковский «сманивал молодежь на службу в гестапо». Другая гласила: «За смертью писателя Мережковского французское военное министерство прекратило начатое против него дело по обвинению в шпионаже».
Шпионаж подразумевался, конечно, в пользу Германии. Что можно было на это ответить? Ну и прекрасно, что прекратило. А было бы еще лучше, если бы это дурацкое дело не затевали бы вовсе. Что же до сманиванья в гестапо молодежи, то этому не верили сами коммунисты. Несколько позже в нью-йоркском «Новом русском слове» были напечатаны о Мережковском воспоминания ныне покойной Н.А. Тэффи[31]. Что в них правда, что — вымысел, решит беспристрастный суд истории. Сама Тэффи многое из сказанного ею о Мережковском в следующей своей статье — о З.Н. Гиппиус — смягчает (речь все о том же «германофильстве» и «антисемитизме»), Но главное не в этом, главное — в общем впечатлении от статьи. Она вызывает — не может не вызывать — у тех по крайней мере, кто Мережковского знал и читал, прежде всего — недоумение. Ведь если Мережковский действительно был таким, каким его изображает Тэффи, то совершенно непонятно, как мог такой, скажем, «кретин» написать ну хотя бы «Юлиана»[32], не говоря уже о других, более значительных произведениях. Представить себе это так же трудно, как представить себе, например, что автор «Божественной Комедии»[33] — Смердяков[34].
III
На первой же своей парижской публичной лекции против большевиков, 16 декабря 1920 г., Мережковский, обращаясь к Европе, сказал: «Народам иногда прощается глупость, а иногда и подлость. Но глупость и подлость вместе — никогда. То, что вы с нами делаете, подло и глупо вместе. Это вам никогда не простится».
Подло и глупо было невмешательство Европы в так называемые внутренние русские дела. И вот добрая ее треть — ныне под властью большевиков. Не простилось соединение глупости с подлостью и Гитлеру, поставившему знак равенства между большевиками и русским народом. Вот с этим губительным соединением глупости и подлости, чем бы и когда бы оно антибольшевистскому делу ни грозило, Мережковский борется всею силою своего таланта и отдает этой борьбе последние двадцать лет жизни.
Его парижской лекции предшествует ряд выступлений в Польше на разнообразные темы. Но какова бы ни была тема, цель неизменно одна — свержение советской власти.
В 21-м году, во время начинающегося в России голода, он получает оттуда подписанное кровью письмо от группы русских женщин, несчастных матерей, умоляющих вывезти их детей из России, вырвать их из рук советских палачей — не только их накормить, но и спасти их души. Сколько бы Европа ни посылала хлеба в Россию, он до голодающего населения не дойдет.
Мережковский, который думает не иначе, опубликовывает это «страшное письмо» — действительно страшное, — как он его называет в иностранной прессе. Фритьоф Нансен, ходатай по делам большевиков[35], усиленно в то время хлопочущий о предоставлении им европейских кредитов, прочтя то письмо, которое он, кстати, страшным не находит, отвечает, что готов, во имя человеколюбия, содействовать помощи голодающим, но вне всякой политики. Мережковский за этот его «аполитизм» на него обрушивается.
Чтобы понять атмосферу того времени, надо вспомнить, что большевики тогда признаны Европой еще не были, всячески этого признания добивались и что запятнавший себя сношением с ними из среды русской эмиграции изгонялся. Вот отчего, когда комиссаром по беженским делам был Лигою Наций[36] назначен Нансен, это назначение было встречено русскими эмигрантами приблизительно так же, как было бы встречено бежавшими из гитлеровской Германии евреями назначение над ними комиссаром видного наци.
«Мы Вас, г. Нансен, не выбирали, — пишет ему в открытом письме Мережковский. — Если б нас спросили, то вряд ли наш выбор пал бы на ходатая того «правительства», из — под власти которого мы бежали. Но мы бесправны и обязаны терпеть, кого бы ни назначили. Если б вместо Вас назначили Кашена[37], мы стерпели бы и его».
Сам по себе аполитичный, чисто гуманитарный акт помощи голодающим при наличии в России большевистского правительства терял весь свой аполитизм и всю свою гуманитарность, становился этапом на пути признания Европой большевиков de jure. Это и сами большевики, и противники их понимали отлично. Оттого-то и спор между ними из-за отправки в Россию продовольствия был так горяч, и вопли большевиков о помощи становились все громче и наглее.
На пощечину Мережковского Нансен не отвечает. Ему на подмогу большевики выпускают Горького, который обращается к миру с воззванием[38] о спасении «миллионов русских жизней». Известный немецкий писатель Герхарт Гауптман[39] попадается на удочку и отвечает Горькому, что его призыв будет услышан не только немецким, но и всеми народами.
Мережковский пишет открытое письмо Гауптману. С величайшим терпением объясняет почтенному писателю, что такое большевизм, чем он угрожает миру, кто такой Горький, что он сделал с русской интеллигенцией, а главное, что за Горьким — Ленин и что помощь, о которой Горький взывает, — помощь не России, а трещащей по всем швам советской власти, русской компартии и ГПУ.
Единственный результат — меры, принятые Комитетом помощи голодающим по доставке продовольственных посылок адресатам непосредственно, с собственноручной обратной распиской, без вмешательства большевистского распределительного аппарата. На ход мировой истории это, однако, не влияет ни в малейшей степени. Но зато чревато последствиями совершившееся, увы, признание Европой большевиков…
IV
Что оно неизбежно — почти не было сомнений уже после поездки в Россию Герберта Уэллса и его книги «Россия во мгле»[40]. В этой книге знаменитый английский писатель утверждает, что, хотя большевики и ужасны и коммунизм — глупость, никакое другое правительство в настоящее время в России невозможно, и советует эмигрантам поскорее с большевиками примириться.
Слишком явно, что тут Уэллс говорит то, чего от него ждет подготовляющий признание большевиков Ллойд Джордж[41] («Торговать можно и с каннибалами» — его знаменитая фраза). Но что Уэллс, этот «первый соучастник каннибаловых пиров», как его называет Мережковский, на стороне Советов — неверно. Он вообще ни на чьей стороне — нигде. Безответствен и беспринципен, и в этом — достойная пара Горькому.
«В том, что произошло и происходит сейчас в России, — говорит в своей книге Уэллс, — большевики так же виноваты, как австралийское правительство». Эта фраза, достойная не то что Горького, а такого большевизантствующего сноба, как Бернард Шоу[42] (не тем будь помянут), Ллойд Джорджу тоже как нельзя более на руку.
Отвечая на совет Уэллса «примириться с большевиками», Мережковский рассказывает, как в Москве несколько человек детей, в возрасте от 10 до 14 лет, убили и съели своего товарища. Зачинщик, десятилетний мальчик, не проявил на суде ни малейшего раскаяния, а лишь сказал, что человеческое мясо на вкус «сначала — ничего, а потом пахнет».
«Не кажется ли Вам, — спрашивает Уэллса в открытом письме Мережковский, — что примиренье с большевиками, которое Вы нам так горячо рекомендуете, тоже «сначала — ничего, а потом пахнет»?»
Но подобно Бодлеру[43], тщетно пытавшемуся доказывать своей собаке, давая ей нюхать флакон с духами, что хороший запах приятнее дурного, Мережковский был бессилен удержать Европу в ее влечении к большевизму. Ей нравится «аромат Сталина». Между тем «каннибалы», еще не будучи признаны, но в признании уверенные, начинают наглеть. В тот же день, когда «Известия» печатают излияния Эррио[44] по поводу советских «достижений», где он между прочим заявляет: «Президент Пуанкаре[45] просил меня передать советскому правительству свою признательность», — в этот же самый день Луначарский[46], на съезде работников печати, произносит речь, в которой говорит: Франция поняла, что с этим бандитом Пуанкаре она далеко не уедет. Она послала нам другую важную птицу, Эррио, который, посовав свой нос туда-сюда, уже телеграфировал, что наша власть крепка. Пусть, однако, эти буржуи поторапливаются: прежде, чем начать отхватывать куски пожирнее, они могут взлететь на воздух от революционного взрыва.
V
Но и после признания большевиков Мережковский борьбу с ними не прекращает. Он разоблачает их подпольную работу в Европе, не устает повторять истины, «ставшие, — как он говорит, — банальными прежде, чем они стали понятными».
Одна из таких истин — невозможность большевиков порвать свою связь с коминтерном[47] (или с коминформом, что одно и то же), отказаться от всемирной революции и пропаганды, какие бы они ни давали на этот счет обещания. Верить этим обещаниям — величайшая глупость, тем более что своих планов большевики не скрывают, даже если и распускают для видимости эти почтенные учреждения.
«Некоторые факты современности, — говорит Мережковский в статье о подпольной работе большевиков во Франции, — до того невероятны, до того абсурдны, что невольно начинаешь подозревать у их авторов состояние безумия».
И он приводит один из таких фактов: «В один прекрасный день, по не вполне для самого себя понятным причинам, правительство мирной и процветающей страны открывает свои двери группе иностранных террористов. Те не скрывают, что их главная, даже единственная цель — подготовка террора и что намеченная жертва именно эта страна. Тем не менее правительство этой страны, не довольствуясь обычным приемом, окружает заговорщиков почестями и вниманием, дарит им дворец в центре города и, чтобы облегчить им работу по подготовке переворота, ставит их под защиту дипломатической неприкосновенности».
«Что сказали бы мы, — спрашивает в заключение Мережковский, — если б услышали историю вроде этой несколько лет тому назад? Думаю, что мы даже не нашли бы ее забавной ввиду ее полной неправдоподобности и совершенного абсурда».
«Впрочем, правительства европейских стран, — замечает он в другой статье на ту же тему, — не то чтобы не отдавали себе отчета в происходящей на их глазах и с их попустительства подрывной работе большевиков, но они пребывают перед этой зловещей картиной, точно зачарованные, в состоянии полной прострации, и единственная их забота — это скрыть от страны грозящую ей опасность».
В 1922 г., во время конференции в Рапалло[48], распространяется слух о переговорах Святого Престола с представителями советского правительства о заключении конкордата[49]. Газеты печатают отчеты о рауте и фотографии, на которых папские кардиналы сняты пьющими с советским комиссаром по иностранным делам Чичериным[50] за здоровье Ленина. Мережковский обращается к Пию XI с письмом, в котором не может скрыть своего возмущения.
«На святой земле Италии, — пишет он в этом письме, — служители Западной Церкви рукой, касавшейся Св. Даров, пожимают окровавленную руку величайших в мире убийц и святотатцев. Ведают ли, что они творят?» Мережковский предупреждает Папу, что, если «дело тьмы» совершится, конкордат между Святым Престолом и интернациональной бандой, именующей себя «прусским советским правительством», будет подписан, соединение церквей, о котором мечтали лучшие русские умы, станет навсегда невозможным. В конце он выражает надежду, что Бог этого ужаса не простит — наместник Христа, благословляющий царство Антихриста.
В ответ на это аббат Шарль Кене, секретарь архиепископа парижского монсиньора Шапталя, издает против Мережковского совершенно непристойную по грубости брошюру. Если не знать, кто ее автор, то можно подумать, что это — член какой-нибудь погромной организации, вроде «Союза русского народа»[51], а никак не лицо, принадлежащее к просвещенному кругу католического духовенства. Но Рим с этим не считается и возводит аббата Кене в кардинальский сан.
Конкордат, однако, не подписан. Но Мережковский себя не обманывает. Он понимает, что его вмешательство тут ни при чем.
VI
«Мировая совесть! Мы с Вами кое-что о ней знаем», — восклицает Мережковский в открытом письме Эмилю Бюре, редактору парижской газеты «L’Ordre», в ответ на его просьбу высказаться по поводу обращенного к «мировой совести» воззвания группы русских писателей в России.
И он подводит итог своей антибольшевистской деятельности. Он рассказывает, как в 20-м году, вырвавшись живым из могилы, он с наивностью думал, что «мировая совесть» молчит только оттого, что правда о России не известна и что стоит эту правду открыть, как мир, содрогнувшись и возмутившись, кинется тушить пожар — не русский, а свой, спасать — не Россию, а себя от общей гибели.
«И я призывал, вопил, умолял, заклинал, — признается он. — Мне даже стыдно сейчас вспомнить, в какие только двери я не стучался. Меня отовсюду выпроваживали с позором, даже не как назойливого нищего, а как последнего дурака, который не может утешиться о пропаже своих «серебряных ложек», украденных во время пожара…»
«И вот, в лоне вашей европейской свободы, перед зрелищем ужасающего равнодушия, с каким вы относитесь к собственной гибели, я задыхался, как задыхаются заключенные в «пробковых камерах» Чека. Вы, наверно, ужаснетесь моей неблагодарности, но я иногда спрашиваю себя, какая из двух «пробковых камер» хуже — наша или ваша?»
В начале 30-х годов всеми признанные большевики становятся «баловнями Европы», Мережковский продолжает с ними борьбу, но его голос сквозь стены «пробковой камеры» до мира не долетает. Иностранная пресса больше Мережковского не печатает или требует от него статей не политических. А издания русские, где он продолжает писать и где появляются его статьи против большевиков, самые значительные, иностранцам недоступны. Ни одна из этих статей ни на один европейский язык не переведена.
Что он здесь, в Европе, кончит свои дни в «пробковой камере», от которой его не избавит даже смерть, — этого себе представить Мережковский, при всей живости своего воображения, не мог. Но катастрофу, Вторую мировую войну, он предчувствовал, когда еще как будто ничто ее не предвещало. Ему даже казалось, что эта катастрофа будет гибелью Человечества — новой «Атлантидой»[52]. В 23-м году, отвечая на анкету швейцарского ежемесячника «La Revue de Geneve» о «будущем Европы», он в его январской книжке печатает краткую, но очень яркую статью. Если опустить обычные в таких случаях оговорки, надежды и комплименты, то будущее Европы выражается для Мережковского одним словом: антропофагия[53].
Но сейчас об этом страшном пророчестве лучше не вспоминать. Как сказала еще в начале Первой мировой войны З. Гиппиус:
В часы неоправданного страданья И нерешенной битвы Нужно целомудрие молчанья И, быть может, тихие молитвы[54].Ларисса[55][56]
В один серый мартовский день, часов около четырех, зазвонил телефон на моем столе. Ничего необыкновенного в том не было. Но снял я трубку нехотя, не сразу. Предчувствие? Может быть, хотя чему было предчувствоваться?
Незнакомый женский голос. Меня просят немедленно приехать по важному делу в кафе около Монпарнаса. Голос приятный. Незнакомый? Да, но что-то в нем знакомое… Очень приятный голос, но все-таки доверия не внушает. Однако я поехал.
Нашел я ее сразу и сразу же понял, что приехал зря: дела никакого не выйдет. Да и есть ли оно? Вид она имела, впрочем, самый деловой и столик, за которым сидела, весь заваленный папками, бумагами, напоминал походную канцелярию. Тут же — множество пустых рюмок, чашек, стаканов из-под пива. Народу, видно, перебывало до меня уйма, тоже все «по делу», должно быть.
Она была не одна. В далеком углу, за отдельным столиком, сидела симпатичная, сухенькая старушка, в черном вдовьем платье, — такая маленькая, тихая, скромная, что издали ее легко было не заметить, — ее мать. Она меня с ней познакомила, когда я уходил.
Ожидал ли я встретить урода, аккуратную старую деву в роговых очках, или одну из тех парижских деловых дам, с которыми не дай Бог связаться — не знаю, но mademoiselle X. приятно меня удивила. И опять мелькнуло что-то знакомое, кого-то она мне напомнила.
Она была обольстительна. О, конечно, авантюристка. Тверда, энергична и в то же время женственно-беспомощна. Но беспомощность эта сочеталась с мужской твердостью как бы даже естественно. Впрочем, было в этом сочетании все же что-то не вполне благополучное, если приглядеться. Все будто и ничего, и очень мило, а нет-нет и вспыхнет в серых глазах (особенно знакомы эти серые глаза) искорка страха. Вспыхнет и тотчас погаснет.
О деле мы почти не говорили. Она и сама скоро о нем забыла и с легкостью неожиданной — меня эта легкость тоже почему-то не удивила — перешла на другое. Подозвав гарсона, она заказала «une fine»[57], но я поблагодарил и попросил подать пива.
Она долго рассказывала о себе. Я молчал, слушал, смотрел в серые глаза с мелькавшими в них искорками страха, пил пиво, курил и вдруг все понял. Да ведь это же совершенное подобие, точная копия Лариссы Михайловны Рейснер, моего юношеского увлечения. Даже прическа та же: пробор и туго заплетенные, на уши закрученные косы. Поразительно!
Конечно, я мог ошибаться. Я знал mademoiselle X. какой-нибудь час и делать на основании ее физическою сходства с Лариссой вывод о полном между ними тождестве было по меньшей мере легкомысленно. Но легкомыслие меня не пугало и в своей правоте я про себя не сомневался ни минуты. Я знал, что «Амазонки» — типа Лариссы и ее парижского двойника — бесплодны, что они дела своего не делают и чужому вечно мешают. О причине — главной — я догадывался. Мне казалось и кажется до сих пор, что эта причина в исключительно неудачном соединении отрицательных сторон мужской и женской природы. Таков мой, ни для кого не обязательный диагноз.
***
Во время моего увлечения Лариссой я, конечно, ни о каких амазонках не думал и вообще от этих проблем был далек. В Лариссе мне нравилось все: как она играет в теннис и как на коньках катается. Нравились и ее стихи, которым я и многие мои приятели-поэты жгуче завидовали. Молодому и совсем еще неопытному студенту-первокурснику, каким я тогда был, казалась она чудом непостижимым. Впрочем, кто из знавших Лариссу Рейснер не был ею увлечен хотя бы мимолетно?
Познакомился я с нею через ее отца[58], профессора Петербургского университета, у которого экзаменовался по философии права и который, поставив мне незаслуженное «весьма», неожиданно пригласил меня к себе.
Помню отлично его небольшой, узкий кабинет, где в один декабрьский вечер я сидел и ждал его с моими стихами. Полки с книгами, широкий, покрытый серым солдатским сукном письменный стол, бронзовый улыбающийся Будда[59] и… что это? Над столом громадная, сверкающая, как солнце или как только что вычищенный самовар, медная доска, вроде тех, что можно встретить на дверях страховых обществ или пароходных компаний. На доске — загадочная фраза: «Господи, подожди еще немножко». Когда впоследствии, будучи уже принят в доме, я полюбопытствовал, что это значит, профессор рассказал длинную историю, из которой я запомнил только, что это — слова, произнесенные кем-то из его близких о спасении его «в одну страшную ночь» от самоубийства.
Стихи мои разругали, как они того и заслуживали. Но я ушел вполне счастливым: Ларисса!
Я в нее сразу влюбился. Мы стали видаться часто, почти каждый вечер встречались в Юсуповом, на катке, откуда я ее потом провожал домой на Петербургскую сторону. Однажды, взглянув на меня пристально, она сказала:
— Знаете, у вас профиль Данте[60]. Я буду вас звать Алигьери. Послушайте, Алигьери, давайте издавать журнал.
Издавать журнал — настоящий, — было и в те времена в России делом не легким. Но все как-то устроилось довольно быстро, что теперь мне кажется несколько подозрительным. Михаил Андреевич Рейснер стал президентом Российской академии наук при большевиках не случайно. Думаю, что его связь с коммунистической партией была крепкая, давняя, хотя прямых доказательств этому у меня нет. Так что возможно, что «Богема»[61] издавалась на большевистские деньги. С третьего номера среди сотрудников началось «брожение» и нелады, в которых я разбирался плохо, но был неизменно на стороне Лариссы. В конце концов мы с нею вышли из состава редакции, передав журнал главе «оппозиции», поэту А. Лозине-Лозинскому[62]. Вести журнал он был совершенно неспособен, и через два-три номера — не помню точно — издание прекратилось.
Но мы с Лариссой не унывали и затеяли новый — «Рудин». От «Богемы» он выгодно отличался тем, что нам удалось найти очень талантливого рисовальщика и карикатуриста, фамилию которого, к сожалению, не помню. Его рисунки журнал удивительно оживляли, делали его злободневным и политическим. Писали в него усиленно, кроме Лариссы, ее отец и даже мать, маленькая, худенькая и презлющая женщина, Екатерина Александровна, у которой внезапно открылся литературный талант. Над этим засильем семьи Рейснер Ларисса подшучивала:
Пишет папа, пишет дочь, Пишет мама день и ночь.Но и с «Рудиным» назревала катастрофа. Ларисса скоро забрала его совершенно в свои руки, и мне в конце концов пришлось бы уйти, если бы не одно событие, предупредившее неизбежную развязку.
Я бывал у Рейснеров часто, и меня всегда радушно принимали. Но в последнее время, когда мои визиты в связи с журнальными делами участились, я заметил не то чтобы перемену, но на меня стали иногда посматривать вопросительно и как будто с ожиданьем, особенно мать. Так мне по крайней мере казалось. Тогда я не нашел ничего лучшего, как сделать Лариссе предложение.
Глупее этого дня в жизни моей не было. Предупредив Лариссу по телефону, что мне необходимо ее видеть, я зашел в парикмахерскую, потом в цветочный магазин и на извозчике отправился на Петербургскую сторону. Меня провели в кабинет, где, как всегда, двусмысленно улыбался Будда и сверкала медная доска со спасительными словами. Ларисса вышла не сразу. Наконец она появилась и села на кончик стула. Вид у нее был скучающий. Я вручил ей букет и сказал все, что в таких случаях полагается.
Она посмотрела на меня безучастно и воскликнула:
— Вот неожиданость!
И помолчав, вставая:
— Нет. Я вас не люблю.
Будь она поумнее или обладай тем женским чутьем, что в делах сердечных никогда не обманывает, она могла бы ответить: «Вы просите моей руки, но ведь вы меня не любите». И была бы права.
Бывать с того дня я у Рейснеров перестал. Но о Лариссе я продолжал думать. Мне жаль было нашей дружбы.
Прошла весна и за нею лето. Как-то в конце августа (1915 г.) я, в книжном магазине Вольфа[63], в Гостином дворе, встретился с Екатериной Александровной. Она в меня «вцепилась»:
— Куда вы канули, Алигьери? (Она старалась подражать дочери.) И вам не совестно забывать старых друзей? Приходите как-нибудь обедать. Я сварю зеленые щи.
Почему бы и не пообедать у Рейснеров? В конце концов, сам же я виноват. Никто меня за язык не тянул делать это дурацкое предложение. Может быть, удастся наладить с Лариссой дружбу. («Рудина», кстати, давно не существует.)
И вот я снова в знакомой квартире на Петербургской стороне. Перемен как будто никаких, точно я там был вчера. Все так же Будда улыбается, доска сверкает.
Ларисса при встрече на минуту смутилась, но тут же оправилась. Однако я подумал: «Она действительно меня не любит. Это чувствуется помимо слов. Да и дружба, пожалуй, не выйдет».
За обедом, после зеленых щей, профессор торжественно объявил, что должен сделать «важное сообщение». Я насторожился. Новый журнал? Нет, дудки! Или?.. Но оказалось вот что: Ларисса, все лето просидевшая в городе, мечтает прокатиться по Волге — о, не на пароходе, это скучно, а на лодке — спортивная прогулка. Один спутник уже есть. Не хватает еще одного. Не хочу ли я войти в компанию?
Мне это понравилось, хотя я и понимал, что здесь — ловушка. Но ловушка не ловушка, а провести неделю на свежем воздухе, в лодке, ночевать в прибрежных деревнях или у «бакенщиков» (так называют тех, кто поддерживает огни фарватеров) — какая приятная перемена после скучного лета в крымской санатории, куда я сопровождал мою мать. Я согласился. На следующий день меня познакомили с нашим спутником, студентом-психоневрологом, Гришей. Это был здоровенный, добродушный и немного придурковатый парень — отличный компаньон для такой прогулки, в Лариссу к тому же не влюбленный по какой-то мудрой, в этом случае, глупости.
Безумная наша авантюра — поздней осенью почти сто верст по Волге в лодке — кончилась бы, наверное, катастрофой, если бы не хорошая погода. Сентябрь в том году выдался изумительный, и сверкавшие осенним золотом волжские берега являли зрелище красоты неописуемой.
Во время плаванья, длившегося около недели, я, между прочим, заметил, что Ларисса не то что к природе нечувствительна, но как-то вне ее. Она и восхищалась ею и многое замечала, но воспринимала ее как нечто постороннее, неживое…
Гребли, чередуясь, — двое за веслами, третий за рулем. Ели сырую капусту, запивая ее водой прямо из реки. И ничего, — сошло. Даже из разбойничьего гнезда, куда однажды попали на ночлег, ушли целы и невредимы. Но у самого Нижнего судьба нам изменила, пошел дождь, и в Нижний мы прибыли в довольно жалком виде. Там мы лодку бросили — довольно! — и дальше пароходом до Казани, где жила Гришина кормилица, Полиевктовна, у которой перед возвращением в Петербург на несколько дней остановились отдохнуть.
В Казани — небольшое происшествие, но имевшее важные последствия. Кажется, в первый же день мы в сумерки отправились втроем побродить в лесок, неподалеку от дома (Полиевктовна жила на том берегу, против города) и в темноте заблудились. И вдруг, о ужас! — гроза. Случайно взглянул на Лариссу и не узнаю. Что с нею? Губы стиснула, дрожит, вся ссохлась, потемнела, но главное, стала совершенно похожа на свою неприятную, злую мать. Точь-в-точь Екатерина Александровна, напуганная грозой.
После этой прогулки Лариссины чары, уже почти переставшие на меня действовать, рассеялись окончательно.
***
По возвращении в Петербург я о Лариссе перестал думать. Забывалась она, правду сказать, с какой-то головокружительной быстротой. Каждый день собирался ей позвонить и все откладывал. Молчала и она, точно действительно «опрокинулась во тьму небытия». Так прошел, быть может, месяц, а то и больше.
Наконец, звоню. У меня два места в ложе на спектакль с Яворской[64], присланные одним приятелем-артистом! Идти одному скучно. Ларисса ничего, тотчас соглашается, будто не было разлуки.
В антракте угощаю ее в театральном буфете чаем с бутербродами. Ларисса все время что-то говорит. Слушаю одним ухом. Мне скучно. Но вот антракт, слава Богу, кончается, публика расходится по местам. Собираюсь встать и вижу — Ларисса плачет. Громадные слезы, стекая по щекам, падают со стуком на недоеденный бутерброд. Я ничего не понимаю.
— Что с вами, Ларисса Михайловна? Успокойтесь… Пойдемте, пора.
Кое-как успокаивается. Но в коридоре опять слезы. Однако кое-как ее усаживаю в ложу.
После спектакля долго трясемся на Петербургскую сторону. Оттепель, ухабы. Ларисса не рыдает, но говорит страстно, без конца о «роковых ложных шагах», о каких-то рушащихся на нее «огненных стенах». Я молчу. Мне не только скучно, но и стыдно. Какая упорная!
— До свиданья, Ларисса Михайловна.
— До свиданья, Алигьери. Я эту ночь не забуду никогда. Как я рада, что все объяснилось. Позвоните завтра не позже десяти. Все будет хорошо, поверьте.
Что объяснилось? Что будет хорошо? О, Боже, какая скука!
Звоню через неделю. Подходит Ларисса.
— Алигьери?.. Вот кстати: я только что от портнихи, выбирала материю на подвенечное платье…
— Вы замуж выходите? Вот как! За кого?.. Поздравляю.
Шаги, шепот. Это подошла, очевидно, мать.
— Как за кого? За вас, Алигьери. Вечером приезжайте непременно. Я должна вам показать образчики…
Так вот что значило: «Все будет хорошо».
Я повесил трубку, сел к столу и написал амазонке письмо — краткое, но решительное.
Мы еще несколько раз встречались на литературных собраниях. Я ей издали кланялся, но не подходил.
Дальнейшая ее судьба известна. О Лариссе Рейснер, комиссаре советского торгового флота, жене большевика Раскольникова[65], уже писали. Умерла она неожиданно, совсем еще молодой, от тифа, в больнице.
Говорят — отравили.
Поэт нашего времени. В. Смоленский (К выходу его собрания стихотворений)[66]
Мне как-то еще ни разу не приходилось писать о стихах; может быть, оттого, что стихи «сами по себе», стихи «как таковые», отдельно от человека, их пишущего, мало меня интересуют. Человека же в стихах в большинстве случаев либо совсем не чувствовалось, по крайней мере в тех, что попадались мне на глаза, либо там мелькало нечто, о чем ни думать, ни писать не было охоты.
Хорошо или плохо написано стихотворение — не суть важно, как не важно и его содержание. Важно прежде всего — стихи это или не стихи, живой это цветок или бумажный? Как они распознаются — объяснить не берусь. Знаю только, что во мне всякое настоящее стихотворение вызывает радость; пусть это будет чертополох, он в тысячу раз милее самой пышной коленкоровой лилии.
Поэтому спор о стихах не радующих, стихах без мании, что могли бы стихами стать, да не стали, оттого что не произошло чуда «преосуществления», — спор пустой. Но о них-то как раз и спорят и говорят больше всего, чуя, что что-то в них неладно. А неладно в них то, что это не стихи, а рифмованные строчки, ничего общего с поэзией не имеющие. Но, может быть, еще более далеки от поэзии стихи, что как будто к ней всего ближе. Я имею в виду тот род певучих, музыкальных стихов, чья музыкальность обратно пропорциональна их смыслу. Чем музыкальнее, тем бессмысленнее.
Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись[67].Чтобы слово вернулось в музыку, оно должно перестать быть словом, т. е. потерять свой смысл, развоплотиться.
Окончательно потерять смысл, раствориться в музыке, как лед в кипятке, оно, однако, не может. Какие-то обрывки смысла в словах, в сочетании слов мелькают, давая иному критику повод говорить о «священном косноязычье»[68]. Для самого же поэта, сохранившего память о былом значении опустошенных им слов, его стихи не бессмысленны, но их смысл понятен ему одному.
Однако не всегда — и это надо помнить — развоплощенное слово становится музыкой. Развоплощенье тоже искусство, тоже мания, хотя и другого рода. Бывает, что вместо ожидаемой «гармонии сфер» получается «жил-был у бабушки серенький козлик» или просто шум, а то и ничего, молчание — в зависимости от способностей и темперамента поэта.
И вот слово — «звук пустой». Но вместе с его смыслом поэт теряет и чувство реальности. Можно говорить что угодно о чем угодно — все одинаково бессмысленно и бесполезно.
Разбрасывать и собирать слова, Уже почти без смысла и значенья.Привожу эти строчки Смоленского как доказательство того, что от опасного «уклона» не убереглись и лучшие из наших зарубежных поэтов. Что же до критиков, то зачастую приходится слышать утверждения вроде следующих: «Алданов[69] и Толстой[70]», «Корвин-Пиотровский[71] и Пушкин». Что ответить? Кое-кто из читателей возмущается и прав. Пусть и Алданов и Корвин-Пиотровский существуют, но они хороши, поскольку они на своем месте. К сожалению, у нас сейчас насчет критики слабо и порядок навести в нашем литературном углу некому. Был бы Мережковский, Антон Крайний[72] или Ходасевич[73], многое было бы иначе. Но их нет и вместе с ними мы потеряли самое ценное, что имели: беспощадность к посредственности.
***
Смоленского эти рассуждения не касаются. Он может выдержать любую критику, потому что он поэт настоящий. Это, конечно, не значит, что в его стихах, как и в нем самом, нет недостатков. Но не в них суть (у кого их нет!), а важно то, что он с ними сделал, чего достиг, несмотря или благодаря им.
Признаюсь, если бы мне пришлось писать о Смоленском только по его двум первым книгам «Закат» и «Наедине», я написал бы совершенно иначе и выводы мои были бы, по всей вероятности, обратны тем, к каким я пришел, прочтя в корректуре его третью книгу стихов: «Счастье».
Когда Смоленский в первый раз читал мне свои стихи, я не сразу почувствовал, что это человек, близкий к отчаянью. Но все же то, что я тогда почувствовал, меня удивило и встревожило и я стал его утешать, как будто можно было его утешить. В нем уже тогда началось то «замыканье в себя», от какого он впоследствии чуть не погиб, дойдя до страшного одиночества.
А какое феерическое начало! Как лебедь, медленно скользящий По зеркалу озерных вод, Как сокол, в облаках парящий, Мой призрачный, не настоящий, Мой выдуманный мир плывет. И на его спине крылатой В томительном и сладком сне Я медленно плыву куда-то, Без сожаленья, без возврата, В прозрачной тая глубине. И голос вещий, голос сонный Мечтающей души моей Плывет над темнотой бездонной И, гулким эхом повторенный. Бесследно исчезает в ней.Этим прелестным, воздушным, тающим, действительно как бы призрачным стихотворением открывается первая книга Смоленского «Закат». Поэт в «томительном и сладком сне» «медленно плывет куда-то». Куда — сам не знает. Но как раз это-то и важно, потому что блаженный мир хотя и призрачен и нереален, но цель, к какой он незаметно движется, — самая что ни на есть реальная. Что это за цель — мы узнаем только из третьей книги:
Луч зари позолотил окно. Утреннюю не затмив звезду… Это все обман — давным-давно Я живу в аду.Вот об этом аде, где в одно прекрасное утро просыпается заснувший в раю поэт, почти все стихи его двух первых книг и добрая половина третьей.
И когда протянет руку друг, И когда глаза любви сверкнут, Все равно, не разорвется круг Сатанинских пут.Да, спасти Смоленского могло только чудо. Впрочем, до спасенья еще далеко.
Но что случилось? Как попал он в ад?
Не знаю. Очевидно, благодаря роковому стечению обстоятельств, ибо если сказать, что из-за неверья, — значит не сказать ничего: всякий грех, в большей или меньшей степени, отрицание Бога. К тому же неверье Смоленского, в своей первоначальной форме, меньше всего напоминает «воинствующее безбожье»! Это скорее, хотя и не то, что называют «скепсис».
Здесь Бога нет. Он где-то там, Он где-то — иль нигде — над нами.Впрочем, какая-то неприятная нотка в этом все же есть. В другом стихотворении, говоря о грядущем безбожье, Смоленский его как будто даже осуждает:
Будут жить в тесноте — тесной станет земля, как тюрьма, — Будут знать, что ни Бога, ни ада, ни вечности нет.Но в одно прекрасное утро, нежданно, как всегда в этих делах, «что-то» случается и происходит метаморфоза:
Ты встанешь в некий час от сна, Завеса разорвется дыма, И станет тайна жизни зрима И отвратительно ясна, И в правду претворится ложь. И ты не сможешь… — Ты умрешь.Ложь, что Бога нет, становится для Смоленского самоочевидной истиной. Теперь он знает, что Его нет.
Какое там бессмертие — пуста Над миром ледяная высота.И в то же мгновенье «дымовая завеса», призрачный мир, где живет поэт, рассеивается и тайна жизни предстает перед его взором во всей своей отвратительной наготе!.. Она в самом деле отвратительна, ибо, по слову Достоевского, если Бога нет, жизнь — дьяволов водевиль. Но всего отвратительнее — это что Смоленский отныне обречен на роль живого мертвеца.
Но будет долго тень твоя, Дрожа в изнеможденном теле, Не зная сна, не видя цели, Бродить меж камней бытия! И будет повторять слова, Скучать, и лгать, и улыбаться — Как все — и будет всем казаться, Что мертвая душа — жива.***
Но во всей своей безнадежности ад Смоленскому открывается в любви.
Расцветает любовь над болезнью и над нищетой, Над бессильем и ложью, над сном, над усталыми днями, Расцветает над жизнью, прекрасной и темной мечтой, Обвиваясь вкруг сердца, впивается в сердце корнями! Над твоею душой, над дыханием трудным твоим, Над пустыми словами, над лирою, глухо звенящей, Расцветает, цветением белым и легким, как дым, Разгораясь над сердцем, над миром сияньем дрожащим. Прорастающий стебель пронзает насквозь бытие. О, смертельное счастье, о, бедное сердце твое!Но эта вездесущая, смиренная и милостивая любовь в ад не проникает. Там ее нет. Там
Каждая надежда ложная, Каждая любовь не та.И Смоленский это хорошо знает.
Никого не любить, ни себя, ни других — никого. Ничего не хотеть — даже смерти, не ждать — даже чуда, Вот отчаянье стало спокойное, как торжество, Стало сердце, как камень, и камни, и камни повсюду. Стало сердце, как камень, а ты говоришь о любви, Стало сердце, как камень, а ты говоришь о надежде, Те же звезды сияют и лгут и сияют, как прежде, Только сердце как камень, а было в слезах и в крови.Невозможность любить — ад Смоленского.
О любви… — Молчи, душа, молчи, Привыкай к немой и темной доле, Привыкай и сердце приучи К ночи, одиночеству и боли. Не надейся — непроглядна тьма, Неподвижна, а за ней другая…И вот стихотворенье, может быть, самое страшное, какое мне когда-либо приходилось читать:
Есть тишина, ей нет названья, Ей нет начала, нет конца, И мертвое ее дыханье Живые леденит сердца. Есть тишина — невыносимо Прикосновенье пустоты — Она, неслышно и незримо, Ползет со страшной высоты, Небесные колебля своды, Клубясь меж звезд и облаков, В широкие вползает входы И в щели узкие домов. Тогда, как в ледяных могилах, Тогда, как в непробудном сне, Крик человеческий не в силах Возникнуть в мертвой тишине. Беззвучно шевеля губами, Нем человек. И на него Смерть смотрит тусклыми зрачками. Не видящими ничего.Неожиданно и ужасно то, что смерть, наполняющая пустотой весь мир, идет из глубины небес, как бы из недр самого Божества. Но, очевидно, на небесах происходят вещи еще более невероятные и страшные, чем на земле. Так, в стихотворении «Гибель» Смоленский, вспоминая приснившийся ему небесный бой, в котором погибает Люцифер[74], рассказывает:
И на предельной высоте, У опустевшего престола, В сиянии и красоте Мерцающего ореола, Увидел я его, и мгла Вставала за его плечами, И по щеке его текла Слеза, и дикими очами Смотрел он с высоты высот На рай, потерянный навеки, И медленно смыкались веки, И горько улыбался рот.Что здесь случилось — мы не знаем, даже не догадываемся. Но чувствуется, что нечто роковое, ужасное, безумное и совершенно непохожее на то забавное приключение, ангельскую шалость, о какой нам рассказывают на уроках Закона Божьего. Особенно почему-то поражает: «У опустевшего престола», и на минуту кажется, что между сползающей с небес пустотой и этим опустевшим престолом — прямая связь.
Судя по некоторым стихотворениям Смоленского, для него настоящая, неискаженная действительность, подлинное бытие — там. Здесь же только его перевернутое, как в зеркале, обратно — подобное отражение, полуложь-полуправда, где есть все — и ничего.
Но в мире тишины и сна. Где ты так глубоко дышала, Быть может, только ты одна Средь призраков существовала, —обращается он к музе — существу иного мира. Но еще более подчеркнута призрачность здешнего в стихотворении о душе:
Как в водах темного колодца, Во мне душа отражена, Легчайшими крылами бьется О гладь зеркальную она. Сквозь толщу бледного эфира Доходят, слышные едва, Несуществующего мира Неясные, как сон, слова. Нет ничего, ни зла, ни блага. Ни мудрости, ни правды нет, — Зеркальная темнеет влага, Мерцает отраженный свет.Но если это действительно так, или так хотя бы отчасти, т. е. если здешний мир обратно — подобен тому — то многое меняется. Что казалось нам до сих пор богоотступничеством, может быть, на самом деле богооставленность. Не человек забывает, отступает от Бога, а Бог от человека.
Когда-то на эту тему немало писали и в прозе, и в стихах. Писали и Гиппиус и Сологуб[75], не говоря уже о поэтах менее славных. Есть об этом и у Розанова[76] в «Опавших листьях»[77]. Я сейчас не помню точно, как у него сказано, но смысл приблизительно тот: «Я звал любовь, любовь, любовь, а ко мне шла смерть, смерть, смерть». Интересно, что сейчас буквально то же мог бы о себе сказать Смоленский.
Отношение к вопросу было, конечно, разное. Так, Гиппиус видела в богооставленности некое испытание:
Он испытует — отдалением. Я принимаю испытание. Я принимаю со смирением Его любовь — Его молчание[78].Сологуб проще и безнадежнее:
Что мы служим молебны И пред Господом ладан кадим! Все равно непотребны, Позабытые Богом своим. В миротканой порфире, Осененный покровами сил, Позабыл Он о мире И от творческих дел опочил[79].Но, может быть, всех проще, смиреннее Смоленский: ни мистики, ни рассуждений — только вздох:
Как одинок бывает человек. Когда он Богом на земле покинут.И вот, в новом свете, становится явным то, о чем раньше не подозревал никто: смирение.
………………………………………..
За слабое тепло, за слабый свет, Хотя бы призрачный, хотя бы ложный……………………………………………..
Благодарить я должен Бога. Есть Вокруг меня, в ночи без сна и света, Есть люди на земле — о, их не счесть! Которым не было дано и это.И может быть, бесконечно повторяющаяся любовная трагедия Смоленского вовсе не оттого, что у него вместо сердца камень, а по другой причине: счастье, к какому он стремится, — на земле недостижимо.
Оно исчезает, счастье, Надежду оставь навсегда. Так, меж коченеющих пальцев, Ледяная скользит вода. ……………………………. Оно исчезает в тумане, Вслед ему не кричи — Счастье знает, для сердца земного Смертельны его лучи.***
Но все равно — чем бы ни было взаимоотношение двух миров, в каком бы преломлении они друг друга ни отражали, кто кого бы ни мучал — человек Бога или Бог человека, от какой бы любви — недоступной или доступной — ни каменело сердце, жизнь для Смоленского — всегда и везде ад. В его душе поселилась смерть, и она, как ненасытное чудовище, пожирает все.
О, страшная смерть без тленья, Ненасытный червь темноты…Или еще страшнее:
Слизывает дьявольский язык Свет с души моей.И все-таки, несмотря на страданье —
В такой тоске, в такой неволе Как много надо сил иметь. Чтобы не сойти с ума от боли, От бешенства не умереть.Ад Смоленского — ад относительный, как все на земле, ад с «передышкой». О нем можно на какой-то срок забыть, можно к нему даже привыкнуть, устроиться в нем по-домашнему и не без уюта.
Живу как все, живу со всеми, Не хуже и не лучше всех, Неслышно пролетает время И с каждым годом легче бремя Земного горя и утех. Привык к земле, ее тщетою Доволен, как и все. — Но вот…Дальше — по-разному. Как когда. Или:
Руками голову сжимая, Я плачу о забытом рае, О счастье отнятом моем.Или же ад вдруг превращается почти в рай. Вот послушайте:
От бессмысленных дней, от бессонных ночей, От земной темноты, от небесных лучей, От любви, что темна, от тоски, что светла, От свободы, летящей, звеня, как стрела, От бессмертных стихов и от смертных людей Стало сердце звезды ледяной тяжелей. Обжигая меня, убивая меня, Посылая снопы ледяного огня, В неподвижном, бессмертном, безжизненном сне Ледяною звездою сияет во мне, И проснуться нельзя и нельзя умереть, Только вечно сгорать, только вечно гореть.Из всех стихотворений Смоленского — это, может быть, самое «люциферьянское» и самое вдохновенное. В нем необыкновенно сверканье, переливанье двух друг друга отражающих миров, их темные, тяжелые, ослепительные лучи — неуловимый воздух ада, где мучается, блаженствуя, душа поэта.
Об этой муке блаженства у Смоленского есть еще одно стихотворение. «Стихи о звезде», «Гори, гори в тумане белом», тоже «люциферьянское» и тоже вдохновенное, со следующим заключительным обращением к звезде, слетающей в его темницу:
Чтоб мог я, обжигая руки, — О, на мгновение всего! — В сладчайшей и легчайшей муке Коснуться тела твоего.И это все. Впрочем, нет: о той же, обжигающей руки звезде ему снится в аду райский сон:
Лишь во сне, в тумане, вдалеке, Луч зари над золотом реки… И горит звезда в моей руке И не жжет руки.Надо, наконец, сказать правду: любовь как была, так и осталась плодом запретным. Со времени Адама и Евы, в сущности, не изменилось ничего. Но человеку дана в утешение любовь «очищенная», «безопасная», любовь без «смертельных лучей» — как бывает кофе без кофеина иль без никотина папиросы. Этим продуктом питается большинство людей на земле. Но есть души, которые скорее согласятся заживо гореть в аду, чем всю жизнь прижимать к сердцу даже не труп, а резиновую куклу.
Душа Смоленского лишь кажется мертвой. На самом деле она жива, потому что не только страдает, но и блаженствует — побеждает страданье радостью. И как всякая живая душа — надеется:
…А все-таки, наперекор всему. Как звездный луч сквозь пустоту и тьму. Как звук струны сквозь шум, как мысль сквозь сон, Как милость сквозь незыблемый закон, Слетает к нам надежда. Все слабей. Но все ж мы можем улыбнуться ей.И как всякая живая душа — верит.
Наедине с самим собой Бессонницей томлюсь и снами, Бессмыслицу зову судьбой, А жалобы и боль — стихами. И жду, когда придет рассвет. Который больше не разбудит, И знаю, что спасенья нет, И верю, что спасенье будет.И как всякая живая душа… —
***
«Счастье» — так озаглавлена третья книга стихов Смоленского. Но тут начинаются мои затруднения как литературного критика. То, что я хотел сказать, обычно принято говорить лишь после смерти поэта, подводя итог его литературной деятельности.
Собственно счастья или того, что счастьем зовется, в книге не много. Лишь первые проблески. Но перелом определенный и к прошлому возврата нет. Это — твердо, несмотря на минуты слабости и затмения, но они мимолетны и вслед за тенью опять солнце, как в ветреный весенний день с холодком и быстро бегущими по высокому небу легкими облаками.
За любовь пришлось бороться. Она не далась даром.
Мой чудесный золотой цветок, Мой в аду не тающий ледок.И это было не легко. Не только Смоленский ее сам разрушал, но, как ему казалось, против нее был Бог.
Иногда мне кажется — ошибка, Столько раз солгавшая, мечта — Я совсем не тот и ты не та, Лишь кривая на губах улыбка. Боже мой! — от века каждый знает, Чем кончается земная страсть — Человек лишь для того взлетает, Чтоб вздохнуть, и крикнуть, и упасть.Но это не ново, как не нов и преследующий его неотступно страх смерти.
А все-таки всего страшнее гроб — На сердце лед и тление на лоб И гвоздь, что будут в крышку забивать…Мы давно это знаем, сто раз уже об этом слышали и читали. Раскройте на девятой странице «Закат», там есть строчки:
Я к Богу взывал о спасеньи, Но мне отвечала ты.Тогда Смоленскому казалось, что ему отвечает любовь. На самом деле — это был голос смерти.
«Милый, я слышу, слышу, Милый, спасенья нет!»Тот же голос ему нашептывает и теперь:
Все яснее сознанье, что сердце напрасно любило, Иль любило не так, иль не то, и что сердце мертво, Что надеждой твоей и любовью, мой ангел бескрылый, Ты смертельною болью напрасно терзаешь его.Но этого мало. Чувствуя близость победы, чудовище начинает наглеть, издевается:
Где наше счастье, Любовь моя? В разверстой пасти Небытия.Или на другой лад:
Надгробное рыдание, На все вопросы ответ, Исполнены все обещания — Смерти нет.Пока не раздается крик:
…………………………. Заройте меня, заройте, Не мучьте больше меня.Силы приходят неизвестно как и откуда. Медленно встает из праха человек и обращается против Того, Кого считает виновником своих бед:
Ты отнял у меня мою страну. Мою семью, мой дом, мой легкий жребий. Ты опалил огнем мою весну — Мой детский сон о правде и о небе. Ты гнал меня сквозь стужу, жар и дым, Грозил убить меня рукою брата, Ты гнал меня по всем путям земным, Без отдыха, надежды и возврата.………………………………………..
И нет конца — Ты мучишь вновь и вновь, И нет конца и нет тоске названья — Ты отнимаешь у меня любовь, Последнее мое очарованье. …………………………………………….. Вот тяжело встает моя душа Тебе наперекор, Тебе навстречу, Пускай едва жива, пускай едва дыша, Но вечная перед Тобой Предвечным. И там, в Твоем аду, и здесь, с Тобой в борьбе, За все спасенье и за все блаженство, Вот эту страсть, вот это совершенство Моей любви не уступлю Тебе.«Нет», наконец, сказано. Кому — Богу ли, как думает Смоленский, или тому двуликому существу, что устроилось на его месте, богодьяволу-дьяволобогу — все равно. Важно, что это «нет» сказано, и сказано так, что черти в преисподней вкупе со своим хозяином поприжимали хвосты. И сразу все меняется. «Волшебно легко распадается клетка судьбы», и освобожденная душа вернулась из ада на землю, которая для нее отныне уже не лежит в лучах смерти.
Тихо запад розовеет, В сердце чисто и светло, И легко мне в очи веет Ночи звездное крыло.И ночь уже не таит в себе, как прежде, несказанных загробных ужасов, от которых волосы на голове вставали дыбом.
Вот ночь пришла и в месяце двурогом Небесная уснула тишина… О, этот кубок, поднесенный Богом, Я выпью с наслажденьем и до дна.И осень, всегда напоминавшая о смерти, прежних чувств в душе уже не вызывает.
…………………………………………… Как осень несказанно хороша, Как смерть близка к бессмертию и Богу.Страх смерти — страх, что здешний, временный ад перейдет в вечный, в вечные муки, исчезнет и, может быть, с прежней силой не вернется никогда.
Какое нам дело, что где-то есть сумрак могильный И что у Распятья горит гробовая свеча.Вспоминая свое прошлое, Смоленский замечает:
Вся жизнь, как дым. Остался только Бог, —и дает мудрый совет:
Не стремись к земным вершинам, силы Береги для тех, иных высот, Где над бездной Херувим поет, Где царят Престолы, Власти, Силы.И вот, наконец, «Монблан» — из всех стихотворений Смоленского, может быть, самое совершенное:
Он над разорванною тучей Сияет в золоте лучей, И равнодушный и могучий. Над миром страха и страстей. И мудрое его молчанье, И голубая белизна, Как вечное напоминанье О том, что только вышина И чистота бессмертны в мире — Все остальное мгла и дым, Как туча эта, что все шире, Все тяжелей ползет под ним.И вдруг на этой почти недосягаемой высоте, где все так прекрасно и совершенно, хотя чуть-чуть холодновато, — неожиданная тоска по «юдоли дольной», по не страшному, в сущности, земному аду, который, как это ни странно, в каком-то смысле к раю ближе, чем сияющий ледяной Монблан, и от которого, увы, осталось одно воспоминание:
Осталось немного — миражи в прозрачной пустыне, Далекие звезды и несколько тоненьких книг, Осталась мечта, что тоской называется ныне, Остался до смерти короткий и призрачный миг. Но все-таки что-то осталось от жизни безумной, От дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов…И странно, будто из другого стихотворения:
Есть Бог надо мной, справедливый, печальный, разумный, И Агнец заколот для трапезы блудных сынов.Толковать эти строки, очевидно, следует так: от некогда несметных богатств души остались жалкие крохи:
Все давным-давно просрочено, Пропито давным-давно, Градом бито, червем точено, Светом звездным сожжено.И среди этих крох, в виде награды за лишения и жертвы, нежданно и непрошено возвращенный «Рай» или, вернее, право на вход туда и на участие в трапезе «блудных сынов».
Из нищей мансарды, из лютого холода ночи, Из боли и голода, страха, позора и зла, Я выйду на пир и увижу отцовские очи, И где-нибудь сяду у самого края стола.Как справится Смоленский с этим искушением — искушением жалости, — покажет будущее. Но оно не из легких. Жалость побеждается любовью, а любовь великая беззаконница, и дело иметь с ней всегда опасно.
Многих стихов Смоленского мне, к сожалению, в этой статье коснуться не удалось, в частности, стихов о России. Не потому, однако, что я их считаю слабее других. Они просто не попали в мою «линию». Кроме того, они, по-моему, для Смоленского не так уж характерны, несмотря на его русскость. Я понимаю, что ему важно было свою любовь к России высказать, но ею круг его интересов не замыкается.
Его главная тема — вернее, три темы — о человеке, любви и смерти. Но современна поэзия Смоленского не оттого, что человек, пока жив, будет этим интересоваться, а прежде всего оттого, что вопрос, быть или не быть человеку, решается как раз сейчас. И тут опыт Смоленского мог бы нам пригодиться. Надо только уметь прочесть его стихи и не бояться живущего в нем чудовища, от которого он бежит, как от смерти, но имя которому — Свобода.
С.К. Маковский — поэт и человек[80]
I
В октябре 1895 г. в Финляндии, в санатории Рауха, известный датский критик и публицист Георг Брандес[81] познакомился с русским юношей и его сестрой. Юношу звали Сережа, ему было 17 лет, сестре — 16, и звали ее Елена[82]. Это были дети знаменитого русского художника Константина Маковского[83].
В девятом томе своих сочинений «Страны и люди» Брандес подробно описывает это знакомство, удивляясь ранней зрелости молодежи славянских стран, в частности своих юных русских друзей.
«Их развитие, — пишет он, — соответствовало бы в Дании развитию 30-летнего мужчины и по крайней мере 30-летней женщины… Сережа еще школьник и только в будущем году станет студентом, так как его долгое пребывание за границей задержало ход его учения. Мы, взрослые, тем не менее разговаривали с ним как с равным. Почти не было случая, чтобы разговор на отвлеченную тему его смутил. Он, который сидит и готовит для школы своего Вергилия[84], в совершенстве знает историю, естественную историю, современную литературу и философию. Для меня загадка, как мог он эти знания приобрести. Вероятно, это объясняется необыкновенной способностью схватывать и усваивать, способностью, какую я в жизни встречал всего раз или два. Когда, случалось, заходила речь о книгах трудных, мне, грешным делом, казалось, что он их знает либо по выхваченным отрывкам, либо по журнальным статьям. Но нет! После тщательной проверки оказалось, что он их действительно изучил досконально, как, например, далеко не легкую книгу Милля о философии Гамильтона[85]».
Кроме необыкновенной способности «схватывать и усваивать», Брандес отмечает успех, какой семнадцатилетний Сережа имел уже в то время у прекрасного пола, главным образом у подруг своей сестры.
«Вероятно, он был раньше довольно развязным и много о себе воображающим мальчишкой, — продолжает Брандес, — но это прошло. Через год голова его будет полна теми девицами, какие уже и сейчас приходят в восторг, стоит ему только открыть рот. Но сейчас у него еще слишком много дела, чтобы ими заниматься. Нет картины милее, чем когда он сидит в кругу нескольких девушек, в том числе своей сестры, и с глубочайшей серьезностью читает им филологический трактат Эрнеста Жана Психари “История поцелуя”».
Если к этому прибавить любовь к природе, черту в высшей степени характерную, но которую Брандес, по-видимому, не имел случая наблюдать, портрет Маковского в общих чертах готов.
Дополняет этот портрет бывший товарищ Сергея Константиновича по Петербургскому университету Леонид Галич[86] в статье «Отблески русского Парнаса» в «Новом русском слове» от 30 ноября 1949 г. Вместе с Маковским, Осипом Дымовым[87], Леонидом Семеновым[88] и Аркадием Румановым[89] он основал еще до первой русской революции товарищеское издательство «Содружество». В этом издательстве вышла, в 1905 г., первая книга стихов Маковского[90]. Вот что о ней пишет Галич, вспоминая буйные годы их молодости: «Мы были тогда еще очень по годам незрелы. Но в стихах Сергея Маковского даже в ту пору не было ни крайностей, ни сумбура. Он уже тогда тщательно взвешивал слова на своих почти педантически проверенных весах и ни одному не давал слишком уже взволнованно перетягивать другие. Стихи были такие же благовоспитанные и высококультурные, как и сам автор. У Маковского были те знания, то образование, та изощренность, которых не было, например, можно сказать, ни в одном из участников «кружка Случевского»[91], т. е. ни у одного из старомодных поэтов. В этом смысле Маковский был модернистом, если считать высоту культурного уровня одним из признаков модернизма».
Но далее Галич совершенно справедливо замечает, что в модернизме были крайности и сумбур. Там было иногда переплескивающееся через край кипение, была подчас подкупающая молодая наивность. В этом смысле Маковский никогда даже близок модернизму не был. Чего-чего, а уж простодушия и наивности в этом превосходно воспитанном и отлично образованном человеке не было ни следа. Когда-то Гейне[92], прочтя первую, совсем юношескую пьесу Гёте[93] эпохи «Бури и натиска» — «Гец фон Берлихинген», в которой молодой автор хотел показать себя буйным варваром, сказал: «Львица сразу родила львенка, а не котенка». Вспоминая эти слова, Галич говорит о первых стихах Маковского, что они напоминали именно грациозных и осторожно лавирующих между хрупкими предметами котят, подобно знаменитому коту Леона Блюма, о котором в своих воспоминаниях рассказывает З. Гиппиус[94]. Читателю, как и гостям Блюма, не приходилось беспокоиться: все будет цело. «Мы, грешным делом, — замечает Галич, — ставили это Маковскому в вину».
Да, так казалось тогда, пятьдесят с лишним лет назад. Теперь, когда все стали писать хорошо, первые стихи Маковского, по сравнению с его собственными более зрелыми стихами, не представляют — ни по форме, ни по содержанию — ничего необыкновенного, кроме разве нескольких «пророческих» стихотворений, которые я, может быть, приведу ниже, если будет место. Впрочем, одно преимущество перед новыми стихами у них есть: это — их свежесть. Чувствуется, что автор молод, что он во что-то верит, на что-то надеется.
Галич считает Маковского «одним из редчайших русских эстетов, а его стихи одним из редких образчиков почти вовсе не существующего русского Парнаса». Но для меня вопрос, насколько сейчас действительно деление поэтов на классиков и романтиков, которого, по традиции, придерживается Галич. «Я давно находил, — пишет он, — что два главных элемента поэзии — это виденье и напев. В лучших и высших образчиках поэтического творчества непременно есть оба элемента: и вещее виденье, и гипнотизирующий напев». Пар насские стихи, по определению Галича, это — те, в которых напев совершенно отсутствует, стихи без магии, «сухая аллегория», как он их называет.
Быть после только что сказанного вознесенным на Парнас, как Маковский Галичем, на самом деле вежливый отказ в звании не только поэта, но, в какой-то мере, и человека, чего Маковский не заслуживает совершенно.
Но в одном Галич прав: стихи Маковского действительно не звучат. Эта их полная немузыкальность и даже — иногда — антимузыкальность — удивляют. Но тут уж ничего не поделаешь. И если Маковскому, несмотря на глубину и подлинность чувства, лирика не удается, то главным образом поэтому.
II
Блудное сердце надорвано…Я помню, как я по поводу этой строчки с Маковским спорил. Я утверждал, что блудным сердце быть не может и что сочетание этих двух слов противоестественно. Египтяне представляли себе суд над умершим так: на одну чашу весов клались его грехи, на другую — сердце. И если оно перевешивало, не осуждали человека, он был спасен. Но Маковский со мной не соглашался. Он, напротив, находил, что образ удачный и что ничего противоестественного в сочетании этих двух слов нет.
Я не настаивал. О вкусах не спорят (хотя о чем же и спорить, как не о вкусах). Но по странной ассоциации я вдруг понял, что «блудное сердце» не столько ошибка вкуса, сколько образ, выражающий или, вернее, скрывающий глубокое внутреннее неблагополучие, душевную рану, обнажать которую не надо.
И тогда в моей памяти сразу вспыхнули строчки стихотворений, на которые я сначала не обратил внимания, считая их для Маковского нехарактерными, но которые теперь я прочел совсем иначе.
Вот три строчки из его первой книги:
Настанет день, душа порвет оковы; С нее спадут тяжелые покровы — Греха и лжи презренные дары.Стихотворение озаглавлено «Предчувствие». Но оно не исполнилось. «Порвать оковы», отвергнуть «греха и лжи презренные дары» — у Маковского не хватило сил.
Не чувства отжили, но в душах омертвелых, В сердцах, исполненных гордыни и тоски, Иссякли вечных чувств живые родники.И первое из них — любовь. Следующее стихотворение — «Моя эпитафия» (из той же первой книги):
Я встречи ждал, но братьев я не встретил. Молился я, но Бог мне не ответил, Моей тоски никто не разделил. Всю скорбь любви я разумом измерил, Но никого на свете не любил. Я жил, как все, но жизни не поверил.«Моя эпитафия» написана, когда Маковскому было лет 24–25, не больше. В этом возрасте поэты легко себя хоронят и с такой же легкостью воскресают. Возможно, что и для Маковского это в какой-то мере была игра. Но, играя в эту игру он, может быть, почувствовал, что его душа в самом деле мертва. В 1948 г. в Париже вышел его сборник «Somnium breve» — «Краткий сон». Там есть стихотворение о заброшенном кладбище, по которому он бродит.
Ни венка, ни урны и в помине, Все сломали заступы веков…«Заступы веков»… Ну разве можно так писать! Но это в скобках.
Итак, поэт бродит по кладбищу, читает эпитафии.
Надписей иных не разбираю: Буквы стерлись, имена — не те. Призрачное что-то вспоминаю, От плиты брожу к плите. Боже, как давно, давно под ними Затаилось мертвое жилье! На одной с трудом прочел я имя Полустертое — свое.Пусть это игра. Но какое страшное одиночество! Вот бьют часы на колокольне:
Час за часом с колокольни дальней Прогудит глухим укором бой. Слышишь ли? Он плачет все печальней О годах, загубленных тобой. Жизнь — о, чаша боли, слез и света, Суженая сердцу — где она? А душа, как песня недопета, А душа пред Господом смутна. Было ей завещано так много. Столько небом озаренных нив… Что ты сделал, забывая Бога, Подвига любви не довершив?Привожу это стихотворение полностью, потому что оно — единственное: других, подобных ему, покаянных стихотворений у Маковского нет. Причем принимаю его буквально, т. е. считаю, пока не доказано обратное, что Бог Маковского действительно Бог, а не идол, не отвлеченное понятие и не черт.
Но самое страшное, беспросветное одиночество это не тогда, когда человек забывает Бога, а когда Бог забывает человека. Вот тогда оно действительно непереносимо.
И вдруг, придушен хлынувшей тоскою, Почувствуешь — о Господи, прости! — Такое одиночество, такое, Которого нельзя перенести.Но и к аду можно привыкнуть и даже найти ему какое-то оправдание:
На одиночество свое не сетуй: Безумны люди, суетно с людьми. Мечты, ничьим участьем не согретой, — Суровую печаль, как дар, прими. Раздумье нелюдимое довлеет Взыскующим о мудрости сердцам, Великое в уединенье зреет Не только здесь, но, может быть, и там. Как знать — и там, в дали потусторонней, Он будет длиться, нелюбимый сон, И там — еще, быть может, непреклонней — На одиночество ты обречен.«Великое в уединенье зреет» — вот какой надеждой утешает себя в аду Маковский. И может быть, он прав, потому что, в конце концов, мы не знаем — не должны знать, — жив он или мертв.
III
Неверующим его назвать отнюдь нельзя. Он верит или, вернее, хочет верить, с неверием борется:
Не покоряйся искушенью, Безбожному не верь уму, Не верь тоске, не верь сомненью, Не верь неверью своему,С безбожным умом борется логикой божественного разума.
Не может быть, чтоб там, за небесами, За всем, что осязает наша плоть, Что видим мы телесными глазами, Не веял Дух, непостижимый нами, Не слышал нас Господь.И небо и земля — все мирозданье отвечает: «Он есть».
Опять, опять у моря стоя, Не нагляжусь на небеса И в шуме слушаю прибоя Глубин и далей голоса. Рожденных водною пустыней Внушений тайных не прочесть… Но в них угадываю ныне Слова премудрые: Он есть. Он есть, исток и огнь сознанья, К Нему священные пути, — Он, вседержитель мирозданья, Тот, от Кого нельзя уйти.Вот Бог, в какого верит и какому служит Маковский. Но это не христианский Бог.
Главное, что отличает христианство от других религий, — это вера в Бога триединого. Монотеизм, поскольку он существует в чистом виде, перерождается на практике в дуализм, т. е. в конечном счете в борьбу двух взаимно друг друга уничтожающих сил. Таков таинственный закон самоуничтожения Монады как самодовлеющего, в себе замкнутого, непроницаемого начала.
Что меня за последние годы в Маковском удивляло и пугало — это неожиданное проявление неизвестно откуда в нем взявшихся разрушительных тенденций. Причем этот странный «уклон» одинаково касался как его самого, его внутренней жизни, так и мира внешнего — тех лиц и явлений, что находились в кругу его интересов.
Подбирая стихи для нового издания, он не только делал поправки чисто «стилистические», которые ему, кстати, удавались не всегда, но и, случалось, выкидывал целые строфы, а то и целые стихотворения, как раз те, в которых наиболее ярко выражалась его личность. Он это делал совершенно бессознательно, и у меня каждый раз оставалось впечатление — ибо я с ним часто спорил, — что им владеет какая-то, его природе чуждая, сила.
Вот два характерных примера:
ВЕСНОЙ
Я вышел на балкон. Туманным раем Цветущая раскинулась земля. Фруктовые деревья пахнут маем, Синеет лес вдали. Луга, поля… Как это утро нежно-непорочно, Каким спокойствием напоено! И небо… Небо так лазурно, точно Любовью к миру светится оно. Откуда ж вечная моя забота? О чем, землей обласканный, грущу? И не молюсь, а только жду чего-то, Хочу понять и втайне трепещу. Иль неба расцветающего нежность На зов любви из голубых глубин, И все уйдет в бесцельную безбрежность. И ласки Отчей не дождется сын.В этом прекрасном стихотворении выкинуты первые и последние строфы, что его совершенно уничтожает. В первой — типичное для Маковского отношение к природе («туманный рай»), во второй — глубокая христианская идея о богосыновстве человека.
Второй пример:
В ЛЕСУ
Вокруг — дубы, дубы… Рядами Возносятся, увитые плющом. В лесу, как в нерукотворенном храме. Брожу, не сожалея ни о чем. Весь день любуюсь тенью летней И облаком сквозь кружево листвы. И бремя лет как будто незаметней, И легче грусть от жаркой синевы. Как сказочно тиха дорога, Завороженно-неподвижен лес. От неба и земли — дыханье Бога, В травинке малой веянье небес. О только бы живая сила Во мне самом заискрилась опять, И душу обольщенную пронзила Природы творческая благодать.Тут выкинуто последнее четверостишие — обращенная к природе, к матери-земле, молитва о духовном обновлении, закрепляющая связь Маковского со всем живущим. Отрекаясь от этих строк, он ее порывает.
Таких примеров можно бы привести еще много, но не хочу на этом задерживаться. Перейдем к следующему, к литературной деятельности Маковского за последние годы.
IV
Уже его статьи о Блоке[95] произвели странное впечатление, хотя они были написаны осторожно, во избежание протеста. Недостатки Блока, на какие указывал Маковский и какие, в сущности, не отрицал никто, отнюдь не умаляли и не ставили под вопрос его поэтический дар. Отрицал Маковский Блока чисто эмоционально. Он к нему чувствовал что-то вроде физиологического отталкивания — идиосинкразию, как и к Баратынскому[96]. Это мелькало между строк. Следующей жертвой был Рерих. Статья о нем — в «Русской мысли» — распадалась на две части — критическую и эмоциональную. Маковский считал Рериха авантюристом и посредственным художником. О Достоевском статьи не было, я даже не знаю, собирался ли Маковский о нем писать, но споры были, и довольно бурные. Маковский его уничтожил так же, как Блока и Рериха[97].
Труднее было справиться с Мережковским. Однажды в разговоре со мной Маковский на него обрушился (по поводу «Тайны Трех»[98] — одной из его лучших книг). Но после моего резкого ответа замолчал. Я уже знал, как в таких случаях Маковскому отвечать, ибо везде и всегда он посягал на одно. Тем не менее в своей лекции о «Религиозно-философских собраниях», напечатанной затем в «Русской мысли», он к Мережковскому вернулся. Не нападая на него открыто, он в заключительной части роль Мережковского в собраниях, как и значение самих собраний, вопреки фактам свел почти на нет.
Но если в своей разрушительной работе Маковский не отдает себе отчета и ему, наоборот, кажется, что он сеет «разумное, доброе, вечное», о присутствии в нем губительной силы он знает отлично.
Бывают дни, позвать не смею друга — Предстанут мертвыми на суд друзья, И сам не свой, от горького испуга И жалости к себе заплачу я. Бывают дни, заря и та не светит, Цветы не пахнут и не греет зной. Хочу прильнуть к земле, но не ответит: Глуха земля, возлюбленная мной. Прислушаюсь к волне — волна немеет, Коснусь воды, и не бежит река, Взглянул на небо — вдруг окаменеет И глыбами повисли облака. Ужасен мир недвижно-безглагольный. Остановилось время. Душит страх. О, Боже! Отпусти мне грех невольный, Преображающий Твое творенье в прах.Если б сказали тогда Георгу Брандесу, что Сережа Маковский, этот милый семнадцатилетний гимназист, читающий барышням «Историю поцелуя», превратится на старости лет в «Анчар», он вряд ли этому поверил бы.
К нему и птица не летит, И зверь нейдет. Лишь вихорь черный На древо смерти набежит И мчится прочь уже тлетворный[99].Маковский молится, чтобы Господь его избавил от владеющей им темной силы, но, когда ему указывают верный путь, он или идет в противоположную сторону, или погружается в летаргический сон.
В эту ночь, когда волхвы бредут пустыней За звездой и грезятся года Невозвратные — опять из дали синей Путь указывает мне звезда.Но звезда вспыхивает и гаснет. Наступает тишина.
Тишиной себя баюкаю заветной. Помня все, все забываю я В этом сне без сна, в печали беспредметной, В этом бытие небытия.А когда он проснулся, оказалось, что жизнь прошла и он один.
Когда проходит жизнь, когда прошла, И цели нет и нет возврата, — Как старый сыч, из своего дупла Жди сумеречного заката.V
Но есть у Маковского стихи о природе. Там он другой. И может быть, в этих стихах его настоящее лицо. В волшебном царстве природы он счастлив, как в раю. Но это Адам без Евы. И сквозь рай земной просвечивает небесный.
И сквозь листву туманную, лесную, Затянутую мглой, как паутиной, Провижу я действительность иную, Касаюсь тайны всеединой.Мир — Божий сад, напоминающий ему «чудесный бор», где он играл до рожденья:
Чудесный бор мерещился мне с детства? Всю жизнь мою……………………………. ………………………………………………. Где все — деревья и цветы и травы — Так призрачно давно знакомы мне, Как будто я родился в этом сне.Он видит, слышит, понимает все, потому что все любит:
И бабочек цветистокрылый рой, Как паруса над зыбью луговой, В лучах полуденных лениво реет. Волниста мурава, и даль синеет, И на стеблях, как в море челноки, Узорные качаются жуки…А этот июльский полдень, когда «медом пахнет сонная жара» и «пчелок в вереске гудок чуть слышный», — как он хорош! Но случается и страшное:
На вянущую розу стрекоза Присела, чуть жива, колышется, Осенняя лазурь слепит глаза. А в воздухе — гроза, и трудно дышится. Смотрю на увядающий цветок, На стрекозу, такую хилую… И вдруг — нет больше. Дунул ветерок, Смахнул, как лепесток, золотокрылую.В этом есть что-то от гибели Атлантиды… Не умею объяснить.
Ах, воистину чудесен День весенний. Даже в дождь. …………………………………. Лужи, грязь, вода в овраге. Дождь… А все ж как хороша Этой животворной влаги Лес обнявшая душа.Хороша и зима:
Снег россыпью алмазной падает, На солнце светится с утра. Земля, и умирая, радует И в зимней скудости щедра.И даже напоминанье о смерти не пугает:
И мне казалась вся земля Угасшей, лунно-неживою, Потусторонней, навсегда Чужой и звукам и движенью, Заманивающей — туда, К последнему успокоенью.Но это «там» не страшно.
Пусть зима еще царица, Пусть еще грозна, — Сердцу леса солнце снится, Снится юная весна.А бывает, что оба рая — земной и небесный — сливаются и наступает минута «вечной гармонии». Время останавливается, и человек счастлив весь:
Горит полуденное лето, От зноя дымно в синеве, Сухая серебристость света — Как пыль на выжженной траве. Не шелохнется воздух чистый, Не дрогнет горная сосна. Юг средиземный, день лучистый, Сияющая тишина.Эти стихи до такой степени не похожи ни на какие другие, до того чужды современному духу, что они не доходят ни до кого, как будто не существуют. Еще в марте 1950 г. я писал Маковскому по поводу его стихов: «Удивительно, что почти все к Вашим стихам «нисходят» и вообще Вы среди современных поэтов стоите особняком. Почему?
Может быть, потому, что современные поэты, в сущности, глубоко не современны, не связаны не только с современностью, но и с прошлым и с будущим, иначе говоря, с вечным. Вы с ним связаны (плохо ли, хорошо ли — другой вопрос. Я не о Ваших литературных заслугах сейчас говорю), и эта связь чувствуется во всех Ваших стихах, которые благодаря этому глубоко современны.
Я пишу отрывочно, намеками, но Вы меня поймете. Я хочу сказать, что Ваша чуждость и обособленность, Ваша «сомнительность» как поэта объясняются не Вашей отвлеченностью или бессилием, а исключительно тем, что Ваши судьи сами — за бортом действительности. И «поэзия» их в большинстве случаев, за редчайшими исключениями, — переливанье из пустого в порожнее».
Маковского почему-то считают, как, впрочем, и он сам себя, западником, презирающим Россию. Но это — вздор.
Вот восемь строк из его последней книги «Еще страница»:
Бескрайние сумрачны земли, Которыми сердце полно. Люблю их, люблю — не затем ли, Что покинул давно-давно? Загублено, выжжено, стерто… А вспомнишь когда невзначай — Пустыней покажется мертвой Берег твой, средиземный рай.И хорошо, что это сказано неуклюже, косноязычно, без «музыки».
«Опыты»[100]
Меня давно просили написать об издающемся в Нью-Йорке под редакцией Ю.П. Иваска[101] русском журнале «Опыты». Я обещал. Но если я до сих пор обещанья не сдержал, то не по моей вине. Достать «Опыты» в Париже не то что невозможно, но сопряжено с лишними расходами и с потерей времени, чего я всячески избегаю.
Несмотря на неоднократные просьбы, обращенные и к редактору, и к самой издательнице, Марии Самойловне Цетлиной[102] (которая, по-видимому, тоже избегает лишних расходов), мне журнала не посылают. У меня имеются лишь два первые номера, из которых второй не лишен ни интереса, ни значительности. И вот чтобы сдержать обещанье, я об этом втором номере решил написать. По содержанию, думаю, он мало чем отличается от последующих. Для читателя же, я имею в виду широкий круг, который о существовании журнала даже не подозревает, совершенно все равно, пишу ли я о первом или о последнем номере, тем более что тот, о котором я собираюсь писать, не потерял ни интереса, ни актуальности.
Прежде всего стихи.
Должен сказать, что, на мой слух, почти все (мои включительно) — «скучные песни земли»[103]. А от стихов ждешь всегда, даже когда ничего от них не ждешь, — «звуков небес», то есть — чуда. Словом, стихи — неутолительные. Но к подлинной поэзии все же ближе, если уж об этих песнях говорить, — не Адамович[104], о нет! и не Присманова[105], — а, как это ни странно (да, как ни странно), — Померанцев[106], в котором еще теплятся человеческие чувства. Из русских зарубежных поэтов он, может быть, всех ближе по манере думать и писать к поэтам советским. Такая же каша в голове, тот же здоровый жизненный инстинкт.
О Ходасевиче не говорю, он — особняком. Его стихотворение «На смерть Кота Мурра»[107] занимает по праву первое место. Оно действительно лучше всех.
О, хороши сады за огненной рекой. Где черни подлой нет…И как хорошо, что Ходасевич до наших дней не дожил. Судьба была к нему милостива, переправив его через «огненную реку» до войны и… до мира.
Кстати, одно техническое замечание. Из второго стихотворения Адамовича я бы выкинул лишние, по-моему, последние четыре строчки. Стихотворение от этого только выиграло бы.
И еще одно замечание, о Пастухове[108], его первом стихотворении. Уж очень эти двойники надоели. Пора на себя взглянуть
Спокойно, трезво, без видений. Читатель наконец устал От этих мнимых отражений. От двойников и от зеркал.Но будет о стихах. Перейдем к прозе. Вот Зайцев[109]. Глава из книги о Чехове. Книга уже давно вышла, но я делаю вид, что об этом не знаю. Это тем более легко, что я ее не читал.
Зайцев, как всегда, приятен. О Гиппиус он, правда, наговорил вздору, который я опроверг в статье «Неистовая душа»[110] (см. «Возрождение» № 47). Что до Чехова, то перевоплотиться в него Зайцеву будет не легко: в самом важном, в отношении к религии, — эти два писателя расходятся. Возможны поэтому «психологические ошибки». Но такова судьба всех «честных» биографий.
После смерти Ремизова[111] Зайцев — последний представитель Великой Русской литературы — этого свыше ста лет длившегося ослепительного чуда. Вот когда в самом деле чувствуешь и понимаешь, что кончилась Россия Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, та, к голосу которой прислушивался мир и которая еще вчера призывала к борьбе с величайшими в истории свободоубийцами.
Ныне положение изменилось. На первом плане не Толстой, не Достоевский, а Чехов. Зайцев написал о нем книгу. Занимался им и Бунин[112] в последние годы своей жизни. Его именем названо было единственное крупное русское издательство за рубежом. Словом, Чехову сейчас принадлежит вся власть на земле и на небе. Прав был, видно, Мережковский, утверждавший, что Достоевский и Толстой оказались нам не по плечу и что духовные вожди и учители, «властители дум» русской интеллигенции — Чехов и Горький. Но в таком случае, что делать тем, кто с большевиками продолжает бороться? Сложить оружие?
Очень интересен, с зайцевским «Чеховым» соседствующий, «Гоголь» Ремизова[113], ни на какого другого не похожий.
Ремизов, конечно, прав: «Самое недостоверное — исповедь человека». Достоверно только «непрямое» высказыванье, «где не может быть ни умолчаний, ни стыдливости, ни рисовки “поднимай выше”». И самое достоверное в таком высказывании то, что не осознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом «сочинять».
Но тут — свои опасности, пожалуй, не меньшие, чем когда все построено на «прямом высказывании», на изучении одних голых фактов.
Ну что, например, стоит истолковать в желательном для себя смысле какое-нибудь случайно вырвавшееся «ах!» или ни к чему не обязывающий неопределенный жест, не говоря уже о еле уловимых оттенках душевного настроения?
Да, Гоголь Ремизова, «выгнанный из пекла на землю за какое-то недоброе дело» и вознесенный «на седьмое небо Василия Радаева», в русской литературе — открытие. Он в самом деле ни на какого другого — ни на Гоголя Мережковского, ни на Гоголя Мочульского[114] — не похож. Но похож ли он на самого себя — вот вопрос.
«Отбор литературного материала совершается не наугад, что под руку попало», — справедливо замечает Ремизов, рассказывая, как писал Гоголь «Вечера на хуторе…». «То же и с воспоминанием из прочитанного: ведь лезет в голову что — то одно, определенное, а все другое, казалось бы, не менее интересное, стерлось».
Трудно себе представить, что, говоря о героях Гоголя, можно не упомянуть, хотя бы вскользь, о Хлестакове, как это делает Ремизов. И не только Хлестаков, но и не менее, чем он, для понимания Гоголя важный Подколесин — «старается». Зато «лезет в голову» Левко из «Майской ночи», Петр Петрович Петух и какая-то, из «Божьих людей» хлыстовского начала, современница Гоголя, Татьяна Ремизова.
Нет, что-то в Гоголе очень важное Ремизов проглядел, чем-то своим, тоже очень важным, его наделил. На самом деле Гоголь был и проще и страшнее, чем это снится Ремизову, но его сон о Гоголе — не пустой. О нет!
Полная противоположность этому сну — статья Александра Шика[115] «Парижские дни Гоголя». На ней отдыхаешь от ремизовского кошмара. Интересно — все, все мелочи, все подробности. И сколько бы их ни было — все мало, хочется еще, кажется, что чего-то самого интересного, самого главного не узнал, проглядел, не понял. Но чем больше узнаешь, как Гоголь ел, пил, спал, гулял, страдал запором, стоял в театральных очередях, ходил в Лувр, тем он — нереальнее, неуловимее, фантастичнее. Удивительно странное ощущенье — то же, что часто испытываешь, соприкасаясь с такими его, совсем не фантастическими, героями, как Чичикова или Хлестаков. Никогда ничего подобного не могло бы произойти с Чеховым.
Чтобы покончить с воспоминаниями, следует отметить интересные и хорошо написанные «Мелочи о Горьком»[116] Юрия Анненкова, ничего нового, впрочем, к горьковской легенде не прибавляющие, а также воспоминания о Ходасевиче В. Ледницкого[117], где очень много о Ледницком и очень мало о Ходасевиче. Но обширное автобиографическое вступление охотно Ледницкому прощаешь — он, кстати, перед читателем за него извиняется: оно не только оправдано, а и открывает новый для нас мир — мир русско-польских отношений, которым в литературных кругах Москвы и Петербурга мало интересовались и были не правы.
Сказать что-либо по поводу статьи В. Вейдле[118]: «Об иллюзорности эстетики и о жизненной полноте искусства» — трудно, потому что ее при всем желании прочесть невозможно, во всяком случае, до конца. После двух-трех страниц, а их 22 большого формата, — принужден остановиться, будто жуешь вату. Еще немного, и задохнешься. Наборщик, умудрившийся эту статью набрать, совершил подвиг.
Но что случилось, как могло выйти из-под пера Вейдле нечто столь неудобочитаемое?
То ли дело добрый старый Степун[119]! Его статья «Кино и театр», нисколько не менее метафизическая, чем статья Вейдле, доходит и до среднего читателя. А тема обеих статей, как это на первый взгляд ни странно, в сущности — одна. И может быть, заглавие «Об иллюзорности эстетики» и т. д. к статье Степуна подходит гораздо больше, чем к статье Вейдле. Но Степун не побоялся тему «снизить» и благодаря этому вопрос о киноискусстве поставил правильно, т. е. поднял его до уровня проблемы религиозной. А те историософские выводы, к каким он в связи с этой проблемой приходит, в достаточной мере свидетельствуют, что, избрав «узкий путь», он не только не потерял ничего, но многое приобрел и что скромность и смирение не исключают смелости. А Вейдле, желая в каком-то неправедном порыве «объять необъятное», уподобился вулкану, извергающему вату. Впрочем, язык заплетается подчас и у Степуна. Например: «…со своею духовною убогостью» вместо «со своим духовным убожеством». Но это лишь оттеняет степуновский шарм.
Что до статьи Ю. Марголина[120] «О лжи», то она интересна и значительна, но отнюдь не как задуманный автором философский трактат, серьезной критики, кстати, не выдерживающий, а со стороны чисто эмоциональной. Важна та сила, с какой Марголин отрицает ложь во всех ее проявлениях. Это почти физиологическое отвращенье ко лжи важнее всяких о ней умствований и никакого философского обоснованья не требует. Размышлять о лжи, конечно, никому не возбраняется, как вообще не возбраняется размышлять о чем угодно. Но Марголин не прав, утверждая, что до сих пор о лжи мало думали и мало говорили и что философски обоснованную теорию представить себе нельзя. Напротив, одна из заслуг — и не малая — современной философской мысли в том, что она методологически правильно и религиозно праведно трактовать вопрос о лжи как проблему автономную отказалась, включив ее в общемировую проблему зла. Не ложь, а зло «как океан объемлет шар земной». Но непримиримая борьба автора «Путешествия в страну Зэ-ка» с ложью, этой самой ужасной формой зла, свидетельствует о его исключительной душевной чистоте и неподкупной совести, явлениях в наши дни редчайших, пренебрегать которыми было бы непростительной ошибкой.
Что можно сказать о Н. Клюеве больше того, что сказал о нем Ю. Иваск[121], не считая, конечно, тех фактов из жизни поэта, которые ни его здешним друзьям, ни его критикам еще неизвестны?
И все-таки многое в Клюеве непонятно. Так, например, в некоторых его стихах как будто что-то китайское — да! И кажется, что Клюев мог бы с таким же успехом быть китайским мандарином, с каким он был или казался олонецким мужиком. Мысль, может быть, дикая, а может быть, нет.
Необыкновенная утонченность рисунка клюевских стихотворений, их почти фарфоровая хрупкость при совершенной внутренной неподвижности — разве это не напоминает Китай, его душу, его искусство?
Но в чем, собственно, личность Клюева находит свое полное выраженье, что для нее наиболее характерно? Фольклор? Хлыстовство? Скопчество? Оставим Китай — вот другой парадокс: клюевский «Плач о Есенине»[122] поразительно похож на плач Изиды[123] об Озирисе, Иштарчо[124] о Таузе, Гильгамеша[125] об Енгиду[126] — на вечный плач человечества об Адонисе[127]. Следовательно, фольклор ни при чем, как ни при чем христианство, ничего общего с клюевским китайским православием не имеющее. Ну а хлыстовство и скопчество всегда были и будут, последнее особенно. Ничего специфически русского, специфически христианского в них нет. Что же, в таком случае, остается от Клюева? А это — как когда. Иногда — ничего, а иногда чистая поэзия.
В отделе художественной прозы — три имени: Г. Газданов[128], В. Яновский[129] и неизвестный Д. Лехович[130].
Газданов из новых русских писателей, начавших свой путь за рубежом, пожалуй, самый талантливый. Он ласков, находчив, и есть в нем какое-то приятное «струенье». Тема его рассказа «Княжна Мэри» — в сущности, анекдот. Но Газданова это не испугало. Он, как настоящий художник, знает, что «все ново под луной», что душа человека — тайна и что при творческой воле никакие банальности, никакие общие места не страшны. Среди своих собратьев он, может быть, всех ближе к магии — этой редко достижимой, единственной цели всякого подлинного искусства.
Что до рассказа В. Яновского «Записки современника», то он вызывает противоречивые чувства, как вообще все творчество этого писателя, особенно за последние годы.
Яновский — определенно талантлив, прекрасно владеет языком, имеет вкус и не лишен такта. Но он мог бы достичь в своей области значительно большего, если б не его… болезнь. Иначе не могу назвать то, что с ним происходит. Сначала все в его повествовании превосходно, интересно, остроумно, свежо, глубоко, но вдруг — «припадок». Все летит к черту. Ни меры, ни вкуса, ни глубины — сплошное кривлянье, гаерство, нестерпимая пошлость. Жаль. Правда, жаль. Но самое печальное — это что Яновский свою болезнь явно предпочитает здоровью и свое припадочное состоянье принимает за творческий экстаз. А как хорошо, с какой тонкой иронией можно бы описать в «Записках современника» собачьи похороны. Ведь хватило же у Яновского и вкуса и таланта на сцену в эльзасском трактире, где жандармы ловят «беглого мертвеца».
Все дело в мере, во внутренней, дисциплине, и хорошо сказал Наполеон: «Tout се qui est e xagere est innsignifiaint»[131].
Рассказ Д. Леховича «Расстрел» лучше бы просто обойти молчаньем. Печатать его, во всяком случае, не следовало, и, печатая его, редакция совершила ошибку. Не потому, что рассказ плох, наоборот: он слишком литературен. Тема же его из числа тех, что никакой литературной обработки не выносит. Единственно приемлемая для нее форма — либо дневник, либо воспоминанья. Как пример, можно привести «Рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР», напечатанный в 34-м номере «Нового журнала».
И ошибка эта — не первая. Уже в предыдущем номере был рассказ («Дроль» И. Савина[132]) приблизительно на ту же тему. Будем надеяться, что в следующем игра с трупами наконец прекратится.
В заключение несколько слов об Эрге[133]. Этот таинственный незнакомец, печатающий на последних страницах краткие Nota bene, заслуживает лучшей участи — своего места в журнале, а не угла где-то на «задворках». Его заметки как бы дополняют и сочетают, с большим тактом, материал, подчас весьма разношерстный. Так очень кстати напоминанье Эрге о гоголевских «Ночах на вилле» и предпосланная этому напоминанью цитата из Montaigne[134] «О дружбе». Ни у Ремизова, ни у Шика ничего об этих «ночах» нет, и вообще о них упоминают редко. Между тем из жизни Гоголя их не выкинешь.
Другое, тоже очень важное, напоминанье — в предыдущем номере о беседе во время немецкой оккупации в горной деревушке Кабри, на юге Франции, Andre Gide’a[135] с русским молодым человеком, Борисом Вильде[136], воодушевившим знаменитого писателя на дело освобождения своей родины.
Эти напоминанья — как бы уколы раскаленной иглой. Они будят совесть. Вот почему «Опыты» № 2 не потеряли и еще долго не потеряют для нас свою актуальность.
Памяти поэта. ГЕОРГИЙ ИВАНОВ[137]
Умер Георгий Иванов — лучший из современных поэтов. Умер в изгнании, не дождавшись России.
Да, радость Россию увидеть, дождаться ее освобождения не была ему дана. А это здесь, в изгнании наша радость единственная, единственная надежда. И когда ее у нас отнимают, мы гибнем.
Что мы отлично без России проживем — в это мы уже сами давно не верим, хотя до сих пор не признаемся.
Если бы Россия была нам чудом возвращена, мы почувствовали бы, как мы без нее бесконечно несчастны. Георгий Иванов это чувствовал всегда и знал, что Россию не увидит:
Упал крестоносец меж копий и дыма. Упал, не увидев Иерусалима. У сердца прижата стальная перчатка: И на ухо шепчет ему лихорадка: «Зароют, зароют в глубокую яму. Забудешь, забудешь Прекрасную Даму».Эту Прекрасную Даму — Россию он любил мучительной любовью, переходя от надежды к отчаянию, то ее проклиная, то склоняясь перед ее страданием:
Россия счастие. Россия свет… А может быть, России вовсе нет.Не случайно вспоминал он «кощунственные» строчки Константина Леонтьева[138]:
Как сладостно отчизну ненавидеть И жадно ждать ее уничтоженья[139].После войны Георгий Иванов писал:
Теперь тебя не уничтожат, Как тот безумный вождь мечтал. Судьба поможет, Бог поможет. Но русский человек устал.Начинал уставать и он. Но как раз в эти смутные послевоенные годы, в условиях крайне тяжелых и, казалось бы, исключающих возможность какого-либо творчества, он написал лучшие свои стихи…
***
Он родился 29 октября 1894 г. в имении в Ковенской губернии. Детство было очень счастливое. Все предки с отцовской и с материнской стороны были военными. Его отдали во Второй Петербургский кадетский корпус, по окончании которого он записался вольнослушателем в Петербургский университет.
Там, в 1912 — <19>13 г. его часто можно было встретить в знаменитом университетском коридоре в обществе Г. Адамовича, О. Мандельштама[140] и сына Бальмонта (вскоре умершего)[141]. Это о Георгии Иванове писал Мандельштам:
Мы смерти ждем, как сказочного волка. Но я боюсь, что прежде всех умрет Тот, у кого кроваво-красный рот И на глаза спадающая челка[142].Но пророчество не исполнилось, первым умер автор — в большевистской ссылке.
Не исполнилось, к сожалению, и другое его пророчество:
В Петербурге мы сойдемся снова, Будто солнце мы похоронили в нем[143].В 1912 г. Георгий Иванов издал за свой счет свою первую книгу стихов «Отплытие на остров Цитеру», о которой сразу очень лестно написали Брюсов и Гумилев[144], и его пригласили стать членом «Цеха поэтов»[145]. Кажется, в 12-м же году он начал печататься в «Аполлоне»[146], выходившем под редакцией С.К. Маковского.
Интересующихся творчеством Георгия Иванова отсылаю к статье Г. Адамовича в 52-м — предпоследнем — номере «Нового журнала». Из всего за последние годы о Георгии Иванове написанном эта статья, может быть, наиболее «по существу» и, несмотря на сравнительную краткость, наиболее исчерпывающая.
Вслед за «Отплытием на остров Цитеру» вышла в 1914 г., в издательстве «Гиперборей», в СПБ «Горница», а через год в петроградском издательстве «Лукоморье» — «Памятник славы». За ним, в 1916 г., в московском издательстве «Альциона» — «Вереск», переизданный в 1922 г. в Берлине З.И. Гржебиным[147]. Затем «Сады», изд. «Петрополис», Петроград, 1921 г. Второе издание — С. Ефрон[148], Берлин, 1922 г. «Лампада», собр. стихов, изд. «Мысль», 1921 г. Петроград, второе издание — «Мысль», 1923 г.
За рубежом — 4 книги стихов: «Розы», изд. «Родник», Париж, 1930 г. «Отплытие на остров Цитеру», избр. стихи, «Петрополис», Берлин, 1937 г. «Портрет без сходства», изд. «Рифма», Париж, 1950 г. и, наконец, недавно изданный в Нью— Йорке «Новым журналом» сборник последних стихотворений, до Парижа еще не дошедший.
В 1921 г. в жизни Георгия Иванова произошло важное событие — его встреча и женитьба на Ирине Одоевцевой[149], талантливой писательнице и поэте.
Слава Георгия Иванова росла с каждым годом, и эта слава была заслужена. Георгий Иванов поэт — явление необыкновенное; в его стихах ни одной фальшивой ноты, ни одной ошибки вкуса, о чем бы он ни писал. Совершенство его поэзии особенно сказалось в последние годы его жизни, когда его манера писать стала другой, менее поэтически условной:
Поэзия — искусственная поза, Условное сиянье звездных чар, Где, улыбаясь, произносят «роза» И с содроганьем думают «анчар».Изменилось и содержание его стихов. Он их теперь почти исключительно печатал — сразу много — в «Новом журнале», под общим заглавием «Дневник». Отвлеченными его стихи не были никогда, но теперь он не чуждался даже тем злободневных и некоторые его стихотворения носят характер определенно политический, что не всегда и не всем приходится по вкусу, как, например, следующие строчки:
В кольце святош, кретинов и пройдох Не изнемог в борьбе орел двуглавый, А жалко, унизительно издох.Этого Георгию Иванову не простили, тем более что он был монархистом и заподозрить его в «левом уклоне» действительно могли только кретины.
Что касается его прозы, то Г. Адамович прав. Георгий Иванов по призванию поэт, а не прозаик. Зато критик он блестящий, и можно только пожалеть, что он в этой области так мало себя проявлял.
Несколько глав его неконченного романа «Третий Рим» были напечатаны в 1931 г. в «Современных записках». Роман задуман интересно. Запомнились сцена выезда Распутина и глава о нарисованном на дне фарфоровой чашки цветке. Но несмотря на мастерство и тонкость, с какими написаны эти главы, чего-то в них не хватает, и чего-то очень существенного, что сделало бы из них именно беллетристическое произведение, а не поэму в прозе.
О другой, тоже очень интересной и значительной книге Георгия Иванова «Распад атома», вышедшей в Париже в 1938 г., я незадолго до войны написал довольно подробную статью: «Человек и наши дни», которая была напечатана в сборнике «Литературный смотр». Сейчас это произведение Георгия Иванова кажется несколько устаревшим. Во всяком случае, пафос, с каким оно написано, вряд ли способен сегодняшнего читателя увлечь. Проблема, в ней затронутая — отношение между Богом (религией) и полом, — остается неразрешенной и, может быть, неразрешимой, по крайней мере в той узкой плоскости чисто личных отношений, в какой ее ставит Георгий Иванов.
Когда в Париже было основано Мережковскими литературное общество «Зеленая лампа»[150], Георгий Иванов был единогласно избран его председателем.
Но наступила война и все кончилось. Не только пропала надежда на освобождение России, но для многих, в частности для Георгия Иванова, война была катастрофой материальной: она его разорила. В конце концов он очутился вместе со своей женой в старческом доме, в Hyeres, даже не русском, среди бежавших от Франко[151] испанских коммунистов, где жить было трудно. Все предпринятые его друзьями попытки перевести его в один из русских домов под Парижем, к сожалению, не увенчались успехом. На здоровье Георгия Иванова это отразилось губительным образом и ускорило роковую развязку. Утром 26 августа его не стало.
Медвежья услуга (Ответ Н. Евсееву)[152]
В ответ на мою статью «С.К. Маковский — поэт и человек» («Возрождение», тетрадь 79, июль 1958) появилась 16 сентября в «Русской мысли» статья г. Н. Евсеева «О критике и о случайных критиках».
За то, что я посмел откровенно высказать мое мнение о стихах С.К. Маковского, г. Евсеев на меня ополчается, стараясь всячески меня скомпрометировать как литературного критика.
Мне совершенно все равно, что думает г. Евсеев о критике вообще и обо мне как о литературном критике, в частности. И если бы он не выходил из рамок приличия и не пользовался в полемике приемом, каким ни один порядочный человек, особенно имеющий отношение к литературе, не пользуется, тон моего ответа был бы иной. Об этом приеме у меня с г. Евсеевым будет особый разговор ниже. А пока перейдем, как он говорит, «к делу по существу».
Дело же в следующем: цитируя стихи Маковского, я в 8 местах исказил текст, заменяя одно слово другим. Из этих 8 искажений некоторые, как утверждает Евсеев, «извращают его».
А перестановка слов, как, например, «это утро» вместо «утро это», кроме того, делает строку немузыкальной. «Изуродованные цитаты из стихов поэта, — заключает г. Евсеев свой обвинительный акт, — можно считать клеветой на поэта».
Одна ошибка действительно на моей совести. Цитируя по памяти стихотворение «Бывают дни, позвать не смею друга», я вместо «предстанут мертвыми на зов друзья» ошибся и написал «предстанут мертвыми на суд друзья». Что касается «нелюбимый сон» вместо «нелюдимый» — то это опечатка, а за опечатки «Возрождения» я снимаю с себя всякую ответственность.
Но и за остальные «искажения» я отвечать отказываюсь. Оба текста — «искаженный» и тот, какой г. Евсеев считает подлинным — принадлежат перу Маковского. По его адресу и следует г. Евсееву препровождать свои комментарии. Меня они не касаются.
Для своих цитат я пользовался предоставленной мне Маковским новой редакцией его стихов (большая толстая тетрадь), исключая два-три случая, когда, не разобрав почерка Маковского, я обращался к тексту первоначальному.
Об этой новой редакции я, между прочим, упоминаю в связи с теми двумя стихотворениями, из которых Маковский выкинул строфы. Если бы г. Евсеев был не так самоуверен и более внимательно отнесся к моей статье он, пожалуй, мог бы избежать ошибки и не оказал бы «высокой музе Сергея Константиновича Маковского» медвежью услугу.
Сначала — «туманный» намек: «К сожалению, иногда у случайных (!!) критиков, — как позволяет он себе писать, — можно наблюдать грустное явление, что их критика зависит от личных отношений с критикуемым. Изменились отношения, и изменяется отношение критика к творчеству критикуемого».
Неприкосновенность г. Евсееву обеспечена.
Если спросишь, «какое это имеет отношение ко мне и к моей статье о Маковском», г. Евсеев всегда может ответить: «Никакого. Это не о вас, а об N.N…»
Но вот обо мне несомненно. Привожу это место полностью — десять строк, заключающих статью г. Евсеева. Вот они: «Если бы эта статья Вл. Злобина была написана за «железным занавесом», то, конечно, были бы уместны мысли о социальном заказе, о заказе «хозяина». Но она написана здесь и я хочу верить, что это только печальное и непонятное недоразумение, об истоках которого трудно сказать что-либо верное и определенное».
Этот прием имеет точное название, как и критик, который им пользуется: название г. Евсееву небезызвестное. Я не боюсь никаких обвинений, но пусть г. Евсеев скажет, не увиливая, по поводу каких именно положений моей статьи мысли о социальном заказе он считает уместными и кто тот «хозяин», на которого он намекает и по заказу которого, как из намека явствует, написана моя статья.
Все же остальное, в частности, что моя статья — плод «печального и непонятного недоразумения» и т. д., — не что иное, как лазейка, приготовленная г. Евсеевым на тот случай, если этого «критика» за его гнусную инсинуацию потребуют к ответу.
В поисках литературного критика[153]
На предстоящем всесоюзном съезде советских писателей[154], созываемом главным образом для борьбы с ревизионизмом, вопрос о литературной критике может неожиданно приобрести исключительную политическую остроту.
Он, впрочем, довольно остро именно в этом смысле стоит уже и сейчас, как это видно по «Литературной газете», где в специальной «предсъездовской трибуне» обличаются недостатки советской критики. «Состояние, в котором находится наша критика, — читаем мы в номере 83, — не может удовлетворить никого — ни читателей, ни литераторов». Она отстает от жизни общества, отстает и от развития литературы. По мнению автора статьи, Ал. Дымшица[155], большинство причин, вызывающих отставание критики, связано с недостатками в работе самих критиков — недостатками, о которых надо говорить «прямо и сурово», чтобы их искоренить. И Ал. Дымшиц «прямо и сурово» указывает на две существенные слабости, мешающие плодотворному развитию творчества советских критиков. Эти две «помехи»: «Недостаточная публицистичность критики и недостаточная забота о художественной выразительности критических произведений».
Но что, собственно, следует понимать под «публицистичностью» критики?
Дымшиц объясняет. «Как известно, одной из характерных черт социалистического реализма, — говорит он, — является его открытая тенденциозность. Это значит, что открыто тенденциозной должна быть и критика». Ясно и просто. Дальше еще яснее и проще: «По-настоящему публицистической оказывается такая критика, которая смотрит на явления литературы с высоты жизненных интересов, которая движима коммунистической идейностью, проникнута духом борьбы за торжество наших идеалов». Словом: «Публицистичность критики — это форма проявления ее общественной, ее гражданской активности».
От критика требуют темперамента. В его творчестве должна звучать «боевая публицистическая нота», иначе он будет причислен к разряду политически неблагонадежных. Еще в гораздо большей степени, чем литература, критика для советской власти — орудие борьбы и пропаганды. «Что может быть страшнее, чем равнодушный критик!» — восклицает в одной из своих статей «Литературная газета». Бесстрастие, вялость, академизм, отставание от жизни — признаки крамолы, бороться с которой следует всеми средствами вплоть до… «Еще недавно мы видели разительный пример такого отставания критики от жизни, — сообщает в своей статье Ал. Дымшиц, — видели его в том, с каким запозданием литературная критика выступила на борьбу с ревизионизмом». Прибавим, что не только с запозданием, но и без полагающегося в этих случаях «публицистического пафоса». По этому поводу Дымшиц меланхолически замечает: «В борьбе с отрицательными явлениями литературы критика наша не всегда обладает должной публицистической остротой».
Да, не всегда, особенно же в тех случаях, когда дело касается таких «отрицательных явлений», как ревизионизм. Ибо Дымшиц говорит не все. Только через две недели после его статьи, из номера 89 «Литературной газеты», мы узнаем, что наиболее талантливые советские писатели и критики — «цвет» советской литературы — по вопросу о ревизионизме до сих пор не высказались и высказываться как будто не собираются, несмотря на неоднократные и весьма настойчивые приглашения. Пример такого «приглашения» — в высшей степени характерный — в статье, озаглавленной: «Говорит Выборгская сторона». Она напечатана в только что мною упомянутом 89-м номере «Литературной газеты». Привожу этот любопытный документ почти без сокращений.
«Читая некоторые произведения последних лет, — говорит «Выборгская сторона», — знакомясь с отчетами о литературных дискуссиях 1956-<19>57 годов, мы думаем: жаль, что такие авторитетные люди, как Шолохов[156], Леонов[157], Гладков[158], Твардовский[159], вовремя не вмешались в литературные и общественные споры, — видимо, недооценили значение и размах развернувшейся борьбы. Если б они выступили года два-полтора назад; если бы и Федин[160] по долгу председателя московской писательской организации вовремя использовал свой большой авторитет; если бы такой уважаемый нами писатель и публицист, как Эренбург[161], в своих последних выступлениях не впадал в крайности и противоречия; если бы, наконец, на страницах своей газеты с боевыми статьями выступили руководители Союза писателей, тогда, нам кажется, всяческих шатаний было бы меньше и куда меньше было бы наломано дров в литературной полемике. Хотелось бы, чтобы наши самые известные писатели учли этот опыт на будущее и в особенности на предсъездовское время.
Нам вообще кажется, что более систематическое и активное их участие в литературной жизни было бы очень благотворно. И мы ждем от них статей и выступлений, в которых они поделятся своим опытом, скажут свое умное и авторитетное слово о сегодняшнем дне нашей литературы. Мы хотели бы услышать с предсъездовской трибуны и голоса наших старых земляков — Н. Тихонова[162], С. Маршака[163], К. Чуковского[164], Л. Соболева[165], Б. Лавренева[166], В. Каверина[167]; мы надеемся, что на наш призыв откликнутся и писатели-ленинградцы — А. Прокофьев[168], В. Саянов[169], Н. Никитин[170], А. Лебеденко[171], О. Берггольц[172], В. Панов[173], М. Дудин[174], Д. Гранин[175], В. Кетлинская[176], Ю. Герман[177], С. Орлов[178] и другие».
Список, как видим, полный. Не забыт никто. И вывод из этого «документа», назвать который иначе, как доносом, — нельзя, напрашивается сам собой: социалистическому реализму приходит конец и уже никакие доносы, никакие запугивания, ни даже сам Сталин, если б он встал из гроба, его не спасут.
«У нас, как говорят в Сталинграде, почему-то «никто не идет в критики». К слову сказать, и в Москве ряды критиков не очень-то растут». Это из статьи И. Егорова «Наши нужды» в номере 81 «Литературной газеты». Жалуется и «Выборгская сторона»: «Не видим мы подчас настоящей смелости и у критиков; слишком уж они бывают осторожны и, как в старой игре, «да» и «нет» не говорят».
Удивляться нечему: кому охота быть наводчиком, да и кабы только наводчиком. А то изволь свое подлое дело делать с «художественной выразительностью», проявляя при этом, как говорит Дымшиц, «жар души и большую сердечную щедрость». Не просто предавать, а со слезой, с объятьями и с поцелуями. Тьфу!
И вот писатели либо молчат, либо избегают общественных тем. От «Литературной газеты» это обстоятельство, конечно, не ускользнуло. Некто Аскад Мухтар[179] в статье «О широте и узости взгляда писателя» в номере 82 отмечает: «В последние годы одно за другим появляются произведения, особенно рассказы, где герои перестали жить общественной жизнью, оторвались от народа». В другом месте другой критик приравнивает отрыв от общественной жизни к отрыву от жизни вообще. Писатель, а тем более критик, оказавшийся — все равно, по какой причине — за бортом советской действительности, как бы вообще перестает существовать, ибо собственного бытия не имеет. С другой стороны, теперь уже «научно» доказано, что ревизионизм (а в нем-то и кроется причина всех зол) есть «лжесоциализм» и как таковой подлежит искоренению, в какой бы области обнаружен ни был. В течение целых двух дней в Москве в Академии общественных наук при ЦК КПСС проходила сессия «ученого совета» по вопросам борьбы с ревизионизмом, на которой были прослушаны многочисленные доклады, имевшие задачей «осветить вопрос» со всех сторон. Со стороны литературной он был «освещен» проф. А. Мясниковым[180], сделавшим доклад на тему: «Против ревизионистских извращений проблем эстетики». И «Посев», откуда взята эта заметка, заключает: «В основе всех докладов лежало осуждение всех проявлений «лжесоциализма» (и… панический страх перед ним)».
Да, страх. Страх у палачей и тюремщиков и все растущее бесстрашие у «крамольников» — вот та неожиданная перемена, что за последний год произошла в России. На всесоюзном съезде советских писателей, который, кстати, не за горами, ревизионизм будет, конечно, предан анафеме, но правительственных позиций это ни в какой мере не укрепит. По русской пословице: «Вертит баба задом и передом, а дело идет своим чередом» — дело освобождения души России из советского вшивого мешка, куда ее посадили еще во времена Горького и не без его участия.
О том, что она жива, мы, как это ни странно, узнаем из той же «Литературной газеты». На этом духовном пустыре, где, кроме щебня, битого стекла и грязных костей, — ничего, вдруг каким-то чудом расцветают настоящие, живые цветы, как, например, следующие три прелестных стихотворения Людмилы Татьяничевой[181]:
У русских женщин есть такие лица: К ним надо приглядеться не спеша, Чтоб в их чертах могла тебе открыться Красивая и гордая душа. Такая в них естественность, свобода, Так строг и ясен росчерк их бровей… Они, как наша русская природа, — Чем дольше смотришь, тем они милей…Хорошо и стихотворение о «Лесорубе»:
Пила, как пойманная щука, Пыталась вырваться из рук. На вид не хитрая наука, А постигается не вдруг. Вспухали на руках мозоли, От пота вымок русый чуб… Не чуя холода и боли, Сражался с кедром лесоруб. И кедр не выдержал. Крылато Взмахнул ветвями и упал. Узор старинного булата Смолистый срез напоминал. В душе у парня радость пела. — Держись, косматая тайга! И затянулся неумело Горчайшим дымом табака.«Пила, как пойманная щука» — это очень хорошо сказано. А вот третье — о «Глиняных куклах» (которое в газете напечатано первым).
В смешных рубашках из холстины, На вырост сшитых нам до пят, Лепили мы из желтой глины Забавных маленьких куклят. А хлеб, он был лишь не у многих. Война. Разруха. Нищий быт. У наших кукол тонконогих Был непомерный аппетит. И мы на них ворчали: дуры, Чем вас кормить, в конце концов! …Лепили детство мы с натуры, Не зная лучших образцов.Самое значительное — это, конечно, первое. Но радуют все.
Человекообразные[182]
Недавно вернулся из поездки в Советский Союз один мой знакомый — русский инженер, ставший французом. Вернулся очарованный и умиротворенный. Если верить его рассказам, то живут в России отлично, всего вдоволь, народ счастлив, Хрущева[183] любят и никто ни о каком перевороте не помышляет. Опускаю восторги перед «роскошью» московских гостиниц, ресторанов и метро. Словом, Россию спасать — глупая затея, да Россия вовсе этого и не желает.
Слушая своего знакомого, я вспоминал книгу о России Зинаиды Шаховской «Моя Россия в советской одежде»[184], вышедшую в этом году у Грассе. У Шаховской все иначе, именно так, как мы себе здесь представляем и как оно, по всей вероятности, на самом деле и есть — в большинстве случаев. Но просто пройти мимо фактов, о которых рассказывает мой знакомый, — тоже нельзя. Сорок лет продержаться одним только террором советская власть не могла бы, даже во всем совершенстве своего полицейского аппарата. Значит, есть там какая-то новая порода человеческих существ, которым идея свободы не то что не нужна, а прямо-таки ненавистна и на которых, по-видимому, опирается власть. О происходящих в России событиях мы обычно судим и не можем судить иначе, как со своей человеческой точки зрения, считаясь не только с психологией, но и с физиономией современного русского человека. Но именно поэтому наши выводы не всегда соответствуют истинному положению вещей. Мы не учитываем наличие в Советском Союзе не то что какого-нибудь нового класса, а нового биологического вида, новой породы существ, на человека похожих исключительно внешне. Как и почему произошло «перерождение тканей», давшее в результате новую породу «человекообразных», касаться этой темы я сейчас не буду. Отмечу только, что «человекообразные» не в одной России. Никакими специфически русскими или какими-либо другими национальными чертами они не обладают. Они — везде. Это они распоряжались в гитлеровских концентрационных лагерях, уничтожая евреев, а в русских уничтожая русских, так же как их рук дело «Катынь», «Орадур»[185] и убийство Царской семьи[186]. Из их среды — все чекисты: латыш Петерс[187], еврей Зиновьев[188], венгр Бэла Кун[189], поляк Дзержинский[190], наш Ежов[191] и сколько еще других, проливших реки человеческой крови, не говоря уже об «отце народов», великом Сталине. Но «темпы» их роста с темпами «достижений» Третьего Интернационала совпадают не всегда. У них своя история, и, может быть, овладеть миром и перекроить его на свой нечеловеческий лад им суждено еще не так скоро. Но неслучайно сейчас из всех «народных» республик ближе к ним и к их цели современный Китай. В чем-то очень существенном они, по-видимому, с ним совпадают.
Не исключена, однако, возможность, что появление «человекообразных» как новой расы будет внезапным. Потенциально эта раса существует уже давно, и от выхода на мировую арену истории ее отделяет лишь момент сознания своего единства.
Этот момент может наступить, когда взорвется первая атомная бомба. Вот почему инстинктивно сейчас никто не хочет войны, кроме коммунистов.
Пастернак, Нобелевская премия и большевики[192]
Пастернак Борис Леонидович — третий после Толстого и Бунина русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия.
Интересно, что все три лауреата принадлежат к одной «школе» — толстовской. Бунин считал Толстого (от премии, кстати, отказавшегося) своим учителем и в известном смысле продолжал его линию. И не случайно сравнивает западная критика «Доктора Живаго» с «Войной и миром» (М. Слоним[193], в «Новом журнале», с «Анной Карениной»). Шведская академия — не в укор будь сказано — явно предпочитает «тайновидца плоти» Толстого «тайновидцу духа» Достоевскому и верна своему выбору вот уже более полувека. Сейчас ею как бы восстановлено единство русской литературы и проведена связующая линия от классика Толстого, представителя России дореволюционной, через эмигранта Бунина к советскому писателю Пастернаку.
Советы его, впрочем, своим не считают. Когда выбор шведской академии стал известен, у многих возник вопрос, как отнесутся к нему «они». Шаховская, описывая свою первую встречу с советским «Олимпом» во время знаменитого завтрака в Кремле, говорит: «Каковы бы они ни были — среди них нет ни одного дурака». Однако дураки нашлись, и первый — министр «партийного мракобесия», Михайлов[194], заявил, что Пастернак — хороший переводчик, но писатель ничтожный. Одержимая манией преследования «Литературная газета» это подхватила, объявив, что выбор шведской академии — результат интриг «ультрареакционного» заговора. За «Литературной газетой» сорвалась с цепи «Правда». Словом, большевики перед лицом всего мира сами себя нещадно выпороли и как будто собираются это милое занятие продолжать.
Но говорить и писать они могут что угодно, им все равно не верит никто — ни здесь, ни в России. Пастернак был не прав, когда, в разговоре с корреспондентом «Le Monde», сказал, что его радость по поводу премии не разделяется никем. Если бы России был дан один день полной свободы, перед дачей Пастернака в Переделкине собралась бы пришедшая его приветствовать несметная толпа, в которой мелькали бы многие видные «партийцы» и даже «комсомольцы». И еще неизвестно, чем бы это кончилось.
Для большевиков присуждение Нобелевской премии писателю в опале было, по-видимому, полной неожиданностью, и в первую минуту они растерялись. Только этим можно объяснить те идиотские меры, какие были ими приняты. Чтобы скрыть от Пастернака новость, о ней ни в прессе, ни по радио объявлено не было. Иностранным журналистам сказали, что Пастернак болен и не принимает никого. В конце концов все стало известным, и в первом же интервью в «Daily Mail» от 24 октября Пастернак опроверг большевистскую ложь о своей болезни. Тогда советская цензура интервью задержала. Но и эта мера оказалась недействительной. Интервью стали одно за другим появляться, и мы узнали, что Пастернак и писатель замечательный, и замечательный человек.
Сейчас еще трудно сказать, чем кончится его поединок с советской властью, но от исхода этого поединка, несомненно, зависит судьба не только Пастернака.
Что в нем удивляет больше всего — это его прямота и бесстрашие. Он говорит, что думает, и своего отношения к советской власти нисколько не скрывает. Не то чтобы он ее фактически не признавал, но для него эта форма человеческого устройства на земле противна законам природы и потому нежизнеспособна, обречена на исчезновение. Но этого-то большевики как раз переварить и не могут.
Одному журналисту он сказал: «Они, в сущности, требуют от нас немногого, чтобы оставить нас в покое: полюби то, от чего тебя отвращает, и отвратись от того, что ты любишь. Но это очень трудно», — прибавил он.
Он родился 10 февраля 1890 г. в Москве, в доме Лыжина. Его отец[195], талантливый художник, был преподавателем в московской школе живописи, ваянья и архитектуры. Он знал близко Толстого, произведения которого иллюстрировал, дружил с Репиным и с семьей композитора Скрябина[196].
Встреча со Скрябиным была в жизни юного Пастернака событием большой важности. По совету своего кумира он стал заниматься музыкой, готовя себя к музыкальной карьере, и достиг хороших успехов как пианист и композитор. Но вдруг, неизвестно почему, бросил все. Может быть, по той причине, что, не обладая абсолютным слухом, он не надеялся достичь того совершенства, к какому стремился.
Он стал писать стихи. И это было его настоящее призвание. Сначала он примкнул к передовому течению, к так называемым футуристам, о чем свидетельствуют его два первых сборника, изданных в 1914 г., «Близнец в облаках» и «Сестра моя жизнь» в 1917 г. Потом, в возрасте более зрелом, он от них отрекся. Кроме этих двух первых сборников, существуют еще четыре: «Темы и вариации» (1923 г.), «1905 год», «Лейтенант Шмидт» (1927 г.) и «Второе рождение» (1932 г.). Из прозы известны изданная в 1931 г. «Охранная грамота» и вышедшая у Галлимара[197] вместе с французским переводом «Доктора Живаго» «Опыт автобиографии». Вот и все. А затем «Доктор Живаго» и новые, еще не изданные стихи. Кроме того, он переводил Шекспира и «Фауста» Гёте.
Он жил в Москве и встречался со всеми своими «знаменитыми» современниками. Он знал Белого, Блока, Брюсова, Бальмонта, Ходасевича, Есенина, Маяковского, Балтрушайтиса[198] и многих других, менее славных, о которых упоминает в своей автобиографии.
В 1935 г. он приезжал в Париж на антифашистский конгресс. Его здоровье было очень расшатано. Он чуть ли не год страдал бессонницей и был на краю психического расстройства. Вернувшись в Россию, он совершенно ушел от общественной жизни, от невыносимого уродства советской действительности. Жил переводами, и его уже стали забывать, как вдруг… Теперь его не забудут.
Этот номер был уже в печати, когда пришло известие, что Пастернак от Нобелевской премии отказался. К этому вопросу я еще вернусь. Но «отказ» Пастернака, конечно, ничего по существу не меняет. Причины его всем понятны.
С Шаховской в России[199]
В сущности, эта по-французски о России написанная книга Зинаиды Шаховской не для французов и вообще не для иностранцев. Понять и оценить ее можем только мы, русские.
Иностранцы нам не доверяют, хотя упорно в этом не признаются. Им кажется, что мы судим о том, что произошло и происходит с нашей страной и с нашим народом, с узкой национально-классовой точки зрения. Свидетельства Уэллса, Эррио или Поля Рейно[200], как бы эти свидетельства далеки от истины ни были, имеют в глазах европейцев то преимущество, что исходят от «своих». Если европеец скажет, что в России свобода, а Шаховская будет утверждать обратное, то поверят не ей, а своему брату европейцу. У него же о России свое давно сложившееся мнение, и едет он в эту дикую страну прежде всего, чтобы убедиться в своей правоте. И убеждается — почти всегда. На этот счет большевики мастера — «дирекция не останавливается ни перед какими расходами».
Но бывают, конечно, исключения, и даже блестящие, как, например, Карл Болен[201], б<ывший> американский посол в Москве. По свидетельству Шаховской, он отлично знал русский народ, его слабость и его силу, и путать палачей с жертвами, как это до сих пор делают многие иностранцы, ему не случалось.
И, однако, свидетельства иностранцев — друзей России не всегда встречают у них на родине тот живой отклик, какой, казалось бы, можно было ожидать. А если пребывание иностранца в Советском Союзе затянулось на долгий срок (в большинстве случаев по не зависящим от него обстоятельствам — в концентрационном лагере, например) и к тому же он научился по-русски, он у себя на родине как-то естественно попадает в положение, во многом схожее с положением русских эмигрантов. По крайней мере в том, что касается его русского опыта, с ним так же мало считаются, как с нами.
Правда о России не нужна никому. Именно не нужна, а не то, что неизвестна.
Первое впечатление от Москвы, где Шаховская родилась, довольно безотрадное.
«Я не узнаю мой народ!» — восклицает она.
В этом городе, столице Советского Союза, — ни одного горожанина. Какой-то чудовищный колхоз, бесконечная толпа рабочих…
Но вот интересное наблюдение. «Нигде не чувствовала я с такой силой, как в Москве, — признается Шаховская, — этой давящей атмосферы всеобщего затаенного недовольства. Оно, казалось, парило над толпой, над домами, над всем городом…»
Недовольна вся страна, весь народ. Но причина не экономическая, не материальная или не совсем материальная. Как бы тяжелы ни были условия жизни в Советском Союзе — это пустяки по сравнению с царящим там гнетом.
Шаховская отмечает, что больше всего поражали советского обывателя — «человека толпы» — ее рассказы о нашей здешней свободе. Она казалась чем-то абсолютно невероятным, и были случаи, когда Шаховской не верили.
Другое наблюдение, тоже очень интересное: отношение между властью и народом. Шаховская не слыхала ни разу, чтобы кто-нибудь сказал: «наше правительство», «наш Хрущев», как некогда говорили в Германии «наш фюрер» или «наш дуче» в Италии. Всегда «они». Но зато можно было услышать: «наша война», «наша победа», «наш Жуков».
Но вот явление, пожалуй, наиболее отрадное: длящееся почти полвека сопротивление народа коммунистической пропаганде, которая его так и не одолела. Этой «непроницаемости» Шаховская придает большое значение, и она права. Народ, сохранивший, несмотря на систематическое «промывание мозгов», независимость суждений и живость ума, способен на многое, в частности на совершенную и окончательную ликвидацию в своей стране советской системы.
Она, кстати, уже началась — в одной пока области.
Что Церковь в России восстановлена — известно всем. Но не многие знают, что она восстановлена трудами и на средства рабочих и крестьян. В государстве, для которого Церковь — вечный враг, присутствие обновленной Церкви — несомненная победа народа над безбожной властью. Правда, русская Церковь пока бесправна, единственно, что ей разрешается, — это совершать богослужение, но уже по этому началу можно судить о перемене в народном сознании. Восстановлена иерархия ценностей. Если бы этого чуда не случилось, об освобождении России нечего было бы и думать.
Бесправна русская Церковь, однако, не потому, что слаба, а наоборот, от своей громадной и все растущей силы. Со слабой Церковью коммунисты не боролись бы, не боялись бы ее. Но чем они больше ее притесняют, тем неотступнее преследует их призрак конца. Одна открытая в Москве церковь с одним молящимся для советской власти в тысячу раз страшнее всех голодных бунтов, вместе взятых.
Духовное возрождение русского народа теперь уже не остановит никто и ничто. Рано или поздно оно приведет — не может не привести — к освобождению России от всех ее врагов — внутренних и внешних.
Очень интересно то, что говорит Шаховская о книжном голоде в России. Он существует, несмотря на громадное количество издаваемых там книг и журналов. Но казенные издания русского читателя не интересуют. Он не покупает советских книг. Зато разрешенные наконец переводы Александра Дюма и Жюля Верна разошлись в несколько дней, как разошлась бы любая не советская книга. И официальная критика не преминула эту «демонстрацию» отметить.
У букинистов — народ всегда. Ищут дореволюционные издания, старые журналы, даже учебники. И какая радость, когда находят потертый томик «Золотой библиотеки» или приложение к журналу «Природа и люди».
Книги серьезные, но бесполезные с точки зрения советской пропаганды, как, например, недавно вышедшая «Цивилизация скифов», печатаются в ничтожном количестве экземпляров (приблизительно 1500) и мгновенно расхватываются. Из выбранных Шаховской по каталогу 15 книг не оказалось в продаже ни одной. И часто ей случалось посылать советские издания в Россию из Парижа. Знаменитое же советское издание Библии, которым так хвастались большевики, в продажу вообще не поступило. Его пришлось послать в Москву отсюда.
В конце своей книги Шаховская описывает один случай, который нельзя забыть и который весьма символичен. Привожу его не без задней мысли.
Однажды совершенно неожиданно русскому матросу в форме удалось, неизвестно каким образом, проникнуть в одно иностранное посольство.
Он был очень возбужден и хотел говорить с послом. Ни один из служащих посольства по-русски не понимал. Но прежде всего матроса надо было скрыть от работавших в посольстве советских служащих. Его увели в отдельную комнату, где с помощью словаря старались понять, чего он хочет.
Он просил о праве убежища, говоря, что его жизнь в опасности. Было совершенно ясно, что помочь ему нельзя. Но страх, толкнувший его на отчаянный шаг, слова, какие он выбирал в словаре, — производили впечатление.
На все, что ему говорили, он в поисках ответа судорожно листал словарь, и его палец неизменно останавливался на тех же словах: страх, право, справедливость, опасность, свобода! И опять: опасность, справедливость, свобода…
Бедный матрос.
Новые «Освободители»[202]
Да, правда о России не нужна никому.
Но если в самом начале последней войны еще можно было отговариваться незнанием того, что происходит в России, и Россия действительно в известных пунктах, от которых многое в ее судьбе зависело, представляла некий «икс», то в настоящий момент как раз эти сомнительные пункты сверкают ослепительно ярко и ни для кого — особенно для правительств западных держав — они не тайна.
Не тайна, что, наученный опытом последней войны, русский народ ни в какие «крестовые походы» против большевиков не верит.
Не тайна, что в борьбе за свое освобождение он должен рассчитывать исключительно на свои силы и что он это понял.
Не тайна, наконец, что для русского народа между «освободителями» — будь то немцы или американцы — существенной разницы нет. И те и другие не освободители, какими прикидываются вначале, а завоеватели, волки в овечьей шкуре, посягающие на Россию национальную. «Иностранцы нас ненавидят», — говорят в России. И это не внушено никем, а результат собственного опыта. Шаховская в своей книге несколько раз подчеркивает, что русский народ, несмотря на сорокалетнее советское рабство, сохранил «живость ума и независимость суждений» и никакая большевистская пропаганда на него не действует. Не действует и пропаганда американская, в частности пропаганда радиостанции «Освобождение». Только раздражает или вызывает насмешку. Русского человека насчет свободы не проведешь.
«Иностранцы нас ненавидят». Это не совсем верно. Не ненавидят, а боятся. Будущая национальная Россия, свободная и сильная, восстановившая свое имперское единство, для западного мира несравнимо страшнее, нежели трещащий и расползающийся по всем швам Советский Союз. И если бы наши союзники могли, как это уже случалось не раз, затормозить процесс внутреннего распада большевистского царства, они, ни минуты не колеблясь, поспешили бы это сделать. Но события в России приняли сейчас такой оборот, что продлить жизнь большевикам вряд ли кому-либо удастся. Остается одно: ослабить, насколько возможно, Россию национальную. Этим в широком масштабе занимаются сейчас американцы.
Надо отдать должное Марку Ефимовичу Вейнбауму[203], редактору нью-йоркской газеты «Новое русское слово», имевшему мужество напечатать в номере от 5 июля 1958 г. за своей подписью статью «Расчленители за работой». Кстати, парижская «Русская мысль», часто пользующаяся не всегда и не для всех интересным материалом «Н<ового> р<усского> с<лова>», эту в высшей степени важную статью не только не перепечатала, но даже не обмолвилась о ней ни словом, что невольно наводит на грустные мысли.
М.Е. Вейнбаум сообщает о полученной им брошюре некоего Майкла А. Файгена, конгрессмена из Охайо. В ней изложены четыре пространные речи конгрессмена по русскому вопросу, произнесенные им в Палате представителей в марте этого года и напечатанные в официальном органе Конгресса — Congressional Record[204]. Они полностью передают содержание четырех антирусских радиособеседований, устроенных в Вашингтоне католическим Джорджтаунским университетом под руководством двух патеров и при участии самого конгрессмена Файгена, бывшего конгрессмена Керстена и ряда других лиц, в том числе небезызвестного антирусского пропагандиста Льва Добрянского, профессора Джорджтаунского университета и председателя Украинского конгресса в Америке.
В этих собеседованиях, в рассуждениях и доводах их участников — ничего нового, ничего живого, если не считать новым требование расчленения не только России, но и Великороссии.
В конце своей статьи М.Е. Вейнбаум делает понятную в его положении редактора нью-йоркской газеты оговорку. «Американское правительство, — пишет он, — совершило в своей внешней политике немало ошибок и упущений. Но до сих пор оно отказывалось вести политику расчленения России, считая взаимоотношения народов Советского Союза их внутренним делом.
Надо надеяться, что оно останется твердым в этом отношении и в будущем, несмотря на пропаганду и давление расчленителей, имеющих влиятельных в Вашингтоне покровителей».
К сожалению, американская политика расчленения России ныне факт, признанный самими американцами. В номере 15 (54) от 25 июля 1958 г. в американской газете на русском языке «Наше общее дело» напечатана заметка «Участь порабощенных», в которой сказано: «Подкомиссия американского Сената по вопросам государственной безопасности опубликовала материал о положении порабощенных коммунизмом народов. Этот доклад носит название: «Советская империя — тюрьма народов и рас».
Доклад составлен с большой тщательностью и знанием дела. Но его вывод совершенно совпадает с объявленным во всеуслышание по радио выводом профессора Льва Добрянского и его единомышленников:
«Расчленению подлежит не только Россия, но и Великороссия».
Проблема Пастернака[205]
А может быть, Пастернак в самом деле отказался от Нобелевской премии добровольно?
После его письма с отказом секретарю шведской академии — письмо Хрущеву в ответ на резолюцию общего собрания писателей гор. Москвы от 31 октября <19>58 г., исключающую его из числа советских писателей, и еще письмо в редакцию напечатавшей против него 26 октября статью Д. Заславского[206] «Правды». В нем он, между прочим, говорит: «Люди, близко со мной знакомые, хорошо знают, что ничто на свете не может заставить меня покривить душой». Если б это было не так, Пастернак, надо полагать, этого не подчеркнул бы, особенно делая признание, что «у меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу».
Редакция «Нового мира», которой он предложил свой роман, предупредила его еще в сентябре 1956 г., что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Говоря об этом, Пастернак замечает: «Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею».
Его письмо Хрущеву вызвано, по-видимому, вполне понятным беспокойством за свою судьбу. В резолюции писателей есть такие угрожающие строки: «Давно оторвавшийся от жизни и от народа самовлюбленный эстет и декадент, Б. Пастернак сейчас окончательно разоблачил себя как враг самого святого для каждого из нас, советских людей, — Великой Октябрьской социалистической революции и ее бессмертных идей… Что делать Пастернаку в пределах советской страны? Кому он нужен, чьи мысли он выражает? Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?
Пусть незавидная судьба эмигранта-космополита, предавшего интересы Родины, будет ему уделом».
Пастернак, по-видимому, считал остракизм одной из возможных против него мер и боялся его. «В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву, — сообщает он в «Правде», — я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с ее землей и природой, но, конечно, и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим».
Оснований Пастернаку не доверять у нас нет. Так оно, по всей вероятности, и было. И от премии отказаться и сожалеть, что он вовремя не осознал антисоветской тенденции своего романа, Пастернака не заставил формально никто — он сам себя заставил, будучи умным человеком.
Но острота вопроса не в этом, не в политической шумихе вокруг романа Пастернака, на девять десятых раздутой. Как это делается — мы знаем. Те же заголовки, тем же шрифтом «Гнев и возмущение» на тех же страницах «Литературной газеты», как и по поводу, скажем, событий в Иране. Так же, в тех же выражениях «советские люди» «осуждают» Пастернака, как тогда «осуждали» акул капитализма. Такие же бесконечные резолюции с бесконечной бородой подписей и письма «читателей» — одно другого глупее. И все это ни к чему, надоело, никто не верит ни одному слову — ни там ни тут.
Но когда касаются, хотя бы отдаленно, «проблемы» Пастернака — ибо таковая существует — и на минуту умолкает хор кликуш «Литературной газеты», то даже такой критик, как Д. Заславский, начинает говорить человеческим языком. Я отнюдь не поклонник советского Булгарина[207] и его напечатанной в «Правде» статьи о Пастернаке. «Шумиху реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» не приветствую. Но с его определением ранних стихов Пастернака нельзя не согласиться. «Его стихи, — пишет Заславский, — почитались поклонниками именно за то, что были далеки от всякого реализма, ничего общего не имели с жизнью народа и были по своей тяжеловесности, нарочитой сложности и заумности чужды ясному и чистому складу русской литературной речи. Это сложное рифмоплетство было трудно распутать, а если это удавалось, то оказывалось, что в основе его — куцая мысль, лишенная какой-либо значительности. Идейная путаница в голове поэта могла только и выразиться в бесформенности поэтического языка». Это абсолютно верно и касается не одного Пастернака, а вообще тех поэтов — тамошних и здешних, за чьим «высоким косноязычием» скрывается в большинстве случаев пустота. Но Заславский умалчивает, что Пастернак от этих своих ранних стихов давно отказался, о чем упоминает в «Попытке автобиографии», вышедшей по-французски у Галлимара. Но зато он подчеркивает одну важную вещь, подчеркнуть которую критики менее заслуженные, очевидно, не решились. Это — сообщение агентства «Франс Пресс»: «Роман открыл миру постоянство русской души, ее радикальное сопротивление марксизму и привязанность к христианским ценностям». «Реакционная печать, — продолжает Заславский, — так оценивает «литературные» заслуги Пастернака: “Его эстетические вкусы, его философский спиритуализм увеличивались по мере того, как вокруг распространялся материализм”».
Буквально то же отмечает в своей книге «Моя Россия в советской одежде» Шаховская, говоря о русском народе. И тут мы вплотную подходим к проблеме Пастернака.
Вернее, нас к ней подводит письмо ему от сентября 1956 г. членов редакции журнала «Новый мир», опубликованное впервые в «Литературной газете» 25 октября 1958 г. Это, собственно, не письмо, а большая критическая статья, занимающая полтора газетных листа и подписанная пятью именами: Б. Агаповым[208], Б. Лавреневым, К. Фединым, К. Симоновым[209] и А. Кривицким[210].
Надо отдать должное авторам статьи, она написана очень тщательно, и ее положения подкреплены множеством примеров. Точка зрения, конечно, официальная, советская. Но тон приличный. Тогда еще надеялись, что Пастернак «исправится», хотя, как в статье сказано: «Весь этот мир предреволюционной буржуазной России оказывается… до щемящей нежности милым авторскому сердцу».
Это — литература, во всяком случае, преувеличенно, но по существу в любви Пастернака «к родному пепелищу и к отеческим гробам» ничего предосудительного, даже с точки зрения ортодоксального марксизма, нет. Не всякому ведь дано иметь непрерывно перед умственным взором «непостижное виденье» бороды Маркса или вспоминать о прогрессивном параличе «великого Ильича».
И какие бы ни наклеивали советские критики на Пастернака этикетки — пасквилянт, предатель, литературный сорняк, мещанин (один читатель «Литературной газеты» называет его даже «лягушкой в болоте»), — этикетки тотчас с Пастернака слетают, что приводит критиков в раж. Что Пастернак не контрреволюционер, не враг народа, не бесталанный писатель — известно всем (его присутствие в 1935 г. на антифашистском съезде в Париже нельзя объяснить только желанием «проветриться», чего требовало его, тогдашнее близкое к психическому расстройству, нервное состояние, о каком он упоминает в «Попытке автобиографии»).
Но советские критики еще потому так упорно занимаются «толчением воды в ступе», что «обработка» Пастернака входит в программу подготовки всесоюзного съезда советских писателей. Отныне «ревизионизм» имеет лицо, имеет имя — Пастернак. Не только научно доказано, что ревизионизм — это лжесоциализм, связь его со всемирным, ультрареакционным заговором против Советского Союза теперь уж не подлежит сомнению. Неопровержимое тому доказательство — Нобелевская премия Пастернаку.
И может быть, не случайно советская власть, насколько известно, никаких мер против Пастернака до сих пор не приняла. Не оттого ли, что она приберегает его для съезда, где в его лице будет сокрушен навсегда «ревизионизм»? В связи с этой возможной расправой полезно вспомнить судьбу Карла фон Осецкого[211], получавшего в 1936 г., при Гитлере, Нобелевскую премию мира. Но об этом ниже.
Вернемся к «проблеме» Пастернака. Как ни странно и ни неожиданно, члены редакции «Нового мира» после долгого и бесплодного толчения «воды в ступе» перенесли спор из политики в религию. И хорошо сделали, потому что настоящий с Пастернаком спор только и возможен при этом условии.
Возражения серьезны. Не считаться с ними нельзя.
«Личность Живаго для вас есть высшая ценность, — пишет в своем письме Пастернаку редакция «Нового мира». — Во имя этого позволительно преступить все… Вы заканчиваете роман сборником стихов своего героя… Особый смысл для понимания философии романа приобретают стихи о крестном пути Христа на земле. Здесь слышится прямая перекличка с духовным томлением героя, изображенным в прозаической части романа. Параллели становятся ясны до предела. Ключ к ним дается физически ощутимо из рук автора в руки читателя.
В заключительном к роману стихотворении Живаго рассказывает евангельское «моление о чаше» в Гефсиманском саду. Слова Христа к апостолам содержат фразу:
Вас Господь сподобил Жить в дни мои…Разве это не повторение уже сказанных доктором слов о «друзьях» — интеллигентах, поступивших не так, как поступил он: «Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали»?
Весь путь Живого последовательно уподобляется евангельским «Страстям Господним», и стихотворная тетрадь — завещание доктора заканчивается словами Христа:
Ко мне на суд, как барки каравана, Столетья поплывут из темноты!Этим завершается роман. Его герой, как бы повторяющий крестный путь на Голгофу, последним своим словом к читателю, как Христос, прорицает будущее признание сотворенного им на земле во имя ее очищения от греха.
Но «доктор-поэт, вещающий свое «второе пришествие» и суд над человеком… нисколько не осуществляет своей претензии на мессианство, потому что искажает, но не повторяет путь обожествляемого им евангельского пророка: христианством на мрачной дороге доктора Живаго и не пахнет, потому что он меньше всего заботился о человечестве и больше всего о себе».
Что сказать? Благоразумие требует от окончательного вывода пока воздержаться. Необходима тщательная проверка цитат в их контексте, иногда совершенно меняющем смысл. Не забудем, что враг Пастернака опытен и ловок и мастер пропаганды. Для черни — «Литературная газета» с письмами в редакцию всевозможных добродетельных дураков, для интеллигенции — статья Федина и Симонова, «тайных христиан», называющих Христа «обожествленным евангельским пророком». Верующие, однако, охотно им это прощают, понимая, что требовать от членов редакции «Нового мира» мученического подвига нельзя. Очень важен в целях проверки и выход в Michigan University Press русского издания «Доктора Живаго», отрывки из которого печатались в «Новом русском слове» и «Новом журнале». Жаль, что так трудно достать стихи Пастернака, особенно его первые сборники, те, от которых он отказался, ибо его сила, конечно, в поэзии, а не в прозе.
Но если бы вдруг оказалось, что редакция «Нового мира» права и доктор Живаго действительно двойник Христа, то лучше на эту тему о романе Пастернака не написал бы и такой знаток вопроса, как Мережковский. Его статья была бы, несомненно, стилистически более блестяща, более остра, но по существу он, наверно, не сказал бы ничего другого.
Когда я в первый раз услышал заглавие романа Пастернака, меня покоробило. Вспомнился славянский текст: страшно впасть в руки «Бога живого», и подчеркнутый символизм оттолкнул, как прием антихудожественный. Но, тогда еще не знакомый с содержанием книги, я решил, что автор желает выделить героя, единственно живого среди мертвых.
Другое «откровение». Первая книга стихов Пастернака озаглавлена «Близнец в тучах». Расшифровать, что это значит, я не пытался, тем более что книгу не читал. Не поручусь, что понимал выдуманное им заглавие сам Пастернак. Но теперь его позиция постепенно выясняется. «Близнец в тучах» — это, по-видимому, божественный двойник Пастернака. И похоже на то, что доктор Живаго, т. е. сам Пастернак, действительно считает себя (к сожалению) двойником Христа.
Но с этим, увы, ничего не поделаешь, как ничего нельзя было в свое время поделать с неким Помпером, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Гиппиус, считавшим себя воплощением Св. Духа.
Двадцать лет назад[212]
Удивительно, как никто не вспомнил по случаю присуждения Пастернаку роковой Нобелевской премии и проистекших из этого последствий другого нобелевского лауреата, Карла фон Осецкого, получившего в 1936 г., при Гитлере, премию мира.
Судьба обоих лауреатов во многом схожа, но, к счастью, не во всем. И надо надеяться, что Бог избавит Пастернака от тех страшных испытаний, какие выпали на долю несчастного Осецкого.
Он родился в 1889 г., в Гамбурге. Был в 1920—<19>23 гг. секретарем Общества мира, затем сотрудником основанного Зигфридом Якобсоном левого пацифистского журнала «Мировая трибуна»; когда Якобсон умер, Осецкий стал главным редактором. Вот и вся его карьера.
В это время Германия тайно вооружалась. Начатое при Штреземане[213] вооружение шло при Гинденбурге[214] усиленным темпом. В парламентских кругах об этом знали и не особенно скрывали. Имевший доступ в круги рейхстага, Осецкий разоблачил в своем журнале незаконные действия Веймарской[215] республики. За это он был арестован и в 1931 г. приговорен к восемнадцати месяцам тюрьмы. Но был освобожден до срока, попав 22 декабря 1932 г. под рождественскую амнистию. Однако в феврале 1933 г. за то, что объявил себя антифашистом, был опять арестован, и его журнал закрыт в марте того же года. Больше он на свободу не вышел. Дверь тюрьмы захлопнулась за ним навсегда.
Сначала его заключают в зонненбургскую тюрьму, в ее восточное крыло, в особую круглую резиновую камеру, где он медленно задыхается (Нобелевская премия еще не получена, но Гитлер уже у власти). Тюрьму посещают представители иностранной прессы, до которых дошел слух о нечеловеческом обращении с заключенными. Но гости застают идиллию: заключенные веселы, сыты, распевают под гармонику песни (около каждого переодетый тюремщик), чуть ли не отказываются выходить на волю. Известный журналист Кникербокер спрашивает Осецкого, не надо ли ему чего-нибудь. Едва держащийся на ногах, Осецкий отвечает: «Пришлите мне наиболее полное описание средневековых пыток».
Его переводят в дом заключения в Эстервенгене. Там порка, темный карцер и другие истязания, как, например, подвешивание за руки на тридцать сантиметров от пола. Там же, по свидетельству Осецкого и его товарищей, ему путем впрыскиваний был привит туберкулез, от которого в мае 1938 г. он и умер.
В 1936 г. Нобелевский комитет присуждает Осецкому премию мира.
Немецкие газеты того времени очень напоминают советские после премии Пастернаку с той лишь разницей, что заговор, в котором обвиняется Нобелевский комитет, не «ультрареакционный, а революционный» — коммунистический. Против Осецкого, как против Пастернака, печатается ряд клеветнических статей, в которых он смешивается с грязью. В Париже гадают: поедет Осецкий за премией или не поедет, выпустит его Гитлер или нет? Но Гитлер его не выпускает. Он делает попытку премию присвоить и поручает немецкому послу в Стокгольме получить ее вместо Осецкого. Но ничего не выходит, и Осецкий в конце концов от премии отказывается («добровольно», как Пастернак).
Геринг, Химлер и Гейдрих между собой согласны Осецкого из тюрьмы вообще не выпускать. Но для виду его переводят сначала в берлинскую городскую больницу, потом в санаторию «Норден» в Нидершенхаузен под Берлином, где он по-прежнему — в полной власти гестапо и где 4 мая 1938 г. умирает от общего туберкулеза.
Его тело сжигают в присутствии чиновника гестапо. Но урна с пеплом остается безымянной — пока в Берлин не вступает победоносная советская армия.
В моем «Литературном дневнике», в тетради 82 «Возрождения», я писал об одном моем знакомом русском инженере, ставшем французом, который из недавней поездки в Россию вернулся «очарованный и умиротворенный». Некоторые читатели почему-то думают, что это — Е.М. Яконовский[216]. Во избежание каких-либо недоразумений считаю своим долгом заявить, что человек, которого я имел в виду, ничего общего с Е.М. Яконовским не имеет. Я не знал даже, что он — инженер.
В.З.
«Лолита» и «Распад атома»[217]
В «Новом русском слове» от воскресенья 19 октября 1958 г. была напечатана статья Марка Слонима об изданной в Америке новой английской книге Владимира Набокова[218] (Сирина) «Лолита»[219].
Первым изданием эта книга вышла в Париже, в издательстве, специализировавшемся на эротике и порнографии. Потому ли, что книга английская и ее специальный издатель предназначал ее для специального, главным образом иностранного, круга читателей, или по каким-либо другим причинам ее появление в Париже прошло незамеченным. О ней ходили смутные слухи, но в широких литературных кругах — русских и французских, толком о ней не знали ничего.
Американские издатели долго колебались, прежде чем выпустили роман в Нью-Йорке, а после его выхода он был запрещен в ряде провинциальных библиотек и подвергся атакам всевозможных организаций, защищающих общественную добродетель. Сюжет романа — клинический случай — страсть сорокалетнего мужчины к девочке-подростку.
В ответ на статью М. Слонима Кс. Деникина[220] написала письмо в редакцию, напечатанное в «Новом русском слове» 4 ноября и 25 ноября перепечатанное «Русской мыслью». Но сначала краткое содержание романа Набокова.
Герой — полушвейцарец-полуангличанин, Гумберт. Он получил прекрасное литературное образование. Но его жизнь искалечена: он остается навсегда под впечатлением любви к рано умершей маленькой подруге.
Ни встречи с женщинами в молодости, ни брак не могут вытравить в нем тайной страсти к тем, кого он называет «нимфет» (маленькая нимфа) — к девочкам не моложе девяти и не старше четырнадцати лет, обладающим, по его словам, «нимфической» — демонической властью.
Попав в Америку, он встречает такую маленькую нимфу, тринадцатилетнюю Лолиту, женится на ее матери, чтобы быть поближе к дочери, а когда жена умирает, делает из Лолиты свою возлюбленную и путешествует с нею по Соединенным Штатам. Но Лолита убегает от него с отвратительным развратником и впоследствии, в семнадцать лет, выходит замуж за какого-то молодого человека и ждет от него ребенка.
Гумберт уже не ощущает к этой беременной женщине тех чувств, что мучали и сжигали его, когда она была подростком. От прежней страсти осталась только ненависть к сопернику, отнявшему у него Лолиту, и он его убивает.
Форма романа — исповедь, написанная Гумбертом в тюрьме, где он ждет суда. Исповедь якобы публикует после его смерти ученый «доктор философии», получивший ее от адвоката убийцы. Предисловие ученого доктора, указывающего (вполне справедливо), что в рукописи нет ни одного неприличного выражения, — пародия на лицемеров, моралистов и лжекритиков, ищущих в искусстве «социального послания» или «возвышенного символа» и пишущих на псевдонаучном языке, с его ничего не объясняющими плоскими формулами. Набоков высмеивает американскую любовь к статистике, патентованные средства для исцеления души и сведение сложности мира к дешевым и популярным фразам и лозунгам. В сущности, это предисловие — ключ ко всей книге, с ее иронией и сарказмом и неустанной борьбой против пошлости.
«Многие читатели скажут, — замечает Слоним, — что описание болезненной страсти Гумберта их коробит, и пишущий эти строки тоже не мог отделаться от неприятного чувства, вызванного в нем некоторыми страницами «Лолиты». Но автор может — и вполне справедливо — возразить, что страсть — всегда болезнь, кошмар, безумие и ее изображение неизбежно ведет к «клиническому случаю», к картине человеческого беснования. Об этом очень хорошо знал тот самый писатель, которого В. Набоков так не любит (это для него очень показательно!), — Достоевский».
Когда Слоним писал свою статью, Нобелевская премия Пастернаку присуждена еще не была. Тираж «Лолиты» дошел до ста тысяч экземпляров. И в списке самых популярных произведений за октябрь она стояла на первом месте. Теперь это место занимает Пастернак, «Лолита» идет второй. Скептики, а также недруги Набокова приписывают это внелитературным причинам и говорят о «нездоровом вкусе» читателей. Слоним, однако, полагает, что одна из причин огромного успеха книги — это тот блеск, с каким Набоков описывает пошлость американского среднего класса, его особенности и преувеличения, бесконечные «анкеты», «измерения общественного темперамента» при помощи всевозможных Гэллупов[221]; его мифы: психоанализ, молодость, оптимизм и количество. Сама Лолита — любопытное соединение прелести и вульгарности, напоминающее героиню сиринской «Камеры обскура»[222]. А заключительная сцена убийства выдержана в стиле гротеска и пародирует современные детективные романы.
«Наши соотечественники имеют все основания для «национальной гордости»!» — в этой фразе, какой начинается статья Слонима и какая повергает Кс. Деникину в «недоумение и смятение», — ничего двусмысленного, ничего иронического. В самом деле: литературный сезон в Америке начался и проходит под знаком необыкновенного успеха двух русских писателей, из которых один — нобелевский лауреат, а другой обладает почти граничащим с чудом лингвистическим талантом и создал на английском языке произведение высокой стилистической ценности. Погордиться этим не зазорно.
Но что подобные книги — не для подрастающего поколения, в этом Кс. Деникина права.
«Никакая «литературная яркость» и «стилистическая ценность» романа, — пишет она, — не могут искупить глубокого и ужасного вреда, им приносимого. И невозможно поверить г. Слониму, что книги, подобные этой набоковской, — «борются с пошлостью» и только пугают «стародевических ревнителей морали», а не развращают подростков и неустойчивых людей…»
«Мы живем в жуткое время упадка, — продолжает Деникина, — когда рушатся семейные и общественные устои. Дело идет уже о моральном здоровье целых поколений или даже о вырождении. И потому особенно опасна нездоровая, противоестественная «литература», и если она изложена талантливо, — тем хуже».
Нельзя ни минуты сомневаться в искренности выраженных в этом письме чувств, и тревога Кс. Деникиной за судьбу нашей «смены» понятна вполне. Но дело гораздо сложнее, чем она думает.
Еще в 1938 г., 28 января, в «Возрождении» В. Ходасевич по поводу книги Георгия Иванова «Распад атома»[223] писал: «Сто восемь лет тому назад сказано, что литература существует не для пятнадцатилетних девиц и не для тринадцатилетних мальчиков».
То же можно бы ответить и Кс. Деникиной. Но этот чисто формальный (и несколько лицемерный) ответ вряд ли ее удовлетворил бы. Ее забота не только о том, чтобы уберечь душу ребенка от влияния «порнографических» книг, а главным образом, чтобы таких книг не существовало вовсе. Но ведь яд не только в них, он в самом воздухе, которым мы дышим. Уберечь ребенка от опасной книги еще можно (у детей, кстати, свое против этого оружие — смех), но как заставить его не дышать?
Кстати, по поводу «упадка нравов», о котором говорит Деникина, и борьбы с этим — любопытная заметка, в том же «Новом русском слове», в номере от 12 октября. В ней сообщается об открытии 11 октября с.г. в Блэкпуле съезда английской консервативной партии и о том, что немедленно по своем открытии съезд занялся вопросом о борьбе с преступностью.
Положение было признано очень серьезным, особенно ввиду усиления преступности детской, борьба с которой пока не дала никаких результатов.
Некоторые эксцессы не на шутку взволновали общественное мнение, как, например, избиение бандой молодых хулиганов — «Тедди бойс»[224] — известной киноактрисы Энн Тодд. Те же хулиганы в Ливерпуле выловили из одного городского пруда всех уток, выкололи им глаза, а затем бросили их назад в воду.
По мнению большинства делегатов, пагубное влияние на детей и юношей оказывают фильмы, телевидение и «желтая пресса». «Радикальное крыло» партии вынесло резолюцию о восстановлении порки — для взрослых и несовершеннолетних — как меры наказания за хулиганство. Но министр внутренних дел Ботлер решительно запротестовал: «Нельзя повернуть часовую стрелку назад на сто лет».
Не знаю, может быть, я в самом деле «мракобес», как недавно назвал меня один левый зубр, но на месте Ботлера я бы не удержался и уж из-за одних уток выпорол «Тедди-боев» так, что у них надолго прошла бы охота к подобного рода «проказам».
Но что всего тревожнее, всего страшнее в этих юнцах — это жестокость, садизм — отличительная черта «человекообразных», о которых я писал в октябрьской тетради «Возрождения». По правде сказать, пороть следовало их отцов, но разговор на эту тему сейчас бесполезен — все сроки пропущены.
А теперь о другой «порнографической» книге — «Распад атома» Георгия Иванова.
Она вышла в Париже в январе 1938 г. и тотчас же, как пишет в своей уже упомянутой о ней статье В. Ходасевич, «пошли слухи, что где-то и кем-то решено и постановлено подвергнуть ее смертной казни молчанием за непристойность и неэстетичность».
С этим мнением В. Ходасевич не был согласен, считая его незаслуженным и преувеличенным. Но любопытно, что то же отрицательное мнение о творчестве Георгия Иванова приводит в предисловии к недавно в Нью-Йорке вышедшему посмертному сборнику его стихов[225] Роман Гуль[226]. Один его собеседник ему сказал: «Мне хочется его (Георгия Иванова) приговорить к лишению всех прав состояния и, быть может, даже отправить в некий дом предварительного заключения». Причину столь жестокого приговора собеседник Гуля объяснил так: «В поэзии Георгия Иванова всегда слышится настоящий «из ада голосок», этот жуткий маэстро собирает букеты из весьма ядовитых цветов зла»[227]. Гуль с этим согласился: «Даже как адвокату Георгия Иванова, положа руку на сердце, мне не пришлось отрицать преступлений моего подзащитного, и я только просил о некотором милосердии». Но «если Георгий Иванов будет все-таки заточен в общую камеру некой «редингской тюрьмы»[228], — продолжает Гуль, — он, вне всякого сомнения, окажется в интереснейшем обществе. Из соотечественников там, вероятно, будут и Брюсов, «президент московский», и ядовитый Сологуб, и Зинаида Гиппиус, и Блок с «ночными фиалками», и забывший о благодати Есенин, и многие другие».
В ту же субботу, 28 января, когда была в «Возрождении» напечатана статья Ходасевича о книге Георгия Иванова, Зинаида Гиппиус читала в «Зеленой лампе» о ней доклад. Присутствовал — весь цвет русской эмиграции, от которого сейчас за двумя-тремя исключениями не осталось никого. Председательствовал, как всегда, Георгий Иванов. Когда очередь говорить дошла до меня, я сказал приблизительно следующее.
Книга Георгия Иванова очень современна, и для нас, людей тридцатых годов нашего века, бесконечно важна. Но я боюсь, что с ней произойдет то же, что с большинством в эмиграции рожденных книг. О ней немного поговорят, а затем она, даже не вызвав скандала, провалится в пустоту, куда неизменно проваливается все, что так или иначе связано с Россией. Но мне хотелось бы выяснить, пока мы еще не окончательно захлебнулись пустотой, почему возбудила эта книга, если не у всех, то у большинства, такой ужас и отвращение. В чем, собственно, дело?
Неприличия, на которые Георгий Иванов не поскупился? Нет, конечно. Дело не в них. Каждый, кто гуляет по Парижу, может, если он только не ослеплен окончательно своим совершенством, наблюдать сцены вроде тех, что изображает в своей книге Георгий Иванов. Этим сейчас не смутишь никого.
Посягательство на тайные мечты? Это серьезнее. Душа человека — священна. Неприкосновенность полная, абсолютная свобода. «Скажи мне, о чем ты мечтаешь втайне». Нет, не скажу. Мало ли о чем я втайне мечтаю! Может быть, об отцеубийстве. Или у меня «эдипов комплекс», и я мечтаю… Словом, это никого не касается, и судить обо мне по моим тайным мечтам не вправе никто. Вот когда убью, тогда судите. А вдруг не убью. Вдруг душу свою положу, и не «за други своя», а за последнего мерзавца — за Вейдемана, за «дюссельдорфского вампира», за кого хочу. И те, кто заготовил для меня наручники или смирительную рубаху, окажутся в дураках.
И все же сорвать покров с человеческой души в иных случаях надо, поступившись всеми ее священными правами. Не потому, что она без посторонней помощи не может справиться с одолевшими ее смертельными мечтами —
О, как паду и горестно и низко, Не одолев смертельные мечты —знать этого нельзя до последней минуты. Но хотя бы для того, чтобы стала наконец явной та «неземная добродетель», которую не прошибешь ничем и на которой, как на благодарной почве, всходит пышным цветом «мировое уродство». Мир погибает не только от злодеев, но и от праведников. Этого сегодняшние идеалисты всех толков Георгию Иванову не забудут. Но это лишь одна из причин — не главная, — почему книга его попадает под индекс.
А главная — вот: Георгий Иванов пытается соединить человека, Бога и пол. Удается ему это или нет — вопрос другой. Но уже одного намека на возможность соединения достаточно, чтобы всем стало не по себе. Почему?
«Мировое уродство», которое Георгия Иванова, как некий дурной запах, преследует повсюду, держится на разделении человека, Бога и пола. Безличный, человека унижающий пол; окаменевшая в своем бесполом совершенстве личность и — анонимный абсолют, похожий скорее на дьявола, чем на Бога, — три формы этого уродства, мир человеческий искажающего, как отражение в кривом зеркале. Но если бы удалось наконец человека, Бога и пол соединить так, чтобы и человек был цел и пол — свят, «мировое уродство» пошатнулось бы в своем основании. Вот почему вызывает книга Георгия Иванова у «детей века сего» такой ужас и отвращение.
Ну а Розанов? Ведь и он, кажется, пытался… Да, да, да. Но как раз из розановской комбинации не вышло ничего. «Мировое уродство» не дрогнуло. Пол с Богом он — правда — соединил, но за счет личности, подменив ее родовым началом. И не потому ли так легко прощаются Розанову и его кощунство, и его бунт, и все его неприличия, что воля его к безличности встречает ту же волю везде — в браке, в семье, в государстве, в Церкви? Против чего бы Розанов ни бунтовал, какие бы ни подрывал основы, в конечном счете он утверждает существующий порядок. Автор «Темного лика»[229], книги, пытавшейся взорвать христианство, умирает в Троице-Сергиевской лавре, на руках о. Флоренского, под шапочкой св. Сергия[230], как верный сын православной церкви. Это не случайно. Розанов — одно из интереснейших явлений неудавшейся духовной революции. Но человеку современному, человеку тридцатых годов нашего века, знающему о личности что-то, чего дореволюционный человек не знал, в розановском мире, где пахнет пеленками и дурной бесконечностью, делать нечего. С Богом или против Бога, но утверждение человеческой личности во всей ее полноте. С Богом или против Бога, но совершенная свобода с правом даже погубить себя и мир. Георгий Иванов верно почуял, что только с Богом. Однако найти Его не просто.
«Versinke denn, ich konnt’ auch sagen steiges’ist einerlei…» (Из трагедии И В. Гете «Фауст», ч. 2 (нем.)).
Опустись же, я мог бы сказать «взвейся». Это все равно…
Георгий Иванов выбрал эти слова Гёте эпиграфом к своей книге неслучайно. Я из любопытства спрашивал у тех, кому книга казалась значительной, какое отношение имеет этот эпиграф к ее содержанию. Мне неизменно отвечали: никакого. Между тем он связан с самым в ней важным. Раскройте ее на странице 77, вы прочтете: «Наши одинокие, разные, глухонемые души — почуяли общую цель и — штопором, штопором — сквозь видимость и поверхность — завинчиваются к ней. Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором, сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу».
Какие странные слова! Что они значат в переводе на практический язык?
Не знаю, отдавал ли себе сам Георгий Иванов отчет в религиозно-общественном значении своей книги. Как будто нет. Но оно несомненно. Книга Георгия Иванова имеет прямое отношение к одному из самых серьезных человеческих дел на земле. Я говорю о построении «Civitas Dei» — слово бл<аженного> Августина[231]. Нарочно пользуюсь, как в медицине, латинским термином, дабы, сказав «Град Божий», «Царство Божие на земле», не приобрести нежелательного союзника в лице христианского идеализма (журнал «Путь», «Новый град», Религиозно-философская академия и пр.). Проглядев современного человека, не поняв ни его правды, ни его соблазнов, этот идеализм утверждает, как утверждал всегда, вечную двойственность правды человеческой и правды Божией и Царство Божие на земле считает, хотя и не признается в этом открыто, ересью величайшей.
«Civitas Dei» — Град Божий — зиждется, как и всякое здание, на невидимом, подземном фундаменте. Это — общее место. Но мы теперь догадываемся, на какой глубине этот фундамент должен быть заложен. Мы догадываемся, что если он будет заложен не на глубине той «бездны», какая — неслучайно — разверзлась в душе современного человека, здание взлетит на воздух, как бы ни было оно прочно построено.
Но опять-таки, что это значит в переводе на практический язык? Как заложить прочное основание Града Божия на глубине ада, ибо речь именно об этом, — без предварительной над ним победы? Но такого вопроса у Георгия Иванова даже не возникает. Общее направление он угадывает верно, чувствует — тоже верно, — что проблема пола находит свое разрешение в личной любви, т. е. что это проблема религиозная. Но что Бог и пол — величины несоизмеримые, — этого он не сознает и, ставя между ними знак равенства, делает из пола как бы некий абсолют, который человека съедает без остатка, вместе с его любовью. У Розанова остается хоть что-то — род, дурная бесконечность истории. У Георгия Иванова — ничего. Конец личности — конец нашего человеческого мира.
Но не этого ли, в сущности, и хочет Георгий Иванов, стремясь всеми силами разложить атом человеческой личности? С ее исчезновением ад превращается в «рай» и уже здесь, на земле, наступает вечное блаженство — блаженство небытия.
Герой книги Георгия Иванова кончает самоубийством. Конец вполне естественный: личность человеческая — неделима, и смерть духовная неизбежно влечет за собой физическую. Но при желании можно ее ускорить, что герой Георгия Иванова и делает, пуская себе пулю в лоб.
Как избежать смерти духовной, спасти человека и человечество от окончательного впадения в умственное и нравственное ничтожество — в этом сейчас вся практическая трудность дела, служить которому современный человек призван. Если он не всегда на высоте положения, то, может быть, не только по своей вине. В деле, какому он служит, правду от лжи отделяет — волосок.
«Все, что у вас есть, — есть и у нас», — говорит черт Ивану Карамазову, открывая тайну загробного мира. Тот же черт мог бы, говоря о любви, сказать: «Все, что у нас есть, — есть и у вас». Однако тайну любви он не открыл бы, как не открыл и тайну загробного мира. «Все, что у вас есть, — есть и у нас», можно бы ему ответить, но только в иной категории. Волосок, отделяющий категорию любви личной от безличного полового акта, — это ее единственность и неповторимость, как единственна и неповторима сама человеческая личность. Разница как будто невелика, но на этом волоске держится мир, и если волосок оборвется, все действительно полетит к черту.
Да, все дело в категории. И в мере. Но мера вещей божественная, вернее, богочеловеческая, дается не сразу. И кто не был влюблен в безмерность, не найдет ее никогда.
«Широк человек, я бы сузил», — говорит о человеке Достоевский. О человеке современном этого не скажешь. Он как будто достиг предельной узости во всем — в политике, в религии, в революции, только в «любви» безмерен. Человечество еще не родилось. И не праздное ли занятие мечтать сейчас о богочеловечестве, когда каждый — один, в своем аду?
Праздное или нет — не знаю. Времена и сроки от нас скрыты. Однако то, что происходит с нами сейчас, может быть, заставит нас понять, что в одиночестве — мы погибнем, вместе — спасемся.
Вот что я приблизительно думал двадцать лет назад о книге Георгия Иванова и продолжаю думать до сих пор.
Да, нашим абсолютом стал пол. Теперь это совершенно ясно. И от этого все наши несчастья, все.
Памяти Н.А. Оцупа[232]
Не помню точно, когда и где я с ним познакомился. Кажется, в одном из литературных кружков, которыми изобиловал тогда Петербургский университет, куда мы оба только что поступили. Фамилия, впрочем, была мне знакома с давних пор. Мы жили на Надеждинской в доме Чайковского, и не раз по дороге в школу я останавливался на углу Литейного и Бассейной перед витриной придворного фотографа А. Оцупа. Одним из его многочисленных сыновей и был Н.А.
Он кончил царскосельскую гимназию, директором которой был поэт Иннокентий Анненский[233] и где также учился Н.С. Гумилев[234], кончивший ее несколькими годами раньше. Мое первое воспоминание о Н.А. довольно смутное (их вообще немного. Несмотря на взаимную симпатию, мы встречались редко…). Какая-то комната, вечер. Кажется, это было у него. От лампы с низким абажуром полутемно. Н.А. шагает из угла в угол, читая стихотворение о каком-то укротителе, который говорит: «Ты больше не житель, ты больше не житель!» Из темного угла поэт Адуев[235] замечает, что это можно понять как намек на черту оседлости. Потом Н.А. просят прочесть стихотворение о «маленьком эстонце», которое всем очень нравится. Н.А. читает:
Маленький эстонец. Пуговки на лаковых ботинках Могут твой умишко думой удосужить. Даже генералы на цветных картинках Одеваются гораздо хуже.После этого до новой встречи с Оцупом проходит много времени. Я его не помню ни на собраниях нашего литературного кружка, ни в знаменитом университетском коридоре, где встречались все, от Георгия Иванова и Адамовича до Сергея Павловича Жабы[236] и его неразлучного спутника (которого я до сих пор не знаю, как звали). Впоследствии выяснилось, что Оцуп в то время был в Париже, увлекался Бергсоном[237] и слушал в Сорбонне его лекции о «Творческой эволюции». Впрочем, и по своем возвращении осенью 1914 г. в Петербург он был в нашем кружке[238] — редкий гость. Его больше влекло к Гумилеву и к «акмеизму», с которым мы боролись, считая это направление ложным.
В сентябре 1914 г. я встретил Оцупа в университете и не узнал. Он отрастил себе в Париже усы, которые ему не то что не шли, но совершенно его меняли. Это был не он. Вскоре он их по моему совету сбрил, и, кажется, навсегда.
Среди нас он, пожалуй, был самый взрослый. Не по годам, конечно — большинству еще не было 21 года, — а по отсутствию столь юности свойственного легкомыслия. Он был практичен и понимал, что стихами не проживешь, — то, о чем мы тогда не думали совершенно. Этим я отнюдь не хочу сказать, что им в его сближении с кружком Гумилева и с «Цехом поэтов» в какой-либо мере руководил расчет. Нет, он просто чувствовал себя там более в своей среде, чем в нашем буйном, разноголосом кружке, относительно которого он, должно быть, решил, что ничего путного из него не выйдет. В акмеизме, как в реакции на символизм или на то, что называли тогда символизмом, была своя правда. Беда лишь в том, что акмеист на свете был всего один — Гумилев. Ни Анна Ахматова, ни Мандельштам, ни Адамович, ни — потенциально — Георгий Иванов — акмеистами не были, по крайней мере в том смысле, в каком это понимал Гумилев, да и вообще ни в каком. Это были просто хорошие поэты, пишущие хорошие стихи. Не две школы, а два сорта стихов — плохие и хорошие, из которых не все хорошие непременно принадлежали перу «акмеистов».
Но тогда мы этого не понимали. Мы боролись за верный принцип вслепую. Символизм не школа, не направление, а сама природа искусства. Всякое искусство по существу — символично. Акмеисты отталкивались не от символизма, а от его вырождения — от плохих стихов. Это ясно, как ясно, что поэзия Анны Ахматовой — поэзия более совершенная, более глубокая, чем поэзия Гумилева.
Как-то на лекции профессора Шляпкина по истории русской литературы я познакомился с одним студентом. Шляпкин был неимоверно толст и не во всякую дверь проходил даже боком. Аудиторию для него выбирали с дверью двустворчатой, широкой. Кроме того, случалось, что, откинувшись во время лекции на спинку стула, так что из-за живота не было видно головы, он на несколько минут засыпал. На лекции, о какой речь, Шляпкин мирно похрапывал, когда вошел на цыпочках опоздавший студент и сел со мной рядом. Он был высок, худ, бледен. Звали его Георгий Маслов.
Я вспомнил о нем не случайно. Он и Всеволод Рождественский (оставшийся в России — в прошлом году его стихи были напечатаны в «Литературной газете») — два вышедших из нашего кружка поэта, в которых, особенно в Москве, уже тогда было все, что пришло на смену акмеизму. Маслов быстро созрел, но и рано умер — после революции, в Сибири, у Колчака, от тифа. Он был женат на поэтессе Анне Регат (Тагер)[239], с которой познакомился в нашем кружке и которая, надо надеяться, сохранила его стихи и незадолго до смерти написанную и, кажется, изданную (где?) поэму «Аврора». (Не о крейсере, конечно, обстреливавшем в октябре 1917 г. Зимний дворец, а об «Авроре» пушкинской.)
Я запомнил несколько его стихотворений, из которых привожу два:
Не нам весеннее безумье И трепетный поток стихов. Наш жребий — трудное раздумье И нищенская скупость слов. Намеков еле зримых тканью Скрыв мысли тайные свои, Нас Баратынский вел к молчанью И Тютчев говорил «таи». И пусть из радостного плена, Из недр божественного сна Слова стекают, словно пена С бокала полного вина.Второе:
Полна смущенья и тревоги, Ты убегала в темный лог, Но распаленный, быстроногий, Не отставал дубравный бог. Ты спотыкалась, ты молилась, И боги слышали твой крик. И ты чудесно превратилась В невнятно шепчущий тростник. Но он сломал твой стебель тонкий, Отверстье выдолбил в стволе. Твой стон печальный и негромкий Повеял небу и земле.Продолжаю об Оцупе. Он сыграл в моей жизни большую роль: это он в 1916 г. ввел меня к Мережковским.
Отлично помню, как я готовился к «воскресенью» на Сергиевской, 83. Но ни моя «визитка» от Калина, ни мои стихи успеха не имели. Зинаида Николаевна впоследствии мне рассказывала что Философов назвал меня «petit maotre» [Маленький франт, щеголь — фр.], а мои стихи «article de Paris» [Парижские статьи — фр.]. Правда, и мое первое впечатление о салоне Мережковских и о самой Гиппиус было не из лестных. Крашеные рыжие волосы, кирпичный румянец, какие-то шали, меха, в которых она путалась, делали ее похожей на чучело. Неприятно звучал ее голос морской птицы. Все в ней и вокруг нее казалось неестественным, вплоть до монокля, который она впоследствии заменила лорнетом, и узких надушенных папирос. Надо было немало времени и громадное терпение, чтобы сквозь эту бутафорию добраться до ее настоящей человеческой сущности и понять ее трагедию. Мережковский — тот был проще, хотя не так прост, как это казалось на первый взгляд. Его обвиняли в равнодушии и в том, что он людей не видит. Но иногда он все видел и все понимал — до ужаса.
Моя последняя встреча с Оцупом в России была после октябрьской революции. Не могу сказать, чтобы я о ней вспоминал с удовольствием.
Я не знаю, чем он тогда занимался. Но он жил в довольстве и в тепле. Это бросалось в глаза, особенно такому голодающему буржую, каким был я и большинство моих друзей. Причем Оцуп этим даже как будто гордился.
Он показывал мне альбом с автографом Блока, с которым был на «дружеской ноге».
Пушкин, тайную свободу Пели мы вослед тебе. Дай нам руку в непогоду, Помоги в глухой борьбе[240].Был он на «дружеской ноге» и с Гумилевым. Когда он попросил меня прочесть мои стихи, я прочел стихотворение Гиппиус, которое выдал за свое (как мы с ней об этом условились накануне).
Нет, не бывает, не бывает. Не будет, не было и нет. Зачем нас этот сон смущает, — На безответное ответ. Он до сих пор кому-то снится. И до сих пор нельзя забыть. Он никогда не воплотится. Здесь ничего не может быть[241].Стихотворение ему очень понравилось, и он его запомнил с голоса. Что это не мое, я ему сказал лишь в эмиграции, в Париже, незадолго до его смерти.
В эмиграции Оцуп появился приблизительно одновременно со своими товарищами по «Цеху поэтов» — Георгием Ивановым и Адамовичем.
Их присутствие здесь, среди нас, было чрезвычайно важно, главным образом, для подрастающего поколения. Они привезли с собой как бы воздух Петербурга, без которого, наверно, не было бы ни «Чисел», ни многого другого, что позволило нам пережить ждавшие нас здесь испытания и не потерять лицо. Но главный инициатор и вдохновитель журнала — Николай Оцуп поставил себе задачу не из легких.
Не говоря уже о материальной стороне дела, о средствах на издание, достать которые тогда было, пожалуй, не легче, чем теперь, и о связанных с этим уступках и компромиссах, идеологическая цель казалась в иные минуты недостижимой. Оцуп хотел установить преемственность между культурой петербургского периода и новым поколением, но так, чтобы усваивалась не мертвая академическая форма, а неугасимый творческий дух. Он окружил себя плеядой писателей, художников и поэтов самых разнообразных направлений, от Юрия Фельзена[242] до Бориса Поплавского[243]. Но свою роль он не ограничивал только ролью редактора — организатора, он был и педагог. Он принадлежал к числу тех поэтов, у которых возможно поэтическое потомство.
Было у него еще и другое близкое его сердцу дело: соединение лучших представителей русской и французской культуры. Неудачи на этом фронте его всегда волновали. После первой поездки Андре Жида в сов<етскую> Россию и его книги о ней, встреченной русской эмиграций враждебно, Оцуп устроил в большом зале Societe Savante вечер, посвященный Жиду, на котором должны были выступать русские и французские писатели. Но ни один француз не приехал, если не считать ввалившегося в антракте со своими молодцами безумно похожего на Гришку Зиновьева Вайяна-Кутюрье[244] (ныне покойного). Во время речи Мережковского, где он между прочим обращался к Жиду с вопросом: «Не кажется ли вам, что любовь к дурным запахам — признак неизлечимой болезни?» — представители французского комсомола орали: «А St. Anne! A St. Anne!» (Что значило — в сумасшедший дом.)
Педагогические способности Оцупа проявились, главным образом, после войны. Защитив в Сорбонне диссертацию о Гумилеве, он стал преподавателем русского языка в двух школах — в Ecole St. Louis и в Ecole Normale.
Но и там, продолжая свою работу по сближению Запада с Востоком, он преподавал не только грамматику, он старался объяснить своим внимательным ученикам сущность русской духовности, знаменитую ame slave [славянская душа — фр.], в которой уживаются самые невозможные противоречия.
В последний раз я его видел осенью 1957 г. у него в Saint Mande. Он был уже болен, и я знал, что серьезно. Мы говорили о стихах и о З. Гиппиус, которую он любил и считал замечательным поэтом. Он мне читал свои стихи об Антихристе, и я подумал, что это сейчас один из немногих, с кем можно на эту тему говорить.
Потом он пошел меня провожать. Было сыро, темно и грустно. Мы расстались у метро. После этого я встречал его мельком еще раза два. В последний раз на Rue Darn, на панихиде по Георгии Иванове. Я к нему подошел и выразил сожаление, что мы так редко видимся.
— Теперь поздно! — сказал он и, махнув рукой, отошел и затерялся в толпе.
Братья по России[245]
В воскресенье 7 декабря 1958 г. в Большом Кремлевском дворце открылся под председательством Леонида Соболева первый учредительный всесоюзный съезд советских писателей[246]. Он продолжался 4 дня, подготовлялся 15 месяцев.
Что на нем происходило — мы в точности не узнаем никогда (цензура). Но это не важно. Важна цель, какой должно служить новое коммунистическое учреждение — союз писателей Р.С.Ф.С.Р.
В партийном документе «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» Хрущев эту цель указывает. «Высшее общественное назначение литературы и искусства, — говорит он, — поднимать народ на борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма». Приблизительно ту же мысль развивает в своем докладе председательствующий на съезде Л. Соболев. «Основой нашего союза, — напоминает он, — является великая русская литература, которая всегда была верна благороднейшей идее преобразования человеческого общества и в наше советское время стала мужественным и стойким бойцом за коммунизм».
За три дня до съезда «Литературная газета» писала в передовой: «Работа съезда по времени совпадает с невиданным еще доселе подъемом народного духа, подъемом, вызванным ошеломляюще дивными перспективами, которые открывает перед нами поистине Великое Семилетие». Соболев эту мысль подхватывает и, обращаясь к участникам съезда, предлагает отдать «все силы, уменье, горячее писательское слово строительству коммунизма (аплодисменты)».
Такова официально цель, какой должен служить союз писателей Р.С.Ф.С.Р.
На самом деле это не совсем так.
Союз писателей Р.С.Ф.С.Р. — новый, не имеющий ничего общего ни с русской литературой, ни с искусством вообще, аппарат коммунистической пропаганды, цель которой укрепить всеми способами единство коммунистической империи ввиду возможной будущей войны.
Если принять это положение, все становится понятным. Например, неприемлемый для художника параграф устава: «Член союза писателей СССР обязан всей своей творческой и общественной деятельностью активно участвовать в строительстве коммунизма», вполне приемлем для гражданина, если, конечно, он убежденный коммунист. Но судя по неискоренимости ревизионизма, о чем свидетельствует не только доклад Соболева, убежденных коммунистов в России с каждым днем все меньше. Очень показательна в этом смысле резолюция съезда по докладу Соболева, касающаяся литературной критики:
«Съезд считает, что важнейшим условием дальнейшего развития литературы, подъема ее идейно-художественного уровня является усиление деятельности литературной критики. При известных достижениях критики за последнее время она все еще недостаточно выполняет свои задачи активного воздействия на литературный процесс и пропаганды успехов советской литературы».
Это значит на условном языке советской прессы, что желающих лечь костьми за торжество социалистического реализма либо нет вовсе, либо очень мало. В переводе же на язык реальной политики — это признание, что защищать своей грудью давно всем осточертевший коммунистический режим не хочет никто. Вообще, когда на страницах советской прессы начинают мелькать слова «Россия», «русский», — это верный признак, что дела коммунистов плохи. А «Литературная газета», особенно номера, посвященные съезду, «волшебными» словами так и пестрит: «Великая русская литература», «Российская Федерация», «Первый всероссийский» (заглавие упомянутой мной передовой). Отчеты о работе съезда проходили — в той же «Литературной газете» — под общим заголовком «Братья по России». Вряд ли это ловушка, ибо риск слишком велик. Насильственно, на обмане построенная коммунистическая империя развалится в минуту опасности, как карточный домик. Коммунисты отлично это понимают. Их трагедия — поскольку можно это высокое слово применять к советским жуликам — в том, что они своими руками роют себе могилу, строят не коммунистическую, а русскую империю. И это отлично понимает «одна иностранная держава».
Братья по России — наши братья, а не советские. И было бы глупо и преступно после победы русского народа над коммунистической партией, которую сейчас совсем не кстати докладчик Соболев называет «родной», — было бы глупо и преступно разрушать созданный коммунистами Всероссийский союз писателей. Это как если бы стали взрывать московскую радиостанцию за то, что она занималась коммунистической пропагандой.
Пропаганда будет другая, но аппарат необходимо сохранить. А если к тому времени мордву или чукчей научат отличать ямб от хорея — тем лучше.
«Одна иностранная держава»[247]
В восемьдесят третьей тетради «Возрождения» была напечатана моя заметка «Новые «освободители», в которой, основываясь на статье М.Е. Вейнбаума «Расчленители за работой», я писал об антирусской политике американцев.
На это в «Новом русском слове» от 3 января 1959 г. М.Е. Вейнбаум мне отвечает. Не отрицая существование в американских политических кругах антирусских тенденций, он заявляет, что если бы американское правительство приняло политику расчленения России, то он такую политику критиковал бы, считая ее вредной и неразумной.
«Но этого пока нет… — говорит он. — Ни в политике бывшего президента Трюмэна[248] и ни в политике Айзенхауэра[249] до сих пор не было ничего такого, что свидетельствовало бы, как уверяет Вл. Злобин, о том, что американская политика расчленения России ныне факт.
Пропаганда расчленения России имеет здесь сторонников. Они из кожи лезут вон, чтобы изменить американскую политику в желательном им смысле. С этой пропагандой необходимо бороться».
Что я и делаю. Нигде в моей заметке не сказано, что политика расчленения России — политика американского правительства. Я говорю, американцев. Официально такую политику вести правительство сейчас не могло бы. Советы обвинили бы его мгновенно во вмешательстве во внутренние русские дела. И были бы правы. Но ведь есть политика неофициальная, тайная дипломатия, секретные фонды. М.Е. Вейнбауму это известно так же, как мне. И тут ни он, ни я доказать не можем ничего.
Но не случайно прилив и отлив американского капитала, вложенного в то или другое эмигрантское политическое предприятие (с точки зрения коммерческой совершенно нерентабельное), зависит, за редчайшим исключением, вот от этого самого «вмешательства во внутренние русские дела». Чем-то неизменно приходится поступаться, идти на какой— то компромисс. А если слишком несговорчив, каким был «Координационный центр» со своим председателем С.П. Мельгуновым[250], тогда — жди — придет от представителя очередного американского комитета официальное извещение, что от такого-то числа «материальная помощь прекращается». Но ни С.П. Мельгунов, ни возглавляемый им центр не могли принять требование обязательного и немедленного сепаратизма. Одновременно вышла из-под русского контроля и перестала служить русскому делу радиостанция «Освобождение». Я мог бы привести еще массу примеров, но к чему? Наше эмигрантское дело маленькое. Не мы будем решать вопрос о сепаратизме, а Россия. Гораздо интереснее, как относится к этому Запад, в частности «одна иностранная держава».
Можно, конечно — с некоторой натяжкой, — допустить, что какой-нибудь американский архимиллиардер вместо скаковых конюшен или гарема из премированных холливудских звезд решил взять на содержание президента Казакии или Грузии с его канцелярией в надежде на выгодную концессию в этой освобожденной, самостоятельной и цветущей стране.
Можно также — при некотором воображении — себе представить, что другой американский архимиллиардер накануне самоубийства от невыносимой жары оставил все свое состояние на содержание украинской Рады и на памятник гетману Скоропадскому[251]. Но совершенно немыслимо, чтобы подкомиссия американского сената по государственной безопасности, при всем уважении к личному мнению своих членов, вела собственную иностранную политику, к тому же правительственной совершенно противоположную.
Доклад подкомиссии «Советская империя — тюрьма народов и рас», о котором я писал в тетради восемьдесят третьей «Возрождения», — один из многих докладов и статей, предназначенных для обработки американского общественного мнения на случай войны с Россией.
Как относится к представителям «народов России» американская власть?
Очень хорошо. В одном из прошлогодних номеров издающейся в Мюнхене американской газеты на русском языке «Наше общее дело» я видел фотографию, на которой был снят в каком-то саду или парке улыбающийся всей своей вставной челюстью американский инструктор, окруженный группой статистов в национальных костюмах — «народы России» на лоне природы.
А на Рождество или под Новый год был устроен «Бал народов России», о чем извещало объявление на первой странице «Нового русского слова». Я не удивлюсь, если узнаю, что по воскресеньям тот же инструктор со вставной челюстью водит «народы России» в кинематограф на дневной сеанс… Нас, по-видимому, принимают либо за детей, либо за дикарей.
А все-таки:
«Тюрьма народов и рас», или «братья по России»?
Достоевский и современность[252]
1. «Бесы» на французской сцене
В театре Antoine идет сейчас с большим успехом пьеса Альберта Камюса[253] «Les possedes» [ «Бесы» — фр.], написанная по роману Достоевского «Бесы»[254]. Об этой пьесе в настоящем номере «Возрождения» — подробная статья нашего театрального критика Л. Доминика, с которой я согласен почти во всем, но кое в чем расхожусь. Кроме того, у меня в связи с пьесой Камюса (и отчасти с романом Достоевского) явились мысли, которые меня смущают, хотя в них, по-моему, не все от лукавого.
Достоевского как писателя, в частности роман «Бесы», Камюс ценит очень высоко. Он считает, что это одно из лучших произведений мировой литературы, и в кратком предисловии к пьесе признается, что оно оказало на его духовное развитие влияние громадное. Далее он пишет: «В образах Достоевского — теперь мы это поняли — ничего странного, ничего бессмысленного. Они — как мы, у нас с ними как бы одно сердце. И если «Бесы» книга пророческая, то не потому только, что в ней наш нигилизм: она показывает опустошенность наших душ — истерзанных, не живых, не имеющих силу ни любить, ни верить и от этого страдающих. Именно таковы сейчас лучшие представители нашего общества, его духовная элита.
Тема пьесы — параллельно с убийством Шатова — внутренняя драма и гибель Ставрогина — героя наших дней. «Бесы» не только шедевр мировой литературы, но и произведение глубоко современное».
Признаюсь: несмотря или, вернее, именно благодаря превосходной игре артистов их внутренняя связь с героями Достоевского, какую подчеркивает Камюс, не чувствовалась. Ни одно из действующих лиц бесом одержимо не было. Да этого и не требовалось. Чтобы объяснить выходки Ставрогина или истерику Верховенского, достаточно «ame slave», в которой, как известно, Бог и дьявол мирно соседствуют. Вот почему совершенно не удались такие «инфернальные» сцены, как самоубийство Кириллова и особенно убийство Шатова, где бес человеком владеет безраздельно. Что же до Ставрогина, то вешаться ему явно не хотелось и последнюю фразу: «Я не виню никого» — он произнес с трудом. Зато все, что касается стороны любовно-адюльтерной, — выше всех похвал. Ни одной фальшивой ноты.
Еще парадокс: в пьесе есть сцена, какой у Достоевского нет, — свиданье Ставрогина с Тихоном в монастыре, написанная Камюсом по «Исповеди Ставрогина». Сцена замечательная, лучше, пожалуй, не написал бы и сам Достоевский. Но страшная. Кажется, что Тихон это и есть главный бес.
Но даже если сцена в монастыре от начала до конца выдумана Камюсом, за ней вполне определенная реальность: отношение русской Церкви к миру. Вспомним отлучение Толстого или о. Матфея[255], под влиянием которого Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ». Что-то в разговоре с Тихоном могло толкнуть Ставрогина на самоубийство. Может быть, отвернувшийся от него после его исповеди с таким ужасом Тихон действительно был его последней надеждой на спасение, соломинкой, за которую хватается утопающий.
Но есть еще один пункт, в каком представители французской элиты вряд ли сойдутся с Достоевским: это его отношение к католичеству.
Достоевский с самого начала не признавал Папу и не верил в его непогрешимость. Но идея о «Папе-Антихристе» вполне у Достоевского созрела и получила свое художественное завершение лишь в «Братьях Карамазовых» — в «Легенде о Великом инквизиторе». Напомню, кстати, что та же идея — у Владимира Соловьева в «Повести об Антихристе»[256], хотя он к католичеству относился, скорее, положительно и, по слухам, даже его принял.
В «Бесах» Верховенский, объясняя структуру будущего государства, говорит: «Папа — наверху, мы — вокруг и т. д.». Странно было слышать эти слова во французском театре в 1959 г. И я чувствовал, что сердце моего соседа француза в унисон с моим не билось.
Другое, тоже еще не исполнившееся, пророчество Достоевского — о будущем Европы (Камюс его не приводит). «Будущее Европы, — говорит Достоевский, — принадлежит России». Это можно толковать по-разному, в плохом и в хорошем смысле — как мировую победу русских коммунистов или как влияние освободившейся от бесов России.
«Вы увидите, — пишет Гоголь в письме «Страхи и ужасы России»[257], — что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».
Камюс считает Ставрогина героем нашего времени. Но для нас он перестал быть актуальным и эсхатологические пророчества Достоевского нас уже не потрясают, во всяком случае, в той степени, в какой потрясали до последней войны. С тех пор изменилось многое. Мы как будто начинаем выздоравливать, а Европа наоборот — слабеть, сдавать позиции — вянуть, чему верный знак воцарившаяся в мире трансцендентная скука вроде той, что сто лет назад мучила Гоголя. «Непонятною тоскою уже загоралась земля, — писал он, — черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мельчает и возрастает только ввиду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире».
Нет, Достоевского целиком с его мировой революцией, с Папой-Антихристом Запад не примет никогда. И будет прав. В отрицании Достоевским западного христианства и этим самым западной культуры, ибо оно ее создало, — величайшая гордыня.
2. Советские постановки Достоевского
Неприемлем в необработанном виде Достоевский и для советской власти, но, конечно, по другим причинам.
Для русского театра он был настоящим кладом. Его поняли и оценили еще до революции. Такие постановки, как постановка Московским Художественным театром[258] «Бесов» и «Братьев Карамазовых», останутся навсегда величайшим достижением театрального искусства.
Таким образом, советская власть вопреки своему утверждению Достоевского не открыла. Напротив, ничье наследие не подвергалось такому гонению, как наследие Достоевского. Если его романы (старые издания) еще можно было с трудом достать у букинистов, то постановка пьес была принципиально запрещена. Когда в 1929 г. Московский Художественный театр возобновил «Братьев Карамазовых», он получил резкий выговор и был обвинен в пропаганде враждебной пролетарской культуре идеологии.
В новом издании Советской энциклопедии можно найти сведения о постановках Московским Художественным театром пьес Чехова и Горького, но о постановках — дореволюционных — Достоевского и о попытках их возобновления не сказано ни слова. Удивляться этому, впрочем, не приходится. Коммунисты отлично знают, что Достоевский — их враг, враг проницательный и глубокий, убежденный обличитель их доктрины, существо которой он понял и раскрыл задолго до их прихода к власти.
В настоящее время над творчеством Достоевского работают 18 крупнейших и известнейших театров СССР. Приспособлены для сцены, кроме «Бесов», все основные романы. А по последним сведениям, и постановка «Бесов» лишь вопрос времени (и ловкости рук).
Как могло, однако, произойти это невероятное событие — восхождение Достоевского на советскую сцену?
Его реабилитация началась уже во время войны. Но и до того, несмотря на все усиливающееся гонение, пьесы Достоевского с советской сцены никогда не исчезали надолго.
Еще в двадцатых годах можно было видеть знаменитого актера Орленева[259] в роли Раскольникова. Гастролируя по многим городам Советского Союза, он неизменно включал в свой репертуар инсценировку «Преступления и наказания».
В этой же инсценировке тогда же очень часто выступал Петров-Братский, актер меньшего масштаба, но необычайно популярный у зрителя провинции.
Известный актер Блюменталь-Тамарин чуть ли не до самой войны гастролировал в «Идиоте», играя Рогожина.
В 1932 г. на малой сцене Московского Художественного театра был поставлен «Дядюшкин сон» и приблизительно в то же время вторым Московским Художественным «Униженные и оскорбленные».
Прогремела на весь Советский Союз сцена разговора Ивана Карамазова с чертом, длившаяся час сорок минут, которую Качалов[260] играл на эстраде.
Был еще один способ прочесть Достоевского, к какому прибегали догадливые люди. В полное собрание сочинений Андре Жида, печатавшееся в русском переводе во второй половине двадцатых годов, было включено его знаменитое эссе о Достоевском с многочисленными из него цитатами. Текст был, как в таких случаях полагается, снабжен примечаниями редактора, главным образом, ироническими, что нисколько не мешало читателю ознакомиться с идеями Достоевского.
И вдруг, во время войны, в самый ее разгар все изменилось.
В 1942 г. в номере шестнадцатом «Большевика» была напечатана статья ныне покойного Емельяна Ярославского[261]: «Федор Михайлович Достоевский против немцев». «Достоевский, — писал советский критик, — был и остается, со всеми его недостатками, глубоко русским писателем, который любил свой народ». Вопреки заблуждениям и колебаниям Достоевского он объявлялся здесь «гениальным русским писателем» и «глубоким русским патриотом». Так, на страницах «Большевика», официального теоретического органа коммунистической партии, было провозглашено величие Достоевского.
Как убежденный большевик, Ярославский не мог, конечно, не осуждать идеологию Достоевского, но он все же неуклонно следует по пути (предписанному) реабилитации в целях использовать авторитет Достоевского как оружие в борьбе с врагом. В конце статьи он пишет: «Ничего общего не имеет этот русский с гнусными палачами из гитлеровской банды. Достоевский полон сострадания, полон любви к народу, а гитлеровцы — враги народа, враги человечества».
В реабилитации Достоевского Ярославский не был одинок. В том же номере «Большевика», где появилась его статья, Илья Эренбург поместил статью «Зрелость». В ней он со свойственной ему быстротой идеологических метаморфоз говорит об общечеловеческой широте русских классиков и восхваляет присущие им гуманизм и жалость. Достоевскому Эренбург отводит место среди высших явлений русской культуры.
Не довольствуясь выступлением в «Большевике», Эренбург выступил также на страницах «Правды», где первым из советских авторов взял Достоевского под защиту от обвинений в проповеди жестокости.
Статьи в «Большевике» и в «Правде» были сигналом для пересмотра общей советской концепции о Достоевском.
Вскоре после статьи Ярославского была в начале сентября 1942 г. опубликована в газете «Литература и искусство» большая статья В.В. Ермилова[262] «Великий русский писатель Ф.М. Достоевский».
Ермилов, обладавший той же способностью, что и Эренбург, быстрого превращения белого в черное и черного в белое в зависимости от потребностей текущей политики, на этот раз благодаря случаю оказался недалек от объективной истины. Уже в самом заглавии новой статьи бросались в глаза два необычайных для советской критики определения: величие писателя Достоевского и русский национальный характер его произведений. Еще в 1939 г. для того же Ермилова главным в Достоевском была реакционная идеализация рабской опустошенности и смирение. В 1942 г. Ермилов признается, что за время войны ему пришлось по-новому продумать русскую литературу.
Подчеркивая и выделяя антифашистский характер творчества Достоевского, Ермилов не чуждается и некоторых натяжек. Так, в смердяковщине он усматривает предугаданное писателем появление ницшеанских и шпенглеровских героев[263] — отщепенцев и отшельников, лишенных чувства общественности. Этот сверхчеловек позднейшей немецкой реакционной литературы, по мысли Ермилова, уже задолго до нее был Достоевским воплощен в образе «сверхлакея» Смердякова.
В лице Ермилова советская критика значительно отошла от своего прежнего непримиримо враждебного и подчеркнуто отрицательного отношения к «Бесам». Говоря о «Бесах», он постоянно находил положения, снимающие с романа реакционные покровы и очищающие его содержание и направленность от антисоциалистических тенденций. По Ермилову, Достоевский в «Бесах» разоблачил политического шарлатана и авантюриста Нечаева[264] в образе Петра Верховенского. Для характеристики этих «бесов» критик прибегает к современной советской публицистической терминологии и определяет их как среду «отщепенцев», «политических гангстеров», «авантюристов», «убийц», «шантажистов» и т. д. Шигалев — «теоретик смердяковщины». Подчеркиваются моменты открещивания и отмежевывания героев романа от какой-либо «близости социализму». Так, исподволь внушается мысль, что никакой пародии на социалистов в «Бесах» нет, ибо прямого отношения к настоящему социалистическому движению Достоевский не имел.
Реабилитация Достоевского и его постепенное превращение в носителя коммунистических идеалов продолжались и по окончании войны, вплоть до начала ждановской реакции[265], т. е. в период между 1945–1947 гг. Спор фактически вылился в открытое, последовательное и решительное отрицание правоты за тем направлением советской критики, что берет свое начало от Михайловского[266] и через Горького доходит до Ярославского. Но «апофеоз» Достоевского наступил лишь через десять лет, когда он снова, как во время войны, стал нужен партии для ее чисто утилитарных целей, именно он, Достоевский.
Поворот к нему был вызван тактическими (но не принципиальными) изменениями в курсе нового «коллективного руководства» КПСС. Замалчивать такого гиганта, как Достоевский, было нецелесообразно и даже вредно, и, наоборот, его реабилитация после «культа личности» была на руку послесталинскому руководству. Затем, перемена отношений к Достоевскому совпадает с юбилейными датами (135 лет со дня рождения и 75 лет со дня смерти в 1956 г.). Не отпраздновать эти во всем мире известные даты опять-таки было верхам не выгодно. «Коллективное руководство» чрезвычайно чувствительно к общественному мнению, особенно зарубежному. Имя Достоевского в руках коммунистов, стремившихся убедить Запад в искренности своей новой политики в искусстве, было важным козырем. Что маневр удался, свидетельствует вызванный им за рубежом интерес к русским делам и разговоры об эволюции советской власти. Восхождение Достоевского на советскую сцену ничем не отличается от всякого другого мероприятия в интересах политической пропаганды.
Развенчание «культа личности», провал советского положительного героя, существующего лишь в партийной пропаганде, предрешили и в области художественной политики ставку на «простых людей». Пришлось заняться изучением психики этих рядовых членов общества, искать в них положительные качества, перевоспитывать и обращать в героев. Вот здесь-то Достоевский и оказался незаменим. Что именно в эту сторону было партией направлено использование в советском театре Достоевского, свидетельствует сама советская пресса.
Возврат к идеям и темам Достоевского взволновал и заинтересовал советского актера и советского зрителя. После ходульных советских героев правдивые образы Достоевского сразу нашли путь к сердцам, чистота которых сохранилась, несмотря на все испытания. Советская власть и это старалась использовать в своих целях, подменяя право человека на счастье — счастьем социалистического человека, любовь к ближнему — дружбой советских народов (классовой дружбой), неподкупность — коммунистической честностью, жертвенность — советским патриотизмом и т. д. Не забывалось и «социальное звучание» спектаклей Достоевского, т. е. — опорачивание старого общества и возбуждение «гражданской ненависти» ко всему «отжившему».
Подлинного, настоящего Достоевского советский зритель не видит и не увидит, ему преподносят препарированного по советскому рецепту и советским способом не Достоевского, а его труп.
3. Достоевский и мы
Но мы, видим ли мы подлинного Достоевского?
Многое в нем потеряло для нас свою актуальность. Ставрогин, например, и все, что так или иначе связано с революцией — русской, — все о ней пророчества (увы, сбывшиеся). И даже «вечный» вопрос, вопрос Ивана Карамазова Алеше: «Есть Бог или нет?» Не потому, однако, что после всего пережитого, передуманного и перечувствованного мы потеряли веру в Бога. Нет, но вопрос ставится сейчас иначе — острее. Сейчас уже не спрашивают, есть ли Бог, а какой Он и как Его отличить от дьявола. При нашем совершенном смещении понятий и той каше, какая заварилась в мире, — это не так легко.
Но если мы в самом деле хотим восстановить иерархию ценностей, мы должны прежде всего преодолеть страх. Это первое условие. Второе — ничему не удивляться.
Не удивляйся ничему И ничему не ужасайся.Больше всего нас пугал даже не Достоевский, а Гоголь. Впрочем, пугали все. Гоголь «Вием», «Страшной местью», собственной судьбой. Достоевский — революцией и семипудовой купчихой, Владимир Соловьев — Антихристом. После Пушкина русская муза перестала улыбаться, на ее лице застыло выражение мрачной сосредоточенности. Декаденты пугали отсутствием страха:
Мне страшно, что страха в душе моей нет.«Когда вы умрете, — говорил Философов[267] Мережковским, — вам поставят памятник и напишут: “Они жили и боялись”».
Испуганное поколение.
Но вот что случилось: в один прекрасный день мы перестали бояться. Это вышло как-то само собой. И там, в России, тоже.
Что же дальше? Сначала ничего. Потом Рай.
Раем пугает нас Достоевский — земным. Великим Инквизитором, царством Антихриста. А на самом деле неземным — вечным, потому что какой же рай без «осанны» из груди диавола, а ведь это: «оправдание зла». Страшно.
Но не оттого ли все, что предсказал Достоевский, сбылось и ничего не разрешилось?
«Бог с диаволом борется, а поле битвы — сердце человеческое».
Так было.
Теперь: дипломатические переговоры. Холодная война. И кто поручится, что завтра за нашею спиной не будет заключен между дьяволом и Богом «похабный мир».
Достоевский против этого бессилен. Но он понял «тайну русского коммунизма», которую приоткрыл в «Бесах».
Чем ближе человек к Богу, тем он глубже, и чем от Него дальше — тем более плосок. Эти два движения, две воли все время друг с другом борются, так как человек — неустойчивое равновесие между небом и землей.
Борьба этих двух возможностей присуща всякому подлинному человеку — существу трех измерений. Но есть другие существа, напоминающие человека лишь своим внешним видом, по своей же метафизической сущности принадлежащие к другой категории. Этим ларвам внутренний конфликт между глубиной и плоскостью — чужд, т. к. они плоски по существу.
«Плоские» вечно борются с «глубокими», чтобы их себе уподобить или истребить. На Западе борьба еще продолжается, но кончена на Востоке. Там, в бывшей России, основано первое «Царство плоских».
«Плоские» начали строить и вот воздвигли нечто напоминающее государство, на самом деле, гигантскую машину, род гидравлического пресса, превращающего все, что глубоко и высоко, в абсолютную плоскость.
Сила, приводящая эту инфернальную машину в действие, — жажда равенства, та самая, что движет всеми революциями.
Существование в России «Царства плоских» опасно для всего человечества, т. к. плоские стремятся к мировому господству.
Перед судом (По поводу статьи Н. Ульянова «Десять лет»)[268]
В своей пространной статье «Десять лет»* [ «Русская мысль». 1959. № 1328, 1330, 1331. (Перепечатка из «Н<ового> р<усского> с<лова»>.)] Н. Ульянов, отмечая свойственное русской литературе ритмическое чередование эпох стиха с эпохой прозы, говорит: «Если бы не аномалия, именуемая Тютчевым, то после тридцатых-сороковых годов стиха совсем бы не было до самого конца девятнадцатого века. Сейчас по всем признакам тоже время его заката… В наши дни как в эмиграции, так и в Советском Союзе… проза явно не может подняться на должную высоту. Нет прозаиков. Трон остается незанятым». Этим объясняется живучесть стиха в нашем столетии. «Его век, — заключает Ульянов, — продлен не собственной силой, а отсутствием противника. Он живет по милости прозы, не явившейся на дежурство».
На самом деле положение еще хуже, чем изображает Ульянов. Мы живем в эпоху, неблагоприятную не только для изящной словесности, но для искусства вообще. Творческие силы современного человека, без различия национальности, направлены на другое и проявляются главным образом в областях, связанных с социальным строительством, с экономикой, политикой и наукой — словом, со всем тем, от чего для современного человека зависит устойчивость его материального положения. Такие эпохи бывают. Это не значит, что во время войн и революций никто не пишет и не издает книг. Их было очень много, например, в эпоху Французской революции, но до нас не дошла ни одна. То же, вероятно, ждет большинство книг советских, исключая переизданных классиков и двух-трех настоящих писателей. Что же до литературы новоэмигрантской, литературы «последнего ядра», как ее называет Ульянов, то ей нельзя не пожелать успеха, тем более что это — наша «смена». Однако не скрою: отношение Ульянова к вопросу меня смущает. «Это литература семи потов и некоего клятвенного обязательства, — говорит он. — Клятвы у нас даются какие угодно… но никогда не дают обязательства писать хорошо. Ныне без такого обязательства нельзя». Но разве это так уж важно? Косноязычье не страшно, если есть что сказать. Но пустоту все равно не скроешь ничем, никаким стилем:
Есть форма, но она пуста. Красива, но не красота.Главное же, что это — экзамен не на литератора, а на человека.
Поэтом можешь ты не быть, Но человеком быть обязан[269].Мне почему-то кажется — может быть, я ошибаюсь, — что именно в этом вопросе у Ульянова не все благополучно. Иначе нельзя объяснить ту легкость (и жестокость), с какой он расправился с эмиграцией. Он пишет: «Никаких лавров заграница никому не сулит — один терновый венец. Грех староэмигрантского писательства в том, что оно об этом венце и слышать не хотело, гналось за лаврами».
Это не верно. Судьба эмиграции трагична по существу, трагичен уже самый ее факт, и если Ульянов ее тернового венца не видит, то не потому, что его нет.
Есть целомудрие страданья И целомудрие любви. Пускай грешны мои молчанья. Я этот грех ношу в крови. Не назову родное имя. Любовь безмолвная свята. И чем печаль неутолимей, Тем молчаливее уста.Самое горькое в нашей судьбе — это что нас осудили оставшиеся на родине друзья. Вот что писала Анна Ахматова:
Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух.Мы к Ахматовой были снисходительнее, когда здесь стало известно ее прославляющее Сталина стихотворение[270], мы ее не осудили ни единым словом, только пожалели: «Бедная! Вот до чего могут довести нужда и голод».
Начало трагедии — в России. Отъезд.
До самой смерти… Кто бы мог думать? (Санки у подъезда, вечер, снег.) Знаю, знаю. Но как было думать, Что это — до смерти? Совсем? Навек? Молчите, молчите, не надо надежды. (Вечер, ветер, снег, дома…) Но кто бы мог думать, что нет надежды. (Санки. Вечер. Ветер. Тьма.)Продолжение здесь:
Стал нашим хлебом — цианистый калий. Нашей водой — сулема.И здесь же конец:
Мы вымираем по порядку. …………………………….. Невероятно до смешного: Был целый мир — и нет его… Вдруг ни похода ледяного, Ни капитана Иванова, Ну, абсолютно ничего!Это «ничего» Ульянова пугает. «Через какие-нибудь четыре-пять лет, — говорит он, — мы (т. е. дипийцы) останемся совсем одни. Старая формация уйдет, и ее уход будет беспощадным для нас. Она унесет писателей, редакторов, критиков, унесет читателей — те двести-триста человек, что еще следят за русским печатным словом, унесет журналы — свои создания. Не оставит ни кола ни двора. Создавайте сами. А по части создания за нами не числится ни одного крупного дела… Размеры ожидающей нас катастрофы ужасны. Мы останемся “голыми людьми на голой земле”». Значит, все-таки что-то эмиграция создала, на что-то пригодилась. Ульянов отрицает существование у нас не только свободы политической мысли, но мысли вообще. «Какая мысль у «политики», представленной гниющими обломками разбитого российского корабля? — спрашивает он. — Историкам не так легко будет назвать хоть одну сколько-нибудь значительную либо оригинальную политическую идею, рожденную в эмиграции… Никогда эмигрантские политики не страшны были большевикам, да ничего подлинно антибольшевистского в их деятельности и не заключалось. Большевиков они поругивали для приличия, а всю страсть, весь талант вкладывали в борьбу между собой… Никакой миссии у политиканствующей эмиграции не было и нет».
Читаешь и глазам не веришь. Кто это говорит? Ульянов? Неужели он?
С большим достоинством ответила ему К.В. Деникина. «Известно, что отношение врага — самое характерное определение, — пишет она. — Стоит просмотреть советское отношение к нашей эмиграции. Я уже упоминала, какими способами этот страшный враг пытался (да и пытается) разложить, скомпрометировать и уничтожить ее, а все читающие советскую печать знают, с какой дикой злобой она отзывалась всегда о нас, отрицая даже, что мы политическая эмиграция, просто: «Кучка продавшихся иностранной разведке авантюристов и уголовных преступников».
В тех же приблизительно тонах ответ Глеба Струве[271]: «В статье Н. Ульянова есть несколько поспешных и неоправданных общих суждений о старой эмиграции, объясняемых, вероятно, недостаточным знакомством с ее историей… Никто не станет отрицать печального факта эмигрантского разъединения и грызни, но отсюда до того, чтобы не считать большевизм главным врагом, далеко… Слишком голословно и огульно и утверждение Ульянова о том, что в эмиграции «нет политической мысли».
Она, конечно, есть, и она очень проста. Вернее, не мысль, а несколько положений.
Нам с детства вбивали в голову, что истина, добро, красота, справедливость, свобода — словом, прогресс — налево, а направо — зло во всех формах: ложь, рабство, мракобесие, духовная гибель и т. д. Эту идею, наследство девятнадцатого века, многие впитали с молоком матери, и она подменила их человеческую сущность. «Религия — опиум для народа», — сказал Ленин. А Милюков[272] в течение двадцати лет твердил в «Последних новостях»: «Религия есть реакция».
В этом он, как все вообще атеисты, от Ленина мало чем отличался.
Но после двух мировых войн, революции и сорока лет изгнания мы поняли, что не все, что налево, прекрасно и что не все губительно, что направо. Мы также поняли, что без Бога свободы нет. Это еще не политическая идея в узком смысле слова. Но готовых политических идей Россия и не примет. Их у нее тоже еще нет, хотя она и знает, чего хочет или, вернее, чего не хочет. Идея родится при встрече, когда мы вернемся на родину. Но какова бы эта идея ни была, будущее России в нашем сознании ясно уже сейчас — правовое государство.
Еще в одном грехе винит Ульянов русскую эмиграцию. В том, что на пережитое ею «светопреставление» ее мира не откликнулась никак. Ни одна струна не дрогнула в ответ на небывалые громы. По мнению Ульянова, она «осталась немой, оглушенной, как воробей пушечным выстрелом». И ему кажется, что эта слепота к величайшему посещению Божию — род греха».
На это можно ответить, во-первых, что светопреставление еще не кончилось. Во-вторых, что отклики были, но настолько неудачные, что о них лучше не вспоминать, и, в-третьих, что законы творчества духовного с законами природы не совпадают. Если не трудно знать, когда, скажем, взойдут яровые или поспеет виноград, то совершенно неизвестно, в какой форме и при каких обстоятельствах ответит и ответит ли вообще человеческая душа на то или иное задевшее ее событие. Но молчание в данном случае еще не доказывает ничего, хотя бы оно длилось пятьдесят лет и даже вечность. Судьба России от этого не зависит.
Ульянов не заметил: в нашей судьбе, в судьбе русской эмиграции есть нечто парадоксальное, как бы вечный вызов здравому смыслу. Вот уже сорок лет, как мы на волоске над пропастью. Чего только за это время не произошло в мире. Рушились троны, царства, империи. А мы целы. Волосок оказался прочнее всего на свете. Пережили Гитлера, пережили Сталина, даст Бог, переживем Хрущева. Переживем и конец зарубежной литературы, если он неизбежен, как того опасается Ульянов. Переживем все.
Но «рассудку вопреки, наперекор стихиям»[273] литература новой эмиграции может не только выжить, но и расцвести пышным цветом. Забывать это ни при каких обстоятельствах не следует. Я имею в виду критиков и критику. Ульянов прав: критика сейчас в глубоком упадке. Нет постоянно действующего судебного учреждения. Есть карательные экспедиции, губернаторские нагоняи, урядницкие зуботычины, есть изъявления высочайшей милости, оправдание воров и разбойников, засуживание неповинных людей. Но нет закона и стражей закона.
«Нашей литературе нужен хозяин! — восклицает Ульянов. — Не капризный талант, видящий в себе меру всех вещей, но пастырь добрый. Мы нуждаемся в ровном, уверенном руководстве испытанного мэтра. Нам бы правителя с острым глазом, чтобы замечать достойное, с длинной линейкой, чтобы бить по рукам наглую бездарность, терпеливого наставника, не гнушающегося растолковывать азы искусства!»
Какой тут все-таки при не изменившейся привычке к «партийному руководству» и к «научному подходу» наивный идеализм и вера в чудо. А наряду с этим даже не грубодушие — людоедство, антропофагия в чистом виде, со всеми ей свойственными приемами.
Ущерб, изнеможенье и на всем Та кроткая улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовем Возвышенной стыдливостью страданья.Этого Ульянов в русской эмиграции не заметил. Для него она — гниющие обломки, маскарадное тряпье и свиные рыла (за исключением нескольких умерших мэтров). Отвечая Ульянову, Кс. Деникина писала: «Здесь были представители всего народа во всем его многообразии и даже многоплеменности. И объединяло их одно чувство — абсолютного неприятия коммунистических начал. Эмиграция наша хранила те культурные и моральные устои, на которых стоит человеческое общество, — свободу совести, достоинство личности, право, понятие о добре и зле, то есть те основы, которые растлил и уничтожил большевизм.
Даже одним фактом этого массового ухода, этого отрицания грубого насилия, поработившего Россию, этого желания бороться с ним — эмиграция становилась в число врагов коммунистической диктатуры и представляла собой и политическую и моральную силу».
Все великие империи (как вообще все на земле) строятся на крови. Таков жестокий закон истории. Развенчивая русскую эмиграцию, отрицая ее героизм (который признает даже Кускова[274]) и ее трагедию, Ульянов этим самым отрицает ее участие в строительстве будущей России. Мы ни минуты не сомневаемся в его личной порядочности, но здесь, в эмиграции, он невольно делает то, что делают сознательно в России большевики: разделяет нас с нашим народом и этим задерживает его и наше освобождение. Род греха, пожалуй, посерьезнее, чем немота Лиры перед лицом современных событий.
Нам сейчас не до стихов и вообще не до литературы. Мы каждый день как бы возвращаемся с кладбища. И решать вечером, у камелька, по примеру Ульянова, кто в эмиграции первый поэт, занятие в нашем теперешнем положении недостойное. Это узнается потом в России, когда «тайное станет явным». А здесь нельзя. Знаем только, что такой-то поэт настоящий, такой-то — графоман. И это все.
Что же до статьи Ирины Одоевцевой «В защиту поэзии», то от Ульянова она поэзию все равно не защитит. Это бой мотылька с удавом. Но сама по себе статья отличная…
А что, если в самом деле удав?..
Post scriptum
Эта статья была уже в наборе, когда появился еще один ответ Ульянову Зинаиды Шекаразиной, бывшей слушательницы «Института живого слова», знавшей лично Блока, Кузмина[275], Гумилева, а здесь, в Париже, усердно посещавшей собрания «Зеленой лампы».
В своем насмешливом ответе («Р<усская> м<ысль>» от 19 марта) З. Шекаразина вполне разделяет мнение Ирины Одоевцевой о литературном вкусе Ульянова, столь опрометчиво взявшем на себя опасную роль (прежде всего опасную для него самого) художественного критика и поэтического арбитра. Приветствуя статью И. Одоевцевой, З. Шекаразина пишет: «Ласковой кошачьей лапочкой с коготками она (Одоевцева) переворачивает и так и этак и критика, и его бедных лауреатов — кандидатов на опустевший эмигрантский поэтический престол».
В порядке спора узколитературного эти две статьи едва ли не самые удачные и по форме, и по содержанию. Но вопрос, затронутый Ульяновым, выходит далеко за пределы литературы и требует возражений по существу. «Ласковая кошачья лапочка» Ульянову не страшна. Не страшна и грубая сила. Она может временно вывести из строя, но как аргумент — не убедительна. Единственно, чего Ульянов действительно боится, — это правды об его отношении к России и к русскому делу.
Лгать можно по-разному. Не обязательно все от начала до конца выдумывать, достаточно сказать не всю правду. Отрицая русскую эмиграцию как силу духовную, не признавая ни ее политических, ни ее культурных заслуг — Ульянов о ней лжет, и эта ложь опутывает, как тонкая паутина, не только души и без того недоверчивых дипийцев, но и души наших братьев в России. С какой целью он это делает, намеренно или невольно — не знаю. Но какова бы ни была его цель и в каком бы он состоянии ни действовал, факт остается фактом, причем довольно позорным, ибо то, что делает Ульянов, — предательство.
Трудно себе представить, чтобы за десять лет своего пребывания на Западе он не поинтересовался тем, что было сделано зарубежной Россией за время ее сорокалетнего изгнания. Нет буквально такой области, в какой русский человек не проявил бы своего таланта. Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют печатавшиеся в «Возрождении» статьи Татьяны Алексинской[276]. Мало того, русская эмиграция оказала громадное влияние на развитие культуры западных стран, для которых приток свежих творческих сил был в иных случаях спасителен. Так, во Франции из писателей, получавших за последние годы Гонкуровскую премию, двое — русского происхождения. Во всех областях искусства, а также в науке русские обращают на себя внимание своей исключительной творческой одаренностью. Сказать о таком народе, что у него нет не то что политической, а вообще никакой мысли, мог лишь человек, которого Господь Бог не благословил ни умом, ни талантом.
Но у Ульянова есть и то и другое… В чем же дело?
Неужели «Десять лет» пребывания на Западе — недостаточный срок, чтобы научиться уважать достоинство человека и его право на свободу мысли и слова?
В Петербургском университете[277]
В декабре прошлого года в «Новом русском слове» была напечатана статья Владимира Рудинского[278] «Вредные иллюзии» — ответ на статью Г. Месняева[279] «Советское просвещение» в номере «Нашей страны» от 30 октября.
В своей статье Г. Месняев утверждает, что в Советской России, в сущности, нет вовсе высшего образования в том смысле, как образование это понималось в дореволюционное время и как понимается оно сейчас в нормальных государствах. Если еще химики, медики, агрономы и строители довольно успешно постигают технические знания, то изучающие гуманитарные науки представляют собой подлинных невежд, хотя они и изучают псевдофилософию, пародию на право (какое может быть право в стране вопиющего бесправия), диалектический материализм и историю коммунистической партии. О богословии они не имеют никакого понятия, а история, литература и политическая экономия преподносятся им в марксистском разрезе.
Статья Г. Месняева привела В. Рудинского в ужас. «Горько сказать, — пишет он, — но это факт, что есть в эмиграции люди, которые постоянно повторяют подобные мысли. Зачем? Что же тут приятного воображать, будто наша родина впала в какую-то тьму кромешную, что на ней все поголовно разучились думать, опустились до полного варварства, потеряли человеческий образ. Уж куда как грустно было бы, будь это в самом деле так. А вот поди ж ты! Люди себя услаждают такими фантазиями, и сколько уж лет; и ведь вопреки очевидности!»
Рудинский прав. «Если еще химики… довольно успешно постигают технические знания», — пишет Месняев. Шутка сказать: «довольно успешно»! Вот, например, русских химиков наградили в 1958 г. Нобелевской премией. Так, пожалуй, выходит, что они даже очень успешно постигли свою науку.
В. Рудинский — новый эмигрант. Он кончил филологический факультет Петербургского университета, и с его свидетельством нельзя не считаться. Вот как в действительности обстояло дело.
В последние годы перед Второй мировой войной программа университета, рассчитанная на 5 лет, была очень обширной и солидной. Все студенты филологического факультета проходили обстоятельный, длящийся несколько лет курс истории античного мира, западного Средневековья и Ренессанса, а затем — новейшей истории; и отдельно подробный курс истории России. Гораздо большее число часов занимал, однако, начинавшийся с первого года и тянувшийся до конца курс литературы, включавший древнегреческую и древнеримскую, а затем европейскую (вместе с американской), опять-таки от истоков ее до наших дней. Параллельно с этим читался и подробный курс русской литературы.
Ни преподавание, ни проверка усвоения не были поверхностными. Изучение включало огромные списки обязательной для чтения литературы, и если на экзамене обнаруживалось, что студент не прочел включенное в список произведение Помяловского[280], Глеба Успенского[281], то это вело сразу же к снижению отметки, что отражалось на дипломе и чего студенты очень боялись. Если же студент проявлял нетвердое знакомство с Чеховым или Тургеневым, профессор почти неизбежно приглашал его зайти в другой раз, углубив свои познания. Вопреки твердо укоренившемуся в эмиграции представлению в программу входили Достоевский, в том числе и «Бесы», Лесков[282], А.К. Толстой[283] и ряд писателей, находящихся на плохом счету у советской власти.
Сказанное выше относится, в частности, к преподаванию русской литературы на «западном цикле», т. е. у студентов, специализировавшихся на изучении европейских языков. Для «русистов» требования были, соответственно, еще выше, как у «западников», они были выше по европейской литературе. Что до курса этой последней, его размеры были поистине необъятны, от французских «шансон де жест»[284] до Тассо[285] и Ариосто[286], Мильтона[287] и Шелли[288], Сервантеса и Кальдерона[289]; заканчивался курс Джойсом[290], Прустом[291] и Ромен Ролланом[292].
Что же до «марксистского разреза», то он сводился к отдельным фразам и цитатам из Маркса и Энгельса, которые профессора старого или нового призыва (старые, т. е. получившие образование еще в царское время, были в большинстве) иногда принуждены были произносить — обычно безо всякой внутренней связи с их курсом. И никто, даже комсомольцы, всерьез этого не принимали.
Дух университета не имел ничего общего с казенной зубрежкой; студенты горячо спорили обо всем в тесно спаянных личной дружбой группах и часто специально занимались каким-либо вопросом вне программы. Профессора, между прочим, всегда живо шли навстречу всем заинтересовавшимся каким-либо научным вопросом.
Вот как в действительности обстоит дело с «советским просвещением», и Рудинскому можно верить. Все, что он говорит, — точно. Кроме того, его свидетельство подтверждается целиком одним советским документом.
Я имею в виду коллективную статью Р. Орловой и Л. Копелева «Потерянное поколение холодной войны». Заметку о «зарубежной литературной молодежи», напечатанную в январском с.г. номере советского журнала «Новый мир».
Статья блестящая и могла бы украсить любой русский зарубежный журнал. Поражают эрудиция авторов, их знание современной литературы Запада, добросовестность, с какой статья написана. Вот у кого бы поучиться нашим зарубежным критикам, отошедшим окончательно от общечеловеческих тем и здесь, в Париже, в «столице мира», продолжающим вариться в собственном соку.
Конечно, статья Р. Орловой[293] и Л. Копелева[294] преподносится в «марксистском разрезе». Иначе невозможно. Но тень Маркса не смущает уже никого.
Главная тема этой статьи — «Рассерженная молодежь».
«Рассерженная молодежь»[295]
Герой этого романа очень молод. Он окончил университет, работает то журналистом, то продавцом, то шофером, с грехом пополам зарабатывает себе на пропитание, одежду, на выпивку и на развлечения. Но главное в его жизни — едва ли не его призвание — это недовольство всем окружающим. Он занят преимущественно тем, что высказывает презрение и недоверие к общественному порядку и очередной возлюбленной, к религии и собутыльникам, к идеалам прогресса и рекламе сигарет… Он очень рассержен, этот юноша. Рассержен на своих родителей и учителей, начальство, парламент, газеты и кино — словом, на всех, кого считает ответственным за устройство, вернее, неустройство этого мира. Вокруг него друзья и сверстники, и все под стать ему. Эти юноши и девушки щеголяют откровенно циничным, подчеркнуто грубым неприятием всех устоев общества и всех его традиций.
Им наплевать на все — и на давно уже потускневшие заповеди буржуазной морали и на светлые мечты самых славных из предков и самых благородных из современников. Им наплевать на лицемерных пошляков и на вдохновенных романтиков, на пресыщенных банкиров и на голодных безработных, на прожженных политиканов, обрекающих целые народы на гибель во имя корыстных расчетов, и на революционеров, отдающих свою жизнь ради счастья других людей и даже еще не рожденных поколений.
Героиня тоже очень молода. И не менее цинична. Впрочем, она не сердится на большой мир — мир общественных проблем и политических страстей, потому что просто не знает и не замечает его. Но в отличие от героинь других веков и других эпох ее не влечет ни великая всеподавляющая любовь, ни святость материнства, ни семейный долг, ни искусство. Еще подростком она пришла к убеждению, что ничего этого не существует. И поэтому она никому не верит, даже самой себе, даже собственным непроизвольным чистым порывам. Ей очень скучно живется, скучно даже во время изысканных развлечений. Впрочем, она ни к чему не стремится, ничего не ищет. Для нее более или менее значительны только очень непосредственные, мгновенные наслаждения. Самые сильные чувства, на которые она способна, — это безотчетное, смутное, чаще всего эротическое влечение или столь же безотчетная, смутная грусть, вызванная недовольством собой и едва отличимая от постоянной скуки.
Герой и героиня легко сходятся и легко расходятся, легко и даже со своеобразным мучительным злорадством разрушают свои и чужие мечты и надежды, обманывают других и самих себя…
Он всячески, то пьяный, то трезвый, шокирует и эпатирует ближайшее окружение, кощунствует и издевается, задирает ноги на респектабельные столы, плюет на паркеты и мраморные гробницы и гогочет в почтительной тишине ученых кабинетов.
И оба они бродят, нестриженые и немытые, с обкусанными ногтями, в нарочито мешковатой одежде, от бара до бара, одурманенные бездушной исступленностью рок-н-ролла, лихорадочными ритмами джаза, яростным самозабвением автомобильных гонок и боксерских матчей — любыми проявлениями слепого азарта.
Это молодые люди, не знающие ни молодости, ни связи времен, ни традиций прошлого, ни надежд на будущее. У них нет ни вчера, ни завтра, а лишь крошечное сегодня, даже только «сей час», «сия минута».
…Книги, строго соответствующей тому, что рассказано выше, нет. И вместе с тем здесь ничего не выдумано, а просто сведены воедино персонажи нескольких произведений, опубликованных в последние годы в различных странах.
В числе этих книг романы и пьесы так называемых рассерженных молодых людей Англии («Счастливчик Джим» Эмиса[296], «Место наверху» Брейна[297], «Соперники» и «Торопись вниз» Уэйна[298], «Оглянись во гневе» Осборна[299]); книги, декларации и самый образ жизни представителей так называемого бит дженерейшн[300] в США (Керуак[301] — «На дороге» и «Люди из подземелья», Клелан Холмс — «Иди!», стихи Аллена Гинсберга[302]); повести француженки Франсуазы Саган[303] — «Здравствуй грусть», «Неопределенная улыбка», «Через месяц, через год…». К ним близки и многие произведения молодых французов, называющих себя «рейстами» (Роб-Грийе[304], Натали Саррот[305], Бютор[306]).
Эпидемия литературной «рассерженности» распространяется со скоростью вирусного гриппа. В Западной Германии ее признаки обнаруживаются в книгах молодых писателей Рольфа Беккера (романы «Ноктюрно», 1951 и «Михаэль Фрост»), Зигфрида Ленца[307] (роман «Человек в потоке» и сборник новелл «Охотник, над которым смеялись»).
В Испании книги «злых» молодых писателей (Гойтисоло[308], Кирога и другие) впервые за долгие годы вызвали оживление в литературе. В некоторых зарубежных газетах уже появились сообщения о первых книгах «сердитых» молодых литераторов Норвегии, Швеции, Исландии и Дании.
В трех повестях Француазы Саган, наблюдательной, тонкой стилистки — несомненно, очень одаренной, но еще более разрекламированной, — действует, по существу, одна и та же героиня. В первой книге она, будучи еще почти ребенком, с недетским умением и знанием человеческой психологии разрушает брачные планы отца и становится — сама того не желая — причиной гибели его возлюбленной («Здравствуй, грусть»). Потом она — скучающая студентка, бездумно и безрадостно переходящая от одного любовника к другому. Внезапно встретив нечто близкое к настоящей любви, она обнаруживает, что это ей недоступно, что приходится довольствоваться только коротким подобием счастья («Неопределенная улыбка»), В последней книге Саган она представительница художественной богемы, спокойно и даже равнодушно убежденная в ничтожестве своем собственном и всех окружающих ее людей. Ничтожны и ее занятия, и ее любовь. От всего, чем она живет, «через месяц, через год» не останется и следа («Через месяц, через год»),
В Западной Германии в первые послевоенные годы выступили молодые писатели, страстно, до иступленности страстно отвергавшие недавнее прошлое своей страны. В рассказах и драмах Вольфганга Борхерта, в романах и новеллах Генриха Бёлля[309], в повестях и романах Герта Ледига[310], Ганса Пумпа, Карла Людвига Опица[311] и других воплотилось вполне определенное общее (несмотря на различия) чувство. Это был отчетливо целеустремленный и — при всех внутренних противоречиях — антифашистский, антивоенный гнев, обуревавший поколение бывших солдат. Однако в книгах молодых литераторов Западной Германии самого последнего призыва, тех, кого критика уже называет «немецкими сердитыми», звучат иные, более примирительные ноты.
«Рассерженные» юноши английской литературы воплощают открыто социальную проблематику в традиционных формах реалистической прозы. Эмиса, например, критика называет продолжателем Филдинга[312] и Диккенса. В романах Эмиса и Уэйна действие развертывается на широком социальном фоне современной английской действительности. Они еще, несомненно, остаются в русле литературы критического реализма XX века. Их заокеанские ровесники, напротив, нарочито асоциальны и в ряде случаев столь же нарочито антиреалистичны. Большинство из них в отличие от их английских «кузенов» не отягчено никаким образованием. Они не издеваются над культурными и историческими «святынями», потому что не знают их, да и не очень хотят знать. Иногда в их беседах мелькают имена Достоевского, Шопенгауэра, Ницше, Кафки, Хемингуэя, но о них просто упоминают, так как это те, «о ком все говорят». Персонажам романов и повестей Керуака и Холмса чужда и враждебна сколько-нибудь серьезная духовная, мыслительная деятельность.
Все они, как правило, «хипстеры», то есть «вихляющие бедрами», — так называют в США молодых людей, развинченных тряской рок-н-ролла. В посвященных им романах нет действия, нет сюжета в обычном значении этого понятия. События здесь случайны, почти не связаны между собой, хаотически чередуются со столь же произвольными отступлениями и могут быть переставлены, перетасованы в любом порядке, как карты в колоде. Персонажи мелькают на страницах книг, словно прохожие на улице или посетители, сменяющиеся у стойки бара.
В романе Керуака «На дороге» герой, молодой писатель из Нью-Йорка, то в одиночку, то вместе со своими приятелями непрестанно мечется по дорогам США. На вопрос о цели непрерывных и безостановочных скитаний один из них отвечает: «Не знаю, куда и зачем, просто мы должны двигаться».
Они теряют друг друга, «голосуя», подсаживаясь в попутные машины, и снова оказываются вместе, встречают новых случайных спутников и спутниц либо относительно давних знакомых или приятелей. И сам рассказчик Сол Парадайз, и главный из его друзей-попутчиков, и отчасти даже наставник Дин Морайэрти так же, как и все другие (названо множество имен), почти совершенно безлики. Ничего не известно ни об их убеждениях, ни даже о характерах. О Дине сообщается, правда, что для него «половая жизнь была самой большой и, пожалуй, единственной святыней его существования». Он стремится обладать всеми женщинами, живет одновременно с двумя, но легко «уступает» и даже навязывает их друзьям.
Вся жизнь Сола и Дина и всех, кто с ними, — это прежде всего непрерывное движение. Они все время в пути. Из Нью-Йорка в Чикаго, из Чикаго в Денвер, оттуда в Сан-Франциско, потом в Лос-Анжелес, в Мексику, обратно в Чикаго и Нью-Йорк. Они ездят на автобусах, попутных легковых и грузовых машинах, одалживают машины, воруют, выманивают, ломают, бросают их, участвуют в нелепых гонках. Иногда они работают, чтобы оплатить дорогу, работают где попало и кем попало — сборщиками хлопка или полицейскими стражниками, литературными «неграми» в Холливуде или грузчиками. Они сходятся и расходятся с девушками, такими же бродячими и такими же безликими; называются только их имена и самые общие приметы: блондинка, брюнетка, маленькая, тихая… Все они — и юноши и девушки — много пьют. Значительное место в их жизни занимают всяческие наркотики — кокаин, героин, опиум, морфий. И так же, как наркотикам, предаются они джазу, рок-н-роллу и бугги-вугги. Но самое главное для них — это своеобразный культ непрерывного, стремительного, истерически судорожного движения.
Судороги непрерывно сотрясают все их существование. Пожалуй, их даже можно назвать «судорожным поколением». Судороги бешеных ритмов джаза, судороги бездушных ласк, судороги наркотического транса…
Все это развертывается на фоне современной Америки, и хотя приметы времени очень скупы — беглые упоминания о выборах президента, о выставках вооружений, — но вся книга совершенно недвусмысленно и бесцельно отрицает сытое косное и самодовольное существование солидных буржуа, лакированное рекламное благополучие пресловутого американского образа жизни.
У представителей этой мечущейся молодежи много существенных недостатков и пороков: они беспардонные и безответственные индивидуалисты, они развращены, болезненно ущерблены, безвольны и безыдейны. Но в то же время они, несомненно, враждебны миру «бизнеса», корысти, стяжательства, военного психоза, шовинистическим претензиям «стопроцентного» американизма и наглой развязности долларопоклонников.
И, кроме того, они ощущают страшное убожество своего бытия, тоскуют по иной жизни, по каким-то неясным идеалам. «Мы должны наконец куда-то прийти… что-то найти», — говорит центральный персонаж романа «На дороге». Словом, все они хотя и по-разному, но явно не приемлют мир, в котором живут, не принимают его мораль, его традиции, его искусство. И в то же время никто из них не пытается бороться против этого мира и даже ничего ему не противопоставляет. Пассивность отрицания — вот что роднит все эти разные явления в творчестве литературной молодежи зарубежных стран.
Американский поэт и публицист Кеннет Рексрот[313], которого молодые «рассерженные» американцы считают своим идеологом, пишет о них так: «В политике они убежденные атеисты, не верящие ни в государство, ни в войну, ни в ценности цивилизации. Большинство из них только потому не называет себя анархистами, что это означало бы примкнуть к какому-то «движению». Для них подозрительно все, что хоть каким-либо образом напоминает определенную идеологию».
Это определение Рексрота в значительной степени применимо ко всем названным группам и направлениям молодых писателей пятидесятых годов. Все они, по сути, представители «потерянного поколения» холодной войны.
Они очень одиноки, эти молодые люди второй половины XX века. Их горькое, почти безнадежное одиночество определяет многие особенности творчества молодых литераторов современного Запада. Эти особенности мировосприятия молодежи видят и некоторые старшие писатели. Так, например, в последней драме американского драматурга Теннесси Уильямса[314] «Орфей нисходящий» молодой бродяга музыкант говорит: «Мы все осуждены на пожизненное заключение, каждый в одиночной камере своей шкуры… вот в чем правда…»
«Последнее» поколение[315]
Осенью 1958 года известный французский режиссер Марсель Карне[316] поставил фильм «Обманщики» («Les Tricheurs»), который стал значительным событием в общественной жизни страны, был удостоен «Гран-при» за прошлый год. Споры о нем все еще не умолкают. Юноши и девушки — герои этого фильма, во многом похожие на «судорожных» молодых американцев, ведут подвижную, лихорадочно беспокойную, бесцельную и бессмысленную жизнь. Они пьют, трясутся в рок-н-ролле, воруют автомобили, шантажируют богатых буржуа; все они принципиально нарочито порочны. В их среде пуще всего презирают проявления «старомодных» чувств любви, дружбы, какие бы то ни было идеалы, которые, как им кажется, безнадежно испакощены буржуазным ханжеством и лицемерием. Юноша и девушка, искренне полюбившие друг друга, стыдятся этого, скрывают свое чувство, не знают слов, чтобы выразить его. И героиня в конце концов убивает себя. Нелепый, уродливый трагизм воплощен в этой смерти, в бессмысленной гибели новой Джульетты. А ее возлюбленный, этот злосчастный современный Ромео, переживает жестокий удар, который, однако, заставил его вновь и по-иному задуматься над тем, как и зачем жить в мире, где общество только «сумма одиночеств».
Много воды утекло с тех пор, как возникло само понятие «потерянное поколение». Совершенно очевидны принципиальные отличия Керуака от Хемингуэя или Эмиса от Олдингтона[317].
Что же отличает разочарованную, «рассерженную» и «судорожную» молодежь нашего времени от их давних и недавних предков, от лишних людей прошлого века, от дадаистов[318] и «ничевоков»[319]?
Прошло четырнадцать лет с тех, как над Хирошимой и Нагасаки взорвались первые атомные бомбы. И с тех пор над миром нависла зловещая тень атомной войны. Изо дня в день в солидных научных журналах и грошовых листках, по радио и по телевидению, с церковных амвонов и с эстрад кабаре, с парламентских трибун и в классах начальных школ шепчут, говорят, кричат о неизбежности атомной войны, несущей гибель всему человечеству.
Именно в этой атмосфере вырастали молодые западные литераторы. И многие из них всерьез поверили, что живут в последние годы существования вселенной, что все предшествующие века развития культуры и науки, политической борьбы, творческих исканий понадобились лишь для того, чтобы подвести человечество к атомному самоубийству.
Отсюда и возникают абсолютный пессимизм, неверие и своеобразное презрительное отчаяние молодых людей, считающих себя последним поколением человечества. Отсюда их отвращение ко всякой общественной деятельности, неверие во всякую политику и всякую науку, отсюда их болезненное тяготение к простейшим и мгновенным радостям — «а после нас — хоть водородная бомба».
Вероятно, нечто подобное происходило в христианских странах Европы в 999 и тысячном году, когда ждали конца света. Но только от тех времен почти не осталось литературных памятников.
Однако своеобразие нынешней исторической обстановки определяется не только этими мрачными, болезненными чертами. Действие рождает противодействие. Небывалая по своим масштабам угроза атомного уничтожения привела и к небывалому в предшествующей истории массовому движению борьбы за мир, рождая небывалое по своему размаху стремление к общечеловеческой солидарности.
И в этих условиях нет места для литературы эстетического отшельничества. Даже самым разочарованным художникам некуда бежать от действительности. Башен из слоновой кости[320] давно уж не воздвигают, и для атомного убежища они не годятся.
Вот почему в развитии мировой литературы творчество «рассерженной» молодежи, в конечном счете, не есть главная, магистральная линия.
Два слова о двух статьях[321]
Во-первых, о статье К. Померанцева («Р<усская>м<ысль>». 31-III, 59), точнее, о том, что он говорит по поводу Зинаиды Гиппиус.
З. Гиппиус не признавала деления в литературе по половому признаку на «поэтов» и «поэтесс». «Поэзия не баня, — говорила она, — чтобы в ней была мужская и женская половина».
И вот на основании этого утверждения Померанцев решил, что Гиппиус всю жизнь страдала специальным «complexe d’inferiorite»* [ «Комплекс неполноценности» (фр.).].
Можно же вообразить этакий вздор! Уж ежели Гиппиус каким-либо комплексом страдала, то, скорее, обратным — гордыней, которую «отцы пустынники и девы непорочны»[322], понижая голоса, называли «сатанинской». И неслучайно в кругу иерархов — участников религиозно-философских собраний ее прозвали «Белая дьяволица».
Говорю об этом не для спора. Ни спорить, ни убеждать в чем-либо Померанцева — я не собираюсь. Я лишь хочу подчеркнуть его недобросовестность и безответственность как литературного «критика», что при его способности в высшей степени досадно.
Из всего, что З. Гиппиус написала, а написала она немало (кстати, Эдуар Эррио как-то сказал, что перед ней Французская академия должна бы преклониться), из всех ее рассказов, статей, стихов Померанцев читал две-три статьи и несколько стихотворений, Т. е. — ничего. А Гиппиус из числа авторов «герметических» и открывается не сразу.
Но есть за что Померанцева и похвалить. Отвечая в той же статье Ульянову по поводу освободившегося места первого поэта эмиграции и кандидатов на него, он высказывает одну верную мысль. «Звание «первого», «наилучшего» или «наиболее значительного» поэта, — говорит он, — присваивается историей. О современниках правильнее было бы говорить “любимый”». Верно. Я бы еще подчеркнул, что история в своей оценке не ошибается никогда. Не было такого случая, чтобы поэт, скажем, вроде Апухтина[323], оказался на первом, а равный Пушкину — на десятом месте. Попытка в начале века Бурлюка[324] и футуристов «сбросить» Пушкина и Лермонтова «с парохода» была попросту смешна. Хорошо на нее ответил Игорь Северянин:
Не Лермонтова с парохода, А Бурлюка на Сахалин!О второй же статье «Хорошие манеры», в той же «Р<ус— ской> м<ысли>» от 9-ГУ. 59, — следующее.
«Хорошие манеры» — третья в «Р<усской> м<ысли>» — анонимная — статья против «Возрождения». Первые две подписаны псевдонимом, третья — тремя звездочками.
Ее цель — доказать, что «Возрождение» управляется анонимной редакцией — что не верно, — каким-то Ку-клукс-кланом, и всячески эту редакцию опорочить.
В полемику не вступаю, тем более что для автора «Хороших манер» от возрожденской полемики «исходит дурной запах». Замечу, кстати, что не так уж благоухает и статья анонима. Кроме того, непоследовательно упрекать противника, что он скрывает свое лицо, а самому нападать из-за угла в маске.
Предлагаю автору «хороших манер», если он не трус и не подлец, маску снять и вести борьбу честно, в открытую.
Третий Всесоюзный съезд советских писателей[325]
В понедельник, 18 мая с.г., в Большом Кремлевском дворце открылся Третий Всесоюзный съезд советских писателей. Ему предшествовали пятнадцать съездов «братских литератур» Советского Союза, и в их числе Учредительный съезд писателей РСФСР, положивший начало новому этапу в развитии «братских литератур» Российской Федерации.
В начале этого года в февральской тетради «Возрождения» я об этом учредительном съезде писал: «Союз писателей Р.С.Ф.С.Р. — новый, не имеющий ничего общего ни с русской литературой, ни с искусством вообще, аппарат коммунистической пропаганды, цель которой укрепить всеми способами единство коммунистической империи ввиду возможной будущей войны».
Той же цели, но в более широком масштабе должен служить и Третий Всесоюзный съезд советских писателей. Об этом, конечно, молчат, но шила в мешке не утаить. Мишель Татю, московский корреспондент газеты «Le Monde», сообщает со съезда, что то, что он там слышал, похоже скорее на политические выступления в Верховном совете, чем на речи писателей на литературном съезде. Зависимость писателя от коммунистической партии — полная, это подчеркивается на каждом шагу. На второй день съезда «Правда» пишет: «Красной нитью сквозь все речи ораторов проходит мысль о благотворном значении могучей жизнеутверждающей силы литературы социалистического реализма, о патриотическом долге писателя, как верного помощника Коммунистической партии в ее гигантской работе на благо трудящихся, на благо человечества». Приблизительно то же, тем же суконным языком говорит и первый секретарь союза писателей С.С.С.Р. А.А. Сурков[326] в своем бесконечно длинном и бесконечно скучном докладе «Задачи советской литературы в коммунистическом строительстве». «В решении XXI съезда партии сказано. — говорит он, — что деятели литературы, кино и театра и т. д. призваны… быть и впредь активными помощниками партии и государства в деле коммунистического воспитания трудящихся…» И ниже: «Сильные поддержкой партии, мы на своем съезде в широкой дискуссии по всем волнующим нас вопросам найдем кратчайший и верный путь к созданию высокохудожественных произведений, активно, помогающих партии в коммунистическом воспитании трудящихся». Кратчайший и верный путь к созданию высокохудожественных произведений! Такому оптимизму нельзя не позавидовать. И это на сорок третьем году Советской власти. Но вернее всего, Сурков просто холоп. Впрочем, не он один. Если порыться в документах XX съезда К.П.С.С., то узнаешь, что «искусство и литература Советского Союза могут и должны добиваться того, чтобы стать первыми в мире не только по богатству содержания, но и по художественной силе и мастерству». Чего ж еще? Да и тот же Сурков, в конце концов, признается в своем докладе. «Нужно полным голосом сказать, — объявляет он, — о недостаточной интеллектуальной глубине многих произведений нашей литературы».
Недостаточная интеллектуальная глубина? Пусть так. Коммунисты поняли первые, что глупость — великая сила, и решили ее использовать. Массовое производство гениев — в кратчайший срок и за казенный счет. Разве это не соблазнительно, особенно для представителей «братских литератур», которых на съезде всячески ублажают?
Что же требует Советская власть от гениев?
Современности.
«Требование современности, — говорит тот же Сурков, — звучит ныне как важнейшее политическое, художественное, эстетическое требование».
Не угодно ли!
«Стремление быть современным живет в сердце каждого настоящего художника».
Что значит быть современным?
Это значит быть готовым к войне.
Вот что! Тогда понятно, почему в предсъездовской дискуссии была подвергнута обстрелу так называемая теория пафоса дистанции, оправдывавшая уход в литературном творчестве в сторону от жизни, от насущных вопросов времени.
«Пафос дистанции» — одна из форм «ревизионизма», и его главная опасность для советской власти, конечно, не в уходе от жизни в литературном творчестве, а в метафизическом отрицании советской действительности, тех «насущных вопросов времени», что под разными благородными предлогами делают из человека послушный автомат, которым советское начальство может распоряжаться, как ему угодно.
Под знаком идейной борьбы с ревизионистскими тенденциями прошел III пленум правления Союза писателей С.С.С.Р. О результатах сообщалось смутно. Должно быть, победа была не полная. В заключение говорилось: «Мы должны твердо помнить, что ревизионизм остается главной опасностью на фронте идейной борьбы».
Перед съездом ходили слухи о возвращении Пастернака в лоно Союза писателей. Но они не оправдались. Сурков упомянул о нем лишь раз, мимоходом, в той части своей речи, где касался вопроса о сношениях с писателями капиталистических стран, сочувствующими коммунизму. «Идеологические оруженосцы холодной войны, — сказал он, — пользовались любыми средствами, чтобы сорвать или уменьшить сферу наших контактов с писателями капиталистических стран, то спекулируя на венгерских событиях, то организуя в последнее время реакционную свистопляску вокруг исключения Б. Пастернака за предательское поведение, недостойное звания советского писателя».
Не оправдались и другие надежды, надежды на «новое веянье», возникшие в связи со статьей Ильи Эренбурга о Чехове в последнем номере «Нового мира». Но не все коту масленица. Случилось то, чего не ожидал никто. Паустовский[327] в «Литературной газете» разнес в пух и прах советских писателей за то, что те неизменно кривят душой и в своих произведениях искажают действительность. Он их сравнивает с цирковыми артистами, что в благодарность за аплодисменты посылают публике воздушные поцелуи. Когда они обличают пороки, то дозировка красок такова, что, как бы тяжки пороки ни были, в конце неизменно преобладают светлые тона.
Ко всякого рода компромиссам с правдой Паустовский беспощаден: «Может быть, мы так много о ней говорим именно потому, что в нашей литературе ее мало». Жалок жребий писателя, искажающего правду во имя интересов, ничего общего с литературой не имеющих. Народ все видит, все понимает с полуслова и никогда не простит писателю, каков бы ни был его талант, лжи и обмана. Такая борьба за правду требует готовности к высшей жертве. Но, к сожалению, русская писательская среда отнюдь не блещет высокими моральными качествами.
К этой статье я еще вернусь, когда у меня будет под рукой ее полный русский текст. Но пока ни в печати, ни на съезде о ней не было сказано ни слова, поскольку, конечно, об этом можно судить по официальным отчетам. Даже имя Паустовского произнесено не было. Он поставил вопрос: примет ли съезд решения, какие могли бы способствовать расцвету творческих сил, без которого великой советской литературе не быть, или дело ограничится опекой — более строгой — и сведением старых счетов.
Съезд закончил свою работу 23 мая. Резолюция еще не опубликована. Но по произнесенной накануне речи Хрущева, а также по посланию съезду Центрального Комитета Коммунистической партии совершенно ясно, что учреждается не то что опека, а настоящее рабство, новое духовное крепостное право.
Хрущев, юродствовавший на трибуне больше двух часов, читавший ни к селу ни к городу стихи, рассказывавший анекдоты, дошел в своем фиглярстве до того, что стал умолять съезд быть милостивым к побежденным и вообще власть судить и миловать передал писателям. «Есть правильная поговорка, — сказал он, — лежачего не бьют. И если в идейной борьбе противник сдается, признает себя побежденным и выражает готовность встать на правильные позиции, не отмахивайтесь от него, поймите его, подайте руку, чтобы он мог в ряд встать, вместе работать». (Продолжительные аплодисменты.)
Но тут же он напомнил слова Горького: «Алексей Максимович Горький хорошо сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Это глубоко правильно». По странному совпадению был помянут, как бы невзначай, Феликс Дзержинский — «золотое сердце». Аплодисментов на этот раз не последовало.
Хрущев успокоил. «Теперь эта борьба осталась позади, — сказал он. — Носители ревизионистских взглядов и настроений потерпели полный идейный разгром, борьба закончилась, и уже летают, как говорится, «ангелы примирения». В настоящее время идет, если можно так выразиться, процесс зарубцевания ран». Борьбу с ревизионизмом партия, оказывается, вела для того, чтобы, как утверждает Хрущев, «развязать творческие силы народа, открыть дорогу новому, осуществить то, что завещал нам великий Ленин, и вести страну по-ленински вперед к Коммунизму».
Центральный Комитет, со своей стороны, обещает «и впредь проявлять постоянную заботу о развитии советской литературы и искусства». «Считая писателей своими надежными помощниками, — говорится в послании, — наша партия прямо и откровенно критиковала и поправляла тех, кто проявил колебания, допускал ошибки».
Хрущев сравнивает писателей с артиллеристами. «Думаю, товарищи, — заканчивает он свою речь, — что в нашем общем наступлении деятельность советских писателей можно сравнить с дальнобойной артиллерией, которая должна прокладывать путь пехоте. Писатели — это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперед, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся».
В своем ответном послании Центральному Комитету съезд пишет: «Мы гордимся тем, что партия в своем приветствии нашему съезду назвала нас своими надежными помощниками, и обещаем ей и впредь быть надежными помощниками партии во всех высоких и благородных делах, которые она творит ради счастья народа на нашей родной земле и на всей планете».
Последние слова следует особенно подчеркнуть. Цель коммунистов как была, так до сих пор и осталась — мировая революция.
«Серебряный век»[328]
Я очень жалею, что мне не удалось быть на чтении Б.К. Зайцева. Я уверен, что многое из его воспоминаний о Серебряном веке[329] русской литературы, напечатанных теперь в «Русской мысли», звучало в его устах иначе, более убедительно, а кое-что, может быть, и более мягко.
Но, читая эти мастерски написанные воспоминания, я все время ощущал какую-то пустоту, словно в них чего-то не хватало. И в самом деле не хватало, даже весьма существенного. Зайцев ни словом не обмолвился о кружке Дягилева[330] и о журнале «Мир искусства»[331], с какого, собственно, и начинается Серебряный век. Но это — пустяки по сравнению с другим пробелом. В славном зайцевском Серебряном веке нет того, кому этот век больше всего обязан своим блеском, — нет Бунина. На протяжении двух двойных фельетонов — о нем ни слова, будто он вообще никогда не существовал. Странно. Даже загадочно.
…А ведь нет и Розанова. Вот те на! Что же это такое, в самом деле? Хороши, нечего сказать, мемуары. Из персонажей только — Белый и Блок на фоне каких-то теней. Может, нет и Мережковского? Нет, есть, даже под ручку с Гиппиус.
«Мережковского, — говорит Зайцев, — вполне можно считать одним из начинателей символизма. Быть может, в этом странном, полупризрачном человеке было слишком много от схемы («бездна вверху, бездна внизу»), от суховатых противопоставлений («Христос» — «Антихрист»), для художества черта неудобная, отдаляющая от непосредственности. Но и как вообще ждать непосредственности от Мережковского!»
Последняя фраза удивляет.
Почему, собственно, нельзя от Мережковского ждать непосредственности? Не понимаю. Впрочем, послушаем, что говорит Зайцев дальше.
«Облик же редкостный, — продолжает он, — даже таинственно появившийся в нашей литературе — об руку с тоже неповторимой Зинаидою Гиппиус. Облик бескровный и как бы невесомый, ни на кого не похожий. Романы его лишены живой ткани, это, скорей, упражнения на тему, все же нечто совсем особенное по холодному блеску, огромности замыслов. Конечно, не романист-художник, но существо удивительное, дух не дух, философ не философ, богослов не богослов — закваска же некая в литературе того времени несомненная».
Насчет «закваски» согласен. Достаточно прочесть роман Ульянова «Атосса», печатавшийся в «Возрождении» при Мельгунове[332], а затем вышедший отдельной книгой в Чеховском издательстве, чтобы убедиться, что Ульянов Мережковского читал.
Что же до фантастики, какой Зайцев окружил Мережковского, превратив его в подозрительную химеру, то ответственность за эту метаморфозу всецело на Зайцеве. Но раз уж он решил, что Мережковский — не человек, а упырь, — никакие человеческие мерки к нему не приложимы. Между тем Зайцев продолжает ими пользоваться и свою характеристику Мережковского заканчивает так: «Одинок, пламенно-холоден, очень известен, мало кем любим. Из символистов как будто наиболее близок к христианству… Но если начнешь искать любви…» Как это грубо. Дальше еще грубее: «В ранней юности, чуть ли не гимназистом, он пошел к Достоевскому. Тот сказал: «Страдать надо, молодой человек, тогда писать будете». И Зайцев прибавляет: «Это Мережковскому мало подходило».
Откуда он это знает? Кто его поставил Мережковского судить? А ведь он не только судит, но и осуждает. «Мережковский так до конца и остался спокойным литератором-профессионалом, «теоретически» принявшим христианство», — заключает Зайцев свою обвинительную речь.
Здесь все не верно. Однако спорить с «тишайшим» не буду. Не переубедишь.
Но вот мое показание: Мережковский был человек редкой душевной чистоты. Он был болезненно застенчив и свои чувства скрывал, благодаря чему часто казался равнодушным, даже холодным. Писателем, в том смысле, как это понимает Зайцев, т. е. романистом-художником, он не был и на это не претендовал. Вообще он был очень скромен и, когда его ругали, не обижался, говорил, что ругать всегда есть за что. Он был гениальный труженик, большой эрудит и, будучи глубоко русским — я это особенно подчеркиваю, — понимал и ценил европейскую культуру, как свою родную. Зайцев упрекает его в незнании народа. «Мережковский, — замечает он язвительно, — мог видеть «народ» из окна международного вагона, а сороку вряд ли отличил бы от вороны». Зайцев ошибается. Мережковский был очень наблюдателен, куда наблюдательнее, чем это кажется Зайцеву, и не только мог отличить ворону от сороки, но и павлина от вороны в павлиньих перьях, что иногда не так просто. А что до «народа», то все мы со своим народом связаны неразрывно, кровно-плотски — и эта связь, как ни странно здесь, в изгнании, за сорок лет окрепла. Это чувствуют одинаково как здесь, так и там. Кроме того, связь с народом, даже самая утробная, художественного таланта отнюдь не обуславливает. Для этого необходимо еще кое-что, чего ни купить, ни продать нельзя, но что дается свыше и в большинстве случаев не по заслугам. Писателем профессиональным Мережковский не был, но он работал всю жизнь и умер над книгой. Будущая Россия его прочтет, оценит и полюбит. Он ей будет нужен. Соединяя в своем творчестве Запад с Востоком, он работал для нее.
Был ли он верующим христианином? Я отлично понимаю намек Зайцева на «теоретическое» христианство Мережковского. Но это рассудит только Бог. Зайцев иногда нет-нет да и встанет на Его место. И тогда все мгновенно преображается: смирение, елейность, лилейность летят к черту, наступает ослепительный Золотой век, где Зайцев — первый писатель…
Нет, Мережковский не только «читал ежедневно Евангелие», но и старался по нему жить. Если это удавалось не всегда, то опять-таки не Зайцеву быть этому судьей.
Кстати, обнаружена еще одна пропажа — книга Мережковского «Иисус Неизвестный». Зайцев о ней не упомянул ни разу[333], хотя речь была и о христианстве, и о «религиозно-философском» «ренессансе», и о том, во что и как верует Мережковский. На все это в книге — ответ. Впрочем, вряд ли это Зайцева переубедило бы.
«Лолита» во Франции[334]
Ее здесь давно поджидали. Но если бы Кс. Деникина прочла посвященную «Лолите» статью в «Arts» Ф.Р. Бастида и сравнила ее со статьей на ту же тему Марка Слонима в «Новом русском слове», на которую она восстала, статья М. Слонима показалась бы ей верхом добродетели. Одновременно со статьей Бастида в «Arts» напечатаны еще три статьи: этюд об эротике в литературе, биография Набокова и содержанье его романа.
Бастид пишет: «Мы живем до того мизерно, что, когда появляется книга такой силы, мы не в состоянии ее воспринять сразу». Он считает любовь Гумберта к Лолите самой чистой, самой душу раздирающей, какую только можно вообразить. Среди пораженных любовью безумцев — Гумберт как бы святой, подобно князю Мышкину[335] или мадам Бовари[336]. Он достоин, чтобы к нему обращались с молитвой. Мы должны этому научиться.
Прав или нет Бастид — меня он не соблазняет, именно он, а не Лолита. Не соблазняет и Андре Руссо, написавший с величайшим отвращеньем статью о Лолите в «Фигаро». Он явно ее презирает. Но ни тот, ни другой не поняли, что роман Набокова не столько даже эротический, сколько сатирический. Эта сторона совершенно от них ускользнула. Одна из причин огромного успеха книги — это тот блеск, с каким Набоков описывает пошлость американского среднего класса, его особенности и преувеличения, бесконечные «анкеты» и «измерения общественного темперамента» при помощи всевозможных Гэллупов; его мифы: психоанализ, молодость, оптимизм и количество. Сама Лолита — любопытное соединение прелести и вульгарности, напоминающее героиню сиринской «Камеры обскура». А заключительная сцена убийства, которую Руссо принял всерьез, выдержана в стиле гротеска и пародирует современные детективные романы.
Но вот статья об эротике. Она отнюдь не лишена интереса и, может быть, для понимания романа Набокова полезнее, чем брезгливая статья Андре Руссо.
Эротика подобна мышьяку — она везде. Ее история сливается с историей литературы, а может быть, и с историей просто. Современная французская литература ею пропитана насквозь: Сартр[337], Марсель Эме[338], Жуандо, Жан Жене[339], Кокто[340] и много других, не говоря уже об англичанине Лауренсе[341].
За пределами эротики и любви — она не есть к ней прибавление, а ее противоположность — человек обречен на одиночество и бессилие. Он даже не в состоянии следовать за своей мыслью, которая совершенно от него освободилась.
Выхода из этого нет. Это — мир кошмара. Смерть. Одиночество. Закрытые ставни. Пустынные улицы. Комнаты в подозрительных отелях, которые не преобразит никакая страсть. Кровь. Отчаяние. И эта бесконечная усталость.
Нет, надо что-то придумать; какое-нибудь новое слово, чтобы выйти из этого лабиринта, из этого темного и бесконечного коридора, в который мы сами себя заперли.
Надо открыть эти слепые окна, эти забитые двери, снять с них тюремные засовы. Освободить эротику от печали, ставшей ее неразлучной спутницей.
Надо найти утраченный древний смысл искушения, силе которого не мог противостоять никто.
Да, все зависит от одного волшебного слова, и, может быть, Набоков ближе к нему, чем Пастернак.
HENRI TROYAT — АКАДЕМИК[342]
Я ждал этого события давно. Несмотря на свои еще сравнительно молодые годы, он был так похож на академика, что его не могли не выбрать. И его действительно выбрали большинством 23 голосов из 25. В 1938 г. за роман «L’Araigne»* [* «Паук» — фр.] он получил Гонкуровскую премию. Эта была его пятая книга. За первую, «Faux jour»* [* «Ложный свет» — фр.] ему в 1935 г. присудили Prix populiste[343]. Между этими двумя датами Академия наградила его Prix Louis Barthou[344], а в 1952-м он получил премию князя монакского. Он вступает в Академию уже в лавровом венке.
Его перу принадлежат многочисленные труды. Перечисляю главные: трилогия «Tant que la terre durera»[345] и пятитомная серия «Les Semailles et les Moissons»[346]. Действие трилогии происходит во время русской революции, во второй серии — в современной Франции. В настоящее время он работает над новой серией исторических романов из эпохи 1815 г., озаглавленной «La lumiere desjustes»[347], первый том которой «Compagnions du coclicot»*[*Компания Коклико» (фр.).] недавно вышел.
Направление его творчества определилось, как он сам об этом рассказывает, после того, как он решил «пустить в оборот капитал своего русского опыта». Он происходит из известной семьи Тарасовых из Армавира. Родился в Москве в 1911 г. Во Франции он с восьмилетнего возраста.
Свой русский опыт он использовал не только в области романа. Его перу принадлежит ряд биографий русских писателей: Достоевского, Пушкина, Лермонтова. В этом году появилась его новая книга «La Vie quotidienne en Russie au temps des derniers tsars»* [*«Повседневная жизнь России эпохи последнего царя» (фр.).]. Задуманы биографии Чехова, Толстого и Горького.
«Многие могли бы это сделать не хуже меня, — сказал он журналистам после приема в Академии, — но мне кажется, что мне легче судить о стиле русского писателя. Прелесть Чехова наполовину от французов ускользает, и две трети юмора Гоголя пропадают в переводе.
Но особенно я люблю писать биографии из-за встречающихся в них нелепостей. В жизни человека столько удивительного, столько — неожиданностей, иногда они огорчают, если вы человеком восхищались, а иногда заставляют восхищаться тем, кого вы презирали. Это очень освежает!»
В 1949 г. два рассказа Труайя — «Наваждение» и «Тэндем» были напечатаны в «Возрождении».
Поговорим о прошлом[348]
Заглянуть в прошлое иногда очень полезно (когда это возможно). У меня сохранились несколько моих речей в «Зеленой лампе» начала тридцатых годов. Они приобретают сейчас особый интерес в связи с утверждением Ульянова о русской эмиграции, которая, по его мнению, ничего не создала. По ним видно, каких невероятных усилий стоила ей победа над «духом отрицания, духом сомнения»[349], которым ныне одержим Ульянов, а до него были многие другие.
Вот для начала газетный отчет о заседании «Зеленой лампы», посвященном докладу Д.В. Философова.
«В четверг, 31 мая, состоялось «открытое собрание «Зеленой лампы»[350]. Тема собеседования — доклад Д.В. Философова, прочитанный в варшавском Литературном содружестве и напечатанный в журнале «Меч»[351] — «От чего зависит возрождение эмиграции».
З.Н. Гиппиус после небольшого вступительного слова читает, в сокращенном виде, доклад Д. Философова. Публика слушает внимательно.
Первым из оппонентов выступает А. Алферов[352]. Ему понятно настроение Философова, оно близко очень многим эмигрантам, пожалуй, даже и тем, кому Философов бросает вызов. Однако содержание «активизма», к которому Философов призывает, Алферову не ясно, т. е. его доступное (осуществимое) содержание. Ясно только недоступное. Такие понятия, как «воля к бытию», «не подчинение материи, а овладение ею» и т. д., суть понятия, которые не предполагают определенного действия. Алферову даже кажется, что под ними с одинаковым удовольствием подписались бы и американский бандит Диллингер и любой отец Церкви. Совершенно ясно только одно: нужно служить Богу. Но ведь это такая бесконечно сложная и трудная вещь, в особенности когда это предлагается в политическом журнале. Как, например, перевести Евангелие на политику? К тому же оно и на службе у многих здешних политических врагов Философова. Хочется верить, что есть здесь действительно «элита» — «Божья гвардия», которой все известно, которой, может быть, даже и не нужно никаких соединительных тканей, и все это ей смешно. Но что же делать с громадной эмигрантской массой? Ведь ей мало Бога, и во имя Бога ей нужно дать нечто видимое и конкретное, какой-то трамплин, упор. Почему же ей ничего не дают те, кто знает об этом?
Выступающий после Алферова В. Злобин высказывает опасение, что вопрос, поставленный Философовым, или вовсе не будет услышан в Париже или будет встречен враждебно. Возрождение эмиграции? Но для большинства это такое же невозможное и уже почти ненужное чудо, каким стало падение большевиков. Парижская «элита», не говоря уже о круге обывательском, к вопросам общественным охладевает с каждым днем все больше. Сейчас другой вопрос на очереди — о праве на личную жизнь, на личное счастье, как будто это право когда-либо кем-либо оспаривалось. Факт очень характерный, и не трудно догадаться, что дело тут вовсе не в «личном счастье», помешать которому возрождение эмиграции никак не может, скорее, наоборот, а в безответственном индивидуализме или, что то же самое, в бессовестном рационализме. Он-то и есть главный враг того праведного дела, к какому призывает Философов.
И не то удивительно, что мы «рассудку вопреки, наперекор стихиям» продержались столько времени в невозможных условиях, но то, что всего крепче, всего прочнее на свете оказался волосок, на котором мы висим над пропастью. А громады за это время рушились воистину вековые.
Может быть, судьба русской эмиграции, этого «малого стада», действительно не погибнуть. Но не будем искушать судьбу. Мы боремся не только за себя, но и за какую-то общечеловеческую правду».
Одним из необходимых условий этой борьбы была, конечно, непримиримость к большевикам. Но были две непримиримости — подлинная и мнимая. Об этом Гиппиус написала впоследствии целый трактат (который Философов называл «кристаллографией»). Выдержка, которую я сейчас приведу, однако не из трактата Гиппиус, а из моей речи на соединенном собрании «Зеленой лампы» и одной политической группы молодежи, главных участников которой я назову ниже. Вот что я сказал в заключительном слове (отчет об этом собрании был напечатан в «Возрождении»),
«Если б меня спросили, какое сейчас самое положительное явление в мире, я бы, не задумываясь, ответил — непримиримость к большевикам.
Но есть две непримиримости — не старая и новая, а подлинная и мнимая. Их часто смешивают, принимают одну за другую, особенно иностранцы, сплошь и рядом ошибающиеся — на свою же голову.
Непримиримость, которую мы здесь сегодня по-разному выражали, — вся подлинная и потому — великая сила. Это как бы наш «золотой фонд», наш «основной капитал», и смысл сегодняшнего собрания в том, что мы этот капитал реализовали и, таким образом, положили начало для возможной в будущем совместной работы».
К сожалению, ничего из этого не вышло. Может быть, оттого, что «Зеленая лампа» хотя политики и не чуждалась и очень за ней следила, но была обществом не политическим, а литературным. Поремский же и Рождественский — ибо это были они — будущие основатели партии «солидаристов», уже тогда, главным образом, интересовались политикой. Литература была для них, как для большевиков, с которыми они продолжают воевать, сохранив всю юношескую свежесть своей непримиримости, только средством пропаганды.
Но их борьба была с самого начала — борьбой с врагом внешним. С внутренним, с тайным, невидимым, с «умным и страшным духом небытия», как его называет Достоевский, боролась, как умела, «Зеленая лампа». И борьба была не легкая, ибо «дух небытия», как всякий дух, был неуловим.
Помню доклад об «эмигрантской литературе» В. Ходасевича[353] и через неделю доклад Алферова[354] о «Буднях эмиграции». На последнем я был оппонентом. Вот приблизительно мои возражения — Алферову и заодно Ходасевичу.
«Доклад Алферова как бы продолжение доклада Ходасевича. Ходасевич судил и осудил русскую эмигрантскую литературу. Алферов судил и осудил русского эмигранта.
По поводу этих двух докладов у меня — один вопрос: по отношению к какому идеальному должному осуждается наше сегодняшнее данное? Какой должна быть в идеале эмигрантская литература и как должен себя вести русский человек в изгнании, если он хочет быть идеальным эмигрантом, достойным сыном своего отечества?
Но ни у Ходасевича, ни у Алферова на этот вопрос ответа нет. У Алферова есть, впрочем, кое-какие на это намеки. Пользуясь ими, я попытаюсь изобразить идеального эмигранта, каким его видит Алферов, чтобы выяснить, справедлив ли его суд над русской эмиграцией».
Но прав ли в своем суде над эмигрантской литературой Ходасевич, я ввиду отсутствия каких-либо конкретных данных, к сожалению, лишен возможности выяснить. Ходасевичу кажется, что эмигрантская литература погибает вовсе не оттого, что она эмигрантская, а оттого, что она недостаточно эмигрантская. В ней нет или потухла идея миссии, посланничества. Но в чем именно положительное содержание этой идеи, Ходасевич не указывает. Главного, единственно для нас важного мы не знаем.
Оно не в том, конечно, это главное, — жива или потухла в эмигрантской литературе идея миссии, а в том, кем именно из писателей и почему эта идея предана. Кто из них и на какую чечевичную похлебку променял свое духовное первородство.
Отсутствие прямого ответа на этот вопрос лишает нас возможности сделать из доклада Ходасевича практический вывод, хотя сам он и считает, что такой вывод был бы полезен. Единственный вывод, какой из его доклада можно сделать, — это закрыть «Перекресток»[355], закрыть «Зеленую лампу», закрыть вообще все литературные кружки и общества и вместо всего того основать «Клуб самоубийц» (по поводу воскресных собраний у Мережковских он писал З. Гиппиус: «Разгоните этот скотный двор»).
Но вправе ли мы сделать такой вывод из доклада чисто литературного, каким хочет быть доклад Ходасевича? По-моему, вправе. Отделять произведение от автора вообще трудно, а в данном случае, когда дело касается гибели литературы, да еще из-за предательства некоей высокой идеи, — совершенно невозможно. Провал эмигрантской литературы, если б удалось его окончательно и безапелляционно установить, свидетельствовал бы о провале писателя-эмигранта как человека, а не как писателя только. Вот об этом, об исчезновении в русском эмигранте Человека — человеческого начала, и говорит Алферов, продолжая и углубляя доклад Ходасевича. Погибает и уже почти погиб, как Алферову кажется, не русский эмигрант, не русский человек, а человек вообще, Человек с большой буквы. «Идеальный эмигрант», каким он представляется Алферову, и есть, прежде всего и главным образом, такой Человек. С этой точки зрения можно с правом сказать, что наше пребывание в эмиграции нечто иное, как экзамен на человека, экзамен, который мы, по мнению Алферова, не выдержали. С этой же точки зрения та мессианская идея, положительное содержание которой Ходасевич не вскрывает, — нечто иное, как наша всечеловечность, всемирность — идея всеобщего братства. Только теперь становится ясным, в каком тяжелом преступлении обвиняет Ходасевич эмигрантскую литературу, в частности русских писателей эмигрантов. Ведь дело идет ни более ни менее, как о вечной гибели — о гибели души России. Вопрос этот в такой его постановке настолько для нас серьезен, что мы были бы вправе требовать от Ходасевича, чтобы он вышел из узких рамок чисто литературного исследования и имел бы мужество выступить с открытым разоблачением, назвав имена и факты, указав путь — если таковой имеется, — какой мог бы, пока еще не поздно, спасти нас от надвигающейся катастрофы.
Но вернемся к Алферову, посмотрим, какой выход из положения указывает он. В этом не так просто разобраться. Доклад Алферова очень путан.
Мы должны прежде всего восстановить в себе свой человеческий образ и укрепить между собой человеческую связь. Мы должны понять, что все мы люди и что в гибели России все мы равно повинны. Против этого трудно возражать — общее место. Но далее начинается нечто двусмысленное. Алферов говорит буквально следующее: «Думается мне, лишь тогда мы могли бы найти утешение, стать цельными людьми, достойными сынами отечества, когда все без исключения (курсив мой. — В.З.) граждане России представились бы нам не как существа низшего порядка, а самыми обыкновенными людьми, пусть ожесточенными, опустившимися, но родственными нам по крови и сердцу, во всяком случае, достойными не меньшего сожаления, чем мы сами. Брататься с ними, конечно, не стоит, но узнать их поглубже, попытаться исправить тех, кто нуждается в исправлении, переложить часть их ответственности за совершенное на себя (курсив мой. — В.З.) — мы обязаны». И этого, по убеждению Алферова, требует не только христианская мораль, для многих недоступная, но самая обыкновенная человеческая житейская совесть.
Признаюсь, против этого восстает не эмигрантское, а все мое человеческое естество. Восстает против смешения «всех без исключения граждан России», т. е. в том числе и палачей с жертвами. Это они, палачи, нам родственны по крови и сердцу?
Чудовищно!
Есть преступленья вопиющие, смертные, неискупимые. Мы об этом забыли. Вспомните того грешника, что в «Страшной мести»[356] бросается к старцу отшельнику, умоляя за него помолиться. Вспомните, как старец раскрывает Евангелие и как наливается кровью каждая буква.
Так вот, если б идеальный эмигрант Алферова действительно, не на словах, а на деле переложил на себя хотя бы только самую малую часть ответственности за то, что до сих пор происходит в России, то не то что Евангелие, а любая человеческая книга, вся наша грешная, эмигрантская, но под знаком непримиримости к палачам рожденная литература налилась бы кровью и он почувствовал бы величайший ужас и величайшее отчаяние.
Идеальный эмигрант Алферова — это некто в маске, которую ему иногда удается выдать за человеческое лицо.
Это он напустил в наш эмигрантский дом уныние и безнадежность.
Это он внушает нам, что мы старики, что мы всего лишились, все забыли, все предали, что мы ничего в эмиграции не сделали и не сделаем, ибо время наше прошло, что всех нас ждет неизбежная близкая гибель.
На это мы отвечаем:
«Врешь. Жив Бог. Жива душа России. Мы уже много сделали и, с Божьей помощью, доведем свое дело до конца, хотя бы наши эмигрантские будни стали еще мрачнее».
Почти свобода[357]
В свое время Георгий Иванов горько оплакивал старого русского интеллигента, которого считал лучшим в мире читателем. С его исчезновением русская литература потеряла верного друга.
А чего хотел новый читатель эмигрант, чего он ждал от русской литературы — толком не знал никто. Сказать, что ничего, как многие говорили, было также неверно, как сказать, что если в эмигрантской литературе чего-то не хватает, что было ему необходимо, то виновата цензура (она была — негласная и двуликая, лево-правая). На это редакторы, скажем, «Современных записок» могли возразить (и возражали), что не раз печатали на страницах своего журнала произведения русских писателей, политически журналу совершенно чуждых. Большего требовать нельзя. Что же до стороны чисто литературной, то эмигрантские цензоры-редакторы нисколько не скрывали, что искусство не их специальность. Зато они и были осторожны — из старых брали тех, кто с именем, из молодых, кто имел хотя бы небольшой литературный стаж или за кого ручались «мэтры».
Я это говорю к тому, чтобы не получилось ложного представления, будто у наших здешних писателей столы ломились от гениальных произведений, а цензоры печатали только Гурвича[358] и Минцлова[359]. Русская зарубежная литература была вовсе не так угнетена, как это могло показаться после нашумевшей речи З. Гиппиус «У кого мы в рабстве?..»[360]. Почти все могло быть напечатано в крайнем случае в порядке дискуссионном.
Да, почти все. Русская зарубежная печать была почти свободна. Можно было развивать в ней какие угодно политические взгляды, высказывать самые передовые мысли об искусстве, говорить и о христианстве и религиозном возрождении России — для всего этого в отдельности находилось место. Но стоило соединить три темы — о христианстве, общественности и свободе в одну проблему, как тотчас же все двери закрывались, вы становились равно неприемлемы для всех существующих в эмиграции направлений. Я думаю, едва ли сами цензоры понимали, в чем тут дело. Они делали это инстинктивно, из какого-то им самим неведомого чувства самосохранения.
Между тем эта триединая проблема возникла не в эмиграции, а давно, еще в России, во времена символизма, но и тогда относились к ней так же, как теперь здесь, с тем же ужасом и отвращением — от Победоносцева[361] и митрополита Сергия[362] до марксистов Петра Струве[363] и Бердяева[364]. Какая странная солидарность. Тут есть над чем призадуматься, особенно цензорам левым.
Но не важно, какая цензура нас «угнетала» — или левая или правая. Дело не в этом, а в том особом духе, которым были проникнуты не только «охраняющие входы» нашей зарубежной печати, но вообще вся культурная сфера со всем, что в ней происходило. Дух этот, о какой знакомый! Как его назвать? Революция, реакция, реставрация? Назовем его просто «мертвый дух». А какого он происхождения — левого или правого, — не все ли равно.
Но вернемся к читателю. Несмотря на все свои недостатки и пороки, он от мертвого духа отталкивался. К счастью, не вся наша зарубежная литература была этим духом заражена, иначе не было бы вопроса «У кого мы в рабстве?». Но поскольку дело шло о литературе официальной, цензурой разрешенной и одобренной, можно было сказать почти с уверенностью, что современного русского читателя, русского человека в изгнании она удовлетворить не могла.
Чего ж он хотел?
Вряд ли он сам отдавал себе в этом отчет.
Бог, земля и свобода — не эти ли три вещи более всего нужны сейчас всякому русскому человеку, не утратившему человеческий образ и подобие?
Но цензоры опять скажут: да ведь только этим и полна вся наша печать. Только об этом все и говорят. Да, но раздельно, в разных углах. А попробуйте соединить эти три вопроса о Боге, земле и свободе в одну проблему, как воцаряется гробовое молчание.
Понять, что эти три вопроса не разрешимы в отдельности, а лишь вместе, что эта триединая проблема нам задана самой историей, — начало победы над «духом небытия».
Но судить нас будет только Россия.
О моем однофамильце[365]
В своем ответе на статью И.В. Одоевцевой «В защиту поэзии» Ульянов пишет: «Ни на один из многочисленных откликов, вызванных статьей «Десять лет», я не отвечал. Большинство писало о вещах, не имевших ко мне прямого отношения, либо возражало на свои же собственные измышления» («Н<овое> р<усское> с<лово>», 10-V.59).
То же мог бы сказать и я о статье Ульянова «Ошибочная амнистия» («Н<овое> р<усское> с<лово>», 14-VI. 59), о той ее части, где он говорит обо мне и о моем ответе на его статью «Десять лет» («Возрождение», тетрадь 88).
То, что из меня делает Ульянов, даже не карикатура — до того это не я и содержание, какое он в мои слова вкладывает, до того не соответствует их смыслу, что в первую минуту не соображаешь, о ком и о чем речь. Не я, а какой-то манекен, который он же выдумал и с которым по-настоящему сражается. Первый логический из этого вывод — это что и я сражаюсь с манекеном и что настоящий живой Ульянов тут ни при чем. Мы оба бьем мимо цели.
Когда я писал: «Вот уже сорок лет, как мы на волоске над пропастью…» — я хотел подчеркнуть элемент чудесности в нашей эмигрантской судьбе. Как было не понять такой простой вещи. Я писал: «Ульянов не заметил: в нашей судьбе, в судьбе русской эмиграции есть нечто парадоксальное, как бы вечный вызов здравому смыслу». Висеть на волоске над пропастью — значит быть готовым к ежеминутной катастрофе, которая может кончиться гибелью. Что общего между человеком в таком положении и комфортом — ей-Богу, не вижу. Но вот в ответ на мои слова о чуде, о том, что, несмотря на все испытания и беды нашей эмигрантской жизни, судьба нас хранит, — Ульянов пишет: «Я не психиатр и не могу дать определения внутреннему состоянию, продиктовавшему эти строки, но они превосходно объясняют, почему человек, комфортабельно устроившийся «на волоске над пропастью», слышать не хочет ни о каких опасностях». При всем сознании своего несовершенства я никак не могу отнести эти слова к себе. Мне все время кажется, что Ульянов говорит о каком— то моем однофамильце. Но это, может быть, именно потому, что я как раз из числа тех оппонентов Ульянова, для которых, как он думает, «самого понятия «осознания» зла не существует». Говорю «может быть», потому что возможно и другое объяснение. Возможно, что мы с Ульяновым (т. е. я, а не мой однофамилец) в слово «зло» вкладываем различное содержание и то, что Ульянову кажется злом, мне таковым не кажется или кажется злом «не столь большой руки». Продолжая разоблачать моего однофамильца, Ульянов говорит: «Мои выступления, постоянно напоминающие о близости катастрофы, приводят его в бешенство». За бешенство однофамильца не отвечаю. Но о близости какой катастрофы говорит Ульянов? Для меня есть только одна — война. По сравнению с нею все другие — пустяки.
В пылу спора я назвал Ульянова «удавом» и «людоедом». По этому поводу он пишет: «Подозреваю, что «зверь из бездны», «Антихрист» тут же промелькнул в его мозгу. Злобину, прожившему всю свою парижскую жизнь с Мережковскими, стоило, вероятно, немалого труда воздержаться от этих пифических слов. Остановила, надо думать, мысль: «Много чести будет». Что именно «мелькало в мозгу» моего однофамильца и какая происходила в нем внутренняя борьба, лучше меня знает выдумавший его Ульянов. В моем же мозгу мелькало слово совсем другого порядка, нисколько не пифическое, очень точное, произнести которое в споре с Ульяновым, надеюсь, не придется.
Посвященную мне часть своей статьи Ульянов заканчивает: «Полагаю, что Е.Д. Кускова, отнюдь не политическая единомышленница Мережковских, ближе к ним по духу, чем «свой» человек Злобин. У нее было то, что всегда отличало чету Мережковских, — тревога за будущее русской культуры, и чего совсем нет у Злобина».
Т.е. у моего однофамильца. Прошу читателя не смешивать. Что же до «четы Мережковских» с их тревогой за будущее русской культуры, то это было не совсем так, как представляет себе Ульянов. Вообще он Мережковских ненавидит. Я это уже давно замечал. Не то чтоб они были в действительности лучше или хуже, чем кажется Ульянову, — не лучше, не хуже, а другие. И мир, в каком они жили, тоже был особенный, ни на какой другой не похожий.
В этом мире не было ни времени, ни пространства, и вместе с тем это не был мир отвлеченных понятий, мир идей. В нем все было в высшей степени реально. Время и пространство как бы переставали в присутствии Мережковских быть преградой между людьми, становились соединяющими их мостами. Об этом хорошо говорит в своем стихотворении «Над забвеньем» Гиппиус:
Не память, а — воскресенье.[366] Мгновений обратных лет. Так бывшее над забвеньем Своею жизнью живет.К России относились не всегда одинаково:
Мы — дети, матерью проклятые, И проклинающие мать.Но любили ее — оба — страстно, Гиппиус, пожалуй, даже страстнее, чем Мережковский. В <19> 18 г., под большевиками, она писала:
Если гаснет свет — ничего не вижу. Если человек зверь — я его ненавижу. Если человек хуже зверя — я его убиваю. Если кончена моя Россия — я умираю.Эта страстность на первый взгляд плохо вяжется с тем представлением, какое мы имеем о Гиппиус (до сих пор!). В свое время я это отметил в статье «Неистовая душа»* [* См. «Возрождение», тетрадь 47]. Вот что я тогда писал: «Кто, глядя на эту нарумяненную, надменную, немолодую даму, лениво закуривающую тонкую, надушенную папиросу, на эту капризную декадентку, на эту немку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании Второго Пришествия раскольники, о которых с таким ужасом и восторгом рассказывает в своей книге «Темный лик» В.В. Розанов? Да, такой в своем последнем обнажении была З.Н. Гиппиус — неистовая душа».
Мы привыкли к ледяному тону, к жестокому спокойствию ее стихов. Но среди русских поэтов XX века по силе и глубине переживания вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть?
Но Россией для Мережковских исчерпывалось не все. Был еще мир — земля, и они его любили не меньше, чем Россию, — той же не отвлеченной, страстной любовью. За три месяца до революции, в ноябре <19>16 г., Гиппиус писала:
Милая, верная, от века Суженая, Чистый цветок миндаля, Божьим дыханьем к любви разбуженная, Радость моя — Земля! Рощи лимонные — и березовые, Месяца тихий круг. Зори Сицилии, зори розовые, — Пенье таежных вьюг. Всю я тебя люблю, Единственная, Вся ты моя, моя! Вместе воскреснем, за гранью таинственною, Вместе — и ты, и я![367]Я не сомневаюсь, что тревога Екатерины Дмитриевны Кусковой за будущее русской культуры была вполне искренна и что она ее любила не меньше, чем, скажем, Горький. Кстати, об этой любви Горького к культуре Гиппиус когда-то писала:
Он был титулярный советник. Она — генеральская дочь, Он сделал ей предложенье, Она прогнала его прочь.[368]Но что между Кусковой и Мережковскими существовала какая-то внутренняя связь и что они были друг другу близки по духу, как in extremis* [* В последний момент — фр.], утверждает Ульянов, — по меньшей мере спорно.
Тревога Мережковских была не за будущее русской культуры, а за то, что культуры первее — за Человека. Без него не то что о культуре, но и о самой плохенькой цивилизации нельзя даже подумать. Однако если все зависит от человека, то вопрос культуры в скрытой форме, вопрос о свободе — без нее человек, как творческая личность, не существует, — т. е. это вопрос и политический, а не только гуманитарный. О какой же близости между «четой Мережковских» и Кусковой может быть речь, раз они, по собственному признанию Ульянова, политические противники?
Я знаю, Ульянов не доверяет личным воспоминаниям, и, может быть, он прав, ибо в большинстве случаев их точность сомнительна. Послушаем поэтому, что говорит о Кусковой (которая какой была — такой до смерти и осталась), сама Гиппиус в весьма поучительной статье «Невинные признания». Статье предпослан эпиграф: «Сама себя раба бьет…»
Невинные признания
Е.Д. Кускова писала в «Современных записках» о проф. Тарасевиче, [369]«заместителе Нар<одного> комиссара здравоохранения». Это ее соработник при большевиках (до высылки г-жи Кусковой), ее сочувственник и сомышленник, как и она — убежденный твердо, что «надо работать в России».
«Мы… глубоко верили, — вспоминает Кускова, — в «изживание», в процесс радикального перерождения психики серых русских людей. Отсюда — вера в работу внутри России…» Эту работу, «не саботажную, а по совести», Тарасевич[370] исполнял «с громадным напряжением». Очень искренно и тепло рассказывая о Тарасевиче, о его действительно тяжкой работе, Кускова добавляет, что и большевики умели ценить ее. Такая, например, сценка: умерла жена Тарасевича. В маленькой церкви на Арбате — «идет отпевание по старому (?) христианско-православному обряду. Вдруг гулко раздается гудок автомобиля и громкий голос, не желающий себя сдержать — в церкви: «Где тут Л.А.? Хочу пожать ему руку!» Оглянулись. Семашко[371]… Голос — хозяина жизни…» (К сожалению, Кускова не сообщает, утешила ли Тарасевича эта высокая честь.)
Вера в работу «внутри России» у Тарасевича была на редкость глубока и стойка. Об этом свидетельствуют его беседы с Кусковой во время его наездов за границу (д ля «установления связи ученой Европы с “новой Россией”»). «Да, — говорил он, — я укрепляю и буду укреплять сов<етскую> власть в той мере, в какой она стремится организовать необходимую России органическую работу. Всякий кусок — даже самомалейший — этой работы укрепляет сов<етскую> власть и одновременно — ив гораздо большей степени — укрепляет саму Россию…» «А вы что, — заразились уже зарубежной психологией?» — строго спросил он г-жу Кускову. Она, конечно заверила, что не заразилась, ибо затем они «долго и горячо переписывались о больном вопросе — возвращенства…».
Кускова замечает: «Он горячо возмущался стремлением зарубежной прессы «разрисовывать» (по его выражению) язвы русской жизни: «Есть что-то прямо садическое в этом выискивании безобразий. Ну да, мы живем в безобразии — и стремимся там, на месте, его парализовать…» Он настаивал, что «молодежь должна всеми силами стремиться в Россию» — вот для этой «тяжкой работы в условиях, которые еще не скоро преобразятся», но… «самое преображение которых может быть лишь плодом такой работы».
Повторяю, образ Тарасевича написан Кусковой с большой теплотой. Он, вероятно, правдив. Мы Тарасевича можем понять. Мы, однако, совершенно не понимаем г-жу Кускову. Не представляем себе, в каком состоянии она писала эту статью. Не думала ли показать: вот пример для вас! Вот наша вера: горами двигает! Если думала, то напрасно: не только не «горами», а вышло, что и «вера ваша тщетна» и даже что «все так же погибнут». Ведь статья эта — некролог, а страшная гибель Тарасевича имеет гораздо более глубокое значение и смысл, нежели просто личная гибель «мученика долга». (Такой — наивно и весьма неуверенно — пытается изобразить ее Кускова.)
Она приводит письмо свидетеля.
«Тарасевич приехал нынче, в июне, в Дрезден в ужасном состоянии. Было ясно, что это человек, предельно и навсегда замученный. Он не был сумасшедшим, но и не был просто душевно угнетенным и расстроенным… Он утверждал, что все его близкие умерли и убиты им, что все кончится страшно… Характерною чертою было предельное самоумаление и самоуничижение…» (Сознание, что «ничего не сделал», конечно.) «В санатории ему везде чудились ужасы и шпионы…» Кускова добросовестно прибавляет, что автор письма кончил так: «Содержание его (Тарасевича) страхов было невымышленно: оно было реальным ужасом жизни сов<етской> России».
И вот 13 июня, «в половине шестого утром, в Троицын день, Тарасевич связал два платка, привязал их к решетке балкона и закинул петлю на шею. Оборвалось… Он сорвался с высоты 10 метров, сломал 4 ребра. Умер на другой день от кровоизлияния в легкое — в пятом часу вечера, в Духов день… Умер во сне, тихо».
Да, «он в России захирел», лепечет Кускова. Статья при конце. И вот авторше что-то «хочется сказать тем, кто еще не научился уважать и ценить этот путь работы по восстановлению страны». Но что именно «хочется ей сказать» — мы не знаем. Мы искренно не понимаем: что она-то, Кускова, продолжает ли «пламенно верить» в плоды работы внутри России или дрогнула перед очевидностью, перед тем, что сама же написала и начала подозревать, не единственный ли плод — «всего только петля из двух платков»? И младенцу ясно: Тарасевич свою веру потерял, оттого и не до разговоров уже было ему с Кусковой, не до призывов молодежи в Россию, а только и оставалось, что петля из двух платков. Мы говорим это к его чести; не к чести Кусковой, конечно, если она не понимает собственного мимовольного лепета: младенцам открыто — от нее скрыто.
Но что-то давно не слыхать ее шумливых призывов к «засыпке рва» для перехода «на ту сторону». Правда, чего и засыпать, давно полон, верхом. Очень плотно набит всячинкой: убитыми и полуубитыми, мертвецами и вживе затлевшими, — одних малолетних беспризорных венериков сколько тысяч! И те, которых Тарасевич, по его признанию «убил», да и сам ваш Тарасевич, г-жа Кускова, тот, — сверху лежит. В смысле удобства перехождения — рва ни малейшего. Что ж вы умолкли? Зовите молодежь на работу, на тот берег, — «по головкам»… да и сами переходите. Не отговаривайтесь тем, что вдруг, мол, на том берегу не примут. Есть много способов. Можно заслужить — предварительным, например, стажем, пешехоновским… Для плодотворной работы по преображению России неужели перед этакими пустяками останавливаться?
Нет, либо так, либо сяк. Непреклонная вера — вперед! По Тарасевичевым и другим «головкам». Покажите пример молодежи. Во всяком случае, не пишите неосмотрительных статей, вроде некролога Тарасевича.
Что дальше?[372]
Не знаю, достаточно ли теперь ясно, что никаких симпатий к Кусковой «чета Мережковских» не питала и питать не могла. Их загробный союз с нею так же невозможен, как, в свое время, была невозможна совместная работа по «засыпке рва». Смерть в этом случае не изменила ничего.
Не питал — вначале — особых к Кусковой симпатий и Ульянов. «Я не был поклонником покойной публицистки, — пишет он в своем ответе «Возрождению», — а в политической ее позиции просто не мог разобраться… Но, — прибавляет он, — я никогда не питал к ней враждебных чувств». Может быть, потому и не питал, что не разбирался в ее политике и, судя по тому, что Кускова для него — с каких пор? — защитница духовной свободы, «светлая личность», — не разбирается в ней и поныне. Да, с каких пор переменил Ульянов свое отношение к покойной публицистке, почему? В 1952 г. в «Новом русском слове» была напечатана речь Ульянова на дне русской культуры в Касабланке. Кускова на нее откликнулась. Она, как пишет Ульянов, «полностью солидаризировалась с моей картиной культурного упадка эмиграции». Основные положения этой речи были позже Ульяновым развиты в его нашумевшей статье «Десять лет», эмиграцией встреченной враждебно. Общий язык нашелся у Ульянова — кажется — только с Кусковой (говорю «кажется», так как не уверен, что какую-нибудь статью не пропустил). Он в ней, естественно, почувствовал друга. Мы же об этом можем только пожалеть.
Я иногда ставлю себе вопрос: как отнеслись бы к Ульянову Мережковские, если б они были живы?
Думаю, он им понравился бы — его упор, «мускулистость» духа, резкость критических статей. В наш просвещенный век надо уметь кусаться.
Чем-то он им, наверно, напомнил бы Савинкова[373].
Недостатки? Мережковский писал о «квадрате гения» Наполеона, которого был большой поклонник. В этом «квадрате» ум был равен воле. У Ульянова этого равновесия нет (как у Савинкова). Ум и воля почти равны, но воля преобладает.
Другой недостаток: «Искусство, как религия». Мережковские заметили бы это сразу. И если бы они дожили до наших дней, катастрофа, которая пугает Ульянова — конец эмигрантской литературы, — их, может быть, пугала бы меньше. Не потому, что им было бы все равно, что голос свободной России, замолкнет в мире. Не замолкнет. Изящной словесности, может быть, действительно наступает конец. Но это не значит, что за рубежом не будет русской свободной прессы (поскольку она здесь существовала — действительно свободная). Опасность не в том, что на смену умершим в изгнании русским писателям, двое из которых — Бунин и Мережковский — были с мировым именем, придут никому неведомые ди-пи[374], в том, насколько голос этих ди-пи будет действительно голосом России.
Сам Ульянов на будущее зарубежной литературы смотрит пессимистически. «Пора бы подумать и о том, как достойно отойти, что завещать потомству, — пишет он, отвечая на статью И. Одоевцевой. — Мне представляется небезразличным — дотлеем ли мы вонючей головней — или дадим последнюю яркую вспышку. Только об этой вспышке и речь». Да, хорошо бы принять кончину «непостыдну, мирну», а не подохнуть, как пес под забором. Но боюсь, что нам не избежать последнего позора, последнего испытания. Боюсь, что мы не просияем, а «провоняем», как это случилось со старцем Зосимой[375]. А ведь он был святой, чего никак нельзя сказать о нас. Вот когда нужно смирение.
Есть русская пословица — очень циничная, но глубокая: «От погани не треснешь — от чистоты не воскреснешь».
Я ее часто вспоминаю. Все чаще и чаще. Она меня утешает. Утешает и дает неожиданные надежды.
Мышеловка искусства[376]
Удручающее впечатление, какое произвел в России и за рубежом Третий Всесоюзный съезд советских писателей, не сгладилось и посейчас, несмотря на «смягчающие» статьи, появлявшиеся с тех пор в советской печати. Напротив, эти статьи еще больше запутали и без того сбитого с толку советского писателя, переставшего понимать, что можно и чего нельзя, где кончается «новый курс» и начинается «ревизионистский уклон».
Главной темой съезда было — создание великой советской литературы. Но условия, в какие съезд поставил писателей — полное и беспрекословное подчинении компартии, — исключали создание не то что великой, а вообще какой бы то ни было литературы. К тому же, в одной из «смягчающих» статей было сделано неосторожное открытие, а именно, что литература есть искусство, после чего положение партии стало безвыходным. Она оказалась нежданно-негаданно перед дилеммой: либо абсолютная свобода творчества (какая без свободы личности немыслима) и тогда, может быть, родится что-нибудь живое, однако без гарантии, что дитя будет советское, а не русское, либо — ничего.
Перед этой дилеммой партия спасовала, чем и объясняется ее беспорядочное метание то в одну, то в другую сторону. Некто В. Поленов в «Литературной газете» пишет: «Источником вдохновения для прозаиков, поэтов, драматургов являются немеркнущие идеи марксизма-ленинизма. Опираясь на эти идеи, коммунистическая партия Советского Союза, ее Центральный Комитет на всех этапах социалистического строительства четко и ясно определяли задачи литературы и искусства, пристально следили за их развитием и ростом». Это похоже на фантастический сон, ибо невозможно себе представить такого нормального кретина, для которого в 1959 году источником вдохновения были бы «немеркнущие идеи марксизма-ленинизма».
Еще фантастичнее в той же «Литературной газете» С.С. Смирнов[377]. Он пишет: «Новый исторический этап в жизни нашей страны, ознаменованный XX съездом КПСС, создал исключительно благотворную обстановку для развития современной литературы». И ниже: «… налицо самые благоприятные условия для творческой работы наших литераторов. Идейная зрелость, прочное морально-политическое единство коллектива советских писателей, дружеское, тактичное внимание и отеческая забота партии… все это создает хорошие предпосылки для нового взлета литературы. Предощущение этого взлета испытывает каждый из нас, и начало его в известной степени чувствуется во многих нынешних произведениях наиболее оперативных литературных жанров». Словом, наступает Золотой век. Но это лишь одна линия — консервативная, другая — либеральная, защищает «новый курс»: «… оглоблю, как орудие критики, пора бы сдать на хранение в Литературный музей, как некий анахронизм, совершенно чуждый и вредный в условиях советской литературы». Под статьей три подписи: Г. Макогоненко[378], Вл. Орлов[379], И. Эвентов[380]. Мне они не говорят ничего.
Но Смирнов оказывается двуликий Янус. В той же своей статье он по поводу литературной критики пишет: «…Критик словно забывает о том, что литература — одна из областей искусства», и заключает свою статью так: «Критическое дарование — явление, пожалуй, еще более редкое, чем дарование прозаика, поэта, драматурга, и нам очень нужно говорить о степени талантливости критиков. Нужно, потому что еще слишком много рождается у нас серых, неинтересных критических статей, лишенных блеска ума, широты охвата явлений, богатой эрудиции, написанных суконным, бюрократическим языком, напичканных цитатами, на которые, как на костыли, опирается на каждом шагу немощная мысль автора, словом, статей, созданных «без божества, без вдохновенья», без которых не может жить ни одно произведение искусства». Браво, Смирнов! Но его «двуликость» лишь отражение того, что происходит в партии. А в партии — замешательство.
Отказ от литературы для нее равносилен отказу от пропаганды, от которой она отказаться не может, ибо, как сказал Хрущев в своей знаменитой речи: «Литературе и искусству принадлежит исключительно важная роль в идеологической работе нашей партии, в деле коммунистического воспитания трудящихся». И даже не столько воспитания, сколько надзора за мыслями и чувствами этих трудящихся.
С другой стороны, признать литературу искусством и хочется и колется. И на этом партия сейчас играет, соблазняя «малых сих» и сама соблазняясь. Но до признания настоящего не дойдет никогда: это был бы акт политический, несовместимый с духом советского строя, не допускающего ни при каких обстоятельствах не то что свободу личности, да еще абсолютную, но и другую категорию мышления, чем марксизм-ленинизм.
Выхода из этого нет, кроме самоупразднения, чего требовать нельзя ни от кого, даже от Хрущева. Но кто мог бы думать, что эта старая крыса попадется в мышеловку искусства?
Хрущев и новая история Коммунистической партии[381]
В Москве недавно вышла «История коммунистической партии Советского Союза».
Эта «История» должна заменить изданную при Сталине и ныне осужденную на XX партийном съезде «Краткую историю коммунистической партии», к какой сам Сталин, по слухам, приложил руку.
В этой новой «Истории» удивляет многое, особенно непосвященных, и всего больше отношение к Сталину. Ждешь, что он будет развенчан окончательно и если не смешан с грязью, то по крайней мере низведен с пьедестала. Но ничего подобного. Наоборот. Все, что могло бы покойного диктатора компрометировать, как, например, знаменитые показательные процессы, старательно обойдено молчанием. Секрет в том, что Сталин Хрущеву нужен, на нем зиждется его власть и, следовательно, он должен быть реабилитирован.
Этим новая «История коммунистической партии» главным образом и занимается. Она всеми средствами стремится Сталина обелить, смыть с него кровь, сделать из него законного наследника Ленина, который, как известно, в своем завещании рекомендовал партии отстранить его от должности Генерального секретаря.
Как обошел Сталин это препятствие?
Завещание Ленина было прочитано через четыре месяца после его смерти, на съезде партии в мае 1924 г. Это известно всем. Но о чем новая «История» сообщает впервые — это, что прочитано завещание было каждой делегации отдельно и что затем каждая из этих делегаций «ввиду заслуг Сталина, его неустанной борьбы с троцкизмом и другими антипартийными группами» высказалась за его дальнейшее пребывание на посту Генерального секретаря.
Ловко?
Но Хрущев перенял от Сталина не только его метод «индивидуальной обработки», какой уже не раз применял с успехом, но и способ устранения конкурентов, заменив, правда, убийство ссылкой (в чем, впрочем, полной уверенности нет).
О конкурентах, конечно, в новой «Истории» — ни звука или два-три слова. Пример — Георгий Маленков[382].
В тридцатых годах Маленков стал членом Политбюро, в сороковых — одним из наиболее приближенных к Сталину лиц, его правой рукой, как назвал его Хрущев в своей секретной речи на двадцатом съезде. После смерти Сталина он — председатель Совета министров и одновременно Генеральный секретарь коммунистической партии. В новой «Истории», в которой 736 страниц, его имя упоминается дважды: на странице 654-й, как члена антипартийной группы, состоявшей из него, Кагановича[383] и Молотова[384], и через две страницы, где он назван в числе устраненных от «партийного руководства». О его докладе на 19 съезде по вопросам внутренней политики — ни слова. Зато докладу Хрущева об изменении статута партии отведено полстраницы.
Злые языки утверждают, что в царские времена был в России учебник новой истории, где о Французской революции говорилось следующее: «После смерти Людовика XVI на французский престол вступил генерал Бонапарт». Некоторые страницы новой «Истории коммунистической партии» по своему отношению к историческим фактам очень напоминают этот «царский» учебник (если он только когда-либо существовал). Так, хрущевская «История» не знает ничего и ни разу не упоминает о маршале Тухачевском[385]. Тысячи всевозможных имен — солдат, чиновников, генералов Красной и царской армии, состоявших на советской службе. А о Тухачевском — ни слова, будто он никогда не существовал. Потому ли, что он — одна из жертв Сталина и признаваться в этом Хрущеву сейчас невыгодно (хотя как это скрыть?), или по каким-либо другим, одному Хрущеву и составителям «Истории» ведомым причинам? Гадать бесполезно, ибо и в хрущевской «Истории» и во всем, что вокруг него и в нем самом, — какое-то неразрешимое внутреннее противоречие.
Можно, конечно, скрыть, как это делает новая «История», что во главе взбунтовавшихся в 1919 г. в Одессе французских моряков стоял Андрэ Марти, исключенный в 1952 г. как оппозиционер из французской коммунистической партии. Это сейчас никого не интересует. Не интересует никого и спор, были ли в Архангельске только английские и французские войска или еще и американские. Скрыть это нетрудно, но к чему? А вот показательных процессов не скроешь, потрясли весь мир, не забыла их и Россия. И что хрущевская «История» о них умалчивает — величайшая тактическая ошибка. Желая Сталина обелить, Хрущев этим молчанием лишь подтверждает его виновность.
И вот, в конечном итоге, получается, что вся политика Хрущева построена на обмане, причем на обмане бесполезном, ибо всему свету известно, что и почему он скрывает. Но, как это часто случается с вралями, кончающими потерей чувства реальности, Хрущев чем дальше, тем больше запутывается в собственных сетях, переставая отличать правду от лжи и принимая, с победным видом, желанное за данное. В Хрущеве есть, как это ни странно, нечто призрачное, что, на первый взгляд, плохо вяжется с его комплекцией. Но вспомним черта Достоевского, мечтавшего воплотиться «так, чтобы уж раз и навсегда», в семипудовую купчиху, в баню ходить и Богу свечки ставить. Эту свою призрачность Хрущев сознавать не сознает, но чувствует ее все время как некую дыру, которую надо заткнуть. Отсюда его влечение к фактам, к цифрам, к статистике, к сравнительным таблицам, диаграммам и всякого рода «кривым», словом, к тому, что ему кажется «реальным», и полное равнодушие ко всему, что «отвлеченно», чего нельзя «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», ни сослать в Сибирь.
И не случайно, конечно, стороне идеологической отведено в объемистой хрущевской «Истории» количество страниц минимальное (4). В этом пункте мнения сходятся: ни ямба от хорея, ни Маркса от Энгельса Хрущев не отличает и не смущен этим нисколько. Сталин, по сравнению с ним, «мыслитель» и «мудрец», и его «Краткая история», как говорится, «кишит идеями», поскольку можно идеями называть полуистлевший марксистский хлам.
Но, что бы Хрущев ни делал, его «дыра» не затыкается. Даже луна и та не помогла. Отправляясь в американскую поездку, он потащил с собой жену и детей как неопровержимое доказательство реальности своего бытия. Но американцы встретили его холодно, почувствовав в этом «добродушном толстяке», каким он хотел казаться, именно отсутствие доброты и человечности. Прием был настолько сдержан, что — небывалый случай в истории Соединенных Штатов — правительство обратилось к населению по радио, прося его быть любезным с русским гостем. Это произошло после визита Хрущева в Холливуд — столицу самого призрачного из всех искусств, что тоже не лишено известного символизма, не говоря уже о присутствии Хрущева на съемке кафешантанного фильма.
И России, и Америке нужен мир. Но говорить о мире Хрущев мог бы лишь в том случае, если бы он из делегата коммунистической партии превратился в представителя русского народа. Вот когда он потерял бы свою призрачность.
Но, к сожалению, этого не случилось.
Троцкий разоблачает[386]
В 1952 г. был найден неизвестный дневник Троцкого — три записные книжки 1935 г., ныне появившийся в английском переводе («Troltaky’s Diary in Exile 1935», Faber and Faber London). В этом дневнике наряду с фактами уже известными есть новые, которые мне хотелось бы здесь отметить, хотя прямого отношения к литературе они не имеют. Но отделять сейчас литературу от политики, пожалуй, так же трудно в эмиграции, как в России.
В 1935 г. Троцкий уже находился в изгнании, сначала во Франции, потом в Норвегии. В своих записях он главным образом касается текущей политики и предается воспоминаниям о своей революционной деятельности и той роли, какую играл в России в качестве «военного министра».
В дни октябрьского переворота он вместе с Лениным был в Петербурге. «Если б в 1917 году я в Петербурге не был, — пишет он, — октябрьский переворот все равно произошел бы при условии, конечно, что руководство партией находилось бы в руках Ленина. Если бы ни меня, ни Ленина в те дни в Петербурге не было бы — не было бы и переворота. Его не было бы также, если б в Петербурге был один я, без Ленина».
Троцкий, по всей вероятности, прав. «Массы» за ним не пошли бы. Но когда он говорит о своей борьбе со Сталиным, он теряет чувство реальности. Ему кажется, что со своим Четвертым Интернационалом он, в 1935 г., для Сталина опасный политический противник. «Сталин, — пишет он, — не колеблясь ни минуты, устроил бы на меня покушение. Но он боится политических последствий, так как обвинение падет на него». Как известно, Сталин преспокойно уничтожил всех сородичей и единомышленников Троцкого и под конец добрался до него самого.
Что касается Екатеринбургского злодеяния[387], о котором одно время ходили слухи, будто оно совершено не по приказу из центра, а по почину местных властей, то из записей Троцкого ясно, что эти слухи не основаны ни на чем.
Когда в Москве стало известно о критическом положении в Сибири, Троцкий в заседании Политбюро потребовал скорейшего решения участи царской семьи. Он предложил гласный суд с разоблачениями всех недостатков и злоупотреблений царского режима. На это Ленин ответил, что хорошо бы так, да хватит ли времени? Троцкий на своем предложении не настаивал и уехал (он тогда был занят перестройкой Красной армии). А когда через некоторое время он в Москву вернулся, то от председателя Совнаркома Свердлова[388] узнал, что по приказу Ильича царь и вся его семья убиты.
С большими подробностями, чем в других своих произведениях, рассказывает Троцкий о намерении Ленина после того, как его разбил паралич, покончить самоубийством. Нужен был яд, и Ленин обратился к Сталину, зная, что он, будучи заинтересован в его смерти, из всех революционных вождей единственный, который ему в этом не откажет. Однако Сталин на это не решился и о просьбе Ленина доложил Политбюро, которое ее отклонило.
Самоубийством покончить собирался и Троцкий — тоже по причине болезни (высокое давление), но, по-видимому, раздумал. Завещание, однако, было написано. Оно приложено к английскому изданию.
Самое, однако, интересное — это воспоминание Троцкого о том, как советское правительство подкупало иностранную прессу, в частности, французскую газету «Le Temps».
14 февраля 1935 г. Троцкий записывает: «В 1925 г. (или в 1924 г.?) тогдашний советский полпред во Франции, Красин[389], вел переговоры с директором «Le Temps». Об этих переговорах Красин докладывал Политбюро, чтобы получить необходимые полномочия. «Le Temps» предлагала следующее:
а) в пределах известного срока редакция отправит в Москву корреспондента, который начнет с донесений критических, но вполне бесстрастных;
б) кампания против Советского Союза в передовых статьях будет прекращена;
в) через несколько месяцев, если не ошибаюсь, шесть, газета начнет в своей внешней политике проводить благоприятную для Советского Союза линию;
г) донесения из Москвы будут благоприятны;
д) в своей второй передовой (посвященной политике внутренней) «Le Temps» сохраняет свободу коммунизм критиковать;
е) советское правительство будет платить «Le Temps» миллион франков в год.
Красин сначала предложил полмиллиона, затем дошел до 750 000. На этом переговоры прервались. Все же Красин запросил Политбюро, идти ли ему выше. Ответ был отрицательный, и не только из-за того, чтобы сберечь девизы, но и по причинам дипломатическим. В то время надежд на сближение с Францией не было никаких, и потому решено было операцию отложить.
Ее и отложили… на девять лет. «Если дать себе труд просмотреть «Le Temps» за 1933 и 1934 годы, заключает Троцкий, то можно установить, что после 9-тилетнего перерыва сделка наконец состоялась».
Опечатки
Обычно я их не исправляю, даже в стихах. Это все равно что через месяц после концерта объявлять, что пьянист взял фальшивую ноту. Но в моем ответе (втором) Ульянову, в 92-й тетради «Возрождения», одна из опечаток может вызвать ненужную полемику. На стр. 136 напечатано «Вообще он (Ульянов) Мережковских ненавидит». Вместо ненавидит следует читать не видит.
Кроме того, много неприятных опечаток и в 93-й тетради «Возрождения». Так, напр<имер>:
… Один, как прежде, над вселенной,
Вместо «над вселенной» следует читать «во вселенной».
В.З.
Гватемальское действо[390]
Ровно год назад, в восемьдесят третьей тетради «Возрождения», была напечатана моя заметка «Новые «освободители», в которой, основываясь на статье М.Е. Вейнбаума «Расчленители за работой» («Н<овое> р<усское> с<лово>», 5 июля 1958), я писал об антирусской политике американцев.
В своей статье М.Е. Вейнбаум назвал несколько имен, в том числе небезызвестного антирусского пропагандиста Льва Добрянского, профессора Джорджтаунского университета и председателя Украинской рады в Америке.
Но хотя я, в моей заметке, не утверждал, что политика расчленения России — официальная политика американского правительства, М.Е. Вейнбаум, не отрицающий существования в американских политических кругах антирусских тенденций, в своем ответе на мою заметку заявил, что если бы американское правительство приняло политику расчленения России, то он такую политику критиковал бы, считая ее вредной и неразумной.
«Но этого пока нет, — успокаивал он. — Ни в политике бывшего президента Трюмэна и ни в политике Эйзенхауэра до сих пор не было ничего такого, что свидетельствовало бы, как уверяет Вл. Злобин, о том, что американская политика расчленения России ныне факт».
Убедил ли М.Е. Вейнбаума мой ответ на его ответ — не знаю. Я продолжал настаивать («Возрождение», тетрадь 86, ноябрь, 1958), что Америка заинтересована в ослаблении мощи будущей национальной России и что политика расчленения России действительно — политика американского правительства. И я, к сожалению, был прав.
Пока мы с М.Е. Вейнбаумом переписывались, в г. Антигве (Гватемала) заседал «Континентальный антикоммунистический конгресс». В этих собирающихся периодически конгрессах принимают участие все без исключения государства Северной и Южной Америки. Руководящую же роль, естественно, играют США, как ведущее антикоммунистическое государство всего мира.
14 октября 1958 г. была этим конгрессом единогласно принята резолюция. Вот об этой резолюции в предыдущей тетради «Возрождения» — потрясающая статья А. Дикого[391] «Сим не победиши».
Не привожу резолюции целиком, хотя следовало бы. Дикий о ней пишет: «Не только знать и хорошо запомнить, но и выучить наизусть следовало бы эту резолюцию всем нашим бесчисленным политическим организациям и их вождям, наивно верящим, что существует «борьба Свободного мира против коммунизма». И подумать о том, как исправить это зло, грозящее страшными последствиями».
Вот некоторые пункты резолюции:
1) довести до сведения свободной совести Континента, представить на усмотрение и изучение государственным деятелям и руководителям общественного мнения — преступную действительность империалистической экспансии Советской России, которой руководят люди Кремля, продолжатели завоевательных планов, аппетитов Петра Великого, Ивана Грозного, Екатерины Второй, Ленина и Сталина, возглавляемые в настоящее время Никитой Хрущевым, и что эта экспансия является угрозой угнетения и непрерывной агрессии против Свободного мира…
6) выразить категорическое и ясное презрение всякой политике мирного сожительства, так как таковая таит в себе как бы соглашение охранения Русской империей ее фактического, но бесправного господства над порабощенными народами.
7) настаивать на императивной необходимости восстановления полной интернациональной и юридической самостоятельности порабощенных народов и на разделении Российской империи для создания суверенных государств в их этнографических границах, вполне не зависимых от подчинения Москве.
«Наивно было бы предполагать, — замечает Дикий, — что эта резолюция, принятая единогласно (следовательно, за нее голосовали и представители США), была принята и опубликована без согласия ведущего антикоммунистического государства — США.
Не менее наивно предполагать, чтобы эта резолюция была вынесена без знания и одобрения тех американских учреждений, которые специализировались на «борьбе с большевизмом», например, пресловутого Американского комитета. Тот факт, что этот комитет хранит гробовое молчание по поводу этой несомненно полезной большевикам резолюции, говорит красноречивее всяких слов».
Но это еще далеко не все: 17 июля 1959 г. была принята Конгрессом США (Сенатом и Палатой представителей) резолюция о «Неделе порабощенных народов» (из числа которых народ русский исключен) и о всеамериканском молении об их освобождении. По этому поводу президентом Эйзенхауэром был издан специальный указ. Привожу полный текст этого характерного документа, ничего в нем не меняя (в статье Дикого он не помещен).
«Так как многие народы по всему миру порабощены империалистической и агрессивной политикой советского коммунизма; и так как народы находящихся под советским господством стран лишены национальной независимости и личных свобод; и так как граждане Соединенных Штатов связаны родственными и принципиальными узами со всеми любящими свободу и справедливость на каждом континенте; и так как уместно и должно показать народам порабощенных стран, что правительство и народ Соединенных Штатов Америки поддерживают их в их справедливых стремлениях к свободе и к их национальной независимости; и так как объединенной резолюцией, принятой 17 июля 1959 г., Конгресс уполномочил и потребовал от Президента Соединенных Штатов Америки издать указ об объявлении третьей недели июля 1959 г. Неделей порабощенных народов и издавать подобный указ ежегодно до тех пор, пока все порабощенные народы мира не добьются свободы и независимости, поэтому сейчас я, Дуайт Д. Эйзенхауэр, Президент Соединенных Штатов Америки, настоящим объявляю неделю, начиная с 19 июля 1959 г., Неделей порабощенных народов.
Я призываю народ Соединенных Штатов Америки отметить эту неделю соответствующими церемониями и деловыми мероприятиями, а также призываю его изучать положение находящихся под советским господством народов и поддерживать справедливые стремления этих порабощенных стран.
В свидетельство всего этого я ставлю свою подпись под настоящим и повелеваю приложить к сему государственную печать Соединенных Штатов Америки.
Дан в городе Вашингтоне дня 17 июля, года от Рождества Господа Нашего 1959-го, а от объявления независимости Соединенных Штатов Америки 184-го.
Подписал: Д.Д. Эйзенхауэр
Но вернемся к статье А. Дикого. Он определенно подчеркивает, что одним только сочувствием и соболезнованием, не говоря уже о молитвах кардинала Спельмана, освобождение порабощенных народов не ограничивается. Пример: «освобожденной» Украине (что она будет освобождена, в этом никто не сомневается), как и другим народам (которые тоже будут освобождены, в чем тоже никто не сомневается), нужны кадры. И, не останавливаясь перед расходами, приступлено к созданию кадров. Руководителем этого инкубатора министров, сенаторов и губернаторов будущих самостийных государств назначен уже известный Лев Добрянский, католик и маниакальный русофоб. Произведенный в полковники американской армии, он управляет 52-м отделом Пентагона, который, как известно, подготовляет кадры для «оккупированных областей».
Если к этому добавить, что уже много лет в многочисленных американских учреждениях «по борьбе с большевизмом» прочно свили себе гнездо и заняли ключевые позиции разных мастей сепаратисты и их покровители, то с полной категоричностью можно сказать, что борьба с коммунизмом давно заменена борьбой с Россией, как государством, и с порабощенным русским народом.
«Не видит это и не замечает, — говорит А. Дикий, — только тот, кто не хочет ничего видеть».
7 августа с.г. в «Новом русском слове» было напечатано письмо в редакцию за подписью «Сектор информации Североамериканского отдела Н.Т.С.». Привожу из него отрывок о «Неделе порабощенных народов».
«В середине июля США приняли резолюцию, — пишет сектор, — об ежегодном проведении «Недели порабощенных народов». Идея эта сама по себе заслуживала бы полного одобрения, если бы прокламировалось действительное освобождение от коммунизма всех народов без исключения. Но этого в резолюции как раз и нет. Резолюция прокламирует «освобождение» не от коммунизма, а от «русского империализма». Резолюция перечисляет ряд стран, а также говорит об отдельных частях Советского Союза, но ни слова не говорит о порабощенном коммунизмом русском народе, как и самой России, толкая, таким образом, русский народ на союз с враждебной ему властью. И если указанная резолюция ляжет в основу политики США, то трагические последствия этого трудно даже предвидеть».
Мы надеемся, что М.Е. Вейнбаум сдержит свое обещание и выскажется против русской политики США, вредной и неразумной.
Что же до представителей «порабощенных» Россией народов, то они попали в глупейшее положение, которое может обернуться для них катастрофой.
Тот же президент Эйзенхауэр, той же рукой, какой он дня 17 июля года от Рождества Господа нашего 1959-го подписал благороднейший указ о «Неделе порабощенных народов», через два месяца того же от Рождества Господа нашего 1959 года пожимал руку главного этих народов тюремщика, палача и пожирателя — своего гостя, Никиты Хрущева. Мало того, собирается будущей весной с детьми и домочадцами к людоеду в гости.
И вот:
Порабощенные народы Не знают, что начать: Ложиться спать или вставать.О «Порабощенных народах»[392]
В Сиднее (Австралия) издается на гектографе «Свято-Владимирский листок» — беспартийный орган русской православной молодежи в Зарубежье. В одном из номеров этого Листка напечатана статья Г. Моисеева «О русскости», в которой приводятся факты, в высшей степени интересные и поучительные, как, например, следующий.
В <19>42—<19>43 годах, еще во время войны, Г. Моисееву приходилось встречаться с так называемыми национальными меньшинствами, заселяющими территорию России. Среди его собеседников были люди совершенно разного происхождения: калмыки, таджики, узбеки, казахи и прочие. Одни говорили свободно по-русски, другие плохо, а третьи вообще не говорили никак. На железнодорожных стоянках, в лазаретах, в переполненных солдатами вагонах, в солдатских кино велись разговоры на различные темы, и, конечно, в первую очередь на тему о будущем устройстве России. Это, как правило, всегда затрагивало вопрос об их отношениях к России как к государству и к русским как к главным носителям государственной идеи. В результате этих разговоров Г. Моисеев не только научился уважать хотя бы тех же калмыков, но был вынужден расценивать их зачастую выше многих коренных великороссов и пришел к определенному заключению, что, по словам поэта, «родиться русским мало, им надо быть, им надо стать».
Не были ли более русскими те калмыки, которые в лагере «Шлосгайм», возле Мюнхена, отказались спустить русский флаг и ослушались приказаний У.Н.Н.Р.Р.А.? Не был ли более русским узбек Наримов, который на вопрос немецкого майора на ломаном немецком языке просто ответил: «…Их рус…» Не был ли доктор Сулиманов, таджик по происхождению, который в <19>43 г. в Волковыске (Белоруссия) устроил День русской культуры, присовокупив его к 25 января и собрав около полуторы тысячи нацменов и власовцев, более русским, нежели многие из нас?.. Даже у блатных и урок, которых Г. Моисееву приходилось встречать во время войны, было больше русскости, нежели у многих эмигрантских «стиляг» или «пижонов». Пойманный немцами урка сопротивлялся до последнего. Со своими друзьями делился тоже до последней крошки и, несмотря ни на какие меры и голодовки, не отказывался от своего русского имени. И всякие лестные материальные предложения покрывал громкими и очень увесистыми ругательствами. Может, такой урка вовсе и не был никогда особенным патриотом, но в сложившихся обстоятельствах он становился русским, причем русским до мозга костей.
Как это прекрасно! И как жаль, что этого не знают и с этим не считаются расчленители России — наши бывшие друзья и союзники. Но когда они начнут освобождать из-под «русского ига» «порабощенные народы», возможно, что те, почувствовав себя в эту минуту «русскими до мозга костей», предпочтут остаться равноправными гражданами (какими они были всегда) Великой русской империи.
Миротворец[393]
Если Хрущев действительно искренно хочет мира, то с ним весь русский народ, да и не один русский — все народы. Но хочет ли, может ли хотеть мира Хрущев?
Обратимся к специалистам по вопросу, к бывшим советским ученым, как, например, профессор А. Авторханов[394], выступавший в конце июня с.г. на XI конференции Мюнхенского института, посвященной «проблемам внешней политики Советского Союза».
По мнению проф. Авторханова, советская политика не есть политика национально-государственная. Это — интернационально-идеологическая функция советской внутренней политики. Она определяется задачами и интересами одной лишь господствующей верхушки, т. е. коммунистической партии.
Советская внешняя политика по своей природе не может быть пассивной, поскольку она лишь функция общей политики мировой революции, стремления к мировому господству. В ее арсенале — лишь наступательное оружие, и ее доктрина всегда агрессивна. Советская политика мира — политика ленинской передышки, а так называемое сосуществование — рассчитанная политика целесообразности или даже вынужденной необходимости. Все советские внутрихозяйственные планы (если их брать во внешнеполитическом аспекте) — планы нового комбинированного наступления на свободный мир на всех участках — военно-политическом, идеологическом, экономическом и научно-техническом.
Экономический фактор, который до сих пор не играл особой роли во внешней политике СССР, становится сейчас одним из факторов, весьма существенных. Объявленные Хрущевым (под лозунгом «Кто кого») «мирное сосуществование» и политика «технико-экономической помощи слаборазвитым странам» — лишь одна из форм коммунистической экспансии.
Того же приблизительно мнения о направлении внешней политики Советского Союза и другой ученый, доктор Р. Врага. Вопрос решается тем, зависит ли эта политика от государства или от интернационального коммунизма. Для советских коммунистов даже в чисто внутренних постановлениях образование мировой коммунистической республики — первейшая цель.
В развитии этой политики — два этапа. Первый (1917–1945) — закрепление революции в одной стране и построение в ней социализма. Второй (с 1945 г.) — выход строительства социализма из рамок одного государства и создание целого ряда социалистических стран, соединенных в единую мировую социалистическую систему.
Достижению этой заветной для коммунистов цели «мирное сожительство» весьма способствует. Ему ставится задача: путем постепенного разложения капитализма подготовить почву для мировой революции.
Но миролюбие Хрущева объясняется не только страхом войны, вполне законным, а еще тем, что он всячески стремится удержать власть, мир в его игре — главный козырь. Он его действительно искренно хочет, и когда говорит, что мирное сосуществование идеологическую борьбу не исключает, то в этом для Запада, в настоящий момент, никакой опасности нет. Все сводится к тому, кто кого соблазнит. А России в том виде, в каком она сейчас, соблазнять некого и нечем.
Да, как это ни парадоксально, в России сейчас, кроме высоко развитой техники, главным образом военной, — нет ничего. Но и техника достигает своего предела. Дальше Луны не полетишь. «Литературная газета» в номере от 3 сентября с.г. пишет: «При подготовке и осуществлении полета на Марс, Венеру и другие планеты человечество неизбежно столкнется с необходимостью огромных затрат, для чего, естественно, потребуется кооперация не только научных работ, но, возможно, и материальных средств разных стран».
Россия, как духовная держава, существовать перестала. За сорок лет ни в литературе, ни в живописи, ни в музыке, ни в какой-либо другой духовной области не создано ничего. Хрущев эту пустоту, эту все растущую дыру, заткнуть которую нечем, как будто чувствует. Но сколько бы он, а вслед за ним вся советская пресса, ни повторял, что «положение в нашей стране очень хорошее», что «мы дышим теперь воздухом чистым и прозрачным, как степная криница», что «сбылись чаяния и надежды лучших сынов родины — великих писателей нашей земли, мечтавших о том, чтобы разумное, доброе, вечное стало достоянием каждого гражданина», что «налицо самые благоприятные условия для творческой работы наших литераторов», все это — ложь, и ложь бесполезная.
«Мирное сосуществование» опасно, в настоящий момент не для капиталистического Запада, как думают бывшие советские ученые (и не для России), а для коммунистической партии Советского Союза. Природа не терпит пустоты. И если Хрущев все же на риск идет, то исключительно потому, что другого выхода у него нет.
Любопытно, что, не дожидаясь победы, он присудил сам себе Ленинскую премию мира и в свою честь устроил торжественное собрание. Но еще любопытнее то, что о Хрущеве сообщает Гаррисон Солсбери, сотрудник «Нью-Йорк Таймс», ездивший недавно в Россию, где он пробыл около четырех месяцев.
Солсбери рассказывает, что однажды Хрущев выступал в московской телевизии в генеральской форме. Очевидно, лавры маршала Сталина не дают ему покоя.
За две недели до отъезда в Соединенные Штаты Хрущев, по дороге из Крыма в Москву, остановился в станице Вешенской на Дону, чтобы повидать Шолохова и пригласить его с собой в Америку. По этому случаю в станицу съехалось партийное начальство Ростовской и окружающих областей и был созван, как и полагается, митинг, на котором Хрущев выступил с речью, посвященной отчасти вопросам внешней политики, но главным образом восхвалению Шолохова, как «великого советского писателя… чей могучий талант служит партии и делу коммунизма».
В связи с этой поездкой Хрущева в Вешенскую тот же Гаррисон Солсбери сообщает любопытные подробности о недавнем конфликте между Шолоховым и руководством Союза советских писателей. Как пишет Солсбери, конфликт этот произошел из-за того, что второй том своего романа «Поднятая целина», готовящийся сейчас к печати (главы из которого недавно публиковались в «Правде»), Шолохов оканчивает пессимистически: главный герой романа — председатель колхоза Давыдов — арестовывается в годы ежовщины и кончает в тюрьме самоубийством.
Поскольку Давыдов в романе — главный носитель «партийности», такой конец противоречит всем принципам социалистического реализма. Поэтому работники аппарата ЦК и Союза советских писателей настаивали, чтобы Шолохов переделал последнюю часть романа и написал «счастливый конец». Шолохов отказался. Этот конфликт, как утверждает Солсбери, произошел в конце прошлого года, то есть одновременно со скандалом по поводу романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Сам Шолохов, как пишет Солсбери, Пастернака осуждал, тем более что до присуждения Пастернаку Нобелевской премии шли упорные разговоры о том, что премия будет присуждена Шолохову или же что Шолохов разделит ее с Пастернаком. Но когда стало известно о присуждении премии Пастернаку, Шолохов якобы намекнул кое-кому, что если второй том «Поднятой целины» не нравится московским издателям, то он может заинтересовать этой книгой какого-нибудь издателя иностранного. Тогда из ЦК предложили компромисс: менять судьбы Давыдова не надо — пусть его арестуют и пусть он кончает самоубийством, но чтобы Шолохов на этом романа не кончал, а продолжил его. Шолохов ответил, что он согласен написать третий том, где покажет торжество коммунизма в деревне.
Затем Шолохову устроили «творческую командировку» в Рим, Париж, Лондон и Стокгольм. Поездка была устроена так, чтобы он вернулся в Москву к съезду писателей. Президиум Союза писателей якобы рассчитывал, что Шолохов выступит на съезде в защиту социалистического реализма и необходимости писать так, как этого желает партия. Но Шолохов на съезде не выступил, переделать роман отказался и уехал к себе домой в Вешенскую.
Теперь понятно, почему Хрущев в своей речи «дружески» Шолохова подхлестывает. «Прекрасные художественные произведения создал Шолохов, — объявил Хрущев. — Он начал хорошо, продолжает хорошо, и мы уверены, что и дальше он порадует народ новыми замечательными произведениями. Как говорят — взялся за гуж, не говори, что не дюж. Спешить не нужно, но и затягивать не следует. Советские люди, у которых хороший аппетит на духовную пищу, ждут от вас, дорогой Михаил Александрович, как и от всех писателей, новых, ярких, высоко художественных произведений о нашей современности».
Но своим демонстративным приездом в гости к полуопальному писателю, превознесением его до небес и приглашением поехать с ним вместе в Америку Хрущев поставил всех тех надсмотрщиков над литературой, которые по его же указке с Шолоховым воевали, в глупейшее положение. Но Хрущева это не смущало ничуть. Шолохов был ему нужен — для американцев, как живое доказательство того, что великая литература возможна и при коммунизме. Был он нужен и самому Хрущеву, который, что бы ни говорили и что бы ни говорил он сам, в этой возможности далек не так уверен.
Голос крови[395]
Расстояние, отделяющее нас сейчас от России, приблизительно то же, как в начале изгнания. Но тогда мы от России отдалялись, отталкивались, теперь же к ней приближаемся. Кто-то с мачты нашего эмигрантского корабля крикнул «Земля», и мы знаем, что это — Россия, потому что другой земли для нас нет.
В начале марта прошлого года посетил Южную Австралию, порт Аделаиду, советский теплоход «Кооперация», зафрахтованный Академией наук для исследования Южного полюса во время интернационального геофизического года.
А в июле 1956 г. в голландский порт Роттердам пришли корабли Балтийского флота — крейсер «Свердлов» в сопровождении двух эсминцев.
Произошла встреча матросов Балтийского флота и членов научной экспедиции с русскими эмигрантами. Впечатление от обеих встреч совпадают: несомненное взаимное друг к другу влечение двух Россий — зарубежной и советской, — как бы неодолимо-стихийный порыв двух стремящихся соединиться половин. Это чувствовалось в каждом движении, в каждом взгляде, в каждом слове. «Нас разделяет власть, мы же друг с другом сговоримся».
Доступ на теплоход был совершенно неограничен, и все принимались с одинаковым гостеприимством. За двумя, впрочем, исключениями: на «галичан», «размовляющих на ридний мови», смотрели косо, стараясь их не замечать, и всячески избегали общества местных коммунистов. В гости ездили охотно и очень интересовались жизнью за границей. Рассказчику удалось пригласить к себе на дом одного из членов команды. После первых двадцати минут вежливая натянутость прошла, и уже, доезжая до ворот, они говорили на «ты», знали о семьях друг друга, о школах, городах и общих интересах.
Желая выяснить настроение своего гостя, рассказчик задал ему вопрос: «А что, если сделать основной переворот?» Тот ответил, что, по его мнению, менять пока нечего, ибо никто не сможет заменить сразу центральную власть, какая бы она ни была. И добавил: «Все мы сознаем, где все зло находится, и необходимость избавиться от него велика. Но избавляться таким путем, чтобы вся Россия полетела и рассыпалась по швам, мы не собираемся».
Западу они, т. е. советские, не верят, и на вопрос «Как относится Россия к западным государствам?» гость ответил: «А за что же его, Запад-то, любить, а как он относится к нам?»
Такое же недоверие и желание сохранить Россию единую и неделимую у матросов Балтийского флота.
Любопытно, что радиопередачи станции «Свобода» не только не производят никакого впечатления, но даже вызывают насмешку и злобные замечания. Особенно когда передают на галичанском наречии о «президентах» Украины и Казакии.
Резюме. Первое — это что «Кооперация», приехав в Аделаиду советской, уехала в Россию русской. Второе — местные подхалимы не пользовались абсолютно никаким успехом, особенно типы, выражавшие свои просоветские настроения. Их общества избегали. Третье — это что никто, как правило, не говорил «Советский Союз», а всегда «Россия». Четвертое — и это самое важное: какая бы власть в России ни была, как бы трудно ни было, русские люди остаются русскими, верящими в свою страну и ее великое будущее. С этими людьми сразу находился общий язык, общие интересы и надежды. Особенно радушно относились к так называемым старым эмигрантам, главным образом к белым офицерам и не делали никакой разницы между национальностями, за исключением лишь одних галичан.
Очень трогательна роттердамская сцена прощанья матросов Балтийского флота с русскими эмигрантами. «Не хотелось расставаться, — рассказывал один из участников. Пошли в парк, еще сфотографировались. Прощались, как с родными (а чем же не родные, хоть и не кровные?), обнялись, расцеловались братски — матросы в советской униформе и эмигранты-антикоммунисты с революционными значками на лацкане пиджака. Не кривя душой, надо признаться: при расставании подкатил какой-то ком под сердце, слезы сами собой потекли из глаз и у нас, и у них, и мы и они слез таких не особенно стыдились».
Да, кабы не власть, давно была бы одна Россия.
Но ничего, будет.
Секрет семилетки?[396]
Два литературных события прославили за истекший год (точнее, год и два месяца) русское имя — «Доктор Живаго» Пастернака и «Лолита» Набокова.
Пастернак получил, как известно, Нобелевскую премию. «Лолита» прославилась своим «порочным» содержанием. Она написана по-английски, издана в Нью-Йорке и переведена почти на все европейские языки.
В мою сегодняшнюю задачу разбор этих книг не входит. Ни разбор, ни тем более оценка с какой бы то ни было стороны. О них много писали и еще будут писать. Интересующимся романом Набокова советую прочесть статью Н. Берберовой[397] в № 57 «Нового журнала», единственно — пока — об этом романе серьезную на русском языке, к тому же блестяще написанную. Что до Пастернака, то в его честь издан в Нью-Йорке целый сборник «Воздушные пути». Но так как война — холодная — «алой и белой розы» продолжается[398], наша редакция его не получила. Знаю только, что там — статья Н. Ульянова о русской интеллигенции, на которую в «Русской Мысли» от 15 декабря 1959 г. возражает М. Вишняк[399] и о которой, вероятно, придется писать и мне в следующей тетради «Возрождения», если только я этот сборник добуду.
Но и роман Набокова и статья о нем Н. Берберовой — лишнее доказательство того, что творческая энергия России за рубежом, вопреки утверждению советской пропаганды и эмигрантских снобов, нисколько не ослабела. В старой России снобы фыркали на все русское и посылали стирать свои сорочки в Лондон. Здесь они этим делом занимаются в большинстве случаев сами, но все русское, национальное, все, что было за сорок лет сделано эмиграцией, — презирают в высшей степени. Между тем, русские в России если чем-либо интересуются, то именно этим. Поговорите с приезжим оттуда. Он будет смеяться над войной «алой и белой розы», войной, обуславливающей в значительной мере наше эмигрантское бытие, но поведите его в русский книжный магазин, вы увидите, с какой жадностью он набросится на книги, особенно по истории и по вопросам религии и философии.
Уже давно следовало начать издание небольших отдельных тетрадей, посвященных — каждая — какому-нибудь одному вопросу. Например: «Что сделала русская эмиграция в литературе?..» …В живописи, в медицине, в химии, в математике, в философии и т. д. Спрос на них был бы громадный, и в Россию они проникали бы с легкостью гораздо большей, нежели всем опостылевшая пропаганда политическая. Тот, кто впоследствии будет нас здесь «откапывать», убедится, что след, нами оставленный, — след великого народа.
Единственно, в чем Россия опередила другие страны, — это техника. Но в этом ее достижении нет ничего специфически национального, специфически русского. Набоков в «Tribune de Geneve» совершенно верно заметил, что запускать ракеты на Луну может всякий, и если Россия в этой области перегнала Америку, то исключительно потому, что в распоряжении советского правительства немецких инженеров больше, чем в распоряжении правительства Соединенных Штатов. Но как раз этой своей «общечеловеческой» стороной техника сильна. Сильна и опасна. В будущем мирном сотрудничестве России со странами Запада, о котором сейчас столько пишут в советской печати, сотрудничество научное на первом плане. Ракета на Луну влетела Советам в копеечку, и дальнейшее завоевание космоса собственными силами им не по карману. Для ракеты на Венеру, а затем Марс необходимо сотрудничество — материальное и техническое— всех стран. Таково мнение советских ученых. В чем же тут опасность?
А в том, что советское «завоевание космоса» — не что иное, как новая форма материализма.
Уже при запуске первого спутника в 1958 г. московское радио объявило, что «ни Бога, ни рая в мировом пространстве не обнаружено». Это грубое смешение двух порядков вряд ли могло убедить кого-либо, кроме окончательно впавших в кретинизм комсомольцев. Но власть над материей, междупланетные путешествия, открытие новых миров способны увлечь не одних только русских парней, а и других, особенно американских. Мировое объединение, какого не мог достигнуть ныне окончательно прокисший марксизм-ленинизм, возможно, будет достигнуто путем «технического сотрудничества» всех стран с целью завоевания вселенной. Но до этого «титанического периода» мировой истории еще далеко. Пока что в России, несмотря на ее высокоразвитую технику, продолжается каким-то необъяснимым чудом XIX век.
Характерно, что именно в области наук положительных, не говоря уже о метафизике, Россия — одна из самых отсталых стран в мире. То, на чем держится вся система советского государства — диалектический материализм? — давно сдан на Западе в архив, как нечто ни для какого человеческого дела не пригодное. Проблемы специальные ставятся и решаются на Западе иначе, чем они ставятся и решаются в России. И всякое решение проверяется: если в нем в какой-либо мере угроза свободе, оно отвергается как негодное. Заявление Хрущева на недавнем съезде советских журналистов в Москве, что коммунистическая пресса — самая свободная в мире, — издевательство над свободой, обращенное не столько к несчастным журналистам советским, сколько, через их головы, к иностранным, главным образом, американским, против которых у Хрущева, по-видимому, зуб. Он, должно быть, почувствовал, что, несмотря на его лунную победу, они к нему отнеслись вроде как к мещанину, который изобрел деревянный велосипед и очень этим горд.
Зараза коммунизма проникла к нам с Запада. Это известно всем. Но не многие знают, что на Западе же, породившем Карла Маркса, существует с начала века, если не с времен более ранних, другое течение, которое можно назвать «искупительным». Кто читал «Творческую эволюцию» Бергсона или слушал в Сорбонне его лекции, помнит, какое это было событие в кругах французского просвещенного общества. Биолог Бергсон утверждал, что сила «elan vital»* [*«Жизненная энергия» — фр.] такова, что может победить даже смерть. Древняя связь естественных наук с религией была восстановлена. Ее укреплению немало содействовал своими двумя книгами «Назначение человека» и «Эволюция духа» Леконт де Нуи. Отныне отрицать Бога мог только «малый разум».
Третья — самая важная — книга, о которой следует здесь упомянуть, появилась после войны. Она вышла в Париже, в 1957 году, в издательстве Галлимара и озаглавлена: «Может ли кровь победить смерть?» Ее автор — Hubert Larcher.
Чем же эта книга замечательна?
Тем, что ее автор, исследуя во всеоружии современной науки — физики, химии, биологии, медицины — человеческое тело после смерти, в своем выводе — строго научном — допускает возможность, как он говорит, «метаморфозы», называя так личное воскресение, которое он связывает — тоже строго научно — с космическим преображением мира.
Легко сказать: будущее принадлежит науке. Какой?
Мы сейчас присутствуем при вполне конкретном зарождении двух, друг друга взаимно уничтожающих научных систем планетарного масштаба, ибо система Ларше не менее всеобъемлюща, чем новый советский материализм. Этот материализм, в свою очередь, стремится создать ни более ни менее, как живую материю, нужную ему для производства человеческих роботов, предназначенных заменить машины. Если это удастся — в чем мы сомневаемся, — наступит «общее счастье», подобное тому, о каком в «Братьях Карамазовых» говорит Великий инквизитор. Что советская пропаганда ведет свою работу именно в этом направлении, видно по многим статьям в «Литературной газете» и в других советских изданиях. Та же линия проводится в печати заграничной, даже без особого давления со стороны Советов. В подготовке мирного сотрудничества народов, их объединения для работы на благо человечества — нет ничего зазорного. Пусть наступление «новой эры» не везде встречают с одинаковым восторгом, о размерах катастрофы не подозревает, не может подозревать никто.
Я ничего не утверждаю, потому что ничего не знаю. Но мне кажется, что одна из главных задач семилетки — это именно организация мирового научного сотрудничества, того технического аппарата, с помощью которого Хрущев надеется завоевать сперва Космос, а потом подчинить себе — мирным путем — Европу и Америку. Если я ошибаюсь — тем лучше.
Я даже не знаю, что сейчас происходит в России, какая из двух систем там побеждает — «система Ларше» или новый материализм. Надеюсь, что первая, надеюсь, потому что русскому человеку она по душе. Я это знаю: у Сологуба есть стихотворение, где он говорит буквально то же, что Ларше.
Вот это стихотворение:
В великом холоде могилы Я безнадежно сохранил И расцветающие силы И всходы нерасцветших сил. Но погребенные истлели В утробе матери-земли И без надежды и без цели Могильным соком потекли. И соком корни напоили. И где был путь уныл и гол, Там травы пышно восходили И цвет медлительный расцвел… …О если б смерть не овладела Семьею первозданных сил, В какое радостное тело Я б все миры соединил![400]Да, если б смерть не овладела… Но с этим-то как раз Ларше и борется.
Когда идеи гаснут[401]
В 1927 г., в № 2 издававшегося в Париже журнала «Новый корабль»[402], была напечатана статья Антона Крайнего (З. Гиппиус)[403] «Заметки о человечестве». Те, кто ее читал — их было очень немного, — вряд ли через 33 года что-либо помнят. Для большинства же она просто не существует. Между тем это — одна из лучших статей Гиппиус, и жаль, если она канет в Лету, тем более что она актуальна до сих пор.
И вот, чтобы опыт Гиппиус не пропадал даром, я приведу основные положения статьи. В нашей борьбе за человечество и Россию они могут пригодиться.
Гиппиус берет сразу «быка за рога». «Никакого «человечества» нет», — говорит она. А что же есть? Есть страны, племена, народы, нации, слои, классы, партии, группы, индивидуумы, и всегда, как теперь, они друг против друга благодаря разности интересов. Собственно же человечества никогда не существовало. В мечтах разве? В воображении? В идее?
И тут вся перемена — громадной важности. Не было — но могло быть, к тому шло. Мечта, воображение, идея — есть предварительная стадия бытия чего-нибудь. Во всяком случае, единственная возможность бытия. Пока «человечество» жило в идее, оно могло реализоваться. А если «погасить идею в уме?». С ней естественно гаснет воля, что же остается? «Ничего, — отвечает Гиппиус, — меньше пустого места».
Да, подозрительно быстро гаснут в наше время всяческие идеи. «Человечество» — только одна из целого ряда, не менее важных. Вообразительное бытие ценностей, т. е. идеи, — влияние на реальность. Когда они отмирают, гаснут — это немедленно отражается на всех явлениях жизни, изменяет ее облик, существенно изменяя облик самого человека. Стоит представить себе: без воображенья, без воли, идущей далее настоящего момента, — разве будет Человек похож на то, что мы привыкли называть этим именем? Если и «похож» — не очень… Угасание идей есть начало (долгого, правда) пути к перерождению Человека в «человекообразное».
«Вступили ли мы на этот путь? — спрашивает Гиппиус. — И такой ли он роковой, нет ли с него обратного поворота?» Трудно ответить.
«Фактические признаки известного перерождения, однако, уже есть, — отмечает она. — В большом или малом, в общностях и частностях, в одной области жизни или другой — все эти факты говорят о том же».
Надо, однако, помнить, что не всегда их легко обнаружить и определить. Идея погасла — но соответственное «слово» еще держится, переживает ее. Так, мы повторяем слово «культура». Культура имела тоже лишь «вообразительное бытие». И она может лишь «становиться» — при условии существования ее идеи. Слово осталось, но что под ним разумеется?
«Не сузилось ли незаметно понимание «культуры», — ставит Гиппиус вопрос, — до “технических достижений”»? А в общем, не свелось ли к понятию чисто количественному и, наконец, к «рекорду»?
Через 33 года мы отвечаем: «Да, задача «культуры» превратилась понемногу в задачу производить наибольшее количество движений в наименьшее количество времени или обратно. Какого рода движения — это уже все равно».
И только одни «рекорды» — всевозможные количества в круге техники и физики — еще вызывают чувства восхищения, возмущения (скорее, досады) и удивления. Способность возмущаться и удивляться решительно гаснет.
И Гиппиус объясняет почему.
Когда слабеет воображение, вместе с ним слабеет и память. Не с чем сопоставить, не с чем сравнить данный, настоящий момент. Содержание его и принимается как данное, просто; и если непосредственно, сейчас, не затрагивает — не забавляет, не досадует, — то и не интересует.
Старых слов осталось порядочно. И «наука», и «политика», и целая куча других. Но все — «порченые».
Вот хотя бы такая мелочь: никто не удивился, приняли и к «науке» отнесли африканскую экспедицию, снаряженную советским правительством для вывоза специальных обезьян: Советы приготовили у себя, в Сухуме, питомник и собираются там делать «научным способом» попытки получения новых подданных, скрещивать обезьян со старыми — с «людьми».
В Марселе обезьяны остановились для отдыха. Публика забавлялась, рассматривая будущих производителей и сопроводителей — советских «ученых». Немножко забавлялась и нисколько не удивлялась — «научный опыт»! Многим известны здесь результаты всяких советских «опытов», известны — и неинтересны. Но, по мнению одного, находившегося в публике москвича, из «научного» опыта с обезьянами, при удаче, может получиться особо крепкая порода существ, приспособленная к делу перманентного убийства людей в закрытых помещениях. Теперь эту работу делают рожденные «людьми», а потому не все выдерживают больше пяти-шести лет: то с ума сошел, то повесился. Какой-нибудь сын орангутангихи и комсомольца надежнее.
Так вот откуда эта «живая материя», о которой сейчас мечтают завоеватели Космоса, необходимая им для производства человеческих роботов, предназначенных заменить машины. Мы это запомним.
Другой пример — «политический».
Правительство одной страны объявляет правительствам других: «Я существую, чтобы вас уничтожить. Или я — или вы. Давайте, поговорим. Чем вы мне посодействуете?» Ему отвечают: «Что ж, поговорим. Конечно, вы существуете для уничтожения нас. Но это ваше дело. Мы в чужие дела не вмешиваемся».
И говорят… о посторонних вещах. Произносят разные слова — часто старые, за которыми уже нет прежних понятий да и не может быть. Реальных последствий произнесение слов или не имеет, или имеет какие-то довольно неожиданные. Это в зависимости от местоположения, от храбрости или трусости страны, которая разговаривает с правительством державы, намеревающейся ее уничтожить. «Если вы… такие-сякие, — вдруг кричит последняя, — не дадите мне, чего требую, — не хочу больше разговаривать! Не желаю! И вот увидите!.. Вы меня знаете!»
Противник ничего не знает (что знал, то забыл), но смутно боится потерять «данное» и, если очень боится, «любезно идет навстречу…».
Другой «политический» пример.
Наши с<оциал-революционе>ры. Те же самые люди, «боевая организация» которых не в прошлом веке действовала. Считалась их «красой и гордостью», и слава «героев» жила не умирая. «В борьбе обретешь ты право свое!» — гласил их многолетний лозунг. И вдруг перестал гласить. Уж оказывается, что дело не в «праве» и не в «борьбе», а в какой-то «выжидательной выдержке». Герои-то героями, конечно… вот Ненжессер и Коли тоже герои, притом не «вспышкопускатели-террористы» вроде Коверды[404]. Лично он заслуживает снисхождения, и хорошо, что Польша запрятала его в вечную тюрьму, а не повесила; но «политически» Коверда вреден — нецелесообразен… Ведь, подумайте, — он еще действовал на чужой территории, против «представителя дружественной державы!». Ну а план с<оциал-эсе>ровской боевой организации в <19>11 или <19>12 г. — покушение на царя в английских водах? План сорвался по случайности (измена матроса). Да, плотно забыто, совсем из памяти вон; точно и вправду ничего никогда не было…
Объяснить такую новую «политическую» позицию с<оциал-революционе>ров только и возможно, что физическим угасанием памяти. Ведь не станем же мы их подозревать в соображениях вроде следующего: при царе, мол, можно, ничего, а большевики — с ними лучше не шутить, они построже… Если б, с другой стороны, это была сознательная перемена принципов, то и было бы, конечно, заявлено открыто: мы пришли к отрицанию прежних форм борьбы и к ним не вернемся. Отныне право обретается выжиданием.
Ничего такого мы не слышали, а потому ясно: и в этом уголке, в этой маленькой группе людей, происходит тот же процесс ослабления памяти наряду с потерей воображения.
Можно было бы привести еще длинную цепь примеров, и отнюдь не только из нашего эмигрантского «захолустья». И не только из области, которую ныне зовут «политикой». Грозные знаки перерождения «человеческой» материи — повсюду, в каждом «случае», т. е. в отношении ко всякому случаю.
«Грозные» знаки… Но почему грозные? Почему это плохо, если все «идеи», вплоть до идеи «человечества», погаснут в уме человечества? Допустим, что оно окажется несколько иным, не вполне похожим на человеческое; но жить без памяти и без воображенья очень можно. Еще вопрос, что значит «жить»; прежде уверяли, что это значит «мыслить и страдать», а если нет? Если просто — кормиться, драться, плодиться и забавляться? Память и воображенье, бесспорно, «умножают скорбь». Неужели звание «человека» стоит, чтобы за него держаться при явных невыгодах?
И Гиппиус отвечает. «Беда в том, что всегда останутся «атависты», — говорит она, — т е. люди, и непременно они, удрученные памятью и воображеньем, полезут к человекообразным с обличеньями, увещаниями, с требованьем «покаяться». Боюсь, что это непрактично, и «пророки» успехов иметь не будут… впрочем, не желая им подражать, я ничего не предсказываю. Я ничего не знаю; я не знаю, как пойдет и как будет развиваться далее этот процесс. Он только в начале, хотя можно сказать, что и начало недурно. Для меня, как неисправимого «атависта», хранящего память и страдающего воображеньем, для меня, ясно видящего абсурдные перебои, опустошенные слова и бессмысленные жесты современности, — это все, конечно, определенное принижение жизни. Как-никак — а «гибель» человека… Среди советских обезьян, привезенных в Сухум с научными целями, особенно веселы две, громадные, — «собакоголовые». Может быть, недалеко время, когда «люди» вступят в переговоры с этими собакоголовыми или с их отпрысками. И называть будут переговоры «политикой», а то еще как-нибудь. Тогда не вправе ли мы, атависты, сказать: нет, не люди — это человекообразные разговаривают с собакоголовыми? Люди погибли.
И все-таки — вольному воля. Кто, будучи еще человеком, веселой ногой вступает на путь человекообразия, — оставьте его. Захочет опомниться, сам воротится.
Памяти Н.Д. Янчевского[405]
19 ноября 1959 г. в Париже после продолжительной и тяжкой болезни скончался Николай Дмитриевич Янчевский[406].
Он происходил из военной семьи. Родился 15 ноября (н.с.) 1896 г. в Воронеже, где учился в кадетском корпусе, по окончании которого поступил в Алексеевское военное училище в Москве.
Во время войны он был сначала инструктором в военном училище, потом сражался на румынском фронте, в Гражданскую войну находился в армии Деникина.
В Константинополе, куда он попал после падения Врангеля[407], он играет в Мимодраме режиссера Турского. Но не долго. Как большинство, попадает в Марсель, где работает грузчиком. Далее Ницца. Там у какого-то серба таскает кирпичи на постройке дома. И, наконец, Париж, где он сначала попадает на завод, потом устраивается продавцом в каком-то предприятии, снимается статистом в русском кинематографическом о-ве «Альбатрос». Но не перестает нуждаться. Семья питается пятидесятисантимной порцией картошки. Не имея денег на покупку будильника, он просиживает ночи у окна и спрашивает время у прохожих.
Но вдруг все меняется: он попадает в балетную труппу князя Церетели, с которой отправляется в турне по Южной Америке.
По возвращении в Париж он получает работу в интернациональном архиве танца и начинает серию статей для «Иллюстрированной России» о турне по Южной Америке. Вскоре получает приглашение от Евреинова[408] и принимает участие в его предприятии «Бродячие комедианты». В 1935 г. он начинает свою книгу: «Русская опера за рубежом».
Затем он основывает литературно-художественный кружок «Арзамас», который имеет большой успех и где выступают поэты, художники, писатели и танцоры.
В 1938 г. он начинает сотрудничать в «Возрождении». После войны он становится сотрудником «Русской мысли» и тогда же пишет «плакетку» «Аполлон в огне» — к сорокалетию приезда Дягилева в Париж[409].
Первые хлопоты после смерти Валентина Горянского[410] о выпуске его поэмы «Парфентий и Глафира».
Из больших работ Н.Д. следует еще упомянуть его книгу о Коровине[411] «Константин Коровин и его время», законченную в 1958 г., а также приспособление чеховских пьес к французской сцене.
Кроме собственных произведений и рукописей Н.Д. оставил большую коллекцию рисунков, фотографий, автографов, рукописей, писем, представляющих, несомненно, большую ценность.
Н.Д. был человек добрый, отзывчивый и горячий. Равнодушие было ему чуждо. Он ко всему относился страстно и ни поверхностных взглядов, ни поверхностных наблюдений не признавал. Он страстно любил искусство и художникам помогал чем и когда мог. Из его гостеприимного дома никто не выходил не обласканным. В его лице многие потеряли верного друга, и как хорошо, что его гроб был по его просьбе покрыт русским флагом, а не этой страшной, безнадежной, непроницаемой черной католической попоной!
«Воздушные пути»[412]
Так назван альманах, недавно вышедший в Нью-Йорке под редакцией Р.Н. Гринберга по случаю исполняющегося в 1960 г. семидесятилетия Б.Л. Пастернака, которому, как сказано в предисловии, «участники настоящего издания, живущие за границей русские писатели, посвящают этот сборник своих трудов».
«Разнообразное и смелое поэтическое творчество Пастернака, — отмечает редакция, — начавшееся еще до Первой мировой войны, уже давно приковало к себе всеобщее внимание. Его личность, его огромное дарование, его стойкость и верность себе вызывают восхищение. Многие из нас чувствуют его близость, несмотря на расстояние, нас отделяющее, и различие в обстановке наших жизней».
Заглавие альманаха взято у самого юбиляра, назвавшего так один из своих давних рассказов, взято, чтобы подчеркнуть, как сказано в том же предисловии, «мнимость преград, тщетно возводимых между нами на земле».
Статьи в альманахе частью о Пастернаке, частью связаны с мыслями о нем. Но «ответственность за высказанные в них мнения, — предупреждает предисловие, — несут авторы — не редакция».
Перейдем к содержанию сборника. Стихотворный отдел, если не считать стоящую особняком поэму Анны Ахматовой[413] и краткого стихотворений Игоря Чиннова[414], представлен слабо: два поэта, три стихотворения, из которых одно — Николая Моршена[415] — шуточное. Два других, Дмитрия Кленовского[416], не из его лучших. Заключительные строчки второго:
А в каждодневном хлебе иногда Нездешней преломленности находка—тяжеловесны. И нельзя сказать, чтобы находкой — поэтической или какой-либо другой — была «находка нездешней преломленности в каждодневном хлебе». В первом стихотворении, где, по-видимому, речь о покидающей или собирающейся покинуть здешний мир душе поэта, тяжеловесность перенесена вовнутрь. Желая облегчить душе перелет, Кленовский предлагает совсем не то, что надо.
Вот ты уходишь и не знаешь, Что взять тебе с собой в дорогу, И, выбирая, забываешь, Что нужно взять совсем немного.И поэт советует:
Возьми с собою пруд с осокой, Сирень и липу у балкона, Этюд Шопена, строчку Блока И шепот девушки влюбленной.Это называется «немного»: этюд Шопена, строчка Блока, влюбленный шепот. Не довольно ли? Нет! Тащи пруд, да еще с осокой, плюс сирень, плюс липу у балкона, а то и самый балкон. Неудивительно, что конец стихотворения вызывает улыбку.
Все остальное лишь обуза Для памяти и для созвучий, И пусть тебя скупая муза Прекрасной скудости научит.Я высоко ценю поэтический талант Кленовского и считаю его одним из лучших поэтов эмиграции, но если кого-нибудь «скупая муза» научила «прекрасной скудости», то в гораздо большей степени Игоря Чиннова, чем самого Кленовского. Чиннов представлен в альманахе одним коротким стихотворением. Привожу его, дабы не быть голословным. Ему предпослан эпиграф из Каролины Павловой[417]: «Мое святое ремесло».
Пожалуй, и не надо одобрения, И ободрения не надо. Ни обещания, ни исполнения Желаний, обещаний. Надо Стараться обойтись без утешения. Пора не жаловаться, не надеяться (Судьба шутила, обещая…) Пора стихам, как дыму, дать развеяться (Перелистают не читая). Пора понять, что не на что надеяться.Ни одного лишнего слова. Никакой надежды. И это очень важно. Гиппиус часто восклицала полушутя: «Дайте мне человека последнего отчаяния!» Ей казалось, что самое главное, самое важное в жизни человек постигает, лишь дойдя до последней черты. Насколько к этой черте близок в настоящий момент Чиннов — судить не берусь. Но путь, на какой он вступил, может при известных условиях привести — о, не к святости, даже не к славе, а к чему-то совсем другому — к той свободе, о которой мудрецы говорят, что она — имя новое Любви.
Поэма Анны Ахматовой в зарубежном альманахе, собственно говоря, — контрабанда. Ведь Ахматова — в том же царстве, где тот, кому посылают «воздушный поцелуй». Но мы не протестуем, мы радуемся, радуемся замечательной поэме, как ее назвал М. Вишняк (с чем мы совершенно согласны). Радуемся, что она напечатана в том виде, в каком вышла из-под пера поэта, без купюр и цензурных поправок «родной» коммунистической партии. И хотя мы в ней многого не понимаем, это отнюдь не мешает нам ею наслаждаться, как редчайшим образцом чистой поэзии.
Впрочем, поэма непонятна не только нам. Об этом свидетельствует следующее, приложенное к поэме письмо Ахматовой от ноября 1944 г.:
До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже советует сделать мне поэму более понятной.
Я воздержусь от этого.
Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит.
Ни изменять, ни объяснять ее я не буду.
«Еже писах — писах».
Ленинград, ноябрь 1944
О том же, т. е. непонятности поэмы, у Ахматовой в самом тексте. Вторая часть начинается так:
Мой редактор был недоволен. Клялся мне, что занят и болен, Засекретил свой телефон. Бормотал: «Там три темы сразу! Дочитав последнюю фразу, Не поймешь, кто в кого влюблен. Кто, когда и зачем встречался, Кто погиб и кто жив остался, И кто автор и кто герой — И к чему нам сегодня эти Рассуждения о поэте И каких-то призраков рой».По-своему редактор, возможно, прав. Но так ли уж поэма Ахматовой непонятна? Кое-что в ней, конечно, засекречено — без этого «там» нельзя. Но если ее прочесть внимательно, о главном можно догадаться, особенно зная автора.
А теперь о статьях. Их — 12, на разные темы. Я коснусь лишь некоторых — обо всех писать не хватит ни места, ни времени — тех, что — на мой взгляд — наиболее интересны, независимо от того, в какой они связи — прямой или косвенной — с юбиляром. Одну, впрочем, я выделяю. Это — статья Н. Ульянова «Ignorantia est»* [*«Неведение» — лат.]. О ней — особый разговор в следующей главе.
Никакого отношения к Пастернаку не имеет, не может иметь не изданная статья Льва Шестова о Пушкине, написанная весной 1899 г. Но она интересна сама по себе как таковая. Интересна не превозношением Пушкина, что естественно и законно во все времена и при всех обстоятельствах, а умалением «двух других великих поэтов земли русской — Гоголя и Лермонтова». «Оба они современники Пушкина, — говорит Шестов, — но не ими, не их творчеством определились будущий рост и блеск русской литературы… К счастью, не им дано было стоять во главе умственной нашей жизни» Это «к счастью» — великолепно.
Как всегда, остер, тонок и «губителен» Адамович[418]. Но в этот раз мне почудилось, что от его блестящих парадоксальных афоризмов нет-нет и повеет на мгновенье старческим душком. Меня это очень огорчило.
Вот что он, между прочим, пишет о Пастернаке: «У Пастернака в романе много такого, что трудно забыть. Но у него слишком «геттингенская» душа и символически ему очень были бы к лицу «кудри до плеч». Он в Германии учился, и голубоглазый, мечтательный немецкий студент жив в нем до сих пор. Сердце не совсем в ладу с разумом и притом сильнее его. Музыка Шуберта, не музыка Моцарта».
Я понимаю, почему редакция альманаха снимает с себя ответственность за содержание статей. У меня, кстати, на этой почве даже образовалось что-то вроде комплекса. Читаю, например, статью В.В. Вейдле о том, какие стихи можно, какие нельзя переводить, и думаю: это, несомненно, о переводах Пастернака. В одном месте Вейдле о нем даже упоминает в связи с переводчиком Рильке — А.А. Биском[419]. «Мне жаль, — пишет Вейдле, — что я не могу оценить переводов А.А. Биска иначе, чем я это сделал (в общем — отрицательно. — В З.). Пастернак, судя по письму, опубликованному г. Биском, их оценил гораздо выше, чем я. Я этому радуюсь, за автора, хоть и не могу изменить своей оценки». Тут мой комплекс начинает действовать, и я спрашиваю себя: не хочет ли Вейдле этим сказать, что Пастернак — плохой переводчик? Личного мнения по этому вопросу я не имею, так как с переводами Пастернака не знаком совершенно, если не считать восьми строк из второй части «Фауста», на которых случайно раскрылась в моих руках поэма Гёте. Как ни странно, это были как раз те строки, что в свое время перевел Мережковский. Перевод Пастернака показался мне определенно неудачным и по смыслу и по форме. Но, конечно, это еще ничего не доказывает. Перевести «Фауста» целиком в стихах — нельзя хорошо, даже будучи семи пядей во лбу. Это затея безумная. Я, однако, уверен, что есть и удачи. Их, может быть, немного, но они есть.
Как жаль, что в превосходной статье Вейдле, обладающей всеми качествами художественного произведения, осталась не исправленной одна опечатка, исправлять которую сейчас, собственно говоря, бесполезно. Тем не менее я позволяю себе это сделать.
На странице 71, в четвертой строке второго абзаца напечатано: «В предисловии он сетует о том, что нет русского слова…» Читать, конечно, следует: «…сетует на то, что нет», и т. д.
Пропускаю интересную статью Владимира Маркова[420] о «Стихах русских прозаиков» и с величайшим сожалением статью Степуна «Современность и искусство», но что поделаешь: ни времени, ни места. И вот, наконец, статья М. Вишняка «Человек в истории».
В ней меня главным образом интересует то, что М. Вишняк говорит о Пастернаке. Сама же тема «человек в истории» как-то не захватывает, может быть, оттого, что М. Вишняк ее — на мой взгляд — неудачно подал. Ставлю ему, кстати, вопрос: «Что такое история? Не история чего-нибудь, как, скажем, история коммунистической партии или крестовых походов, а история tout court?* [* Как таковая — фр.]
Об отношении Пастернака к этой неопределенной величине М. Вишняк говорит, что оно «внутренне связано у него с религиозно-православным восприятием мира в его крайнем, «максималистическом» варианте…». И далее: «Религиозно Пастернак в «Докторе Живаго» следует за Владимиром Соловьевым». Все это вполне ясно и никаких возражений не вызывает. Но М. Вишняк делает оговорку: «Вслед за ним (т. е. за Владимиром Соловьевым. — В.З.) Пастернак утверждает и бессмертие и воскресение всех умерших, но, я бы сказал, в несколько упрощенной или невыдержанной форме. Эсхатология, или учение о катастрофическом конце мировой истории, растворена у Пастернака в радостном приятии божественного дара жизни, в котором уже воплощено воскресение». И М. Вишняк приводит слова самого доктора Живаго. «Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, — говорит доктор, — а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили… В других вы были, в других останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью? Это будете вы, вошедший в состав будущего… Смерти не будет, потому что прежнее прошло, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная».
Такова та «несколько упрошенная форма» отношения Пастернака к истории, которое, как полагает М. Вишняк, внутренне связано у него с религиозно-православным восприятием мира в его крайнем, «максималистическом варианте». Но эта «упрощенная форма» «максималистического варианта», или иначе, «воскресение, как данное при рождении «перевоплощение» и сближение его актом памяти, не единственное, — говорит М. Вишняк, — что характерно для автора «Доктора Живаго» и что отличает его от религиозного сознания Соловьева, Бердяева, Вышеславцева[421] и других». Так как же, в конце концов, связан Пастернак с русским религиозным сознанием или нет?
М. Вишняк определенно отвечает: нет.
«Историософия, набросанная в «Докторе Живаго», — говорит он, — не соответствует ни фактам, ни тому, как воспринимает историю близкое Пастернаку русское религиозное сознание».
Связи нет, но есть близость, и М. Вишняк на ней настаивает. И совершенно напрасно. «Историософия» Пастернака не только не связана ничем с русским религиозным сознанием, но и с самим христианством, несмотря на свое мерцающее с ним как бы сходство.
Что такое христианство? Два слова: «Воистину воскрес».
Тут не может быть ничего приблизительного, никаких «вариантов». Да или нет.
Но именно в вопросе о воскресении и М. Вишняк, и Пастернак путают бессознательно два порядка — здешний и потусторонний, — как их путают — не всегда бессознательно — русские коммунисты. В прошлой тетради «Возрождения» я писал, что уже при выпуске первого спутника в 1958 г. московское радио объявило, что «ни Бога, ни рая в мировом пространстве не обнаружено». Совершенно в том же тоне говорит М. Вишняк: «Когда же первые последователи Христа, апостолы и другие умерли и не воскресли…» Как он это может знать? Или, может быть, он рассчитывал их встретить на парижских Champs Elysees?* [* Елисейские поля — фр.] Та же путаница у Пастернака. «Относительно всеобщего воскресения во плоти у доктора Живаго имеются серьезные сомнения», — замечает М. Вишняк и опять цитирует доктора. А доктор говорит следующее: «Слова Христа о живых и мертвых я всегда понимал по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира, их задавят в этой жадной животной толчее».
Не задавят. Не беспокойтесь. Главное — это воскреснуть, а там уж как-нибудь устроимся! On s’arrangera…* [Все наладится… — фр.]
«Примерка гроба»[422]
Это заглавие придумано не мной. Честно в этом признаюсь. Я его взял из статьи «Новый текст программы НТС» в номере 49 «Посева» от 6 декабря 1959 г. Там сказано: «…живой контакт с пришедшей в движение народной массой (в сегодняшней России. — В.З.), ощущение дряхления власти и нарастающих поисков новой общественности устремили творческую энергию революционного движения на вторжение в широкое русло освободительного процесса, на «примерку гроба» для задыхающейся тирании…»
«Примерка гроба» показалась мне почему-то заглавием, как нельзя более подходящим для ответа на статью Н. Ульянова «Ignorantia est» в посвященном Пастернаку сборнике «Воздушные пути», и я этим несколько мрачным, но живописным образом воспользовался.
Но М. Вишняк меня опередил ответом. Его пространная статья появилась в «Социалистическом вестнике», откуда была 15 декабря 1959 г. перепечатана «Русской мыслью». В этой статье, озаглавленной «Суд над русской интеллигенцией», М. Вишняк защищает — с большим достоинством и выдержкой — русскую интеллигенцию от учиненной над ней Н. Ульяновым расправы. Это тем более кстати, что для серьезного ответа на статью Ульянова не обойтись без проверки материала, легшего в основу его обвинительного акта. Но такая проверка связана с потерей времени и с лишними расходами, что не всякий и не всегда может себе позволить. Включение в спор старых интеллигентов, знающих то, чего не знает новое поколение, весьма поэтому желательно.
Говоря об Ульянове и о знаменитом, вышедшем в 1909 г. сборнике «Вехи»[423], Вишняк пишет: «Он (Ульянов)… превзошел в нападках на интеллигенцию даже авторов «Вех». Эти последние, охарактеризовав интеллигенцию самым жестоким образом, все же воздержались от осуждения ее целиком на протяжении всего времени ее существования».
Но откуда у Н. Ульянова эта воля к тоталитарному разрушению, к истреблению поголовному?
Мережковский был критик очень зоркий и строгий, и никакие недостатки от него не ускользали. Но о чем или о ком бы он ни писал — о Горьком, о Леониде Андрееве[424], о Ллойд Джордже или о китайцах, он никогда никого не уничтожал так, чтобы ничего не осталось. Какую-то одну положительную черту находил всегда, а если не находил — подавал надежду. Единственно, когда он пощады не ведал, — это в борьбе с большевиками, в которых для него воплотилось абсолютное зло.
Статьи Ульянова «Десять лет» и «Ignorantia est» отличаются тем, что таят в себе неутолимую жажду разрушения. Она даже в такой блестящей статье, как «Арабеск или Апокалипсис?» (о «Носе» — повести Гоголя), какую я в свое время отметил и какая несколькими последними строками сама себя уничтожает.
Я, может быть, не подчеркивал бы роковую природу статей Ульянова, если бы попытке уничтожения русской интеллигенции не предшествовала попытка уничтожения русской эмиграции, соединенные между собой, как две половины одного темного дела. Но метод, примененный при первой попытке — сознательное искажение, фальсификация и отрицание фактов, — не дал желанных результатов. Никто лжи Ульянова не поверил: слишком еще свежа в эмиграции память о том, что она сделала за истекшие 40 лет.
Тот же метод применен, по-видимому, и при второй попытке — попытке уничтожить русскую интеллигенцию. В чем же обвиняет ее Ульянов?
Вот его резюме в конспективной передаче М. Вишняка: «Утопичность мышления, оторванность от реальной действительности, самообожание и самоуверенность — одинаковы для любомудров начала XIX века и для Ленина в канун Октября».
Говоря исторически, это, конечно, — крайнее упрощение событий, происходивших в совершенно различные периоды русской жизни: все они произвольно укладываются в одну линию. Политически же мы имеем здесь дело со «вселенской смазью», если употребить бурсацкое выражение Помяловского, или, выражаясь более наукообразно, со знакомой еще со времени Французской революции «амальгамой», при которой в одну кучу валят правых и виновных, связывая их общей ответственностью…
И если Ленин со своими приверженцами оказывается в общей линии русской интеллигенции, продолжателем ее традиций, — с большевиков в значительной мере снимается и вина за Октябрь и последующие их злодеяния. Это ли входило в намерения Ульянова, когда он творил свой суд скорый, но неправый и немилостивый — над русской интеллигенцией?
Итак, я оказался прав, выбрав для этой заметки заглавие «Примерка гроба». То, что с нами — с Россией, с нашим настоящим и прошлым делает Ульянов, — лучше выразить нельзя.
«Но существо интеллигенции, — продолжает М. Вишняк, — ее история и судьба вовсе не в том, чем ее видит и как ее изображает Ульянов, и, конечно, меньше всего в ее злокозненности, чуждости России и враждебности к народу. Все это продукт предвзятости и предубеждений».
В конце статьи М. Вишняка — сюрприз, какого, думаю, не ожидал никто, и всего меньше Ульянов.
«Так пишет Николай Ульянов в эмиграции, — заключает свою статью М. Вишняк. — А вот что пишет некий Н. Ульянов в <журнале> «Борьба классов» № 7–8, вышедшем в Ленинграде в 1935 г. Вся книжка посвящена истории Ленинграда и открывается портретами Ленина, Сталина, Кирова[425], Жданова и статьей Н. Ульянова «Основание С.-Петербурга». Ее заключительные слова: «Царский Петербург, будучи, по словам Маркса, «не традиционным ядром национального развития, а преднамеренно выбранным театром космополитической интриги», возникнув, как цитадель самодержавия, как угроза стране, похоронив под своим гранитом сотни тысяч трудящихся и высасывая из народа последние соки, впоследствии был усыновлен всей страной, отвоеван ею у самодержавия, имя его стало синонимом революции и символом всего передового, что было в царской России. Возникнув как царский «парадиз», он вырастил того, чье имя носит теперь. Город Петра стал городом Ленина».
«Возникает вопрос: тот же ли это Н. Ульянов, — спрашивает М. Вишняк, — которому принадлежит уничтожающая критика русской интеллигенции в «Воздушных путях»? И если тот, то надлежит ли от восхваления «символа революции» умозаключать, что тем самым восхваляется и дело «того, чье имя теперь» носит город Петра, и его преемников? Осуждение Ульяновым Радищева, Белинского, Герцена, Чернышевского и других построено именно на таком призрачном и произвольном основании…»
Кто посягнул на детище Петрово?[426] Кто совершенное деянье рук Смел оскорбить, отняв хотя бы слово, Смел изменить хотя б единый звук? ………………………………………… Изменникам измены не позорны.Темное дело[427]
В «Новом русском слове» от 2 января 1960 г. напечатана статья М.Е. Вейнбаума о «Внешней политике США», посвященная вопросу освобождения порабощенных народов, в которой он отвечает на мою заметку «Гватемальское действо» в 95-й тетради «Возрождения».
Я писал: «М.Е. Вейнбаум, не отрицающий существования в американских политических кругах антирусских тенденций, в своем ответе на мою заметку («Возрождение», тетрадь 83) заявил, что если бы американское правительство приняло политику расчленения России, то он такую политику критиковал бы, считая ее вредной и “неразумной”».
И в конце статьи: «Мы надеемся, что М.Е. Вейнбаум сдержит свое обещание и выскажется против русской политики США, вредной и неразумной».
Верный своему слову, М.Е. Вейнбаум пишет: «Охотно это сделаю. Но прежде всего хочу спросить, какую именно американскую политику мне следует осудить? Ту ли, которая отразилась в упомянутых выше резолюциях (выше М.Е. Вейнбаум перечислил резолюции, давшие мне повод вновь поставить вопрос о русской политике американцев) и в указе президента о неделе порабощенных народов? Паи ту, которая ведет к соглашательству с Хрущевым и, следовательно, к ослаблению западных держав, военному, политическому и моральному?»
И прибавляет: «Я осуждаю обе политики. Но первую считаю глупой и в настоящее время совершенно бессмысленной. Политика расчленения России, поскольку она отразилась в гватемальской (Антигуа) и вашингтонской резолюциях, вызвана не завоевательными целями Соединенных Штатов — у них таких целей нет ни в России, ни где-либо в мире, — а надеждой ослабить мощного агрессора, каким является коммунистическая диктатура Советского Союза».
Я имел в виду первую политику, которую М.Е. Вейнбаум считает глупой и в настоящее время бессмысленной. Я ее тоже считаю не особенно умной, но она останется и, возможно, надолго… пока не освободятся все народы мира. Что Америка в территории не нуждается — знаю, ей нужны базы и рынки, но их без Добрянских не получить. Может не получить и с Добрянским. М.Е. Вейнбаум говорит: «…чтобы ослабить мощного агрессора». Знаем, знаем, сначала все так. Да и как же иначе? Даже Гитлер. А что дальше — известно…
Антирусской пропагандой главным образом занимаются украинцы-галичане, проявляющие исключительную непримиримость к «проклятым москалям».
Вот несколько выдержек из их газет. «Украiнська думка» писала: «Кажный москаль вид рождения е большевик, а большевизм — це московска натура». Газета «Шлях перемоги» доказывала, что все русские эмигранты без исключения — духовные дети московского большевизма.
В течение ряда лет расчленители разных мастей проникали через все вашингтонские щели, пробирались к сенаторам и конгрессменам, к чиновникам Государственного департамента, ко всем, кто готов был их выслушивать, с «доказательствами» того, что Россия — Советский Союз — лоскутное государство, в котором русский народ, составляющий меньшинство, угнетает все остальные народы. Только русский народ поддерживает советскую власть — все остальные борются против нее. Надо, следовательно, помочь угнетенным народам в их борьбе за независимость, чтобы Россия распалась, как карточный домик, и чтобы раз навсегда было покончено с угрозой русского коммунизма.
«Я первый в русской печати указал, — сообщает М.Е. Вейнбаум, — на деятельность Льва Добрянского, профессора Джорджтаунского университета в Вашингтоне и председателя Украинского конгрессовского комитета, самого энергичного антирусского пропагандиста в Америке».
Этот Добрянский в издаваемом им на английском языке «Бюллетене» позволил себе утверждать, что никакого геноцида в отношении русского народа в Советском Союзе не было. Коммунистическая диктатура уничтожила другие народы, но русский народ от нее не страдал, русских людей не морили ни голодом, ни чистками, ни пытками, ни ссылками в концентрационные лагеря, ни расстрелам они не подвергались.
«Что же удивительного, — спрашивает в заключение М.Е. Вейнбаум, — что сторонникам расчленения России удалось навязать свою резолюцию съезду в Антигуа? Ничего удивительного также и в том, что автором резолюции Конгресса был тот же Добрянский».
Теперь этот автор рвет и мечет по поводу того, что Конгресс «испортил» текст его резолюции, — он предлагал меры для освобождения порабощенных народов, а Конгресс ограничился призывом к молитве за их освобождение.
Но особенно интересно для нас то, что сообщает М.Е. Вейнбаум о борьбе с расчленителями русских организаций. «Все наши выступления были случайны и разрознены, — говорит он, — а противник действовал планомерно, неустанно и там, где это было важнее всего. Я не раз доказывал, что российской эмиграции в Соединенных Штатах следует объединиться на одном — на создании общими усилиями Комитета для правильного осведомления американского народа и правительства о России. Но этого не было сделано».
И не только этого не было сделано, но было сделано как раз обратное. Когда украинцы-галичане говорят, что большевизм — «це московска натура» или что все русские эмигранты без исключения — духовные дети московского большевизма — это одно, а когда то же говорит Н. Ульянов — это совсем другое. Что Ленин со своими приверженцами — в общей линии русской интеллигенции, что он продолжатель ее традиций — вытекает из статьи Ульянова само собой. И тогда прав не только маниакальный русофоб Добрянский, но и кардинал Спельман, утверждающий, что русский народ — это народ убийц.
И никакие статьи с угрозами, никакие резкие резолюции — делу уже не помогут. Все это запоздало. «После драки кулаками не машут», — говорит М.Е. Вейнбаум. «Кроме того, резолюция о молении за порабощенные народы потеряла всякий смысл в тот самый момент, когда она была принята, потому что Соединенные Штаты вступили на путь новой политики в отношении Советского Союза, которую с идеей расчленения связать никак нельзя».
Не знаю. Не уверен. Но не настаиваю. Поживем — увидим.
Спуск на тормозах[428]
«Скажем откровенно — советская литература знавала периоды больших дерзаний и больших успехов, чем за последние годы». Это говорит Илья Эренбург в новогоднем номере «Литературной газеты» — и ниже: «Но при всех успехах советской литературы мы еще не достигли высот наших предшественников».
Такова оценка Эренбурга советских достижений в области изящной словесности, и требовать от него большего было бы грешно. Потуги создать «по щучьему веленью» великую литературу не привели пока ни к чему.
Но если среди современных советских писателей нет ни одного, чей талант был бы по силе равен таланту Чехова или, на худой конец, Горького, писателя лишь наполовину советского, то справедливо ли винить в этом исключительно «партийное руководство»? Что «забота» о писателе «родной коммунистической» действует на творческую личность разрушительно — сомненью не подлежит, при условии, конечно, что таковая имеется, хотя бы в состоянии эмбриональном. Иначе непонятно, откуда и почему это количество несуществующих книг, что как из рога изобилия заваливают советский книжный рынок.
Когда-то, еще до войны, в Париже, в «Зеленой лампе» был поставлен вопрос о «конце литературы»[429]. Что, если этот конец ныне в самом деле наступил или близок? «Среди молодежи теперь происходит оживленная дискуссия, — сообщает Эренбург. — Ее тема может удивить: юноши и девушки горячо спорят — не обречено ли искусство на гибель или, во всяком случае, на прозябание, нужно ли оно людям нашей эпохи?»
Тема как нельзя более актуальная, и дискуссии на эту тему происходят не только в России и не только в русской среде. Кризис искусства волнует сейчас многих — не оттого ли, что он связан с другим, более общим и более глубоким — с кризисом совести?
Эренбург удивляется. «Почему именно теперь, — спрашивает он, — в эпоху большего благополучия и укрепления общества могли хотя бы у незначительной части молодежи возникнуть подобные сомнения?» Да, почему именно теперь? Вопрос поставлен правильно, и к ответу следует прислушаться. «Дело не только в ослепляющих успехах науки и в развитии техники, — говорит Эренбург. — Имеются другие, более серьезные причины — недостатки эстетического воспитания, тени прошлого— полунигилиста-полу конструктивиста, — воскресшие в некоторых письмах читателей «Комсомольской правды»…»
Техника (и отчасти наука), какие бы чудеса она ни творила, не есть культура, во всяком случае, отдельно взятая. Подмена культуры техникой — явление в наши дни не редкое. Но на Западе, где, несмотря на послевоенное понижение среднего уровня, культура еще крепка, нарушаемое равновесие восстанавливается сравнительно безболезненно. Не так в сегодняшней России. Там противопоставить технике, собственно говоря, — нечего, ибо того, что мы называем культурой, там нет, пустое место.
Русская культура— не Пушкин, не Чаадаев, не западники, не славянофилы, не литература, не философия, не наука, не техника… она все это вместе, все эти (и еще многие другие) вместе: она в Пушкине и в Кантемире[430], в Белинском — и Вл. Соловьеве, в Герцене — и в Аксакове[431], в реформах Александра II и в «Хованщине»[432], в Петре (особенно Петре!) и в русском символизме, она в Чаадаеве — и в святителе Гермогене[433]… Она — некая цельность, струна, свитая из множества нитей, которые тянутся отовсюду, от всех сторон жизни. Если народ (беру это понятие в полной широте) — живой организм, культура — его дыханье.
Можно ли убить народ, совсем прекратить его дыханье? Нет, но прекращать на время это дыханье, делать его редким, затрудненным и даже — если перейдена мера — как бы незаметным — можно. Тогда прекращается и культура. Для дыханья нужна мера свободы.
Культура — дочь свободы, и только свободы. Культура лишь там, где был свободный вздох, где дыханье прорвалось хотя бы вопреки противодействующей силе, т. е. где была над ней победа.
В цельном, едином образе русской культуры — если мы именно в цельности возьмем его — нет больших и маленьких людей (как нет и мертвых: все живые). Каждый свободный вздох входит в него необходимой и неотъемлемой частью, живет, пока жива она. Мертвая сила отпадает — остается то, что ее победило. И вся история русской культуры, история борьбы двух сил — есть цепь побед свободного дыханья.
Никогда еще не было в России (да и в другой стране) такого разрастания мертвой силы, такой чудовищной мертвой руки, сдавившей горло народа. И хотя после смерти Сталина и прихода к власти Хрущева лишающая Россию свободного дыхания рука как будто слабеет, уверенности, что это начало избавления, нет. Напротив, как Сталин украл у народа его победу, так Хрущев — лунную ракету, которая в его руках опасное для всего человечества орудие. Отныне «Что Никите Лев Толстой и Анна Каренина!», как поется в советской частушке. Великая коммунистическая «культура» родилась. Отрицать этого не может (и не смеет) никто в мире.
Недостаток эстетического воспитания, о котором упоминает Эренбург как об одной из причин кризиса искусства, может быть, гораздо более серьезен, чем это кажется на первый взгляд. Вспомним божественную «триаду» Владимира Соловьева — Истина, Добро и Красота. Нельзя себе представить уродливую истину или безобразное добро. Ложь и зло не могут быть по-настоящему прекрасны. И если Эренбург встревожен появлением «теней прошлого» — полунигилиста-полуконструктивиста, то оттого, что первый — разрушитель культуры, а второй — строитель — на пустом месте — новой. А какая она — мы знаем.
И все-таки, несмотря на все, побеждает народ, сжимающая его горло мертвая рука действительно начинает слабеть. Это заметно даже по советской прессе. Ей, впрочем, верить особенно нельзя. Но по тому, как и о чем она лжет, можно иногда догадаться о правде.
А лжет она — уже давно — на определенную тему: «О связи литературы, искусства и пр. с жизнью народа», как гласит известный партийный документ.
Вот, например, передовая в № 5 «Литературной газеты» от 12 января 1960 г. Она озаглавлена: «Будить благородные, светлые чувства». Над титулом — фотография двух молодых, симпатичных парней, по всей видимости, рабочих, с открытыми «русскими» лицами, с застывшей на них удивленно-радостной улыбкой. Они счастливы, они полны благородных, светлых чувств, которые в них пробудил марксизм-ленинизм.
В начале статьи повествуется о том, как советские люди с гордостью и радостью вспоминали крупнейшие события последних лет. Их было много! И каждый этап, знаменующий новый подъем экономики, материального благосостояния, культуры, успехи в борьбе за мир, еще и еще говорил советским людям: «Достичь этого партия смогла потому, что во всех своих деяниях была связана с жизнью, с творчеством народа».
В подтверждение приводится три примера: перестройка управления промышленностью, «как только старая система ослабила связи с жизнью». Затем опять-таки «по требованию жизни пришло в колхозную деревню то новое, что чудесным образом преображает труд», и, наконец, «направленная на тесную связь с жизнью перестройка средней и высшей школы».
Остановимся на этих трех примерах. Все три «перестройки» были произведены как раз против воли народа и вразрез с требованиями жизни — «рассудку вопреки, наперекор стихиям». О настоящей причине догадаться нетрудно: не совпадавшая с директивами партии личная инициатива. Надо, однако, надеяться, что в этих трех главных отраслях — промышленной, земледельческой и просветительной — живая сила победит мертвую.
Далее опять о связи с жизнью: «Ученому и пропагандисту, инженеру и учителю, писателю и художнику партия неустанно повторяет: только связь с жизнью, с творчеством народа делает ваш труд нужным, наполняет его бесценным содержанием. Без этого бесплодны любые усилия, бескрылы любые помыслы».
В этой же статье сообщается радостная весть о том, что, «опираясь на великое ленинское наследство, партия добилась выдающихся побед на всех участках коммунистического строительства» и что «одной из самых значительных побед является обогащение марксизма-ленинизма новыми идеями».
После этого неслыханного заявления перечисляются те «всесторонние и глубоко разработанные вопросы», которые «внесены в сокровищницу великого учения».
Мы их повторять не будем. Они сводятся к одному: как насадить мирным путем на Западе коммунизм. Нас это безнадежное дело не интересует.
Но одна из попавших в марксистский «Ковчег Завета»[434] «новых» идей удерживает наше внимание. Это идея о «закономерностях перерастания социализма в коммунизм».
Мы удивлены, как мог основатель коммунистической партии, «великий» Ленин о такой простой и естественной вещи не подумать? Чем же он в таком случае занимался?
Затем, что будет делать партия, когда выяснится окончательно, что народ против «перерастания социалистической государственности в коммунистическое общественное самоуправление». Будет ли она навязывать ему «перерастание» насильно или, как это случалось уже не раз, благоразумно даст задний ход?
Поскольку можно судить по настоящей статье, шансов у коммунистов на победу в России, хотя бы не полную, гораздо меньше, чем на подполье, куда их рано или поздно загонит жизнь.
О всенародном провале коммунистической идеологии в статье, естественно, ни звука. Но она этим дышит, и надо быть таким же «непроницаемым», как ее автор или авторы, чтобы этого не чувствовать.
«…партия вела и будет вести непримиримую борьбу за коммунистическую идеологию…»
Поздно…
«…самую прогрессивную и подлинно научную идеологию современности».
Вздор.
«…партия ставит одной из главных практических задач формирование нового человека с коммунистическими чертами характера».
Несчастный!
«Успехи в нашей экономике и культуре неотделимы от успехов коммунистической идеологии и определяются ею».
Вот отчего провал этой идеологии — победа живой силы над мертвой.
Партия винит во всем пропаганду, которая, несмотря на то что за последние годы была «серьезно перестроена», оказалась не на высоте. «Глубокий анализ состояния устной и печатной пропаганды обнаружил, — читаем мы в той же статье, — что вместе с заметными и значительными достижениями она страдает до сих пор большими недостатками. Главным из них остается все еще не преодоленный до конца отрыв от жизни, от практики строительства коммунизма».
Когда же Хрущев наконец поймет, что народ от коммунизма отвращается и что заставить его строить себе тюрьму можно только насильно?
Главная же победа живой силы — на фронте атеистическом. «Казалось бы, давно пора уразуметь, — замечает автор статьи, — что абстрактные лекции никого еще не оторвали от религии». Но и результаты «борьбы практической» с «религиозным дурманом» вряд ли утешат безбожников.
Вот что сообщает «Литературная газета»: в селе Кальнике, в Закарпатье, школьники и учителя показали односельчанам, «как рождаются те или иные святые чудеса», и «добились, что церковь начала пустеть».
Можно сказать, не преувеличивая, что от коммунизма остались полуистлевшие лохмотья.
Начался спуск на тормозах. Мы надеемся, что они выдержат.
Хрущев и великодержавность[435]
Только что, по последним сведениям, вышло в России полное собрание сочинений Иннокентия Анненского в одном томе[436]. Новость эта, признаюсь, меня удивила. Что переиздают классиков — странным уже не кажется. Но Анненский, «упадочный» поэт (с точки зрения руководящих органов К.П.С.С.), поэт «герметический», для немногих избранных, что у него общего с народом, с семилеткой, с коммунизмом?
В предисловии это будет, не сомневаюсь, объяснено и «созвучие» Анненского эпохе доказано как дважды два четыре. Обыкновенно я предисловий к советским изданиям не читаю, но это, когда получу книгу, прочту из любопытства.
Если бы Никита Сергеевич Хрущев не был тем, что он есть, он привез бы в Париж не лунную ракету или дьявольскую «антиматерию», а стихи Анненского (беру их как символ). Это был бы жест, достойный великодержавной страны, и вместе с тем лучшее доказательство миролюбия.
Но Россия своей великодержавности лишилась, а с Никиты Сергеевича спрашивать нечего, хотя его положение как главы русского правительства обязывает его если не к благородным жестам, то, во всяком случае, к воздержанию от неблагородных. То, что произошло между ним и посетившим его Макмилланом[437], а затем премьером итальянским, немыслимо ни в одной европейской стране. Но в то же время отказывать ему в благих порывах или, как теперь говорят, «движениях души» было бы несправедливо. Но уж если бы он решил себя превзойти, то привез бы в Париж, кроме, конечно, жены и кучи детей, не Иннокентия Анненского, а кукурузу, уверенный, что она лучше, потому что «общечеловечнее», и в каком-то смысле был бы прав.
Победа умного дикаря над одичавшим в культуре европейцем — для культуры иногда спасительна. Но в данном случае победе мешает не дикарство Хрущева, а его лжекультура, у которой он в плену, и лжерелигия — марксизм, — которую он с рвеньем неофита исповедует.
За 42 года коммунистического ига только раз была России возвращена ее великодержавность, когда пришла в последнюю войну победа. Но это длилось мгновенье. За этим последовало отвратительное, позорнейшее действо — восстановление и приспособление для советского обихода затоптанной в грязь русской культуры. Свою создать не могли, пришлось откапывать и наряжать в советские вицмундиры не только писателей, но и святителей (что сказал бы Ленин!). Только диву даешься, откуда взялась эта армия холопов, что годами не покладая рук строчили предисловия, подчищали текст, делали примечания, доказывали и клялись, что, например, Достоевский, в сущности, убежденный коммунист, но что он из осторожности, чтобы не повредить работе товарищей-революционеров, скрывал свои убеждения, с каковой целью им и написан роман «Бесы».
И все-таки даже в таком виде это была великая литература.
Когда же русский гений (не без помощи немецкого) запустил ракету на Луну, наступила в самом деле новая эра с еще не осознанной, но ничего хорошего не предвещающей «культурой». Делать, впрочем, из этого события какие-либо выводы сейчас — преждевременно, тем более что всех все равно не сделаешь. Они будут делаться сами собой, постепенно, без нашего участия, в непонятной последовательности и утверждаться в порядке совершившихся фактов. И кажется, Хрущев каким-то шестым чувством это учел.
Кто следил за советской прессой, мог заметить, как с каждым техническим успехом, с каждым новым «спутником» коммунизм Никиты Сергеевича креп. Это были достижения «советские» — новое слово, обещанное Россией миру. «Лунная победа» затмила своим блеском все, что было создано русской культурой. Никита Сергеевич смекнул: обойтись можно не только без Толстого, Данте и Шекспира, но и без свободы. Если своим величайшим достижением Россия кому-нибудь обязана, то не Жюль Верну, а Карлу Марксу, в которого Хрущев верит, как в Бога.
Однако странно: советская власть восстановила русскую империю, создала первое в мире социалистическое государство, открыла новую эру мировой истории и, несмотря на все это, Россия не вернула себе утраченной великодержавности.
Почему?
Потому что в России убита свобода.
Страна, откуда вот уже более сорока лет как никто не может свободно выехать, а только бежать, как из тюрьмы, где писатель не имеет права писать о чем хочет и как хочет, а должен следовать государством установленному канону, где всякое отклонение от этого канона приравнивается к государственной измене и виновный вычеркивается из коммунистической «книги жизни», где рабочий не может фактически переменить завод, прикованный к станку, как раб, где все цифры лгут, где священник-чекист доносит на своих прихожан, — такая страна на великодержавность претендовать не может, хотя бы она завоевала полмира или установила связь Земли с Марсом.
Без свободы не то что культура, а самая плохенькая цивилизация обречена.
Культура создается веками. Она не только искусство или наука, она — все и во всем, особенно в человеке и в человеческих делах. Одна из ее постоянных забот — равновесие, мера. Она следит за ростом техники, умеряя ее беззаконное стремление к самостоятельному бытию, чреватому, как правило, роковыми последствиями.
Вот эта спасительная, сдерживающая, восстанавливающая равновесие сила у Хрущева отсутствует. Он хочет войти в историю как миротворец. Мы надеемся, что он в нее не войдет как величайший разрушитель нашего времени.
Мы также надеемся, что его пребывание во Франции — стране меры и свободы — пойдет на благо всех народов и, в частности, поможет России снова стать великой державой.
Вопрос без ответа[438]
Меня несколько раз просили написать о находящемся в восточной части Берлина Комитете возвращения на родину и о его газете, переименованной с четвертого номера текущего года в «Голос Родины»[439]. Я обещал, но все откладывал: слишком противно брать эту «газету» в руки и вступать с ней в совершенно бесполезный спор. У нас, кстати, в отделе «Жизнь и печать» уже писали о чувстве брезгливости к такого рода литературе. Но если о самой газете сказать почти нечего, то кое о чем в связи с нею поговорить, может быть, полезно, тем более что сейчас Россией начинают на Западе интересоваться.
Так вот, несколько слов о газете: всего лучше было бы ее просто-напросто закрыть, хотя бы приличия ради. Можно, скажем, терпеть публичный дом, но не издаваемый им листок, если б таковой существовал. Пропаганда в этом направлении не вяжется ни с каким престижем, даже с советским, не говоря уже о русской великодержавности, которой нет.
К кому обращается газета? Прежде всего к рабочим, к ди-пи, застрявшим здесь после войны, полусоблазненным вольной жизнью в «капиталистических» странах и потерявшим — все равно, по какой причине — работу. Эти легко возвращаются, их даже зазывать не надо. Но, возвратившись и получив отпущение грехов, они обязаны присоединить свой голос к хору «Голоса Родины», восхваляющему жизнь в советском государстве. Делается это главным образом, чтобы повлиять на колеблющихся. Но делается грубо. Возвратившиеся на похвалы не скупятся — им что? Жизнь на родине, по их рассказам, так прекрасна, и они так счастливы, как бывает только в сказках. Иногда кажется, что они буквально тают от блаженства. Не знаю, какая нужна доза глупости, чтобы кое-что о советской жизни помнящий ди-пи мог искренно этому поверить. Такова — одна категория, где не столько важно качество, сколько количество «голов». Другая — это «элита». Она не многочисленна и, к чести ее надо сказать, — довольно тверда. Существует даже эмигрантская пословица «Элита едет — когда-то будет». В просмотренных мною номерах «Голоса Родины» я не нашел ни одного отзыва работника (не рабочего) квалифицированного, не говоря уже об ученых или писателях. С «элитой» иное обращение. Она не то что компартии не нужна, а прямо-таки опасна. Ее выманивают на родину, чтобы там уничтожить, исключая отдельные, «спектакулярные» случаи, как, например, случай А. Толстого[440], который в России как сыр в масле катался. Это — о «Голосе Родины». А вот — о другом, но в связи с «Голосом».
Я часто удивляюсь, даже изумляюсь, не могу понять, откуда в России — не большевики (первые) — их мы знаем, видали, спорили с ними, с «интеллигентами», — а другие, те, что явились потом, точно выползли из каких-то щелей, и еще те, что родились и выросли в новых условиях (не все) — новое, незнакомое, страшное племя? Племя садистов, палачей, тюремщиков, всевозможных маниаков, предателей и доносчиков. И еще более страшное — чиновников, начетчиков, педантов, ученых холопов, исполняющих любой «социальный заказ», зловредных дураков, профессоров гимнастики — этой мертвечины, сковавшей русский народ бесконечными путами? Откуда они, почему их раньше не было и почему их сейчас так много? Или это кажется?
О них — ни в русской истории, ни в русской литературе. Ну, бесы, ну, чудовища, Вий, Страшная месть. А чиновники, педанты, начетчики — откуда они? Откуда это упорство, усидчивость, уверенность, дьявольское терпение, почти не живые существа, роботы. Русский человек ленив, ничего стахановского. Пил, буянил, безобразничал, даже убивал. Но так чувствовал глубоко свое окаянство, так от него страдал, что не выдерживал — топился, вешался. Вот как бедный Есенин и еще многие-многие другие…
И вдруг все обернулось величайшей неправдой. Акакий Акакиевич стал гангстером, председателем чрезвычайки, Макар Девушкин[441] — усмирителем венгерского восстания. Произошел неслыханный мировой скандал: скверный анекдот с народом-богоносцем. Почему?
Взрыв изнутри[442]
Я уже давно собираюсь написать о новом, издающемся в Мюнхене русском альманахе «Мосты», о его вышедших трех номерах (о первом у нас в 86-й тетради была краткая заметка Н.В. Станюковича[443]). Я хотел это сделать в будущей, сто первой тетради, но, ознакомившись с материалом, решил, что для начала напишу только об одной статье, напечатанной во втором номере «Мостов», — статье неизвестного советского писателя «Соцреализм и цель». Она особого рода и требует отдельного обсуждения.
Статья эта была опубликована в прошлом году в февральском номере французского журнала «Эспри». «Мосты» дают ее в русском переводе, чем объясняется, как они говорят, возможность некоторых неточностей. Неточности… Бог с ними! Но от стиля статьи, от того «неуловимого», что иногда убедительнее всяких слов, вряд ли после двух переводов что— либо осталось, и это жаль. Автор — человек, как видно, незаурядный, сложный, пишущий своим языком, и, может быть, тех противоречий, тех странностей, что удивляют и смущают во вновь на русский переведенном тексте, в оригинале — нет.
В статье — два совершенно самостоятельных, ничем между собой внутренне не связанных элемента. Первый — историко-литературный, второй — пародийно-сатирический. Была ли статья с самого начала задумана как сатира на социалистический реализм и на тех, кто этой системе следует, или стала таковой лишь в процессе писанья — не важно. Во всяком случае, надо быть совершенно лишенным чувства юмора, чтобы все, что в статье говорится, принимать за чистую монету. И если наш французский собрат попался, то это можно отчасти объяснить тем, что статья написана специально для французского читателя. Я ниже отмечу отдельные фразы, включенные в текст с единственной целью «эпатировать» друзей и подписчиков «Эспри». Но как жаль, что Геннадий Андреев[444], отвечая советскому Кантемиру — «Тяжелая ноша», — потратил зря свой заряд благородства и душевных сил и только нас расстроил и сам расстроился.
Но перейдем — пора! — к доказательствам и примерам.
Статья начинается вопросом: «Что такое «социалистический реализм»?
В самом деле, что означает это диковинное выражение, режущее ухо? Разве можно говорить о реализме социалистическом, капиталистическом, христианском или магометанском? Отвечает ли это неестественное сочетание слов какой-то реальности? Быть может, такой реальности вовсе и нет? И автор спрашивает насмешливо-ироническим тоном: «Быть может, это всего лишь «видение» интеллигента, обезумевшего от страха?»
Далее — описание в комических тонах поисков ответа: тысячи критиков, теоретиков, рецензентов искусства, педагогов ломают себе головы и орут до потери голоса, пытаясь осознать, уразуметь и объяснить материалистический характер и диалектическую природу соцреализма. И сам глава государства, Генеральный секретарь компартии, отрывается от важных экономических проблем, чтобы высказать свое веское суждение об эстетических проблемах страны.
Точное определение социалистического реализма дано в уставе Союза советских писателей, где сказано, что социалистический реализм — это «основной метод советской литературы и критики, требующий от советского художника правдивого изображения исторически конкретной действительности в ее революционном развитии». Притом — «социалистический реализм должен содействовать идеологической переделке и воспитанию советских трудящихся в духе социализма».
Эта «невинная формула», как говорит автор, служит основой структуры всего здания соцреализма. Она определяет одновременно как связь реализма соцалистической эры с реализмом прошлых времен, так и разницу между ними: как первый, так и второй имеют целью создать представление, соответствующее действительности; но социалистический реализм вносит новый элемент: он берет жизнь в ее революционном развитии и настраивает умы читателей и зрителей применительно к этой перспективе, то есть в духе социализма. Старые реалисты, или, как их часто называли, «критические реалисты» (так как они критиковали буржуазное общество) — Бальзак, Толстой, Чехов и др., — давали образ действительности. Но они не знали гениального метода Маркса, они не могли предвидеть будущих побед социализма (и автор добавляет тем же насмешливо-ироническим тоном: «В этом была их трагедия, их «историческая ограниченность»).
Но соцреализм имеет в своих руках могучее оружие — доктрину Маркса. И опять ирония: он (соцреализм) обладает уже богатым опытом в борьбе и в победах; его вдохновляет компартия Советского Союза — его друг и бдительный наставник. Описывая сегодняшнюю действительность, соцреализм уже чует ход истории и смотрит в будущее. Он различает в нем черты коммунизма, не видимые для обычного глаза. И автор приводит пример: «Спросите европейца, чело века Запада: почему Великая французская революция была необходима? Вы получите кучу самых различных ответов. Но задайте тот же вопрос любому советскому школьнику, не говоря уже о взрослых, — и каждый даст вам точный и исчерпывающий ответ: «Великая французская революция была необходима, чтобы расчистить дорогу и ускорить пришествие коммунизма». И автор восклицает: «Уже давно люди не имели столь точного объяснения мировых событий — пожалуй, со Средних веков. Нам повезло, что мы его снова обрели!»
Таким образом, соцреализм представляет собой явный прогресс по сравнению с методами прошлого и достигает более высокой ступени — или, быть может, даже вершины — эволюции человечества; он достигает реализма, более реалистичного, чем когда-либо.
Тут каждое слово — насмешка. «Ослепительный свет струится с этой вершины», — продолжает автор и цитирует советского писателя Леонида Леонова: «Этот наш воображаемый мир более реален и более отвечает нуждам человека, чем христианский рай».
И автор продолжает иронизировать: «Нам не хватает слов, чтобы выразить наши чувства. Мы задыхаемся от энтузиазма и, чтобы описать великолепие того, что нас ожидает, мы прибегаем к негативным утверждениям. Там, в коммунистическом мире, не будет ни богатых, ни бедных, не будет ни денег, ни войн, ни тюрем, ни границ, ни болезней, ни, может быть, даже смерти! Каждый будет есть и работать сколько он хочет; работа будет приносить вместо страданий только радость! И, как обещал Ленин, мы будем иметь ватерклозеты из чистого золота… Да что тут говорить!»
«Современный ум бессилен представить себе что-либо более прекрасное, возвышенное, чем идеал коммунизма». Далее следует две фразы специально для читателей «Эспри»: «Что могло бы, пожалуй, быть еще лучше — это снова ввести в обращение старые идеалы христианской любви или свободы личности. Но в данный момент мы не в состоянии наметить цель более свежую».
Еще несколько слов о социалистическом реализме в литературе.
«Так как коммунизм, по нашему убеждению, — говорит все тот же анонимный автор, — неизбежно явится результатом исторического прогресса, то во многих наших романах «движущей силой» является не что иное, как бурный поток времени, работающий на нас. Это не «Поиски утраченного времени» (автор знаком с Прустом!), а «Время, вперед!»[445] — вот тема, типичная для советского писателя. Он подгоняет жизненный процесс, утверждая, что каждый прошедший день — это вовсе не потеря для человека, а, наоборот, достижение, так как он приближает его к желанному идеалу, хотя бы на один миллиметр».
«Подобным же образом наша литература часто обращается к истории, как прошлой, так и современной, эпизоды которой — Гражданская война, коллективизация и т. п. — являются этапами пройденного нами пути. К сожалению, для эпох более отдаленных показать этот путь приближения к коммунизму несколько труднее. Тем не менее даже в самых отдаленных веках вдумчивый исследователь может отличить «прогрессивные» явления, т. е. такие, которые способствовали достижению сегодняшней окончательной победы. У этих исследователей люди прошлых веков могли почувствовать путем интуиции ту цель, имя которой им еще не было известно. Это касается выдающихся людей, таких, как Петр Великий, Иван Грозный, Пушкин, Стенька Разин[446], — они, еще не зная слова «коммунизм», несомненно, ощущали, что наш мир ждет блестящее будущее, — и наши писатели сообщали об этом в своих исторических романах, радуя читателей своей изумительной проницательностью».
Букет — Петр Великий, Иван Грозный, Пушкин и Стенька Разин — бесподобен.
Но это еще не все. Не забудем, что статья предназначалась для французского спиритуалистического журнала и что не упомянуть о Боге — было невозможно. Этим объясняется, почему автор вводит идею Цели в формулу социалистического реализма. Он мог бы свободно без этого обойтись.
Что же это за Цель, да еще с большой буквы?
Сила смеха[447]
В основе формулы социалистического реализма — «правдивое изображение исторически конкретной действительности в ее революционном развитии» — лежит идея Цели — того всеобъемлющего идеала, к которому стремится действительность в ее непрерывном развитии.
Этот всеобъемлющий идеал, к которому все стремится, — Бог.
Автор делает важное признание: «Каково бы ни было происхождение человека, его появление и его судьба неотделимы от Бога. Это высочайшая идея Цели, если и недоступная нашему пониманию, то необходимая для нашего осведомления».
Последняя фраза — не без иронии. Но развитие темы о движении человечества к коммунизму, к земному раю — сатира чистейшей воды.
Гениальным у Маркса было то, что он сумел доказать, что земной рай, о котором столько людей мечтали до него, был Целью, предназначенной человечеству самой судьбою. Коммунизм с помощью Маркса проник в Мировую Историю, которая под его влиянием приняла теперь направление, еще до сих пор не бывалое, обратясь в историю движения человечества к коммунизму.
«И сразу все стало на свои места, — замечает автор. — Железная необходимость, суровая иерархия — вот кто властно диктовал путь Истории в течение прошлых веков. Обезьяна поднялась на задних лапах из дали тысячелетий и начала свой триумфальный путь к коммунизму. Мир первобытной коммуны был необходим, чтобы появилось рабство; в свою очередь, рабство было необходимо для появления феодализма; феодализм неизбежно приводит к капитализму; наконец, из капитализма вырастает коммунизм. И это все! Великолепная Цель достигнута, пирамида завершена, история закончена».
Искусство и литература не могли не включиться в состав этой системы и не превратиться, как предвидел Ленин, в колеса и винты гигантской машины государства.
Автор так описывает положение художника в коммунистическом раю: «Художник с радостной легкостью воспринимает директивы партии и правительства, Центрального Комитета, партии и Генерального секретаря Центрального Комитета партии. Кто, как не партия и ее глава, ведут нас к Цели, следуя всем правилам марксизма-ленинизма? Ибо она живет и работает в постоянном контакте с Богом. Следовательно, в лице ее и в лице ее главы мы имеем водительство самое мудрое, самое опытное, самое компетентное во всех вопросах индустрии, языкознания, музыки, философии, живописи, биологии и т. д. Ее глава одновременно наш военачальник и правитель государства, он наш Петр Великий. Сомневаться в его словах — это такой же великий грех, как противиться воле Создателя».
«Таковы эстетические и психологические замечания, — заключает автор, — которые необходимо запомнить, чтобы проникнуть в тайны социалистического реализма».
Неужели, читая хотя бы эти строки, редакция журнала «Эспри» не поняла, что статья неизвестного советского автора — памфлет на коммунизм и вместе с тем насмешка над направлением журнала. Удивительно! Впрочем, свои не лучше.
В связи с заглавием моего сегодняшнего «Дневника» — «Взрыв изнутри» и настоящей главы «Сила смеха» — я, естественно, интересуюсь личностью автора или авторов, ибо я все больше склоняюсь к тому, что их несколько, по крайней мере двое. Когда-нибудь мы это узнаем. Но уже сейчас я хотел бы отметить то удовольствие, с каким я читал этот памфлет, удовольствие и радость, ибо он свидетельствует о некоем взрыве в душе современного советского человека, уничтожившем Марксово-ленинское учение. Смехом боролся Гоголь с чертом — «как черта выставить дураком?». И это оружие в руках сегодняшней молодой России может при известных условиях оказаться сильнее атомической бомбы.
О молодой России я упомянул не случайно. Мне кажется, что один из авторов памфлета — если моя догадка о коллективном творчестве правильна — еще молод, во всяком случае, моложе автора историко-литературной части. Это видно по тому, как они «смеются», т. е. по их иронии. У старшего она принимает иногда форму сарказма и переходит в карикатуру, в шарж. Младший более резок и нетерпим. И часто его ирония на самом деле не ирония, а озорство.
Я жалею, что из-за недостатка места я лишен возможности остановиться на литературно-критической части статьи, где высказываются интересные мысли, в частности, о связи советской литературы не с XIX, а с XVIII веком и о ее развитии в сторону классицизма, оборвавшегося со смертью Сталина. Привожу последнюю карикатуру, принадлежащую, по всем данным, перу старшего автора: «Смерть Сталина нанесла непоправимый удар системе нашей религиозной эстетики, и ее трудно заменить восстановлением культа Ленина. Уж слишком похож был Ленин на обычного, среднего человека; у него была очень прозаическая внешность. Сталин, напротив, был как бы специально создан для той карьеры, которая его ожидала: загадочный, всевидящий, всемогущий — он был живым воплощением нашей эпохи, и ему не хватало только одного качества для того, чтобы стать земным Богом: бессмертия».
«Ах, если бы мы были догадливее: если бы мы сумели обставить его смерть чудесами! Если бы мы возвестили по радио, что он не умер, а взошел на небо, откуда он смотрит на нас, молчаливый, со своими мистическими усами… Его бренные останки исцеляли бы паралитиков и бесноватых. И дети перед отходом ко сну молились бы перед его портретом с его глазами, устремленными на сияющие звезды Кремля».
«Но мы не послушались голоса совести: вместо того чтобы благочестиво отдаться молитвам, мы принялись разоблачать «культ личности», который мы сами же утвердили. Мы сами подрыли основы этого классического шедевра, который мог бы — если бы еще немного подождать — сравняться с пирамидой Хеопса и Аполлоном Бельведерским, этими сокровищами мирового искусства».
И вот, наконец, подтверждение краха социалистического реализма, о котором я говорил. Подлинное искусство символично, а не реалистично.
«Сейчас я возлагаю надежды, — объявляет один из авторов, — на фантасмагорию, с призраками, фантомами вместо Цели; на такое искусство, где место реалистического описания действительно займет гротеск. Это лучше всего будет отвечать духу нашей эпохи. Быть может, фантастические образы Гофмана, Достоевского, Гойи, Шагала и Маяковского (самого реалистического социалиста), так же, как и многих иных реалистов и нереалистов, научат нас, как нам стать реалистами с помощью необузданной фантазии».
Два Хрущева[448]
Чего ждет Франция от Хрущева, какие связывает с его приездом надежды, верит ли в возможность мирного сосуществования, культурного сотрудничества?
На эти вопросы дан точный, краткий и ясный ответ. Французская пресса оказалась, как всегда, на высоте.
Из тех, кто к приезду Хрущева относится отрицательно, следует в первую очередь назвать академика генерала Вейгана[449]. Для него Хрущев — глава мирового коммунизма, революционный агитатор, а не вестник мира, за какого себя выдает. И не процветанье искусств и наук его цель, а подготовка коммунистического переворота. В своей статье в «Liberte du Midi» генерал Вейган пишет, что Франция не должна принимать у себя Хрущева, «не напомнив палачу Будапешта[450] его преступлений», и призывает французский народ сплотиться, чтобы дать коммунизму отпор.
Это как бы особняком стоящее мнение одного из виднейших представителей французских военных кругов на самом деле разделяется если не большинством, то очень многими. Во всяком случае, оно послужило отправной точкой для разнообразнейших высказываний о Хрущеве и его политике «мира».
Не менее решительно «Открытое письмо Хрущеву» в «France independante du Sud-Oueist» профессора Жоржа Портмана, вице-председателя французского сената. «Каковы бы ни были чувства, которые мы к Вам питаем, — пишет профессор, — я и мои соотечественники примем Вас со свойственной нам, французам, вежливостью… Если же Вы, господин Председатель, так уверены в превосходстве коммунизма, что ради его торжества готовы на все, то знайте, что и мы не менее уверены в несовместимости Вашей идеологии с нашим понятием о достоинстве человека и что мы это достоинство решили защищать».
Это, пожалуй, еще обиднее, чем напоминанье Вейгана о Будапеште. Круги парламентские не отстают от военных: Хрущев и там — нежелательный гость. Если б он захотел обидеться, предлогов нашлось бы сколько угодно.
А Пьер Анри Симон в «Le Monde» от 11 марта ставит под сомненье самую возможность мирного сосуществования. Оно, по его мнению, будет сопровождаться всякого рода «инцидентами», в результате которых создастся атмосфера, похожая в плане политическом на атмосферу холодной войны. Чтобы этого избежать, надо не бояться компромисса. Но марксизм, напоминающий своей нетерпимостью, своим фанатизмом скорее некую изуверческую религию, чем научную доктрину, на уступки — туг. Противоположный лагерь хотя и более уступчив, более гибок, но до известной черты, за которой — стена. Основа европейской культуры, ее корень все же, что бы ни говорили, — христианство. И в сегодняшнем споре Запада с Востоком это сказывается.
Мишель Татю, московский корреспондент «Le Monde», сообщает, что для советской власти культурное сотрудничество приемлемо лишь на чужой территории. Внутри страны его будут преследовать, искоренять самым беспощадным образом наравне с подрывающей основы советского государства неприятельской пропагандой. Свою корреспонденцию Татю подкрепляет заявлением Хрущева о том, что борьба идеологическая будет продолжаться и в условиях мирного сосуществования, ибо между идеологией социалистической и буржуазной сближения быть не может. «Ожидать чего-либо другого, — замечает Татю, — было бы по меньшей мере легкомысленно».
Да, особенно после обогащения марксизма-ленинизма «новыми» идеями, которые сводятся к тому, как насадить мирным путем на Западе коммунизм.
В списке лиц, сопровождающих Хрущева во Францию, значится некто Ильичев, глава Агитпропа (агитационной пропаганды). Хрущев его очень высоко ценит. 23 марта, в день прибытия советского диктатора в Париж, «Figaro» привела в передовой выдержку из напечатанной в ноябрьском номере «Nouvelle revue internationale» (стр. 16–17) статьи Ильичева[451], где сказано следующее: «Воображать, что мирное сосуществование исключает борьбу, — значит не понимать ничего в законах социального развития. И сколько бы ни старались безответственные болтуны и иже с ними — их усилья пропадут даром: мирное сосуществование данных идеологий так же исключено, как исключена навсегда возможность примирения света с тьмою».
«Да будет г-ну «К» известно, что он обращается к французам, отдающим себе в этом отчет».
Французы действительно отдают себе отчет в том, кто Хрущев. Лучшее тому доказательство — передовая «Le Monde» от 23 марта «Красный флаг над Парижем».
На этом флаге как символ пяти континентов — золотая пятиконечная звезда — напоминание, что коммунизм продолжает себя считать единственным разрешением мировой проблемы человеческого устройства на земле. В этом как раз вся трудность отношений между странами некоммунистическими и СССР. Разница между Россией — национальным государством и Россией — советским плацдармом мировой революции не выражается ни в чем. Тот же Хрущев, что с таким успехом защищает интересы российской империи, отстаивает мировую пролетарскую революцию. Он проповедует мирное сосуществование, но не отказывается от идеологической борьбы, грозя гибелью непокорным.
Вот эта невозможность разделить до конца представителя русского народа и главу безбожной церкви — III Интернационала заставляет не доверять человеку, от которого зависят судьбы одной из двух великих мировых держав.
Но знает ли сам Хрущев, кто он?
По-видимому, нет. Не догадывается, что существуют не один, а два Хрущева и что они не только не разделены до конца, но и до конца не слиты.
Этим объясняется многое, например: его не всегда последовательная политика, вечное метанье из стороны в сторону.
К.С. Кароль, один из его лучших, по отзыву компетентных лиц, биографов, подчеркивает его смелость. Он единственный из наследников Сталина не побоялся сломать сталинскую систему, взамен которой создал свою, хрущевскую, по тому же образцу «культа личности». «Его смелость такова, — говорит Кароль, — что иногда она пугает его самого и останавливает на полпути». Тот же Кароль указывает на явное противоречие в его отношении к ревизионизму. Его поход против ревизионизма совпадает как раз с первым за все время существования коммунистического мира пересмотром его основ.
Однако будущего, по мнению Кароля, у Хрущева нет. Его эпоха очень важная, но — переходная.
Прав или нет Кароль — судить не берусь. Но он мне напомнил Б.Н. Николаевского[452], напечатавшего еще до войны в «Современных записках» статью «Конец Хрущева». Но получилось наоборот: конец «Современных записок», конец Сталина. А Хрущева
… призвали всеблагие, Как собеседника на пир.Быть в наше время пророком — опасно. Но все же я рискну.
Рано или поздно наступит для Хрущева час, когда он должен будет решить, кто он — представитель русского народа или пророк Маркса. И в зависимости от того, что он решит, что выберет — Россию или Третий Интернационал, он либо станет народным героем, либо вместе с Лениным, Сталиным и прочей нечистью будет освободившимся народом выброшен вон из пресловутого мавзолея.
ТЯЖЕЛАЯ ДУША[453]
Порой всему, как дети, люди рады И в легкости своей живут веселой; О, пусть они смеются! Нет отрады Смотреть во тьму души тяжелой.З. Гиппиус
Предисловие
Настоящая книга не есть биография З.Н. Гиппиус в том смысле, в каком это обычно принято понимать. В своей книге «Д.С. Мережковский», озаглавленной первоначально «Он и мы» (это заглавие было по просьбе издателя изменено), Гиппиус рассказывает о наиболее важных событиях своей жизни. Как общее правило, все мемуары, что бы там ни говорили, — «Dichtung und Wahrheit»[454], вымысел и правда. Кое-что в них верно, кое-что забыто, а кое-что выдумано. Однако вымысел здесь не следует понимать как искажение или подмену действительности. Это, скорее, некая художественная правда, какая в иных случаях к действительности ближе, чем воспроизведение фактов чисто фотографическое. Пример — «Детство и отрочество» Л. Толстого. Сравните эту книгу с его точной автобиографией и вы увидите, где настоящий, живой Толстой.
Что касается мемуаров Гиппиус, то едва ли в них преобладает вымысел. Но что это произведение художественное — не подлежит сомнению. Добавить к нему вряд ли что-либо возможно. Но кое о чем Гиппиус не то что забывает, а сознательно умалчивает о том, что она называет «Главное». Для непосвященных пробел незаметен. Но Темира Андреевна Пахмус, профессор Иллинойского университета, которой я открыл мой архив, упоминает об этом «Главном» в своей книге «З.Н. Гиппиус — литературный критик» (книга должна выйти в ближайшее время). И это не единственная книга о Гиппиус. На ту же тему — докторская диссертация Аллы Дмитриевны Кульман и две известные мне работы о ее стихах — Олега Масленникова и Джеймса Барлея — последняя об их ритмической структуре. Есть еще одна или две книги о поэзии Гиппиус, заглавия которых я не помню. Вообще Гиппиус начинают интересоваться, особенно в Америке, и гораздо больше, чем Мережковским. И это не случайно.
Да не подумает читатель, что я не ценю литературный талант Гиппиус. Только я отношусь к ее произведениям, главным образом к стихам, как к своего рода дневнику (кстати, ее четвертая, изданная в Берлине, книга стихов так и озаглавлена «Дневник»). Но тема моей книги совершенно другая — не стихи Гиппиус, а сама Гиппиус, ее «тяжелая душа», как она ее называет и с какой она находилась в непрерывной борьбе.
Порой всему, как дети, люди рады И в легкости своей живут веселой; О, пусть они смеются! Нет отрады Смотреть во тьму души моей тяжелой.[455]Мы привыкли к ледяному тону, к жестокому спокойствию ее стихов. Но среди поэтов XX века по силе и глубине переживаний вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть?
Она боролась за полноту бытия, за право быть счастливой и свободной:
Ищу опасное и властное Слиянье всех дорог. А все живое и прекрасное Приходит в краткий срок. И если правда здешней нежности Не жалость, а любовь, — Всесокрушающей мятежности Моей не прекословь.[456]Кстати, за это «опасное и властное слиянье всех дорог» на меня обрушилась ныне покойная Ариадна Владимировна Тыркова[457], автор замечательной книги о Пушкине. Я имел неосторожность опубликовать в одной из моих статей интимную записку Философова к Гиппиус. Тыркову это возмутило. Неодобрительно отнесся к этому и мой собрат по перу, поэт и критик Юрий Константинович Терапиано[458]. Его статья «Памяти Гиппиус» в номере 2386 «Русской мысли» от 13 ноября 1965 г. — явно камень в мой огород. Терапиано пишет: «Об отношении Гиппиус к любви тоже после ее смерти писали очень много, иногда — возмутительно нецеломудренно, вплоть до публикации самых интимнейших ее писем и писем к ней». Что же мне делать? Сжечь эти письма я не имею права. Я обратился за советом к другому моему коллеге, профессору Вашингтонского университета, Георгию Иваску. Тот решительно ответил: «Запечатать на 50 лет». Легко сказать, на 50 лет! А что через 50 лет будет? Профессор Владимир Васильевич Вейдле как-то в разговоре сказал, шутя, что в 2000 году человечество отпразднует третье тысячелетие христианства выпуском марки с изображением Христа и с надписью «Visit Jerusalem»*[*«Посещение Иерусалима» (фр.).].
Я очень уважаю Владимира Васильевича, но он романтик и оптимист. Нет, мне рисуется картина иная: не только никаких марок с Христом не будет, но даже если бы Он в этот день сошел сам с неба на землю, Его даже не заметили бы, не заключили бы в тюрьму и не явился бы к Нему для разговора Великий инквизитор[459]. В лучшем случае Он попал бы в палаццо Армии спасения, где Его после дезинфекционного душа накормили бы, как в лучшем ресторане, и уложили бы спать на мраморные нары.
«Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» А от этого нас отделяет даже не 50, а всего 33 года!
О, конечно, человечеству готовится необыкновенное будущее. Даже представить себе невозможно, чего только люди не изобретут. Но от наук гуманитарных, от искусства, от музыки, от поэзии — не останется ничего. И наступление этого нового «ледникового» периода чувствуется уже сейчас. Все чаще мелькают в толпе так называемые битники, первые жертвы — потерявшие себя волосатые мальчики с сумасшедшими глазами.
И вот я принимаю решение: не взирая на критику, по существу благожелательную, моя книга о Гиппиус выйдет без единой купюры, ни одного слова не будет из нее выкинуто или заменено другим.
Пусть она будет полна противоречий — самых невозможных, самых невероятных неожиданностей. Меня это не смущает. Тем совершеннее она отразит живую душу Гиппиус, ее связь с жизнью и волю к борьбе.
Зинаида Гиппиус имеет право на свободу слова, и горе тому, кто на это право посягнет.
З. ГИППИУС И Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ[460]
I
Двадцать два года прошло — не такой уж большой срок — а кажется, вечность, — со смерти Зинаиды Николаевны Гиппиус (она умерла в Париже 9 сентября 1945 г.), и вот мы уже почти ничего о ней не помним. Да и как помнить: что мы о ней знаем? Кое-какие внешние, притом не всегда даже главные факты, о которых она рассказывает в своей книге о Мережковском. Но и в ней она старается говорить о себе возможно меньше, сознательно отодвигая себя на второй план. Она это делает, впрочем, не из скромности — она себе цену знает, — а из какого-то, ей самой непонятного, желания оставаться в тени.
Об этом нельзя не пожалеть: как личность, как поэт и писатель она явление не менее оригинальное, не менее значительное, чем затмивший ее своей славой Мережковский.
Судьба этой женщины необычайна. Да, между той Зинаидой Николаевной, которую мы знаем, и той, какой она была на самом деле, — пропасть.
Она оставила после себя записные книжки, дневники, письма. Но главное — стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них — вся ее жизнь, без прикрас, со всеми срывами и взлетами. Но их надо уметь прочесть. Если нет к ним ключа, лучше их не трогать: попадешь в лабиринт, из которого не выбраться.
*
Она родилась 8 ноября 1869 г. в городе Белеве, от чахоточного отца[461], семья которого переселилась в 16 веке из Германии в Москву, и прелестной женщины, сибирячки Анастасии Степановой[462].
Не март девический сиял моей заре, Ее огни зажглись в суровом ноябре.[463]Странная девочка, на других не похожая. Крошечная-крошечная, в розовой вязаной кофточке с вечно расстегнутой последней пуговицей. И какая серьезная.
Родителей она обожала. Ее привязанность к ним была такая страстная, что, когда по настоянию отца ее отдали в Киевский институт[464], она не могла перенести разлуки, заболела и почти все время провела в институтской больнице. Разлука для нее — хуже смерти.
Живые, бойтесь земных разлук[465], —……………………………………..
скажет она потом, зная с детства, что
Любовь не стерпит, не отомстив, Любовь отнимет свои дары.[466]«Я с детства ранена смертью и любовью», — отмечает она в 1922 г. в своем «Заключительном слове». А в книге о Мережковском, рассказывая о своем отце, она пишет: «Я его так любила, что иногда, глядя на его высокую фигуру, на него в короткой лисьей шубке, прислонившегося спиной к печке, думала: «А вдруг он умрет? Тогда я тоже умру».
Он умер, когда ей едва минуло одиннадцать лет. Но уже раньше по поводу смерти в их доме одной дальней родственницы она замечает: «Смерть тогда на всю жизнь завладела моей душой». Смерть отца — как бы начало ее собственной смерти, которую она тогда ощутила впервые со всей ей доступной реальностью. Не успела родиться, как уже начала умирать. Недаром прозвали ее в Киевском институте: «Маленький человек с большим горем».
После родителей она больше всего любит свою единственную «нянечку Дашу» — Дарью Павловну Соколову.
Она никогда не узнает, Как я любил ее, Как эта любовь пронзает Все бытие мое. Любил ее серое платье, Волос ее каждую прядь, Но если б и мог сказать я. Она б не могла понять.[467]Нянечка Даша зовет ее «Батюшка белый» и носит перед сном на руках вокруг зала. Она же водит ее гулять в Летний сад. Отец З.Н. дважды пытался обосноваться в столице, но петербургского климата не выдерживал и переводился в провинцию, во второй раз в Нежин, город Гоголя[468], где вскоре и умер от острого туберкулеза.
«В первый раз мы жили там, когда мне было всего четыре года», — вспоминает З.Н. о своем «первом Петербурге». «Мне помнятся только кареты, в которых мы ездили, да памятник Крылову в Летнем саду, куда меня водила няня Даша и где играло много детей. Впрочем, еще Сестрорецк, лес, море и белые снежинки, падавшие на мое белое пальто (в мае)».
Я претепло одета, Под капором коса. Иду — теперь не лето — Всего на полчаса.[469]Но однажды няня Даша повела ее не в Летний сад, а в Гостиный двор — покупать куклу. Был конец марта, и не белые снежинки падали на ее белое пальто, а громадные хлопья мокрого снега, похожие на грязные носовые платки. Но «маленького человека» ждало разочарование — первое в жизни. Тот, по ее словам, «удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после смерти». Вместо куклы она пожелала живую девочку, находившуюся в магазине, да так настойчиво, что няня Даша с трудом увела ее домой. «Желанья были мне всего дороже…»[470]
В этом ее первом желании, как в фокусе, — все, о чем она потом в жизни мечтала и от чего не могла, не умела (а может быть, просто в глубине души не хотела) отказаться. За несколько недель до своей смерти она, полупарализованная, на обложке книги, которую перелистывает — антологии русской поэзии «Якорь», — левой рукой, справа налево, так что прочесть написанное можно только в зеркале, нацарапывает:
По лестнице… ступени все воздушней Бегут наверх иль вниз — не все ль равно? И с каждым шагом сердце равнодушней: И все, что было, — было так давно…[471]Эта беспомощная, последняя попытка преодолеть свою слабость — одно из бесчисленных доказательств ее воистину необыкновенной живучести: «Неугасим огонь души»[472].
Но кто бы мог предположить, что в этом хрупком, эфемерном, не от мира сего существе, какой она казалась, такая сила?
II
Первая исповедь. О ней — в «Заключительном слове». Бедная, на деревенскую похожая церковь. За высокими окнами — верхушки зеленеющих деревьев. Тишина. Весна… Кстати, как это до сих пор никто из критиков не отметил ее замечательный язык — ясный, острый, сверкающий, как чистейшей воды алмаз. По поводу этой своей первой исповеди она пишет: «Но искупленья я еще не понимаю», — и прибавляет: «Я, очевидно, не понимаю и покаяния».
Теперь, когда ее «труды и дни»[473] известны, это признание особенно поражает, чтобы не сказать — потрясает. За всю ее долгую жизнь — ни одного факта, ни даже намека на факт, который свидетельствовал бы, что она хоть раз чистосердечно в чем-нибудь покаялась, смирилась, признала себя виноватой или хотя бы просто попросила у кого-нибудь прощения, извинилась. Нет — ни смирения, ни покаяния. Она словно боится, что, смирившись, покаявшись, она потеряет тот внутренний «упор», ту от ее сознания скрытую «пружину», благодаря которой она плохо ли, хорошо ли, но продолжает держаться на поверхности, когда другие камнем идут ко дну.
Но слабости смирения Я душу не отдам… Не дам Тебе смирения, Оно — удел рабов.[474]В своей книге о Мережковском она вспоминает, что, когда ее отец был ею недоволен, он переставал обращать на нее внимание, и она знала, что необходимо (ее слово) идти просить прощения. Но о том, каких ей это стоило усилий, она молчит. И что она шла и прощения просила, свидетельствует о ее действительно безграничной к отцу любви.
Стихи писать она начала семи лет. Вот ее первое стихотворение:
Давно печали я не знаю, И слез давно уже не лью. Я никому не помогаю, Да никого и не люблю. Людей любить — сам будешь в горе. Всем не поможешь все равно. Мир что большое сине-море, И я забыл о нем давно.[475]А вот для сравнения другое, написанное в конце жизни:
Я на единой мысли сужен, Смотрю в сверкающую тьму, И мне давно никто не нужен, Как я не нужен никому.[476]Та же тема, тот же размер с неизменным мужским родом — то же отношение к миру, обиженно-презрительное, как у лермонтовского Демона.
В своей книге о Мережковском она так определяет свою натуру: «У меня остается раз данное, все равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется».
Все, что она знает и чувствует в семьдесят лет, она уже знала и чувствовала в семь, не умея этого выразить. «Всякая любовь побеждается, поглощается смертью», — записывала она в 53 года («Заключительное слово»). И если она четырехлетним ребенком так горько плачет по поводу своей первой любовной неудачи («живая кукла»), то оттого, что с предельной остротой почувствовала, что любви не будет, как почувствовала после смерти отца, что умрет.
Не менее интересно и ее второе стихотворение, написанное два года спустя, то есть — когда ей было девять лет.
Довольно мне тоской томиться И будет безнадежно ждать! Пора мне с небом примириться И жизнь загробную начать.У Лермонтова:
Хочу я с небом примириться…[477]Даже если она в девять лет «Демона» читала, что не невозможно, — это не подражание. В 1905 г. она пишет:
Мне близок Бог, но не могу молиться, Хочу любви, и не могу любить.У Лермонтова:
Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться.И таких совпадений много. Недаром ее так к Лермонтову влечет. Некоторые его стихотворения она даже помнит наизусть, в то время как свои, за редкими исключениями, — никогда.
О ее детстве и первых юношеских годах мы не знаем почти ничего. Время, в каком она родилась и выросла — семидесятые-восьмидесятые годы, — не наложило на нее никакого отпечатка. Она с начала своих дней живет как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли не с пеленок решением «вечных вопросов». Она сама над этим смеется в одной из своих пародий, писать которые мастерица.
Решала я — вопрос огромен[478], — Я шла логическим путем. Решала: нумен[479] и феномен[480] В соотношении каком?Вопросы общественные? Какая скука! И когда на ее горизонте появляется двадцатитрехлетний Мережковский со своим отвлеченным гуманизмом и своими даже для того времени слабыми стихами, она в первую минуту инстинктивно от него отшатывается. Ведь не только стихи его слабы, но он и верхом не ездит, и не танцует.
Она — человек страстей, и страсти пробуждаются в ней рано. Властвовать собой она научится в совершенстве, но не сразу. Уже ребенком она лжет, притворяется опасно больной. От этого страдает ее мать, которую она любит больше всего на свете. Но она ее мучит и мучится сама. О чем она мечтает?
Мне нужно то, чего нет на свете.[481]Строчка эта когда-то облетела всю литературную Россию, и с нее начинается поэтическая слава Гиппиус. Но ей, человеку живому, с этим ни под каким соусом не съедобным, твердокаменным идеалом делать нечего. Нет, о чем она мечтает на самом деле?
Она в этом не признается. Лишь замечает вскользь:
Сны странные порой нисходят на меня.[482]Странные — чем? Почему? Она молчит. Но за нее отвечает Лермонтов:
К тебе я буду прилетать[483] ………….. И на шелковые ресницы Сны золотые навевать.В стихотворении «Гризельда», написанном приблизительно тогда же, когда и «Мне нужно то, чего нет на свете», она говорит, что кто-то — во сне или наяву — ей являлся. Она даже знает — кто, ибо с удивлением спрашивает:
О, мудрый Соблазнитель, Злой Дух, ужели ты — Непонятый Учитель Великой красоты?[484]Есть ли за этим какая-нибудь реальность — об этом ниже. Но в те годы, в дни ее ранней молодости проблема зла не очень ее беспокоит. И когда она встречается с Мережковским, она еще не знает, не решила — Мадонна она или ведьма? И то, и другое ее прельщает. С выбором она, впрочем, не торопится: оба начала уживаются в ней прекрасно. А Мережковскому сочетание противоположностей, главным образом, и нравится.
III
Эта встреча — событие в ее жизни единственное.
Она ее считает провиденциальной. И она права. Они были действительно созданы друг для друга. Но не в том смысле, в каком это обычно принято понимать, то есть — не в смысле романтическом. Сравнивать их с Филемоном и Бавкидой, Дафнисом и Хлоей или с Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной[485] можно лишь по наивности или незнанию.
Происходит эта встреча в Боржоме в одно из воскресений конца июня 1888 г. на танцевальном вечере в ротонде. Кто-то из ее поклонников-гимназистов представил ей Мережковского. «Я встретила его довольно сухо[486], — пишет она в своих воспоминаниях, — и мы с первого же раза стали… ну, не то что ссориться, а что-то вроде». Еще до встречи ей как-то попадается «Живописное обозрение» с его стихами, которые ей не нравятся. А ему, уже в Боржоме, — ее портрет, при взгляде на который он восклицает: «Какая рожа!»
«Однако после первой встречи мы стали встречаться ежедневно, — продолжает она. — Но почти всегда разговор наш выливался в спор».
С гимназистами ей было куда привольнее, веселее, а главное — спокойнее. Не было того вечного напряжения и страха, который она, неизвестно почему, испытывала в присутствии Мережковского и который ее смущал. «Любопытно, что у меня была минута испуга, — признается она. — Я хотела эти свидания прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать?»
Она уже бывала, и не раз, влюблена, знала, что это, а ведь тут — совсем что-то другое. Она так и говорит: «И вот, в первый раз с Мережковским здесь у меня случилось что-то совсем ни на что не похожее».
Это «ни на что не похожее» происходит как бы само собой, без какого-либо участия ее воли. 11 июля, лунной ночью, во время детского танцевального вечера в ротонде она с Мережковским как-то незаметно оказывается вдвоем на дорожке парка, что вьется по берегу Боржомки. «Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор, — описывает она эту ночную прогулку — Самое странное — это, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение», еще того чаще слышала я «объяснения в любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения». Мы, и, главное, оба, — вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет хорошо».
Так же, без участия ее воли, словно во сне происходит «само собой», в Тифлисе, утром 8 января 1889 г. венчание. «Я была не то в спокойствии, не то в отупении, — говорит она. — Мне казалось, что это не очень серьезно».
Вечером Мережковский уходит к себе в гостиницу, а она ложится спать, забывая, что замужем. И только на другое утро едва вспоминает, когда ей мать через дверь кричит: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!»
И она восклицает в тон Флоберу: «Муж? Какое удивление!»
IV
Что было бы с ними, если б они не встретились?
Он, наверное, женился бы на купчихе, наплодил бы детей и писал бы исторические романы в стиле Данилевского[487]. Она… о ней труднее. Благодаря ее мужественности и динамизму — возможностей у нее больше. Спортсменка — она любит риск и во всем старается доходить до конца. Как раз то, к чему он неспособен совершенно. Как сказано у него в паспорте: «К отбыванию воинской повинности признан негодным».
Может быть, она долгое время находилась бы в неподвижности, как в песке угрузшая, не взорвавшаяся бомба. И вдруг взорвалась бы бесполезно, от случайного толчка, убив несколько невинных младенцев. А может быть, и не взорвалась бы: какой-нибудь «специалист-техник», вроде Рюрика Эдуардовича Оказионера* [*) Так в одном из ее неизданных рассказов («Наверно») называется черт. Здесь и далее значком * отмечены примем В.А. Злобина. — Ред.], «спас бы ее, разрядив духовно, и она продолжала бы мило проводить время в обществе гимназистов и молодых поэтов…». На эту тему можно фантазировать без конца. Но одно несомненно: ее брак с Мережковским, как бы к этому браку ни относиться, был спасителен: он их спас обоих от впадения в ничтожество, от небытия метафизического.
Через несколько недель после свадьбы они уезжают в Петербург, где устраиваются сначала в маленькой квартире на Верейской улице, а потом в знаменитом «доме Мурузи» на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской. Их совместная жизнь длится без малого пятьдесят три года — до его смерти.
Как это ни странно, по крайней мере на первый взгляд, в их браке руководящая, мужская роль принадлежит не ему, а ей. Она очень женственна, он — мужествен, но в плане творческом, метафизическом роли перевернуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рожает он. Она — семя, он — почва, из всех черноземов плодороднейший. В этом, и только в этом смысле он — явление исключительное, небывалое, единственное. Его производительная способность феноменальна. Гиппиус угадывает его настоящую природу, скрытое в нем женское начало и лишь по неопытности — ведь ей всего девятнадцать лет — не чувствует внутренней слабости за внешним блеском, которым он ослепляет «литературный» Боржом (его ослепить, кстати, было нетрудно). Его восприимчивость, его способность ассимилировать идеи граничит с чудом. Он «слушает порами», как она говорит, и по сравнению с ним она — груба. Но у нее — идеи, вернее, некая, еще смутная, не нашедшая себе выражения реальность, как бы ни на что не похожая, даже на рай, — новая планета: «Какие живые, яркие сны!» — это все, что она может сказать.
Он к ее стихам прислушивается внимательно и недаром так дорожит утренними с ней прогулками по боржомскому парку. Любит их и она. В этих прогулках, разговорах, даже ссорах — начало их сближения, того «духовного брака», потомство от которого будет «как песок морской».
В первый же год после свадьбы, в Петербурге, происходит одна важная перемена: он бросает стихи и начинает писать прозу. Она стихи не бросает (не бросит никогда), но тоже большую часть времени посвящает прозе. Эта ее попытка — не первая. Она уже писала дневники, не говоря о письмах (которые часто — образец эпистолярного искусства). Но теперь она прозу пишет главным образом из-за денег, чтобы дать Мережковскому возможность свободно работать над его первым романом[488] «Юлиан Отступник».
Откуда он, этот «Юлиан», и его продолжение «Леонардо да Винчи» — вторая часть ставшей знаменитой трилогии?
«Идея «двойственности», которую он развивал в романе «Леонардо», — казалась мне фальшивой, — пишет она в своих воспоминаниях, — и я принялась ему это доказывать». Напрасно: идея — ее, и у нее им взята.
О, мудрый Соблазнитель, Злой Дух, ужели ты — Непонятый Учитель Великой красоты.И «Юлиан» и «Леонардо» вышли из этого четверостишия, случайно оброненного ею зерна. Но когда Мережковский был еще увлечен «двойственностью» («бездна вверху, бездна внизу»), она от этой идеи уже отошла, поглощенная другой, ставшей потом главной идеей его жизни.
Что она старается эти его «опоздания» объяснить — а они понятны: даже в плане духовном так сразу не родишь, — доказывает, что она их взаимоотношений не понимает. Ей кажется, что те же идеи — в нем, но только до его сознания они доходят позже. У него, по ее теории, — «медленный и постоянный рост (курсив ее), в одном и том же направлении, но смена как бы фаз, изменение (без измены)». Смена фаз! Но дело ведь не в процессе беременности, а в обусловливающем этот процесс оплодотворении. И если бы она была в самозарождении его идей так твердо убеждена, то не искала бы этому все время доказательств.
Конечно, сказать, что каждая его строка внушена ею, — нельзя. Она дает главное — идею, а там уже его дело, он свободен оформить, развить ее по-своему. Роль его не менее значительна, не менее ответственна, чем ее. Только это — не та, какую ему обычно приписывают. А если трудно установить с точностью момент зачатия физического, то момент духовного оплодотворения — неуловим совершенно.
V
«Что касается меня, то я в это лето (1905 г.) вдруг погрузилась в одну мысль, которая сделалась чем-то у меня вроде idee fixe* [*Навязчивая идея (лат.).], и моя idee fixe была — «тройственное устройство мира». Это и есть та идея, которая в ней зрела, когда Мережковский еще увлекался «двойственностью».
Он эту новую идею тотчас же подхватывает. Еще бы! Он ее «так понял подкожно, изнутри, — радуется Гиппиус, — что ясно: она, конечно, была уже в нем, еще не доходя пока до сознания». Как она скромна! Эта идея ей стоила чуть ли не спасения души, и если она не погибла, то исключительно благодаря чуду. Но ей все равно. Она свое дело — дело своей жизни — сделала. Очередь за ним. И, как свидетельствует ее запись, он оказался на высоте.
«Он дал ей (этой идее) всю полноту, преобразил ее в самой глубине сердца и ума, сделав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры — Идею Троицы, Пришествия Духа и Третьего Царства или Завета (курсив ее). Все его работы последних десятилетий имеют эту — и только эту — главную подоснову, главную ведущую идею».
Яснее сказать нельзя. Конечно, ни один из шестидесяти двух томов сочинений Мережковского сочинением Гиппиус не становится. Но по существу это не меняет ничего. А «кухня» никого не касается. Это дело — личное, интимное. И слава Богу, что у писателя Мережковского такая умная жена.
Есть еще одно доказательство влияния Гиппиус на творчество Мережковского — некий, Мережковскому совершенно несвойственный запах —
Как будто тухлое разбилося яйцо, Иль карантинный страж курил жаровней серной, —каким иногда веет от его вполне благочестивых произведений.
Когда в 1903 г. Победоносцев запретил Петербургские религиозно-философские собрания, то, может быть, одной из причин был этот неуловимый запах, который он почувствовал в царившей на собраниях атмосфере свободы.
Для первого заседания этих собраний, 29 ноября 1901 г., происходивших в зале Географического общества на Фонтанке, Гиппиус заказывает себе черное, на вид скромное платье. Но оно сшито так, что при малейшем движении складки расходятся и просвечивает бледно-розовая подкладка. Впечатление, что она — голая. Об этом платье она потом часто и с видимым удовольствием вспоминает, даже в годы, когда, казалось бы, пора о таких вещах забыть. Из-за этого ли платья или из-за каких-нибудь других ее выдумок недовольные иерархи, члены Собраний, прозвали ее «Белая дьяволица». Но это, скорее, — дурной вкус и легкомыслие. Ее кумовство с чертом выражалось иначе.
Верит ли она в Бога? Вопрос как будто неуместный. Но при ближайшем знакомстве с ее «трудами и днями» он возникает сам собой. Так сразу на него, однако, не ответишь. Одно можно сказать: в черта она верит. Это — твердо. Вот как верил Гоголь, Достоевский и как не верил Толстой. Черт для нее — существо реальное, одно из ее главных, если не главное, действующих лиц. Впрочем, в ее произведениях он большей частью в тени, за кулисами и показывается лишь изредка, кроме тех случаев, конечно, когда рассказ или стихотворение ему посвящены* [* Как, например, в рассказе «Иван Иванович и черт».]. Но нельзя себе представить такого ее серьезного метафизического письма или разговора, где тема о черте не занимала бы первого места.
Она сама рассказывала, как в молодости сделала себе однажды ожерелье из обручальных колец ее женатых поклонников. Отзвук этого — в ее стихотворении «Мудрость», где она, под видом чертовки, крадет «у двух любовников любовь».
Сидят, целуясь… А я, украдкой, Как подкачусь, да сразу — хвать! Небось друг друга теперь не сладко Им обнимать да целовать![489]Вот чему ее научил «Непонятый Учитель». И с тем же легкомыслием, с каким она описывает свое для Религиозно-философских собраний придуманное кафешантанное платье, она в своих воспоминаниях приводит сказанную ею на паперти после венчания фразу: «Мне кажется, что ничего и не произошло особенного», — на что один из шаферов отвечает: «Ну нет, очень-таки произошло, и серьезное».
В этом она, впрочем, скоро и сама убедится. «Нет, Дима, так тебя любить, как я люблю Дмитрия, я не могу» (письмо Д. Философову, 1905 г.). «Ведь мы — одно существо», — говорит она о себе и Мережковском уже после его смерти. Это и непонятно, и неприятно, но за этим определенная реальность. И если представить себе Мережковского как некое высокое дерево с уходящими за облака ветвями, то корни этого дерева — она. И чем глубже в землю врастают корни, тем выше в небо простираются ветви. И вот некоторые из них уже как бы касаются рая. Но что она в аду — не подозревает никто.
VI
Лето 1905 г. Мережковские проводят на даче в имении «Кобрино» по Варшавской железной дороге. Оттуда в июле она пишет Д. Философову на 32 страницах письмо — он живет с ними, но уехал на месяц к себе в имение повидаться с матерью[490]. Это письмо делает честь не только ее уму, но и мужеству, с каким она обнажает свою душу.
«Знаешь ли ты, или сможешь ли себе ясно представить, — спрашивает она Философова, — что такое холодный человек (курсив Гиппиус), холодный дух, холодная душа, холодное тело — все холодное, все существо сразу? Это не смерть, потому что рядом, в человеке же, живет ощущение этого холода, его «ожог» — иначе сказать не могу. Смерть лучше, когда она — небытие просто, и холод ее только отсутствие всякой теплоты; а этот холод — холод сгущенного воздуха, и бытие — как бытие в Дантовом аду, знаешь, в том ледяном озере…»
Вот когда она узнала наконец, что такое «снеговой огонь», о котором ее душа мечтала «с вещей безудержностью».
Душа мечтает с вещей безудержностью О снеговом огне.[491]И вот отчего веет иногда от Мережковских таким холодом — холодом междупланетных пространств, от которого льнущие к ним души замерзают, как в зимнюю стужу воробьи на телеграфных проводах. Но того, каким страданием был этот холод для них самих, не представляет себе никто.
«Если и не поймешь — поверь мне, Дима, — продолжает она, — очень это большое страдание… Я холодная — или мы холодные, — мы чисто-холодные, уже без всякого призрака, подобия вечно-ощутительной и ощущаемой движущейся вперед любви к человеку, к людям, к миру. Мы без жалости, без мягкости, без нежности. Оттого и страдание такое… Помнишь те «вечные муки» ада старца Зосимы, его слова о душе, уже сознающей, что избавление — любовь, понимающей любовь, видящей ее — и не имеющей. Вот этот ад у меня теперь на земле».
Можно только удивляться, как она не сошла с ума. Даже если ограничить время ее пребывания в «ледяном озере» сроком с 1905 по 1922 год, когда она наконец сказала; «Довольно!», то и тогда получается семнадцать лет. А в «ледяном озере» каждая минута — вечность.
Но тут только ее необыкновенную силу жизни и понимаешь, как и ее здоровый религиозный инстинкт. Казалось бы, когда, как не сейчас, думать о спасении личном? Именно сейчас, именно здесь, в аду, своя рубашка ближе к телу. Но нет, она в первую очередь думает не о себе. «Я чувствую, — говорит она, — что об этом надо как-нибудь не словами, чтобы поняла чужая душа». Она — одна из многих: «Говорю о себе — но говорю смело, с правом, потому что и внутренним прозрением, и фактически, реально знаю, что не одна я такая душа, с таким страданием, а другие тоже, много, и сейчас есть, а потом еще больше их будет…»
Что дело спасения — дело общее, «соборное», ей эта истина известна. Но только здесь, в аду, она ей раскрывается до конца, приобретает новый, неожиданный, единственно действительный смысл. Вся тварь спасается, а раз вся, то и дьявол, ибо и он — тварь, и он Богом создан. И она за дьявола молится.
Для добрых христиан это — кощунство, а ее ад — отвлеченный: слишком много и слишком умно она о нем говорит. В аду либо мычат, либо молчат. Но мы — плохие христиане и, в сущности, не ада боимся, а рая. Рай при наличии «вечных мук» хотя бы одного грешника, даже осужденного справедливо, — рай не вполне, то есть не рай. А от рая настоящего, от «мировой гармонии», нас отделяет невыразимый ужас: оправдание зла.
Но она бесстрашна и, как во всем, до конца идет и в этом. Пусть ее рассуждения об аде длинны — молчать, когда надо, она умеет. Главного она не сказала и не скажет, сколько бы мы ни допытывались. Но если есть в нас хоть капля дерзновения, мы начатую ею картину дорисуем сами.
Дьявол в аду заснул, и ему снится райский сон.
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой; Тех дней, когда в жилище света Блистал он, чистый херувим… ………………………………. Когда он верил и любил, Счастливый первенец творенья.[492]Что он будет спасен — на это у нее прямых указаний нет нигде, может быть, оттого, что все-таки всего она не знает. Но она, вместе с ним, надеется.
Все решено от Духа Свята, Он держит всех судеб ключи, Он всех спасет…[493]Мировая гармония! Вот та райская музыка, какую она слышит в аду сквозь свиной хрип дьявола. И ее она не променяет ни на что на свете, ни на какие «белые одежды»[494], ни на какие чудеса неба и земли.
Мережковский так и умер, не догадавшись, что его прославленная идея Третьего Царства, из которой он, по свидетельству Гиппиус, сделал «религиозную идею всей своей жизни и веры», — мечта дьявола о мировой гармонии. Но именно этой своей глубокой, подземной и как бы «антихристианской» основой Мережковский и силен. Перед другими строителями «Града Божия» — отвлеченными идеалистами — у него то преимущество, что те строят на песке или начинают с купола, он же опускается на глубину, на какой «Граду Божию» на земле только и может быть положено прочное основание, — на глубину ада, на дно «ледяного озера».
Его расцвет, пышный и неожиданный, сразу после бегства из России, длится около пятнадцати лет, между 1920 и 1935 гг. Но как раз этот период для Гиппиус — период упадка. На нее точно находит какое-то затмение. Она погружается в полную безнадежность, на самое дно «ледяного озера».
В 1905 г. у нее еще была надежда или «надежда на надежду», — как она пишет в том же письме Философову в Богдановское. «Не вечна мука, должно быть, — кажущаяся нам вечной: потому что за мгновением ощущения ее вечности, той же душе дается, в следующее — надежда на надежду на выход».
А теперь — нет даже этого. Время для нее как бы застыло на ощущении вечности муки:
Единый миг застыл и длится, Как вечное раскаянье… Нельзя ни плакать, ни молиться… Отчаянье! Отчаянье![495]Когда-то она легкомысленно объявляла:
Приемлю жребий мой — Победность и любовь.И вот ни победы, ни освобождения, а — ледяная тюрьма, где она, как общипанная райская птица, сидит и удивленно страдает. «Страдания нельзя простить иначе, как оторвавшись от жизни, — записывает она в «Заключительном слове». — Ибо все страдание — от любви. Всяческой — сознательной и бессознательной притом, потому что всякая любовь (жизнь) есть потеря».
Да верила ли она хоть когда-нибудь в любовь или затмение на нее нашло уже там — в вечности?
Кто-то из мрака молчания Вызвал на землю холодную. Вызвал от сна и молчания Душу мою несвободную.[496]В своем первом, дошедшем до нас дневнике она в марте 1893 г. отмечает: «Да, верю в любовь[497], как в силу великую, как в чудо земли… Верю, но знаю, что чуда нет и не будет». Через тридцать лет, в «Заключительном слове», она эту мысль доводит до конца: «Всякая любовь побеждается, поглощается смертью». Смерть — вот за какой, из глубины вечности идущей на нее, тучей скрывается солнце любви. Его редкие, тусклые, мгновенные лучи она ловит с жадностью:
Господь. Господь мой. Солнце, где Ты? Душе плененной помоги.[498]Но эта ее молитва не будет услышана. Впереди еще почти 20 лет жизни. Но ей на земле делать больше нечего.
Ни слов, ни слез, ни вздоха — ничего Земля и люди недостойны.[499]И она свой билет — «приглашение на казнь» — почтительнейше Богу возвращает.
И опять вспоминается Лермонтов:
И проклял Демон побежденный Мечты безумные свои. И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви!..[500]МИС ТИФИКАЦИЯ[501]
Удивительно, как вокруг имени людей известных, не говоря уже о прославившихся знаменитостях, создается легенда, ничего общего с их сущностью не имеющая. За примером ходить недалеко: З.Н. Гиппиус.
Принято почему-то считать, что она была рассеяна, бестолкова, вечно все путала и в делах житейских не смыслила ничего, словом — отвлеченная интеллигентка, типа профессора А.А. Мейера[502], долго не понимавшего, отчего у него болят ноги. А болели они оттого, что он носил два левых сапога.
Приблизительно в этом духе, но с декадентской томностью и неизменными «русалочьими глазами» изображает ее Б.К. Зайцев[503] в своей книге о Чехове.
Чехов, впервые попавший за границу[504] (он путешествовал со знаменитым Сувориным[505]), встретился в Венеции с Мережковскими. И вот Зинаида Николаевна будто бы ему сказала — Зайцев передает этот разговор в лицах, — что они за стол и квартиру платят 18 франков в неделю. Так по крайней мере понял Чехов, поспешивший написать об этом сестре в Москву. Потом оказалось, что 18 не в неделю, а в день, — З.Н. напутала, ибо, как замечает Зайцев, «в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже».
На самом деле ничего Гиппиус не напутала, а ввела Чехова в заблуждение совершенно сознательно.
«Я просто ничего не забываю»[506], — говорит она в одном из последних стихотворений. Особенно же она запоминала цифры и при случае всегда это подчеркивала. Она их любила:
Хочешь знать, почему я весел? Я опять среди милых чисел. Как спокойно средь цифр и мер. Тих и строен их вечный мир.[507]Да и средства, с какими путешествовали тогда Мережковские, были ограничены. Расходы записывались, и счет, как всегда, вела З.Н. Что стоимость венецианского пансиона была ей известна в точности — сомнению не подлежит. Но она решила над Чеховым подшутить, благо представился случай. Она вообще любила мистифицировать — черта, мало кому в ней известная, сближающая ее странным образом с А.М. Ремизовым. Недаром говорили о ней в шутку, что она — англичанка, Мис Тификация.
Чехов, восторгавшийся всем заграничным, в частности дешевизной, ее забавлял; забавлял и, кажется, чуть-чуть раздражал. В своих воспоминаниях «Живые лица» она, впрочем, рассказывает не без добродушия, как ему в Венеции все хотелось «на травке» посидеть. Жаль, что Зайцев не перечел этих страниц Гиппиус. О Чехове он, наверно, нового ничего не узнал бы, но о Гиппиус кое-что мог бы узнать, о ее памяти, например.
Как «путаница» произошла — представить себе не трудно. Но важен смысл «шутки», а он, несомненно, был такой: «Пусть я напутала, но вы-то, Антон Павлович, могли бы сообразить сами, что жить в Венеции, в хорошей гостинице, на всем готовом, на шесть гривен в день, да еще вдвоем, ни при какой дешевизне невозможно».
Одной из частых жертв З.Н. был Мережковский.
Однажды, уже в эмиграции, в Париже, какая-то дама, бывавшая одно время у Мережковских на воскресеньях, прислала им в подарок книгу-роман, непонятно зачем ею написанный. Он назывался «Несквозная нить» и был какой-то странный.
Когда спустя несколько дней Мережковский собрался ей писать благодарственное письмо — случай чрезвычайно редкий, — оказалось, что ни ее имени, ни ее отчества он не знает. Он обратился за справкой к З.Н. Та посмотрела на него с нескрываемым презрением:
— Ах, Дмитрий, ты никогда ничего не знаешь. Ее зовут… Эмилия Дионисьевна.
— Дионисьевна? — переспросил Мережковский. — Так-таки Дионисьевна?
— Ну да. Что тут необыкновенного?
Конечно, ни Эмилией, ни тем более Дионисьевной даму не звали. Гиппиус все выдумала. Но Д.С., доверявший ей слепо и шуток не понимавший, так и написал: «Глубокоуважаемая Эмилия Дионисьевна…»
В другой раз З.Н. «подарила» Мережковскому два своих стихотворения, очень ему нравившихся. Предпослав одному из них длиннейший эпиграф из Апокалипсиса, он их включил в собрание своих стихов. Но, «забыв» о подарке, напечатала эти стихотворения в своей книге и З.Н. Любопытно, что никто до сих пор этой «шутки» не заметил. А что это стихи Гиппиус — видно сразу. Среди стихов Мережковского они — как живые розы среди бумажных.
В эмиграции она раз послала через Г. В. Адамовича несколько стихотворений за подписью В. Витовт[508] в «Новый корабль», ближайшей сотрудницей которого состояла. Одно из них было напечатано во втором номере. Но авторство Гиппиус открылось совершенно случайно. Она, должно быть, не рассчитывала, что стихи будут напечатаны, и хотела сконфузить слишком разборчивую редакцию, объявив, что Витовт — это она.
Со своей приятельницей, шведской художницей Гретой Герелль[509], гостившей у них в Париже, она, как маленькая девочка, играет в прятки, прячась за портьеры. Есть фотография 1907 г., где она снята вместе с несколькими друзьями, корчащая рожу и высовывающая язык. А вот другая невинная шутка: однажды утром на вилле «Эвелина», которую Мережковские снимали в Приморских Альпах, в городке Грассе (Grasse), З.Н. говорила по телефону, находившемуся в вестибюле. Сначала никто не обратил на это внимания. Но скоро стали прислушиваться. Разговор был очень оживленный. Однако невозможно было понять, на каком он происходил языке. По тону казалось, что она то сердится, то любезна, то неожиданно удивлена. Затем раздавался хохот. Когда к стеклянной будке, где находился телефон, подошли (а З.Н. только этого и ждала), то поняли, что она говорит на языке несуществующем. К телефону она, по-видимому, для своих «шуток» прибегала не раз. Один из постоянно бывавших у них друзей рассказывает, что она долго морочила ему голову, звоня каждый вечер по телефону под именем Бижу, пока наконец, догадавшись, он не стал вешать трубку.
Странное это было существо, словно с другой планеты. Порой она казалась нереальной, как это часто бывает при очень большой красоте или чрезмерном уродстве. Кирпичный румянец во всю щеку, крашеные рыжие волосы, имевшие вид парика… Одевалась она сложно: какие-то шали, меха — она вечно мерзла, — в которых она безнадежно путалась. Ее туалеты не всегда были удачны и не всегда приличествовали ее возрасту и званию. Она сама делала из себя пугало. Это производило тягостное впечатление, отталкивало. Потом в Париже к ней привыкли, к ее моноклю, к ее голосу морской птицы, к лиловой, мертвецкой пудре и огненному румянцу. Но в России… ведь там румяниться и белиться считалось дурным тоном, особенно так, как это делала она. Не удивительно, что в Петербурге она слыла чуть ли не Мессалиной — в лучшем случае кривлякой. Даже знавший ее хорошо Д.В. Философов относился к ней с опаской: не дай Бог, что-нибудь выкинет! «Шуток» ее он не любил: от них пахло скандалом.
А какая была умница! И какой замечательный поэт. Но с ней как с поэтом широкая публика менее всего была знакома. Гиппиус, впрочем, не то что славы, а и тени ее не искала. Была скромна даже чересчур.
…Живу в себе, А если нет, не все ль равно, Что кто-то помнит о тебе, Иль всеми ты забыт давно.[510]Да, скромна, смиренна, но иногда это смирение — паче гордости. И шутки ее отнюдь не невинные шалости от преизбытка жизненных сил, как шалят дети. Нет, смысл их иной. Цель ее мистификации — отвлечь от себя внимание. Под разными личинами она скрывает, прячет свое настоящее лицо, чтобы никто не догадался, не узнал, кто она, чего она хочет…
Вот она — в своей петербургской гостиной или в парижском салоне на знаменитой avenue du Colonel Bonnet. Кто, глядя на эту нарумяненную, надменную, немолодую даму, лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту капризную декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании Второго пришествия раскольники, о которых с таким ужасом и восторгом рассказывает в своей книге «Темный лик» В.В. Розанов? Да, такой в своем последнем обнажении была З.Н. Гиппиус — неистовая душа.
Но высшая степень этого неистовства — Царство Духа — Второе пришествие — открылось ей не через закапывавшихся в землю раскольников, а в другой ереси — в хлыстовстве.
В ее дневнике 1893 г. есть такая фраза: «Пойду к х<лыс>там. Ведь я записана в Думе».
Дума эта сбивает с толку, ибо единственная дума, о какой здесь могла бы идти речь, — это известная своей каланчей с шарами — знаками пожаров — петербургская городская Дума. Но что общего у этой дамы с хлыстовской ересью? Или «пойду к х<лыс>там» значит что-нибудь другое и Гиппиус записалась в думский комитет помощи голодающим и работала во время голода на Волге? Но этот вариант отпадает сам собой; запись Гиппиус датирована 1894 г., а голод на Волге был значительно позже. Да и такого рода общественная деятельность совершенно не в духе Гиппиус. Нет, Дума, о которой она говорит, — Дума особая. Какая — узналось случайно.
В одном из романов Александра Амфитеатрова, если не ошибаюсь, в «Разрушенных гнездах»[511], говорится о хлыстовской сатанинской Думе. Вот в этой Думе Гиппиус и была записана. В ее книге «Лунные муравьи» есть рассказ, озаглавленный «Сокатил», где с большим знанием дела описано хлыстовское раденье. Больше об этом она никогда нигде не сказала ни слова.
Не слушайте меня, не стоит: бедные Слова я говорю; я — лгу, А если в сердце знанья есть победные, — Я от людей их берегу.[512]Но жить в этом герметически закрытом мире она долго не могла — задыхалась. Нужен был выход. И она его нашла, переключив свое неистовство вопреки своей идее тройственного устройства мира. Но ничего хорошего из этого не вышло: в России началась революция, за которой последовал большевистский переворот.
Если гаснет свет — я ничего не вижу. Если человек зверь — я его ненавижу. Если человек хуже зверя — я его убиваю. Если кончена моя Россия — я умираю.[513]Она действительно как бы умерла, сошла живой в могилу, закопалась, чтобы вместе с Россией воскреснуть. И, может быть, никто этого воскресения не ждал с таким трепетом, не молился о нем так горячо, как она.
Я от дверей не отойду, — Пусть длится ночь, пусть злится ветер. Стучу, пока не упаду, Стучу, пока Ты не ответишь. Не отступлю, не отступлю, Стучу, зову Тебя без страха: Отдай мне ту, кого люблю, Восстанови ее из праха! Верни ее под отчий кров, Пускай виновна — отпусти ей! Твой очистительный покров Простри над грешною Россией! И мне, упрямому рабу, Увидеть дай ее, живую… Открой! Пока она в гробу, От двери Отчей не уйду я. Неугасим огонь души, Стучу — дрожат дверные петли, Зову Тебя — о, поспеши! Кричу к Тебе — о, не замедли![514]Но ее молитва не была услышана. И неугасимый огонь души слабел с каждым годом.
В НОВОЙ[515]
Отблеск зеленый в дверном стекле, Поют внизу автомобили… Не думаю о моей земле: Что тут думать? Ее убили. Вы, конечно, за это меня — За недуманье — упрекнете? А я лишь жду, чтоб прошло три дня: Она воскреснет — в новой плоти.И вот три дня прошло. Но Россия, ради которой она закопалась, не воскресла. Рождалась другая, где ни ей ничто и никто не был нужен, ни она — никому. И пробил час разлуки:
ОТЪЕЗД[516]
До самой смерти… Кто бы мог думать? (Санки у подъезда, вечер, снег.) Знаю, знаю. Но как было думать. Что это — до смерти? Совсем? Навек? Молчите, молчите, не надо надежды (Вечер, ветер, снег, дома…). Но кто бы мог думать, что нет надежды? (Санки. Вечер. Ветер. Тьма.)З. ГИППИУС И ПРОБЛЕМА ЗЛА
Разрешима ли проблема зла? В порядке отвлеченно-философском — нет. В религии же, где ей место, зла как проблемы не существует: есть тайна зла, и все, что о ней можно сказать, — это что проникнуть в нее пока не удалось никому. Те же, кто пытался, согласен в одном: зло от познанья ускользает. Оно как песок, что просыпается между пальцев, как вода, что уходит из рук. Оно всегда не то, чем кажется, и его дела так же двусмысленны, как его слова. Оно прикидывается и добром. Подделка иногда так искусна, что надо быть святым, чтобы не попасться. По свидетельству искушенных в этом деле монахов, дьявол может принимать образ любого святого, даже самого Христа (единственно, кого он трогать не смеет, — это Матерь Божию). Св. Тереза Авильская[517] рассказывает в своем жизнеописании о проверке, к какой она прибегала, когда у нее бывали видения Христа. Чтобы знать наверно, Он это или дьявол, она делала то, что она называет «acte de defi»* [* «Бросить вызов» (фр.)]. Что это такое — объяснено в примечании. Сделать «acte de defi» — значит, по-нашему, показать шиш. И дьявол при виде его обращается в бегство.
Каюсь, но во мне этот способ борьбы с нечистой силой вызывает грешные мысли. Почему шиш, а не крест? С каких пор крест потерял свою силу?
Кроме того, почему у Терезы это недоверие к видениям, осторожность, чуть не страх? Не почудилось ли ей в словах Христа, когда Он во время этих видений с нею беседовал, нечто не совсем обычное, странное, может быть, даже в какой-то мере соблазнительное? И не для того ли, чтобы удостовериться, что она видит и слышит не соблазнителя, а в самом деле Христа, она прибегает к проверке?
Но если смутившие св. Терезу слова действительно слова Христа, в чем сомневаться почти нельзя, — это значит, что не только зло может прикидываться добром, но и добро в иных случаях казаться как бы злом. И тогда — относительность добра и зла, безнадежная путаница всех понятий, темный лабиринт, куда неизбежно попадают те, кто подошел к тайне зла слишком близко.
Но душа человека устроена так, что будет добиваться истины, несмотря ни на что, хотя бы это ей грозило гибелью. И она права, права не только перед собой, но и перед Богом. Ей велено со злом бороться, но от нее всячески скрывают, что такое зло. Что знает она о его истоках, природе, целях? Ничего. Средневековый лубок о падении ангелов человека современного, с его новым религиозным сознанием, удовлетворить не может. И как заставить не то что такого человека, пережившего за сравнительно короткий срок две мировые войны и революцию, но и ничего не пережившего дикаря бороться вслепую?
И вот бедный человеческий разум приходит в конце концов к выводу, быть может, ложному, но по крайней мере логическому: если зло окружено такой непроницаемой тайной, то, видно, это неспроста. Что-то от нас скрывает. Может быть, в самом деле, «не так страшен черт как его малюют». Отсюда — догадки «кто он?», мечты и надежды, та романтическая дымка, какой до сих пор окутан образ падшего Ангела. Да, как это ни странно, не взирая на то, что сейчас почти на каждом шагу человек сталкивается с самым недвусмысленным, неприкрытым злом, образ этот по-прежнему влечет сердца с неудержимой силой. Отмечаю противоречие и молчу, потому что его все равно не объясните, даже с помощью первородного греха, о котором, в сущности, никто ничего не знает толком.
«Я тот, кого любят и не знают», — говорит падший Ангел у Виньи[518]. У Лермонтова Демон говорит то, что злому духу говорить полагается:
Я тот, кого никто не любит И все живущее клянет…Метафизически Виньи глубже, значительнее Лермонтова. Но Лермонтов, как художник, неизмеримо выше. В поэме Виньи много безвкусицы и ненужной бутафории — того, от чего Лермонтов чист совершенно. Но у Лермонтова свои недостатки и уязвимые места, в большинстве случаев даже не его личные, а присущие вообще христианству с его учением о добре и зле. Лермонтов при всем своем демонизме, в сущности, добрый христианин. И у него все просто, даже, пожалуй, слишком просто — говорю в плане религиозном, — упрощено, сглажено и, в сущности, как это ни странно, благополучно. Ничего неожиданного, никаких открытий. Порок посрамлен, добродетель торжествует.
И проклял Демон побежденный Мечты безумные свои.О чем же он мечтал?
Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру…Лермонтову эти мечты кажутся безумными, потому что они неосуществимы, невозможны. Но для любви невозможного нет, и Демон в это верит:
И входит он, любить готовый, С душой, открытой для добра, И мыслит он, что жизни новой Пришла желанная пора.Но «жизни новой желанная пора» еще не пришла. И раскаяние, и клятвы Демона, и жертва Тамары — тщетны, пока не исполнились времена и сроки. В ту минуту, когда величайшее чудо любви и прощения уже готово свершиться, вмешается Ангел, покажет Демону шиш, и тот, все потеряв, останется
Один, как прежде, во вселенной, Без упованья и любви…Тамара же будет спасена:
Она страдала и любила, И рай открылся для любви.Но в этом торжестве добродетели — глубочайшая внутренняя фальшь. Удивительно, с какой легкостью обошелся Лермонтов с любовью Тамары, не найдя в ней ничего, кроме слабости, заблужденья — греха.
Ценой жестокой искупила Она сомнения свои…Сомнения — какие, в чем? Не в том ли, что Демон проклят навеки, что нет ему ни прощенья, ни пощады? Но именно эти сомнения, за которые добрый христианин Лермонтов налагает на нее епитимью, лучшее доказательство и мера ее любви. Если Тамара сомневается, не верит в вечное проклятье, то потому, что любит, и ее жертва — жертва во имя любви.
«Узнай, давно ее мы ждали», — говорит Ангел Демону, вознося душу Тамары в рай. Но вряд ли она в этом раю блаженствует. Скорее представляешь себе, что для нее этот потухший рай от ада мало чем отличается, ибо там нет того единственного, кого она любит, она с ним разлучена, он — в аду. Такого рая человеческая душа не примет никогда. Будет ли прощен дьявол? Знать это наверно никто не может — не дано никому. Это — область гаданий, дело совести и внутреннего религиозного опыта. Если бы Лермонтова спросили, что ждет, по его мнению, дьявола и его ангелов в день Страшного Суда, он, по всей вероятности, не задумываясь, ответил бы, как на уроке Закона Божьего: «Идите от Меня, проклятые, в муку вечную».
Между тем Церковь, осудившая учение Оригена[519] о спасении дьявола, осудила, может быть, не столько самое это учение, сколько его преждевременность. Такие случаи бывали. И, в частности, отношение в настоящее время католической Церкви к ереси Оригена как будто более терпимое, нежели семь веков назад. Когда в 1953 г. в Италии появилась книга ныне покойного католического писателя Джиованни Папини[520] «Дьявол», в которой он совершенно недвусмысленно склоняется на сторону Оригена, можно было ожидать, что книга попадет под индекс[521], а ее автора отлучат от Церкви. Но ни того, ни другого не случилось. «Л’Осерваторе Романо», официоз Святейшего Престола, ограничился статьей, где поставил вещи на свои места, и на этом дело кончилось.
Но Папини разбил паралич. У него отнялась правая сторона, так что он больше не мог писать. Многие, и, если не ошибаюсь, в том числе он сам, считали, что это ему в наказание за беззаконную попытку раскрыть тайну зла. Насколько, однако, это соответствует действительности — установить трудно. В подобных делах почти все зависит от каких-то неуловимо личных причин. Известны случаи, когда попытки того же рода более смелые сходили гладко, как, например, попытка Зинаиды Гиппиус, речь о которой впереди. Но главное — это что Папини к тайне зла подошел, в сущности, не так уж близко: он ее, собственно говоря, даже не коснулся, ибо не в спасении дьявола тайна, а в его падении, в том, почему он пал, кто он на самом деле. Этим все решается.
Догадок — много. Я остановлюсь на самой для нашего времени характерной, таящей в себе крупицу того яда, от какого гибнут не только отдельные человеческие души, а народы и цивилизации, — на догадке Гиппиус.
В одной из ее книг — «Лунные муравьи» — есть небольшой рассказ «Он — белый». В нем Гиппиус вскрывает свое отношение к проблеме зла.
Начинается рассказ, что уже само по себе соблазн, с эпиграфа из Иоанна Дамаскина[522]: «Он не зол, но добр, ибо Творцом он создан Ангелом светлым и весьма блистающим, и как разумный — свободным». Вся сила этих слов сосредоточена для Гиппиус в одном: «свободный». Из него весь рассказ и вырастает.
Тема — умирающий от воспаления легких студент Федя, который в полубреду видит черта. Сначала он «очень обыкновенный», с рожками, с маленьким свинячьим рыльцем. Но он становится «матерым», на глазах у Феди начинает расти и делается «красивым, очень красивым». «Вместо грубого, матерого черта сидело перед ним сумрачное и прекрасное существо, одетое чуть-чуть театрально, в красном плаще…» И вот, превратившись еще на минуту «от добросовестности» в серого, паршивого, но сильного и вертлявого черта, с традиционным «хвостом датской собаки», черт принялся делаться человеком. Большим, стройным, довольно приятным, с белокурыми волосами, откинутыми назад. «В лице была уверенная сытость и уверенная властность». И Федя заметил, что человек — Крылатый.
Федя понимал, что этот уверенный и властный человек — или сверхчеловек — может быть прельстительнее всякого демона, всякого бесенка с насморком; но сам Федя ему был чужд; не соблазнялся им и не боялся его, а потому и не ненавидел. Все это к тому же «чертовы штуки». Превращения, призраки. Он — всякий; значит ли — никакой?
Но вдруг Федя с неизъяснимым томлением приподнялся на подушках. Человек по-прежнему сидел около него. Но уже никаких крыльев не было, а просто сидел пожилой господин в очках, в потертом сюртуке; и весь он был насквозь такой слабый, такие слабые, длинные, обезьяньи висели руки, так гнулась от слабости спина, так на слабой шее висела голова, что, казалось, и минуты он весь не продержится на стуле. И уж, конечно, пальцем не двинет и рта не раскроет. Однако он раскрыл и промямлил: «Это уж я для тебя. Твой. Только оставьте меня все в полном покое».
Федя с ужасом глядел в лицо дьявола и узнавал в нем себя. «Сам Федя, только старый, страшный, бездонно-безвольный, с повисшей головой, сидел перед ним.
— Зачем ты меня мучаешь? За что? — простонал Федя. — Всю жизнь я о тебе думал, не знал, какой ты, и теперь не знаю, потому что ты мои же все мысли передо мной повторил, больше ничего. И сидишь сейчас слабой обезьяной, таким, каким я тебя всего больше ненавидел и боялся, и бороться хотел, да бороться сил не было…
— Не было? — вяло спросила обезьяна.
— Если сила ненависти силу борьбы рождает, так было! Было! — почти закричал Федя. — А потому — ты врешь сейчас, сидя около меня с моим лицом. Ты лгун! Ты призрак, тень! О, всю жизнь думать и мучиться — и ничего не знать о тебе, только ненавидеть! Будь ты проклят!
Черт кивнул головой и произнес, словно эхо:
— Тень… Тень… Всю жизнь… ничего не знать… Всю…
— Скажи, — взмолился вдруг Федя, — есть ты на самом деле или нет тебя? Если есть — какой же ты? Кто ты? Зачем ты? Зачем я тебя ненавижу? Ведь для чего-нибудь ты пришел ко мне?»
Федя неясно теперь видел дьявола. Уже не висели длинные руки и голова; светилось зыбкое пятно, светилось, не исчезало. Была и голова, и тело, но чем оно все делалось, Федя не мог различить. Голубые, странные глаза только видел, на него устремленные.
— Не спеши так, — сказал дьявол тихо.
Вдруг наклонился к столику (точно кудри какие-то упали вниз) — и взглянул на Федины часы.
— Что ты делаешь? — закричал Федя.
— Я пришел сказать тебе.
Туманный облик все светлел. Светлел медленно, но непрерывно. Тьма кусками сваливалась с него и пропадала внизу, обнажая светлое ядро.
— Тебя простят? Ты хочешь уверить, что тебя простят? — шептал Федя взволнованно, садясь на постели.
— Нет. Меня не простят. Да если бы и был я прощен… вы, ты — вы все, — разве могли бы простить?
— Нет.
— Видишь. А потому и не будет прощенья. И не надо прощенья.
— Кто ты? Отчего ты сейчас такой? Это ты?
— Да, это я. Слушай!
Федя смотрел не отрываясь. И на него смотрели тихие голубые глаза.
— Ты слушаешь? Мы оба — тварь, и я, и ты. Но я был прежде тебя. Создавший создал любовь и свет. Сотворив людей, Он полюбил их. И сказал себе: «Хочу послать Мой высший дар — хочу дать им свободу. Хочу, чтобы каждый из них был воистину Моим образом и подобием, чтобы сам, вольно, шел ко благу и возрастал к свету, а не был как раб, покорно принимающий доброе, потому что заблагорассудилось это Господину». И позвал Он нас, светлых, к себе и сказал: «Кто из вас вольно ляжет тенью на Мою землю, вольно ради свободы людей и ради Моей любви? Кто хочет быть ненавидимым и гонимым на земле, неузнанным до конца ради сияния света Моего? Ибо если не ляжет тень на землю, не будет у людей свободы выбирать между светом и тенью. И не будут они, как Мы».
Так Он сказал. И отделился я и сказал Ему: «Я пойду».
Федя слушал и смотрел неотрывно в светящийся лик. Говоривший продолжал:
— Я пойду и лягу тенью на Твою землю, я до конца буду лежать, как пес, на дороге, ведущей к Тебе, и пусть каждый из них оттолкнет пса, чтобы войти к Тебе, свободный, как Ты. Всю тяжесть проклятий их я беру на себя. Но, Всемогущий, что я знаю. Ты один знаешь силы человеческие! Если начну одолевать их?
— Я смел сказать Ему это. Но уже была во мне тень и страдание людей. И Он отпустил мне, твари, первое неверие за первое страдание и сказал: «Я Сам сойду помощником к людям, когда ослабеют силы их. Я Сам в Сыне Моем сойду к ним на землю, стану как один из них, в свободе и любви, и умру, как они, и воскресну, как первый из них. Ты узнаешь Меня и будешь тенью около Меня. Велико твое страдание, и только Мое и человеческое будет больше твоего. Посылаю тебя, вольно идущего на землю, в темной одежде. К Моему престолу восходи белым, как ты есть. Но для них — ты темен до дня оправдания, и о дне этом ты не знаешь. Иди».
«И я пал на землю, как молния… Врезался в нее громовой стрелой. Я здесь. Ты меня видишь…»
Это, собственно, даже не догадка, а мечта. И мечта опасная. Но Гиппиус, по-видимому, не сознавала того, что делает, потому что ее белого дьявола нельзя не любить. И не только его любишь, но перестаешь думать, забываешь, как о чем-то ненужном, о Боге. Вряд ли подозревала Гиппиус, что ее мечта может привести если не к откровенному дьяволопоклонству, то почти к неизбежному смешению Бога с дьяволом, к их медленному и неуследимому слиянию в одно двуликое существо.
О, конечно, человек нуждается в созданиях, которые недвусмысленно будили бы «чувства добрые», называя открыто зло злом. Согласен. Только где их взять, эти создания, когда отсутствие критерия добра и зла — отличительная черта нашего времени, болезнь века? Я вполне отдаю себе отчет, что игра светотеней, даже столь пленительная, как у Виньи и Лермонтова, стоила слишком дорого. Еще бы! Нам ли, «детям страшных лет России»[523], этого не знать? Но как это ни странно и ни ужасно, та же «игра светотеней» — в Евангелии, где «загадочно-двусмысленно» почти все, что касается жертвы, свободы и спасения души. Вообще христианство не есть тихая пристань. Оно полно бесконечных противоречий и соблазнов, из которых величайший, может быть, сам Христос. Недаром Он сказал: «Блажен, кто не соблазнится о Мне».
В том же сборнике «Лунные муравьи» есть другой рассказ Гиппиус «Они похожи» о странном сходстве между Иудой и Христом.
«Весь он был черный и яркий, — замечает Гиппиус, описывая Иуду, — и одежда его была почти яркая — желтая. (Интересно, что Гиппиус применяет в этом рассказе ту же технику, что и Достоевский в «Великом инквизиторе»: у нее Христос тоже не произносит ни одного слова.) Но что неожиданно, в «Они похожи» — это не сопоставление Бога с дьяволом, отнюдь не новое, а внутренняя между ними связь (в чем она — Гиппиус не говорит), обуславливающая их внешнее сходство при сознательно подчеркнутой противоположности, «обратности» их физического облика. Но как ни пленителен образ Христа, Его неземная улыбка, сияющая такой «радостной радостью», невидимый черный свет затмевает своей яркостью тихое сияние этой улыбки. И так у Гиппиус почти всегда: чем решительнее она отмежевывается от соблазна, тем он ее упорнее осаждает.
В своих воспоминаниях «Живые лица», в главе о В.В. Розанове, авторе «Темного лика», она рассказывает:
«У нас, вечером, за столом, помню его торопливые слова:
— Ну, что там, ну, ведь не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек… А вот что Он… Господи прости! (робко перекрестился поспешным крестиком), — что он, может быть, Денница… спавший с неба, как молния…»
К счастью, подобные мысли ему являлись не так часто, иначе он, наверно, сошел бы с ума, ибо разум человеческий выдержать это долго не может.
Но в таком случае понятно, отчего тайна зла — твердыня для всех неприступная:
«Оттого, что у нее на страже — безумие».
ГИППИУС И ФИЛОСОФОВ[524]
I
Весной 1892 г. у З.Н. Гиппиус очередной бронхит. Д.С. Мережковский, раздобыв у отца денег, увозит ее сначала на Ривьеру, в Ниццу, а потом, когда ей становится лучше, ненадолго в Италию.
В Ницце, на даче профессора Максима Ковалевского[525] — вилле «Эленрок» — она встречает молодого человека, студента Петербургского университета, Дмитрия Владимировича Философова. Он замечательно красив. Но она увлечена другим, каким-то доктором (по-видимому, Чигаевым[526]) и на Философова не смотрит. В Петербурге они не встречаются. И только через шесть лет, когда в 1898—<18>99 гг. возникает «дягилевский кружок» и журнал «Мир искусства», начинается их сближение.
Однако в Философове с самого начала чувствуются какая-то сдержанность и холодок. Гиппиус к нему неравнодушна — это ее тайна. Но он больше интересуется Мережковским и его идеями, а ее сторонится. Ему многое в ней не нравится. И она это чувствует. 19 декабря 1900 г. она записывает в своем дневнике: «…он <Философов>[527] меня не любит и опасается. Именно опасение у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки».
У Мережковских была привычка «спасать» своих друзей (от гибели духовной, конечно). «Спасали» Мережковские даже в том случае, когда «погибающий» вовсе этого не желал, будучи убеждены, что делают доброе дело. К судьбе Философова, находившегося под влиянием Дягилева и его кружка, Мережковские не могли, конечно, отнестись равнодушно. Они считали, что на человека слабохарактерного, каким был Философов, атмосфера этого кружка должна действовать разлагающе. И вот Гиппиус начинает строить планы его «спасения», не без тайной надежды его приручить. На той же странице дневника, где она только что говорила о его к ней нелюбви, она пишет: «Жалею и Философова, который в такой узкой тьме. Там <у Дягилева> он пропадет, ну, конечно, для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такие мысли…» И вдруг спохватывается: «Да что я о Философове!» Но это игра. Философов ее интересует с каждым днем все больше, и в своем успехе она почти не сомневается.
Однако первая попытка спасти Философова желанного результата не дает. Пока на его внутреннюю свободу не посягают — он друг и помощник. Но когда выясняется истинное отношение Мережковских к «кружку Дягилева», в частности к «Миру искусства», и Философов оказывается не то что в «узкой тьме», а чуть ли не в помойной яме, откуда его вытаскивают силой, — он от Мережковских отворачивается. К весне 1902 г. Философов стал, по словам Гиппиус, «каким-то странным образом» от них отдаляться. «Иногда неожиданно казался даже враждебным».
Он переезжает к Дягилеву (Дягилев, его двоюродный брат). Мережковский, которого неудача огорчает, делает попытку с Философовым увидаться и переговорить. Но Дягилев — очень вежливо — его до Философова не допускает.
Это похоже на разрыв. Гиппиус злится и сочиняет две эпиграммы. Одну на Философова, перефразируя ответ Татьяны Онегину:
Друзья и мать меня молили. Рыдая, но для бедной Лили Все были жребии равны. Я вышел замуж. Вы должны, Я вас прошу, меня оставить…Другую — на Дягилева:
Курятнику — петух единый дан. Он властвует, своих вассалок множа. И в стаде есть Наполеон: баран, И в «Мир искусстве» есть: Сережа.[528]В марте 1903 г., за месяц до закрытия Победоносцевым Рел<игиозно>-философских собраний, Философов уезжает с Дягилевым в Италию. Но что разрыв по ее и Дм<итрия> С<ергееви>ча вине — эта простая мысль Зинаиде Николаевне в голову не приходит. «Он был, правда, все время болен, — замечает она, не догадываясь о причине «измены» Философова, — но не так, чтобы болезнью можно было оправдать его отчуждение от нас и от наших дел».
Незадолго до отъезда, 19 февраля 1903 г., Философов, отвечая на письмо Мережковского — оно, к сожалению, не сохранилось, — высказывает со свойственной ему прямотой свой взгляд на их отношения: «Вы рассердились и дали исход своему злому чувству, — пишет он. — Затем, как христианин, спохватились, что злостью не возьмешь, и начали прикидываться добрым. Все это скучно, неубедительно. Если я погиб, то меня уже не спасешь, если я еще не погиб, то почему Вы думаете, что у Вас монополия спасения? Нет ли тут опять главного Вашего порока — гордыни?»
Но отталкивает Философова от Мережковских еще и другое. «Если я временами вас покидаю житейски, — продолжает он, — то из желания охранить свое чувство расположения к вам. Я вас обоих люблю, и с вами тесно связаны значительные минуты моей внутренней жизни. И вот, когда начинается дипломатическая переписка по делам редакции, из которой так некрасиво проглядывает вся глубина вашего мелкого писательского самолюбия, уязвляемого всякими несогласными с вами мнениями, или когда вы со злобою в душе начинаете говорить сладкие речи — я начинаю удаляться. Не хочу вас видеть в личине чуждых мне и противных людей».
Земная связь людей порою рвется, Вот — кажется — и вовсе порвалась.[529]Эти, помеченные 1903 г. строки написаны Гиппиус, судя по их уверенно-спокойному тону, должно быть, уже после возвращения Философова в лоно Мережковских, то есть в самом конце 1903 г. А ее тогдашнее настроение более выражает посвященное Философову в 1902 г. стихотворение «Алмаз»[530], где она говорит: «Мы думали о том, что есть у нас брат — Иуда».
II
В октябре 1903 г. Гиппиус постигает большое горе. 10-го утром скоропостижно умирает ее мать, которую она очень любила. И неожиданно Философов возвращается: «…его помню вблизи все время, — пишет она в книге о Мережковском. — Именно тогда почувствовалось, что он уже больше нас не покинет. Дм<итрий> С<ергеевич> очень этому радовался».
Но возвращение Философова не меняет, по существу, ничего. Его поединок с Гиппиус продолжается. Единственная перемена — это что отныне борьба ведется в открытую, по крайней мере со стороны Философова. Что до Гиппиус, то она свои батареи обнажает не сразу. У нее — большая выдержка и на редкость упорная воля — как раз то, чего у Философова нет. Зато у него — прямота, простота и душевное целомудрие — то, что у Гиппиус отсутствует совершенно.
Проходит год с лишним. За это время Мережковскими сделана вторая попытка «спасти» Философова, столь же безрезультатная, как и первая. Философов отвечает контрнаступлением. Он спрашивает Гиппиус: почему она так уверена, что правда на ее стороне?
26 ноября 1904 г. она ему отвечает. Вот ее ответ: «Искренность вашего письма поразила меня. Я не могла не остановиться перед тем, в чем, может быть, правда. И в эти дни я об этом тяжело и много думала. Столкновение не меня и вас — а двух устремлений. Вы отрицаете существом мою сущность. Как раз то, что я считаю святым, — вы считаете дьявольским. Как раз мое созидание кажется вам разрушением. Мне не важно, кто из нас прав; мне важно, где правда. И вот я допускаю, что правда у вас. Добросовестно и просто думаю — возможно, что она у вас. Тогда все мое и я — делаюсь от дьявола, и только бы это решить, оставаться тогда в прежнем нельзя».
Что Гиппиус могла действительно искренно допустить, хотя бы на одну минуту, возможность своей неправоты — этому Философов вряд ли поверил. Настолько он ее знал, чтобы понять, чего она этим путем хочет добиться: ей надо было, чтобы он добровольно и беспрекословно покорился ее правде, отказавшись от себя. Но поскольку эта правда — христианство, Гиппиус ломится в открытую дверь. Расхождений догматических между ними нет. Философов с самого начала принимает отношение Мережковских к христианству со всеми из этого отношения вытекающими следствиями. В своей книге о Мережковском Гиппиус это подтверждает: «Д<митрия> С<ергееви>ча, как мыслителя, он <Философов> сразу понял, его идеи не могли его не пленять». Столкновение Гиппиус с Философовым — столкновение чисто личное, и в конце письма, сама себе противореча, Гиппиус это признает. «Вы понимаете, — пишет она, — я не о случайных отклонениях наших говорю, а о самом строе, — главном, — души. Когда обнажается этот строй у меня и у вас — мы сталкиваемся». Но в дальнейшем оказывается, что положение вообще безвыходное: «Если я перейду в вашу «правду» — я зайду дальше вас, и вряд ли мы сможем общаться (намек на схиму, которую, как ни трудно этому поверить, Гиппиус грозится принять. — В.З.). Если я останусь в своей прежней — мы тоже наверно не сможем общаться, — потому что вы никогда, при устремлении к безволию, не сможете сделать усилия воли и перейти в другое ради одной правды». И словно в неистовстве, она продолжает: «При общении (и при том, что я останусь в своем прежнем) — так будет всегда, и еще больше, ибо я буду усиливать то, что мне кажется святым и что вас «уничтожает, разлагает», что вам кажется “мертвенным ядом”».
Уже по одному этому можно судить, насколько искренно она допускает возможность правды у Философова. Но какую бы форму их отношения ни принимали, с занятых позиций ни он, ни она не сойдут. Философов действительно отличался исключительным безволием, и то, что она говорит о его природе, по существу, верно. Но он вовсе не был против «низведения неба на землю». Он лишь указывал на опасность смешения двух порядков — человеческого и божеского, разделить которые до конца на практике не так-то просто. А Гиппиус с этой опасностью играла все время.
Он на ее письмо не отвечает. Дальнейшие объяснения происходят, по-видимому, устно, при встречах, которые он часто откладывает, посылая коротенькие записки карандашом вроде: «Зина, милая, я не могу сегодня быть». На Гиппиус, когда она права, он не сердится. В своих недостатках, в частности в своем безволии, он вполне отдает себе отчет и не старается казаться лучше, чем он есть на самом деле, по крайней мере перед Мережковскими. Но «святость» Гиппиус медленно его разлагает и в конце концов доводит до раздвоения личности, что парализует его волю почти совершенно. Вот характерное для него письмо — одно из многих, — в котором он признается в своей, доводящей его до отчаяния, слабости.
«Дорогая Зина, — пишет он Гиппиус, — я не знаю, что со мной делается. Как только соберусь к вам — так начинаю выдумывать повод, чтобы не идти. Какой-то страх, глупый страх. В воскресенье пошел с сестрой на совещание родителей, а вчера был на редакционном собрании «Жупела». Какая-то реакция, которая сегодня, слава Богу, начала проходить, и я по крайней мере в силах написать это письмо. Думаю, все опять пройдет, но сколько чувства какого-то отчаяния за свою слабость. Впрочем, я чувствую себя плохо физически.
Постараюсь прийти сегодня. Говорю, постараюсь, потому что еще нет уверенности. Но, повторяю, слава Богу, лучше. Завтра надеюсь окончательно войти опять в колею и избавиться от какого-то острого нежелания вас видеть, то есть конечно, не вас, единственных близких, а вернее, себя. Ваш Дима».
III
В конце апреля 1905 г. Мережковские с Философовым едут в Крым, где живут несколько недель вместе. Потом Философов возвращается в Петербург, а Мережковские через Константинополь — в Одессу.
12 мая Гиппиус пишет Философову из Ялты длиннейшее, на 16 страницах, письмо. В нем ничего непосредственно касающегося их отношений нет, кроме нескольких замечаний, из которых видно, что она влюблена по-прежнему. «Дм<итрий> все говорит, — приписывает она на полях, — как много дало это наше путешествие. Я не говорю, но столько знаю!» И на другой странице: «Поехали на Ай-Николу. Хоть и не было тебя (по предложению Философова они все трое перешли на «ты». — В.З.) — не могу сказать, чтобы я не наслаждалась глубоко». Но письмо это важно в другом отношении. Она в нем впервые говорит о своей еще не додуманной до конца идее «тройственного устройства мира», имевшей такое громадное влияние на творчество Мережковского и на всю их последующую совместную работу. Философов, хотя и не сразу и не без оговорок, тоже ее принял.
Эта весна в Крыму — затишье перед бурей. Уже на обратном пути, в Одессе, их ждала неожиданная встреча. Тут как раз пришел пароход с ранеными из Японии. В гостинице, где остановились Мережковские, поместили нескольких офицеров порт-артурских. «Чего мы в их комнатах не насмотрелись! — пишет Гиппиус в книге о Мережковском. — И такое осталось впечатление, что все эти «вернувшиеся» из огня войны — люди уже (или еще) ненормальные». Эта встреча послужила Гиппиус темой для рассказа «Нет возврата» (первоначально «Дыра в голове»), напечатанного в ее сборнике «Лунные муравьи».
Дача в имении «Малое Кобрино», на станции Суйда по Варшавской железной дороге — небольшой старый дом, — где Мережковские проводили это лето, была очень приятна. Они жили там втроем с Философовым. В середине июля он собирался недели на две в свое имение «Богдановское» Псковской губернии к матери — у него было к ней дело, — а затем назад в «Кобрино». Дело же было такое: Мережковские предложили ему поехать с ними за границу на год или даже на два-три, где они могли бы сжиться совместно и узнать новое, годное потом и для дела в России. В России все равно делать было нечего. «Мир искусства» уже не выходил, кончался и журнал Мережковских «Новый путь», Религиозно-философские собрания были закрыты. Философов хотел посоветоваться насчет поездки с матерью и испросить у нее на это благословение.
Он, конечно, как всегда, колебался. Но пугала его не жизнь за границей, а жизнь под одной крышей с Гиппиус. Уже в Ялте он начал понимать, какого рода чувства она к нему питает. А в «Кобрине» никаких сомнений на этот счет быть уже не могло.
В утро отъезда в Богдановское, 15 июля на рассвете, когда в доме все еще спали, она вдруг явилась к нему в комнату. Он довольно грубо отправил ее назад. Накануне вечером он ей написал письмо, которое, уезжая, подсунул под ее дверь. Вот что в нем было:
«Зина, пойми, прав я или не прав, сознателен или несознателен, и т. д., и т. д., следующий факт, именно факт остается, с которым я не могу справиться: мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях.
И тут вовсе не аскетизм, или грех, или вечный позор пола. Тут вне всего этого нечто абсолютно иррациональнее, нечто специфическое.
В моих прежних половых сношениях был свой великий позор, но абсолютно иной, ничего общего с нынешним не имеющий. Была острая ненависть, злоба, ощущение позора за привязанность к плоти, только к плоти.
Здесь же как раз обратное. При страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом. Это доходит до болезненности. Вот пример: ты сегодня курила из моего мундштука — и я уже больше не могу из него курить из чувства специфической брезгливости. Я бы ни минуты не задумался курить из мундштука Дмитрия. Да прежде, до нашего сближения, у меня этого абсолютно не было. И вот между мной и тобой вырос какой-то факт, который вселяет мне ощущение какой-то доведенной до пределов брезгливости, какой-то чисто физической тошноты.
Если рассуждать грубо, можно сказать, что такое чувство должен испытывать всякий человек, соединяющийся с другим без полового влечения.
Это абсолютно не то. У меня был такой случай. Но там чувство жалости, там нет бунта, просто бесконечное огорчение.
Здесь же все мое существо бунтует и у меня острая ненависть к твоей плоти.
Вот факт. Теперь что же мне делать?»
Она ему отвечает в тот же день в «Богдановское» трактатом на 32 страницах. Права она или нет, но она его любит и потому перед собой права, как прав перед собой Философов, который ее не любит. Ее любовь ноуменальна и трансцендентна, его нелюбовь тоже ноуменальна и трансцендентна. Их поединок не может кончиться ничьей победой, а лишь двойным поражением. Но они этого не понимают и продолжают бороться.
«Выслушай меня, Дима, — пишет она. — Я омрачила тебя, себя омрачила, отраженно — Дмитрия, но не прошу у вас прощения, а только нужно, чтобы я же мрак сняла, если то мне позволят силы и правда. От тебя хочу просить только одного: не осуди мое усилие выразить эту общую правду, даже когда увидишь, что усилие было напрасно, что я ничего не сумела сделать».
Но это как раз то, чего Философов не хочет знать. Он боится соединения Бога с полом. Однако, не считаясь с его идиосинкразией, она пытается объяснить то, что все равно не поймет нелюбящий, защитить свою любовь — «жалкие искры, краткие мгновенья моего святого чувства к тебе… Оно было все в Боге, от и через Него… Мгновенья религиозного чувства (не к тебе только, но к Богу, к природе) касались и духа моего и души и плоти. По отношению к Богу и к природе ты не осудил (да и как бы?), по отношению к себе ты — полусознательно или вполне сознательно, заподозрил похоть. Слишком это естественно… Во всякую чувственность всегда входила нить похоти, вот этой голой и холодной, всегда, с самого первого чувственного момента, плотского».
И, продолжая не считаться с тем, что внушает Философову ужас и отвращение, она ставит вопрос: «Но скажу и я тебе: а ты знаешь, ты наблюдал когда-нибудь чувственность — сознательной веры? Идущую от Высшего (не к Нему, как у св. Терезы), всю под Его взорами? Может ли в такой чувственности быть нить похоти? Хотя бы самая тонкая? Хотя бы не сознаваемая? Может ли вообще быть?.. Я не смею ничего утверждать о себе, абсолютно. Я ничего не знаю. Но часто казалось мне, думалось, что по отношению тебя, с тобой я могла бы сделать и почувствовать только то, что могла бы сделать при Христе, под Его взором, и даже непременно при Нем. То есть так, чтобы Он не только мог быть, но непременно был бы… Знаю о себе, о кратких мгновениях моей предлюбви к тебе, что они были, при их плотскости, прозрачны, насквозь проницаемы для Божеского взора, все перед Ним, вместе с Ним».
IV
В Богдановском Философов ничего не делает. Валяется до завтрака, после завтрака опять идет к себе и даже чай пьет у себя в комнате.
Его поместили в квартире управляющего, далеко от большого дома.
С матерью он насчет Парижа еще не говорил. Все откладывает. Может быть, не поедет.
Письмо Гиппиус подействовало на него разлагающе. Чем он больше о нем думает, тем меньше знает, что на него ответить. Вообще он мыслей боится. Как с ними быть?
А письмо Гиппиус — грешно. Вот первое впечатление. Грешно, потому что абсолютный грех на тридцати двух страницах копаться в «собственных душевных кишках» — так по крайней мере ему кажется. А свои кошмары, вроде «ледяного озера», мы обязаны держать при себе. Распространяться на эту тему ни при каких обстоятельствах не следует.
Наконец 22 июля он отвечает: «Прочел сегодня утром, при свете солнца, со свежей головой, твое письмо вновь — и ужаснулся! О, не содержанием, не фактами, в нем изложенными, не теми внутренними и внешними событиями, по поводу или о которых написан сей трактат, а именно этим самым «О».
И сегодня, при свете солнца и со свежей головой (что, конечно, не отрицает возможности думать иначе при свете колдуньи-луны), я настойчиво утверждаю: Зина, берегись. Берегись прелести умствований! Особенно берегись, потому что в конце концов где-то, в тайниках души эти тонкие умствования, эти отцеживания умственных комаров, доставляют тебе наслаждение. О, я не против игры в шахматы, а у тебя вся твоя игра обращается как бы в усовершенствованный бой быков. Без опасности и без ран для тебя игра не существует…
Ты все думаешь, что ты борешься с диаволом, увы, мне иногда кажется, что ты борешься с Богом, и не то что борешься, а как-то ставишь себя с Ним на одну доску! И это ужасно страшно, и я начинаю тебя ненавидеть. Ты категорически утверждаешь, что «знаешь» о себе, знаешь, что твои переживания при всей их плотскости были прозрачны, насквозь проницаемы для Божеского взора. Если у тебя такие знания, то ты или святая, или бесноватая, во всяком случае, мне не товарищ. Да, я никогда не наблюдал «чувственность сознательной веры», но я поэтому и не утверждаю и не отрицаю, есть ли в ней «нить чувственности» или нет. Ты не наблюдала тоже, но с властью пророка утверждаешь. Говорю, не наблюдала, потому что для таких наблюдений необходима Церковь, только имея ее за собой, во всей ее полноте, то есть имея такой пробный камень, который не обманет, можно пускаться на такие опыты. Теперь же, предаваясь своим одиноким колдовствам, ты не имеешь права говорить, что ты знаешь, ибо твои знания проверяли кто? Бог или диавол? Не знаю.
Зина, мое письмо жестокое, я знаю, и особенно жестокое потому, что я его пишу «при свете солнца». Но что же мне делать, уж если пошло на борьбу, так не до сладости. А я борюсь, во-первых, за себя, за свою тайну, которую никогда не предам, и за свою простоту».
Философов, конечно, прав — с точки зрения церковной. И живи Гиппиус в Средние века, ее, несомненно, сожгли бы. Но ведь и Церковь может иногда ошибаться. Ошиблась же она, возведя на костер Жанну д’Арк. Это одно. А другое: в Церкви не только Евангелие, Новый Завет, но и Ветхий — Библия. А в Библии — обрезание, смысл которого богосупружество, кровно-плотский союз Бога с человеком. И как бы ни относиться, Библия без обрезания то же, что христианство без крещения.
Конечно, нет такой заповеди, которая обязывала бы Философова любить именно Зинаиду Гиппиус, а не кого-нибудь другого. И если он прежде всего борется за себя — это его священное право. Единственно, что можно бы ему по этому поводу заметить, это что с точки зрения человеческой момент, выбранный для расправы с Гиппиус, не совсем удачен.
В деревне Философов ничего матери о Париже не сказал. Решил написать из Петербурга. Но решение — одно, а дело — другое… Когда наконец после многих усилий письмо было написано, оно долго лежало, он каждый день не решался его послать. Возвращаться же в Кобрино, не имея ответа от матери, ему не хотелось. Получился тупик. Дело доходило до того, что, по собственному его признанию, он «напивался и хамски кутил до утра».
Наконец, 2 августа, Гиппиус посылает ему телеграмму. Он тотчас отвечает: «Дорогой друг, ты меня знаешь, и знаешь, что все мои беды от недостатка воли. Если я застрял так долго здесь, то именно по болезни воли. Твоя телеграмма заставила меня очнуться.
Вместе с сим отправляю маме письмо, копия с которого при сем. Буду у вас в четверг, в 1.5. Если не приеду, значит, что-нибудь случилось. Тогда приезжайте за мной».
Но он приехал.
V
О поездке за границу Философов мечтал давно. Уже в июле 1904 г. он пишет Гиппиус из Петербурга в Аусзе (Австрия), где она с Мережковским проводит лето: «С Чулковым[531] вчера мечтали. Мечтали об эмиграции и об издании журнала за границей. Он, конечно, с политической точки зрения, а я с религиозной. И мечтать было сладко, и эти мечты засели во мне… Мы все волнуемся, как бы внешняя жизнь более совпала с внутренней… Думаю, что самое «практичное» — это именно внешний отъезд одновременно с внутренним. Для меня такой отъезд очень труден. Подвиг. Но это был бы подвиг с результатом».
И будущее рисуется Философову в розовых тонах, что для такого осторожного скептика, как он, по меньшей мере неожиданно. «И вдруг настанет день и час, — мечтает он, — когда мы себе скажем: теперь мы окрепли. Поедем на родину. Скажем, что мы уезжаем для них же, чтобы вернуться к ним сильными, здоровыми, богатыми, что о них мы думали постоянно, потому что любви у нас много. Благослови, Господи!» А о себе он пишет: «Если это будет, то надо готовиться исподволь, жалея меня, не упрекая вечно за мои слабости (я их сам знаю), а жалея, не только любя».
В письме к матери, от 2 августа <1>905 г., в котором он просит ее благословения на «новую жизнь», он о своей поездке говорит приблизительно то же. «Ты давно знаешь, — пишет он, — что я крайне неудовлетворен собой, что жизнь моя как-то так сложилась, что у меня слово не сходится с делом. И вот, наконец, я решил круто повернуть». Это значит — разрыв с Дягилевым. «Ты меня не раз упрекала, — пишет он в том же письме, — что я как-то разошелся с «Миром искусства», что я перешел во враждебный лагерь, причем чувствовалось, что ты боишься, не сделал ли я это под вредным влиянием З.Н.
Мне трудно вводить тебя во все подробности, да это и не надо. Скажу только, что мои пути с Сережиными разошлись и что именно для того, чтобы благодаря житейской близости эта умственная противоположность не перешла во враждебность, мне нужно на некоторое время от него и от «Мира искусства» удалиться».
«Вредное влияние» Гиппиус Философов не отрицает. Но он отрицает свой «роман» с ней. «Я знаю, моя милая, все то, что говорят кругом о моих отношениях к З.Н. Я знаю, что без особого исключительного доверия ко мне очень трудно отрешиться от мысли, что я влюблен, что «Зиночка меня зацапала» и т. д. Вот тут-то и надеюсь только на твое материнское прозрение, на твою любовь ко мне и доверие.
Убедить тебя я никакими доказательствами не могу. Тут можно только поверить. Если тебе это трудно теперь, то, милая моя, на коленях прошу тебя, поверь хотя бы на время, пока. Скоро, скоро, даст Бог, ты убедишься в правоте моей и не раскаешься, что поверила мне».
Но «материнского прозрения» у Анны Павловны[532] как раз не оказалось. Она не почувствовала, что ее «Дима» Зинаиду Николаевну не любит. В своем ответе из Богдановского, от 4 августа она пишет: «Ты меня не переубедишь в том отношении, что Зиночка тебя «зацапала», но из этого ничего не следует заключать. Я совершенно откровенно и раз навсегда, и в последний раз выскажу тебе все, что у меня на душе относительно Зиночки, — и баста. Не правда ли?
Ты бесхарактерный, и слава Богу, что тебя зацапала Зиночка, а не кокотка или какая-нибудь Елиз<авета> Никол<аевна> или Верочка Муравьева. Она умна и даст тебе ум, что же касается до ее телесных экстазов, о которых так цинично рассказывают ее подлые поклонники, которым она их расточала, то пойми, что до меня это вовсе не касается, какое мне до этого дело. Я лично ее не люблю, потому что она кривляка, но нам с ней не детей крестить, Бог с ней, пусть для нее я не существую и не ей быть разлучницей наших с тобой сердец».
Материнское благословение она дает тотчас же, в самом начале письма: «Мое благословение, ты знаешь, всегда и всюду с тобою и во веки (моего существования). Я очень сожалею, что ты раньше не возбудил со мной этого вопроса, который для меня не новость». Философов писал ей о своих заграничных планах еще прошлой осенью (когда мечтал с Чулковым). Анна Павловна ему об этом напоминает: «Спроси Зику[533], как я сочувственно относилась к твоей поездке. Я говорила, что как мне это ни тяжело, но я обязана с этим мириться для пользы твоей и будущего… Я не верю, чтобы вы поведали миру более «Герценов» и пр., и таланта у вас меньше, но что бы вы ни поведали, и на том спасибо».
После такого письма Философов мог бы со спокойной совестью пуститься в путь, тем более что Анна Павловна позаботилась и о материальной стороне поездки. Но он внезапно впадает в состояние, какое в <1>902 г. предшествовало его разрыву с Мережковскими. Положение осложняется еще тем, что падает духом и Гиппиус. И если бы она не взяла себя вовремя в руки, возможно, что в этот раз Философов порвал бы с Мережковскими окончательно.
VI
Через шесть недель после письма Анны Павловны, 13 сентября, Гиппиус пишет Философову: «Дело в том, что я не верю в нас. Это ужасно страшно. Я почти не могу этого переживать одна, а между тем приходится. Вы не помогаете мне, не поддерживаете — потому что не можете. Если б могли — так ведь я бы верила.
В корне не верю, что мы, нашим соединением, сделаем что-нибудь. У нас нет сил, ни у кого, на соединение. Всякое старочеловеческое ближе нашего, плотнее, реальнее. А мы не способны ни на старое, ни на новое.
Дмитрий таков есть, что он не видит чужой души, он ею не интересуется… Он и своей душой не интересуется. Он — «один» без страдания, естественно, природно один, он и не понимает, что тут мука может быть. Ты точно заколдован, в феноменальном параличе, ты — крик во сне, когда нет голоса, твоя импотентность в проявлении исключительна, стены твоего дома — кругом брандмауэры. Ты, может быть, и страдаешь от этого… не знаю. Мне все равно, потому что если и есть страдание, то так как и оно не проявляется, не является, не касается мира — то его как бы и нет. Ни к тебе путей, ни от тебя.
Я хуже всех. И мне хуже всех. Я свои острые переживания (откуда взявшиеся?) принимала за факты. Устроила что-то, «пусть этот стул будет экипаж, а этот — лошадь» и поедем… И видела все так, и точно ехала.
Я — мелковатая, самолюбивая, похотливая и холодная душа! Даже и это все рисовка, насчет «жгущего холода», холодная обыкновенно, скорее, сухая и лишь холодноватая бабья душа. С хитринкой перед собой, когда доходит дело до устроения себе приятностей.
Никогда я тебя не любила и влюблена не была, и все это один мой, перед собою, надрывный обман. Я, может быть, и Богу никогда не молилась, что все тоже обман желаний, а сухая душа не двинется.
Ведь не молюсь же я теперь. И не интересуюсь даже ничем религиозным. И ни на йоту не люблю тебя, и даже не представляю себе, как это было, когда я это хотела и мне «казалось». Основательно дом выметен».
Гиппиус, конечно, права. Но это — лишь часть правды. Иначе им ничего не оставалось бы — всем троим, — как разойтись в разные стороны. Философов это понимает, и переписка продолжается. Через три недели Гиппиус посылает ему новое письмо, написанное как бы другим человеком, где на 16 страницах развивает тему об опасности «двойной жизни». В этом письме характерны следующие строчки, прямого отношения к теме как будто не имеющие: «Тот, кого любят больше, чем он любит, — под властью, во власти этого любящего. Происходит фактически то, что не должно быть: человеческая власть одного человека над другим. Попрание свободы».
Гиппиус, по-видимому, уже тогда начала понимать, что единственная возможность сохранить отношения с Философовым — это не посягать на его свободу: живи как хочешь, выбирай что хочешь. И в ночь с 9 на 10 октября (годовщина смерти ее матери) она ему пишет: «Несколько дней тому назад (перед тем, как ты был у нас с Бердяевым) — мне вдруг с ясностью, с определенностью и почти ни с того ни с сего представилось, как ты приходишь к нам и говоришь с мукой, похожей на вражду, что не можешь ни быть с нами, ни ехать, что причины сложные и т. д. Я знала, и что отвечу тебе: почти ничего. Гораздо меньше, чем в <1>902 г. Что делай, как можешь и хочешь сам, а что мы останемся и будем ждать тебя, и ты всегда, во всякую минуту, найдешь нас там и такими, какими и где оставляешь. Что мы верим, что ты вернешься. Вот и все, старое, давно тебе известное и незыблемое».
Это очень умно. Но тут ей следовало остановиться. Тогда Философов почти наверно не сделал бы того, что она ему как будто подсказывала. Но она не соблюла меру, и результат получился обратный.
«И это «мечтанье воображения», — продолжает она, — преследовало меня с поразительной конкретной ясностью… А после это «мечтанье», даже это, показалось мне несбыточным. Чтобы такприйти и сказать, самому и скоро, — тебя не хватит (или хватит?)… Ты все не решался бы, а потом, пожалуй, написал бы… Да и то не скоро… Во всяком случае, я чувствую, что тебе не хочется ехать, может быть, хочется не ехать. Но мука в том, что ты, любя нас меньше, чем мы тебя, — не смеешь сказать нам это открыто и прямо в глаза (как нужно!) — и почти не смеешь взять мою помощь, которую мне так хочется тебе дать».
Относительно последнего позволительно усомниться. «Галлюцинации» Гиппиус, как она их сама называет, — не освобождают, а напротив, связывают, и, конечно, такое «попрание свободы» не могло Философова не возмущать. Он чувствовал себя все больше кроликом перед удавом. А Гиппиус хотя и действовала без сознательного расчета, но ее действия автоматически вели к тому, чтобы кролика проглотить… И вдруг, о неожиданность! Кролик оказал сопротивление.
VII
Не письмо, а «меморандум», без обращения, на пяти страницах большого формата — вот что получили Мережковские. Начинался он так: «Я не еду в Париж (вопрос, конечно, не в конкретной поездке, а в ее символичности), потому что чувствую какое-то нарушение равновесия нашей тройственности». Это нарушение в том, что Философову вдруг стало скучно. «Если бы я не говорил раньше, что «мне скучно», я бы мог ехать, потому что равновесие не было бы нарушено. Но почему я говорил «мне скучно»? Вы утверждаете, что по слабости внутренней. Верю вам. Именно верю, но сам с полной ясностью этого не вижу. Думаю, что тут было много внешнего. Но раз у вас есть сомнения, то и я сомневаюсь, а потому покоряюсь без всякого надрыва и без всякой пассивности, а просто и радостно».
Когда-то Философов упрекал Гиппиус в любви к «отцеживанию умственных комаров». Но сам он не лучше ее, как это видно хотя бы по его рассуждению о скуке. Гиппиус была права: ехать в Париж ему смертельно не хотелось, и он рад всякому предлогу, чтобы отделаться от поездки. «Но размышляя об этом, — продолжает он, — должен сказать вот что: тройственность нарушалась не только тем, что я слабел, но также тем, что в момент моей силы Зина слишком усиливала наши личные отношения… Несмотря на всю мою веру в нее как часть целого, у меня есть ощущение, что она делает надо мной опыты, то есть бессознательно делает меня не целью, а средством, и делает опыты опасные. Ощущение того, что она ворожит надо мной, ощущение бесчисленных личных Зининых нитей паутины, связывающих меня, меня ни на минуту не покидает… Я требую от Зины полного прекращения тех отношений, которых она хочет. Может быть, временно, теперь, пока не будет восстановлено равновесие, а может быть, и навсегда. Но пока я чувствую, что тут путаница, смешение, пока я ощущаю здесь ворожбу, она не имеет права со мной не считаться, ибо это насилие».
Ультиматум кролика был принят. Жалоб на удава больше не поступало. Но через малое время кролик сам полез к нему в пасть.
Философов пригласил Гиппиус обедать к Донону[534]. Там они неожиданно встретились с Дягилевым, который устроил Философову дикую сцену. Это было в конце декабря, накануне Рождества. «Инцидент с Сережей, — пишет Философов Зинаиде Николаевне, — имел самые серьезные последствия. Он написал маме моей письмо, в котором он просит ее простить его, что он не будет больше посещать наш дом, но что по личным причинам, а не принципиально не может поддерживать со мной отношений. Пока я все делал, чтобы разойтись принципиально, — это до конца не удавалось. Но при первой житейской грязной истории, которая для меня лично грязь, — Сережа нашел возможным совершенно устраниться». Но есть в письме новость более важная: «Мама сегодня мельком сказала мне, что она хочет посоветоваться с Чигаевым, а после того, после отъезда Зики, посоветоваться со мной серьезно о наших делах. Не поехать ли ей в апреле за границу к сестрам, ликвидировав квартиру. Она сама начала! Все будет!»
И вот наконец день отъезда назначен. Философов уезжает 10 февраля — первый. Он провожает мать в Швейцарию, к сестрам, а оттуда едет в Париж, где встретится с Мережковскими. Они выезжают через десять дней после него с расчетом поспеть в Париж ко дню его приезда, в крайнем случае на следующий день.
Накануне его отъезда Гиппиус посылает ему напутственное письмо: «Радость моя, деточка милая, уезжай с благословением Божиим. Я буду следовать за тобой любовью.
Христос утвердит ее, чудесную, укрепив и утвердив тебя. Он Сам с тобой. Он Сам сохранит тебя для Себя, для меня и для нас».
Трогательно. Жаль только, что сразу же после Бога, на втором месте — удав.
VIII
Философов уезжал с Варшавского вокзала в 12 ч. утра, а в 11 ч. на Николаевский приезжал из Москвы Дягилев. Узнав от встречавшего его Ратькова-Рожнова[535] об отъезде Философова, он бросился на Варшавский вокзал.
В своем письме из Берлина Философов описывает эту встречу: «За пять минут до отхода поезда приехал Сережа. Мы с ним крепко поцеловались. Было страшно тяжело, очень тяжело. Жалость просто залила душу. И мне было страшно. Да и вообще очень жутко. Господи, как-то все будет».
Гиппиус ему отвечает: «Вчера пришел Бердяев и стал рассказывать, как тебя провожал; и что у тебя лицо было печальное. И вдруг мне стало скучно, скучно, и так и до сих пор скучно, — а сначала, все два дня было очень светло, весело и спокойно. Хорошо». На полях приписка: «А что С<ережа> тебя провожал, это как было, хорошо? Ему? И вообще?» Другая приписка: «Не знаю, чего желаю. Чтобы ты скорее в Париж или не скорее в Париж. Знаешь, пожалуй, первое, из-за новых моих страхов».
В этом письме впервые появляется черт — одно их главных действующих лиц жизненной драмы Гиппиус, сыгравшее свою роль в ее отношениях с Философовым. Сначала он скромен и лишь путается во время укладки под ногами: «А кругом искушения, черт так и суется. Только что принялась бумаги разбирать — как тут же сожгла важный документ, присланный на день Сераф<имой> Павловной[536] (Ремизовой)… У Дмитрия неслыханные искушения из Москвы… Хотела бы выехать не позже 19–20. Везде, черт, препоны, я уже всего боюсь».
В следующем письме, которое она посылает «наугад», не зная точно, где Философов — во Франкфурте или в Женеве, она пишет: «Дима, родной мой, очень мне холодно, холодно. То, что ты есть, как следует, такой, как следует, одно и поддерживает. Твое письмо меня так обрадовало. А все-таки холодно, холодно». Этот холод тоже от черта, от «ледяного озера». Получив от Философова телеграмму о его выезде в Париж, она его предупреждает: «Очень, очень прошу тебя, ничего не начинай в Париже без нас, никаких людских связей, даже самых внешних, это очень важно, этим ты мне поможешь внутренне».
В Париже они останавливаются в Hotel Iena, Place Iena. Но там не задерживаются. Быстро находят пустую квартиру в новом доме, в Auteuil, на 15 bis, Av. Theophile Gautier, перевозят туда вещи и едут на Ривьеру, сначала в С.-Рафаэль, потом в Канны, где поселяются в Hotel de l’Esterei на Route de Frejus, по дороге в La Восса.
Философов занимает комнату № 17. 11 апреля Гиппиус передает ему через портье письмо, из которого видно, что она ворожила недаром. «Знай, верь или, если уже знаешь, — помни: все что было — было абсолютно необходимо для обоих нас…» Но ее победа призрачна, и она это чувствует. «Никогда так близко не было темное, как может быть теперь, — замечает она. — Темное уныние, темное одиночество, темная злоба… Дима! Тут, в них, не будет правды». И она просит: «Не греши, ни унынием, ни ненавистью, ни покаянием. Мне светло».
В конце апреля Философов возвращается в Париж на несколько дней раньше Мережковских, чтобы приготовить к их приезду квартиру. 29 апреля, накануне своего отъезда, Гиппиус посылает ему в «Отель дю Лувр», где он остановился, «трактат» на 18 страницах, почти сплошь посвященный разговору с чертом. «Бездонность слабости нашей, — пишет она, — все яснее для нас, нам открывает ее бездонность нашего страха. Воистину — страх начало мудрости. Потому что знать, как слаб, нужно же. Я тебе скажу о себе (и говорила, но нельзя не повторять) — что мучения страха во мне до такой степени, иногда, застилали все, что я только его и видела и не хотела и не могла с него внутреннего взора спустить, как с врага, который тотчас заест, отвернись только от него. А ты думаешь, я не вижу около, близко, гримасничающее лицо Дьявола. Долго, долго, пока не устал, он повторял мне: «Ты не любишь, ты не любишь, не будь комичной, обманывая себя. Где же твоя твердость сознания? Имей смелость и честность хоть себе и мне признаться, что не любишь и даже не влюблена. Воображение, головное упрямство, натаскивание. Право, и не влюблена. Немножко похоти-страсти, и то так себе — вспомни, ведь ее бывало больше. Заметь, даже похоть и та сильнее в отсутствии, то есть в воображении. Реальное влюбление, реальная страсть — не таковы. Ты раздражена противодействием, это упрямство, властность и воображение. Ты не любишь и не влюблена. Не обманывай себя и меня». Вот он что твердил мне, пока не устал. Но устал. Я сама, я одна, своими силами, не могла бы устоять. Ведь он не глупее меня, в сознании равен мне. Но я оборачивалась в другую сторону и там находила силу встать куда-то поверх сознания (только его), в область какой-то бестенной правды, и оттуда отвечала ему: «Нет. Я люблю. Я так хочу. И в этом не моя, как не твоя воля. Я и Он, а не я и ты». И он, Дьявол, изменил гримасу. Он стал говорить мне: «Ну что ж? А теперь видишь? Что же, много отрады в «достижении»? Много у тебя оказалось страсти? Сны, то есть воображение, не блаженнее ли были реальности? Горячая головка, но… средний темперамент! Тебе хотелось опыта — вот тебе и опыт. Опрометчиво, очень опрометчиво! Разве, если уж с твоей, романтической, точки зрения говорить, разве не веселее, загадочнее, упоительнее, подъемнее, огненнее раньше было, до этих трех, двух ночей? Трепет неизвестности, блаженный трепет вольного не до… Недохождение до того, что возможно, — ведь это свобода предполагать, что и в возможном, в бывшем и бывающем — полное счастье. От тебя зависит, от тебя — человека: протяни руку сам — и возьмешь. Всегда можешь думать, что если не берешь — то потому, что сам не хочешь. Это тоже хорошее счастье. Ну, а теперь? Не ясно ли, что ты сама ничего не можешь? Только лишилась и этого упоения человеческой возможностью. Опрометчиво и с другой стороны. Ты не «любишь», но допускаю, что этот человек тебе, для тебя, как-то нужен, телесно даже, чем-то необходим. Зачем же ты так безрассудно не постаралась привязать его к себе чисто полом, прямою страстью? Что он-то не любит — об этом ведь и спорить не приходится. Но если бы ты, даже сама бессильная к страсти в себе, владела собою и своим сознанием, — ты смогла бы завязать ту ниточку, схватить кончик той цепи, который у него теперь свободен. О чем же ты мечтала? Как это неумно! Столько учить тебя столь многому, чтобы ты в нужную для тебя минуту потеряла все, парализованная утопическим «уважением к личности», воображением «любви» и — нелепым страхом, идущим неизвестно откуда, только не от меня и не от человеческого. Подумай — чего бы ты могла достигнуть, если бы была умнее, только умнее, и сравни с тем, что имеешь теперь».
Вот что говорил мне черт. Но я знаю, что это он. А ты должен чувствовать, Дима, что это он. Я нарочно пишу тебе все, я не хочу бояться и хочу быть с тобою рядом, — борясь с ним. Слишком долго борюсь я в одиночестве (тут). А ты до сих пор один со своим. Но я верю, я вижу, как побеждаешь ты своего (и я своего) — и верю, что не устрашит тебя и мой. Может быть, они, твой и мой, окажутся одним. Тогда мы двое будем против одного. Победа не вернее, но легче борьба».
IX
Ответить на это письмо Философов не успевает: через два дня, 1 мая, Мережковские в Париже, у себя на квартире, которую он приготовил к их приезду.
Да и что мог бы он ответить? Что ворожба продолжается, что над ним совершают величайшее насилие, что он ни сказать, ни даже подумать не смеет, что не любит, т. е. не так любит, как это угодно Гиппиус, ибо это от Дьявола, что Богом и Дьяволом она распоряжается по своему усмотрению, выдавая Божье за дьявольское и дьявольское за Божье. Что у него бывают минуты, когда ему хочется бросить все, сесть в поезд и вернуться даже не в Петербург, а в Богдановское, и что если бы не стыд, он, пожалуй, не устоял бы. Каждый раз, когда ему удается вырваться куда-нибудь одному, хотя бы на день, — это отдых. Отдых даже прогулка в одиночестве по Парижу.
В конце лета Мережковские едут в Pierrefonds. Философов с ними. Там он до 8 октября, а затем отправляется в Амьен, на конгресс синдикалистов, где пробудет несколько дней. Он посылает Гиппиус три открытки. Она ему отвечает коротким письмом, в котором выражает свое сожаление по поводу его отсутствия: «Неловко как-то, что тебя нет. Ты мне нужен каждую минуту жизни, во всех видах и состояниях, иногда в отдалении, но решительно в небольшом и не дольше, максимум, 6–8 часов.
Не забывай, что ты обещал мне все решительно рассказать, что было на конгрессе, и смысл его и вне его и ты и все».
О конгрессе Философов пишет кратко, между прочим, что там «доминируют два чувства: зависть (реформисты, пекущиеся о благополучии, как у буржуа) и ненависть (анархисты)». Он просит послать ему в заказном письме 50 фр<анков> на всякий случай, так как боится, что у него не хватит денег.
Гиппиус спрашивает его не без ехидства: «Признайся, весело чувствуешь себя на свободе? Ничего, ничего. Это иллюзия. Ты не «на свободе», потому что я все же тебя люблю». Это тем более неожиданно, что двумя днями раньше она его поощряла: «Веселись сколько влезет, дорожи часом, в Париже не запрыгаешь».
Философов собирается назад и извещает Мережковских о своем приезде. Но конгресс затягивается, и он решает остаться еще на один день. В ответ на это Гиппиус, вернувшаяся тем временем с Мережковским в Париж из Pierrefonds, делает ему строжайший выговор. На открытке мелким почерком она пишет: «Ни то, что, м<ожет> б<ыть>, Нув<ель>[537] прав и ты со старой психологией увлекаешься общественностью, ни то, что еще какой-нибудь старой психологией увлекаешься; но старая психология не отвечать за себя и не делать, все равно почему, того, что сам свободно говоришь, — мне кажется самой опасной, и, на наш взгляд, она у тебя должна бы уже измениться. Этот мелкий факт меня за тебя глубоко оскорбил. А я именно предполагаю не ответ за себя, потому что не могу же я думать, что ты уже думал остаться, когда просил прислать 50 фр<анков>. Лишь на случай, чтобы не бояться. Извини, если тебе тоже не понравится эта карточка. Но надо же быть искренней. И эта психология старая одинаково недопустима в мелочах и в крупном. Должна признаться, что это нам обоим чрезвычайно не понравилось».
«Уж если у кого старая психология, — отвечает ей Философов, — так это у тебя, и я категорически протестую против нее. Я уже уложил вещи, чтобы вернуться сегодня к обеду. Но, видя в твоем грубом письме самое для меня нестерпимое насилие, я из принципа остаюсь до конца конгресса и вернусь только завтра. Ты даже не постыдилась сказать такую мерзость, что, когда я выписывал 50 фр<анков>, я врал. Ну как тебе не стыдно».
Ей, может быть, и стыдно, но когда ею владеет ревность, она теряет голову. Не успокоил ее и Нувель, которого она пригласила обедать и от которого узнала, что Дягилев в Париже со своей выставкой художников «Мира искусства». Она боялась, что Философов его встретит, боялась «старой психологии». Философов, тоже боявшийся встречи с Дягилевым, пишет ей из Амьена: «Ведь топография его <Дягилева> очень узкая <он жил в Hotel Scribe, около Больших бульваров>. И мы с тобой отлично будем ходить на левый берег… Пока у меня столько дела и такое настроение, не ходить на бульвары для меня не лишение». Но, кроме Дягилева, встречи с которым удалось избежать, Философова подстерегали другие искушения, как это видно из письма Гиппиус от октября <1>907 г. Однако, какие — неизвестно, и справился ли он с ними — неизвестно тоже. Но, когда в следующем году Дягилев приехал в Париж с русскими концертами, Философов «пал» — бывал на концертах и у Дягилева в Hotel Hollande. Гиппиус пишет Философову: «Чувствую себя в нелепом, тупом хаосе жизни, дней, проходящих под улыбкой мелкого Дьявола. Мне ночью мучительно твердилось, точно в уши кто шептал, что тебя черт искушает, даже не трудясь новенького выдумывать, даже не революцией, а старым фраком, и даже не на «грех» искушает, а просто на отвлечение от дела жизни нашей, на «настроения» и безмужественную косность, тягучую колею… И страшно, что год тому назад он тебя и то поострее и похитрее опутывал. А теперь фрак и музыка хорошая, и Нувель рядом вместо меня, и настроение, и все так просто и естественно, и мило и хорошо, и ни под что не подоткнешься».
Удивительно, как такая несомненно умная женщина, как Гиппиус, не умела обращаться с людьми и Философова довела до того, что он без раздражения не мог выслушивать ее замечания. «Твое присутствие теперь парализует меня, — пишет она ему в конце <1>907 г. — Я не могу говорить, когдазнаю, что нужно. В этом, конечно, не я виновата, но чья вина — безразлично. Слова, написанные тебе, приемлемее, и я иду на эту слабость — сегодня». И она подводит итог их совместной жизни за год: «Нет, что там себя обманывать. Слишком глубоко мы знаем, что ни со старой психологией, ни со старой физиологией, как со старой жизнью, не войдешь в новое. Мы, естественно, когда влечемся к новому, ломаем и жизнь, и психологию, и это ведь путь не по розам; не по розам и ломанье физиологии, такое же неизбежное… У тебя такой тон, точно ты можешь устроиться, только вот обстоятельства… Не идеально, но не дурно. Сам знаешь, что это вздор».
И она делает признание, от которого впоследствии откажется: «Мы не хотим страдать. Но хотим того, чего без величайшего страдания не достигнешь. Шагу не сделаешь».
Будем справедливы: немногие в жизни страдали от любви так, как страдала она. Почему же она не только ничего не приобрела, но все потеряла?
X
Удивительно устроен человек: дайте ему в любви свободу выбора, и он из тысячи выберет, за редким исключением, того, кто причинит ему наибольшее страдание.
Такой человек для Гиппиус был Философов.
Разрыв между ними произошел в конце <19>19 г., в эмиграции, когда Мережковские в день открытия Рижской конференции уехали из Варшавы в Париж, а Философов с Савинковым остались в Польше продолжать борьбу с большевиками. Но внутреннее несогласие существовало давно. Трещина образовалась еще до войны <19>14 г., а полной гармонии, может быть, вообще не было никогда.
Но переписываться и встречаться они продолжали и после разрыва. Когда Философов бывал по делам в Париже, он к Мережковским заходил, хотя пользы и радости от этих встреч ни ему, ни им не было.
В конце января 1913 г. Гиппиус из Ментоны пишет в Петербург Философову: «Дима, дорогой, любимый, радость моя милая, приезжай! Так прошу тебя, всей моей душой тебя прошу, никогда еще так не просила. Мое сердце сейчас к тебе точно на острие. Сюда приезжай, — если не можешь для чего-нибудь, хоть только для меня одной приезжай, я знаю, увидишь, как это важно и хорошо для нашего всего будущего. Родной мой, если ты захочешь, когда-нибудь я к тебе приеду, я сейчас бы к тебе приехала в СПБ, но ты понял бы это не так (что «за тобой»); а позови — и я приеду. Не в том дело, пойми же меня хоть чудом, пойми, как важно, ради Христа. Просто смертельно болит у меня душа. Помоги, вся моя любовь к тебе, не раздумывай, не суди меня, я не обманываю, я не преувеличиваю да и не говорю ничего, я просто молю тебя, зову тебя, кричу тебе.
Бог нам поможет, ты меня услышишь. Теперь приезжай, а потом уедешь, когда захочешь; остановишься на сколько захочешь, с кем захочешь, я буду считать дни, пришли телеграмму, когда это получишь. (А если все-таки не сможешь сюда скоро — то совсем ничего не отвечай.) Но я верю, что ты поймешь. Как не поймешь? Я люблю тебя сильно и так прошу, так прошу, неотступно, знаю, что это для меня сейчас и что для меня значит, и для всех.
Радость моя, жду тебя, не забуду никогда тебе этого. И ты вспомнишь».
На следующий день она ему посылает вдогонку второе письмо: «Дима дорогой, я послала тебе письмо, и ни от одного слова я не отказываюсь и не отрекаюсь. Но мне больно стало за тебя: такая просьба может показаться насилием. Нет, я хочу твоей свободы. Только полной открытости. Ты знаешь меня, знаешь, как мне трудна открытость и просьба, но так мне лучше, и не бойся оскорбить меня, не бойся отказать, не мучайся ничем; поймешь — ты все равно поймешь, а если все-таки не сделаешь, значит, считаешь, что так лучше для тебя. Еще я скажу открыто: в желании твоего приезда у меня опять переплетены две нити, личного и общего. Знай это. От этого глубже и острее мое желание, но может быть, для тебя оно менее уважительно. Знай все и поступай свободно. Опять говорю: за каждое слово несу ответственность в полноте и каждое останется, как бы ты на мою просьбу ни ответил, что бы свободно ни решил.
Я писала тебе попросту вчера, забыв многое, забыв сложность, затуманившую всех нас; я думала, кажется, о Зине (Зинаиде Владимировне Ратьковой-Рожновой — сестре Философова), звавшей тебя из Канн в Петербург, да как-то вроде этого думала. О твоей помощи, главным образом. Все осталось, только хочу дать тебе еще полную легкость, полную свободу, и не из гордости, а только из любви.
Больше я уж никак не могу сказать тебе ничего, и Бог мне свидетель, что я говорю полную правду. Если ты не приедешь, значит, для тебя это было так же важно и нужно не приехать, как мне важен и нужен твой приезд».
Философов ответил не сразу. Гиппиус, думая, что он не приедет, пишет через несколько дней в Петербург своей сестре Татьяне[538]: «Дима не поехал не для сборника, что будет нужен здесь — знал. Таковы факты… Но у него физическая нужда жить без нас, личная и не победимая ничем, даже общим делом. У него две неприязни, одна ко мне, другая к Дм<итрию>, разные — но одинаковой силы. Я не только не виню его, но даже не отрицаю, что при этом он нас «по-какому-то» любит; медленно и ровно увеличивается ненависть и соответственно уменьшается любовь. Ненависть или, вернее, непереносимость, зови как хочешь. Повторяю, что я его ни капли не виню, он же сам не рад; но мне надо было ясно и бесспорно увидеть черту, до какой поднялась вражда, ясно понять, что за этой чертой уже нельзя длить отношений «как бы». Для этого я выявила все предлоги. Кроме того, я без политики, без полемики, а со всей только любовью открыла ему решительно все пути возвращения, просила его приехать, когда он хочет, как хочет, для чего хочет. Дала ему все, что имела, сразу, и веру, и любовь, и свободу. Это был необходимый «знак», и то, что последовало, — я приняла спокойно, не жалея, что отдала, и только уже бесповоротно видя, что больше не могу дать ничего и в самом деле ему больше не нужна. Все изменилось между нами, но я теперь перед собой, перед Богом могу сказать, что если изменение — не правда, то моей руки тут не было».
Однако Философов приехал. Приехал, и… ничего не изменилось. Его недоброе чувство к Мережковским продолжало крепнуть. Гиппиус объясняет это его болезнью. «Весной после нашей деятельной и рабочей зимы мы уехали в Париж и оттуда в Ментону, — пишет она в своих воспоминаниях. — Уехали вдвоем с Д.С., так как Д. Ф<илософо>ву надо было кончить какие-то семейные дела, а кроме того — он был в очень мрачном настроении. Это скоро объяснилось ухудшением его здоровья — мучительные припадки печени. Узнав об этом в Ментоне, мы с Д.С. решили вызвать его скорее к нам, и он приехал. Первое время припадки продолжались, но затем он стал поправляться, а с поправлением улучшилось и его душевное состояние».
Но передышка была краткой.
XI
Что он Мережковских «ненавидел» — случалось и раньше. Но целиком его душой ненависть не владела никогда. Вспыхнет и погаснет. И только после смерти его матери, весной <19>12 г., Мережковские стали для него «непереносимы». В том же письме из Ментоны к сестре Гиппиус пишет: «Только со смертью в душе можно ненавидеть живых так, как, приникая к могиле, отталкивается от нас Дима».
Положение осложнялось еще тем, что после их возвращения из Франции в Россию, в мае 1908 г., Философов переехал к Мережковским и жил с ними в одной квартире, сначала в знаменитом доме Мурузи на Литейном, потом против Таврического сада, на Сергиевской, 83. Конечно, он их «по-своему» любил, как пишет Гиппиус, иначе совместная жизнь была бы немыслима. Но у него были свои дела, свои интересы, и споров он старался избегать, считая их бесполезными. Но случалось, и довольно часто, что в Мережковских его раздражало буквально все, и тогда спор принимал безобразную форму и сводился к личным нападкам. В своих воспоминаниях, написанных вскоре после его смерти и незадолго до своей, Гиппиус дает его характеристику, стараясь быть по возможности объективной: «Очень высокий, стройный, замечательно красивый — он, казалось, весь, до кончиков своих изящных пальцев, и рожден, чтобы быть и пребыть «эстетом». Его барские манеры не совсем походили на дягилевские: даже в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас какая-то презрительность. Но он был очень глубок, к несчастью, вечно в себе не уверенный и склонный приуменьшать свои силы в любой области. Очень культурный, широко образованный, он и на писание свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои статьи смело и резко… Он был не наносно, а природно религиозен, хотя очень целомудрен в этом отношении… Но самый фон души у Дм<итрия> В<ладимирови>ча Ф<илософова> был мрачный, пессимистический (в общем) и в конце жизни в нем появилось даже какое-то ожесточение.
Он подошел к Д.С. ближе, чем ко мне, и любил его, конечно, более, нежели меня. Ко мне он относился всегда с недоверием — к моим «выдумкам», которые, однако, нередко и Д.С. принимал как свое.
Впрочем, я не сомневаюсь и теперь, — заключает она, — что Д<митрия > С<ергееви>ча любил он искренно, и даже нас обоих. Как и мы его. За пятнадцать лет совместной жизни можно было в этом убедиться».
Это — «официальная» версия. Мы знаем, как оно было на самом деле. Ближе к истине стихи. Первое посвященное Философову стихотворение озаглавлено «Предел» и помечено <1>901 г., то есть относится к периоду «предлюбви», как говорила Гиппиус, когда она еще надеялась на счастье.
Сердце исполнено счастьем желанья, Счастьем возможности и ожиданья, — Но и трепещет оно и боится, Что ожидание может свершиться… Полностью жизни принять мы не смеем, Тяжести счастья поднять не умеем, Звуков хотим, но созвучий боимся, Праздным желаньем пределов томимся, Вечно их любим, вечно страдая, — И умираем, не достигая…[539]Через год Гиппиус посвящает ему стихотворение «Алмаз», с уже приведенной в начале этой главы строчкой о брате Иуде: «Мы думали о том, что есть у нас брат Иуда». Оно
написано после того, как Философов, порвав с Мережковскими, уехал с Дягилевым в Италию.
Следующее помечено <1>905 г. и озаглавлено «Между». В конце <1>905 г. как раз решался вопрос о поездке за границу, и Философов никак не мог принять решение.
На лунном небе чернеют ветки… Внизу чуть слышно шуршит поток. А я качаюсь в воздушной сетке, Земле и небу равно далек. Внизу — страданье, вверху — забавы. И боль и радость мне тяжелы. Как дети, тучки тонки, кудрявы… Как звери, люди жалки и злы. Людей мне жалко, детей мне стыдно, Здесь — не поверят, там — не поймут. Внизу мне горько, вверху обидно… И вот я в сетке — ни там, ни тут.Из посвященных Философову стихов — это все. Но о нем и о своем чувстве к нему Гиппиус писать продолжает, и узнать эти ее стихи не трудно. Вот, например, одно, как бы «прощальное», от сентября 19<18> г.
Твоя печальная звезда Недолго радостью была мне: Чуть просверкнула, — и туда, На землю, — пала темным камнем. Твоя печальная душа Любить улыбку не посмела, И от меня уйти спеша, Покровы черные надела. Но я навек с твоей судьбой Связал мою — в одной надежде, Где б ни была ты — я с тобой, И я люблю тебя, как прежде.[540]Она осталась ему верна. Верность была основным свойством ее природы.
В одном из своих последних стихотворений она, обращаясь к охраняющему вход в рай привратнику, говорит:
Измена… нет, старик, в измене Я был невинен на земле. Пусть это мне и не в заслугу, Но я любви не предавал Ни ей, ни женщине, ни другу Я никогда не изменял. К суду готовлюсь за другое, И будь, что будет, впереди…[541]Но привратник, отворив дрожащей рукою перед нею дверь, отвечает:
Суда не будет. Проходи!
XII
Война <19>14 г. их разделила. Не знаю, был ли Философов членом партии к<онституционных> д<емократов> или только ей сочувствовал, но свои статьи он печатал в милюковской газете «Речь», органе этой партии. Мережковские ни к какой партии не принадлежали и к войне относились как к неизбежному злу (вообще они войну — всякую — отрицали в принципе). О каком-либо ее оправдании, особенно религиозном, не могло быть и речи. В <19>16 г. Гиппиус писала:
Нет, никогда не примирюсь. Верны мои проклятья. Я не прощу, я не сорвусь В железные объятья. Как все, живя, умру, убью. Как все — себя разрушу. Но оправданием — свою Не запятнаю душу. В последний час, во тьме, в огне, Пусть сердце не забудет: Нет оправдания войне И никогда не будет. И если это Божья длань — Кровавая дорога, — Мой дух пойдет и с Ним на брань, Восстанет и на Бога.[542]Это стихотворение, конечно, напечатано не было, никакая редакция его не приняла бы. Впервые оно появилось в берлинском сборнике[543] стихов Гиппиус «Дневник», вышедшем в 1922 г. в издательстве «Слово».
Философов смотрел на войну иначе — не то чтобы он ее считал «святым делом», но дух патриотический поддерживал. Все для войны. На этой почве у него с Мережковскими происходили постоянные столкновения. Они видели дальше. Для них война была началом мировой катастрофы, чем-то вроде «Атлантиды». Особенно это чувствовала Гиппиус. В канун рокового <19>14 г. она пишет стихотворение, которое я уже приводил не раз и которое лучше, чем что-либо, выражает ее тогдашнее душевное состояние:
На сердце непонятная тревога. Предчувствий непонятный бред. Гляжу вперед — и так темна дорога, Что, может быть, совсем дороги нет. Но словом прикоснуться не умею К живущему во мне — и в тишине. Я даже чувствовать его не смею: Оно как сон. Оно как сон во сне. О, непонятная моя тревога! Она томительней день ото дня. И знаю: скорбь, что ныне у порога. Вся эта скорбь не только для меня.[544]Когда катастрофа наступила (кстати, победу большевиков Гиппиус предсказала еще в 1905 г. См. ее письмо Философову «За час до манифеста» от 17 окт<ября> 1905 г., напечатанное в 64-й тетради «Возрождения»), когда наступила катастрофа, отношения между Мережковскими и Философовым обострились настолько, что они предпочитали друг с другом не разговаривать, ибо всякий разговор переходил в спор и в ссору. Философов вел себя так, как будто причина всех бед, в том числе и победы большевиков, — Мережковские. Он почти не выходил из своей комнаты, целыми днями лежал на кровати, как труп, оброс бородой и ни с кем не разговаривал. Вид у него был страшный. Все вокруг него словно окаменело. Окаменел, казалось, даже воздух. И если бы не Мережковский, проявивший необыкновенную энергию и один подготовивший бегство, он у большевиков так и погиб бы.
Разрыв с Философовым произошел в Польше, когда Мережковские уехали в Париж, а он вместе с Савинковым остался в Варшаве для подпольной борьбы с большевиками. Гиппиус переживала разрыв болезненно, чувствуя и сознавая, что Философов, что бы с ним и с Польшей ни случилось, не вернется никогда, что это — разрыв окончательный. В своих воспоминаниях она лукавит, говоря, что отчасти косвенно содействовала разрыву и она.
Савинкова, под власть которого подпал теперь Философов, она возненавидела, поняв наконец, что он человек прежде всего не умный. От ее «февральского» увлечения им, когда ей казалось, что только он вместе с Корниловым[545] могли бы спасти Россию от гибели, — не осталось ничего. И то, что Философов во власти Савинкова, было невыносимо.
После ее смерти найдена в ее бумагах небольшая тетрадка, в коричневой обложке, на которой посредине карандашом написано: «Отдать Д.В. после», т. е. Дмитрию Владимировичу Философову после ее смерти. Внизу, в левом углу год: 1920. Под надписью карандашом приписка чернилами: «Некому отдавать, он умер. И он. 1944».
Философов умер 4 августа <19>40 г. в польском курорте Отводске. Мережковские об этом узнали в Биаррице в августе <19>40 г., но не от Тэффи первой, как она пишет в своих воспоминаниях. В этих воспоминаниях, напечатанных в «Новом русском слове» 29 января 1950 г., Тэффи в доказательство, что Мережковские люди холодные, неспособные к любви, рассказывает о своей встрече и разговоре с ними вскоре после смерти Философова. «Любили ли они кого-нибудь когда-нибудь простой человеческой любовью?» — спрашивает она и отвечает: «Не думаю». И она описывает встречу и разговор: «Когда-то они очень дружили с Философовым. Долгое время это было неразлучное трио. Когда в Биаррице прошел слух о смерти Философова, я подумала: «Придется все-таки сообщить об этом Мережковским». И вот в тот же день встречаю их на улице.
— Знаете печальную весть о Философове?
— А что такое? Умер? — спросил Мережковский.
— Да.
— Неизвестно отчего? — спросил он еще и, не дожидаясь ответа, сказал: — Ну, идем же, Зина, а то опять опоздаем и все лучшие блюда разберут. Мы сегодня обедаем в ресторане, — пояснил он мне.
Вот и все».
На полях этого номера «Нового русского слова» рукой приславшей мне его знакомой дамы, кстати, большой поклонницы Тэффи, пометка: «2 отвратительных личных и злобных пасквиля» (о Мережковском и Гиппиус).
На самом деле было так.
О смерти Философова Мережковские узнали не от Тэффи первой, а от Я.М. Меньшикова. В «agenda»* [*«Записная книжка» (фр.).] Гиппиус записано 22 авг<ста> <19>40 г.: «Дм<итрий> немножко вышел. Встретил Меньшикова[546], который сказал, что 4 авг<уста> умер Дима». И Гиппиус приписывает две последние строчки своего «прощального» стихотворения:
Но где бы ты ни был — я с тобой, И я люблю тебя, как прежде.[547]А с Тэффи они о своем горе просто не хотели говорить. Дм<итрий> Серг<еевич> ее недолюбливал, считал фальшивой. Его разговор с нею передан не точно.
В своем напечатанном в «Новом журнале» дневнике «Серое с красным» Гиппиус 2 сентября <19>40 г. записывает: «С того дня (22 авг<уста>), как мы, встретив на улице зловещего Меньшикова, узнали, что умер Дима, я так в этом и живу. Я знала, что он умрет, что он глубоко страдает и жаждет смерти. Я даже думала, что он уже умер, — трудно было себе представить, что он мог все это и себя пережить… А все-таки — лучше не знать наверно. Вот снова подтверждение, что вера — всякая, даже не моя ничтожная, а большая — всегда слабее любви. Чего бы проще, кажется, говорить, как Сольвейг[548]:
Где б ни был ты — Господь тебя храни. ……………………………………….. А если ты уж там — к тебе приду я…Да, приду. А если и не приду — ведь я этого не узнаю… Но мысль, что не приду и не узнаю…»
Она пережила Философова на пять лет. Со дня его смерти начинается ее «обратный путь».
XIII
В маленькой, предназначавшейся Философову тетрадке, в 64 страницы, на 52-х заметки карандашом, 12 — чистых. Первая дата 26 марта 1921 г., последняя <19>36 г. Месяц и число не указаны.
26 марта <19>21 г. Гиппиус записывает: «Без связи. Без цели. Так. Мне непонятно: куда исчезает все, что проходит через душу. Невысказанное. Себе — без слов. Но бывшее. Значит, и сущее. Или даже очень «словное», и не мелькающее, а пребывающее, запомнятое, только никому не переданное, — куда оно? Вот я умру. И куда оно? Где оно?
Притом оно, такое, не сделано, чтоб не передаваться. И оно никому навсегда неизвестно. И столько, столько его».
Далее о разлуке, измене и смерти. «В разлуке вольной таится ложь» (строчка из ее стихотворения: «Не разлучайся, пока ты жив»), «Уходить так сладко. Я, кажется, во сне видела уход… Я ни о чем не думаю. Я только несу в себе, во всем моем существе — одно…
В каждом маленьком «никогда больше» — самые реальные глаза смерти. Банальность этой фразы изумительна. Т. е. изумительно, что она сделалась банальной, не сделавшись понятной.
Впрочем, Смерть вообще самая окруженная оградой вещь. Когда говорят Смерть — подразумевают ограду, а еще чаще — ничего.
В сущности, люди не могут выносить в других измены, коренной перемены в своем «я». Люди сами не знают, что именно этого не могут. Однако приходят в самое ужасное негодование и бешенство именно по этому поводу».
О Савинкове: «М<ожет> б<ыть>, у Сав<инкова> мимикрия. Так переоделся, что сам поверил?
Рэйли[549] окончательно положил Сав<инко>ва на полочку «главы боевой организации». Говорит: это не homme d'etat* [* Государственный человек (фр.)]).
Говорит, что в Варшаве более нет смысла останавливаться. Предполагает, что С<авинков> уйдет нелегально соединяться с оперирующими бандами, что Антонов[550] и Махно[551] возьмут его начальником.
Не возьмут.
Савинкова мне очень жалко. Я думала о нем больше. Или не жалко? В нем —
У меня все возмущение, весь ужас перед несправедливостью жизни — слились в один ком или застыли одним камнем. И я хожу с ним, ношу его, и он меня распирает».
О Философове: «Дима, ты, в сущности, не изменился. И тут таится ужасное. Маленькая чуточка ужасного, но именно тут, в пребывании точки какой-то «сущности», не могущей измениться, но очень видоизменяется».
Гиппиус хочет сказать, что Философов остался таким, каким был до встречи с нею и с Д.С. Он только казался другим. И эта «призрачность» ее ужасает. «Ты говорил, что ты с нами «покорился» (чему?), «потерял свою личность», а ты «отвечаешь за свою личность». А теперь?
Савинков, м<ожет> б<ыть>, более марьируется[552] с внешним уклоном твоего «я» (это очень трудно сказать), чем Дмитрий. Но тут нет ничего прекрасного. Тут никакой еще заслуги перед твоей «личностью». (Так как я говорю это для себя, то могу и недоговаривать.)
Странно. У меня есть какое-то «облегчение», что я не должна все время «оправдывать» Дм. перед тобой, вечно чувствуя его под твоим судящим и осуждающим взором.
Могу позволить ему быть грешным по-своему, быть собой. Без стыда покрывать его своей любовью.
Твой жестокий, вечный суд над ним — твой темный грех, Дима, но он простится тебе, потому что ты был в нем не волен. Ты его не хотел. Но ты не мог… Так же, как ты хотел любить меня — и тоже не мог.
Я, думая о тебе, никогда как-то не «сужу» тебя. Скорее себя. Даже очень себя. У меня нет твоих оправданий. Я не все сделала для тебя, что могла сделать. Я умела любить тебя, как хотела, т. е. могла. Но я чего-то с этой любовью не сделала.
Много чего! Много!»
Запись продолжается в Висбадене, где Мережковские проводят лето <19>21 г. Тема — та же: о человеке, любви и смерти.
«Никакого страха у меня перед своей смертью нет, — записывает она. — Только предсмертной муки еще боюсь немного. Или много? Но ведь через нее никогда не перескочишь, теперь или после.
А именно теперь хочется покоя. Иногда почти галлюцинация: точно уже оттуда смотрю, оттуда говорю. Все чужие грехи делаются легки-легки, и странно выясняются, тяжелеют свои.
Вот это главное, вот это перемена ужасно яркая, но не выразимая.
В эти минуты даже против б<ольшевико>в нет злобы (невозможность всякой именно злобы). Вовсе нет «прощения», совсем не то! Но относительно б<ольшевико>в понимаешь, что они ничего бы не могли без «Божьего попустительства». А Бога я «отсюда» еще могла бы судить, а когда я «оттуда» — то мысли нет, в голову не приходит, не знаю почему».
Последняя запись в <19>21 г. от 27 декабря: «Нет, никогда, никогда не пойму я никакой измены. Т. е. это слишком громко «измена». Просто не пойму, что было, а потом нет.
Чего ж тут не понимать? Очень просто.
«Нет благословения». Дима, ты должен вспоминать эти мои слова, как свои. Быть может, оттого ты так сердишься, такое непомерно грубое, ребячески несправедливое было твое письмо. Оттого такая жалость. Не стыдись жалеть себя.
Ты это прочтешь, только если переживешь меня. Поэтому читать будешь уже наверно без страха и без злобы. Но может быть, все-таки без понимания, я и на это готова. Остановись просто, взгляни в себя: ведь можно было уйти от нас, если мы лично не годны (или даже тебе неугодны), но уйти не так. Не уйти от того, что было когда-то нашим главным. От этого некуда уйти, а если стараешься, то на делах нет благословения. Я не делаю ничего, хотя я не уходила: я только упала, где стояла.
Ты пишешь: это было лучшее время моей жизни (когда ушел), — а я вижу твои стиснутые зубы. Откуда же злоба, если ты доволен собой и счастлив?
Если ничего нет, все теряешь — правду нельзя потерять. С ложью нельзя и одного раза вздохнуть. И добьюсь я ее, правды, хоть одна — перед Богом».
Но если не Правды (с большой буквы), то правды о Философове она в следующем, <19>22 г., добивается: понимает наконец, что с ним произошло. Враг снимает маску, и она узнает того, с кем боролась всю жизнь, — черта. Имени его она, впрочем, не произносит. Страшно: слишком близок ей человек, в образе которого он является.
В начале января <19>22 г. Философов приезжает по делам в Париж. Еще до его приезда Гиппиус записывает свои впечатления от последней встречи с Савинковым, который пригласил ее и Мережковского обедать: «С<авинко>ва, когда увидала его еще этот последний раз (обед втроем), не ненавидела и не жалела. Поняла, что и не буду никогда уже ненавидеть, да, вероятно, и жалеть. Я скажу правду: мне было неинтересно. И не то что было, а стало. И не от меня, а от него.
Все, что он говорил, и весь он — был до такой степени не он, что я его не видела. А тот, кого видела, мне казался неинтересным.
Он — прошел, т. е. с ним случилось то, что теперь случается чаще всего, и для меня понятнее всего. Оборотень. Еще один оборотень.
Может быть, Дима, и ты уже оборотень, — спрашивает она Философова, зная, что с ним произошло. — По крайней мере, все, что идет от тебя, теперь феноменально — идет не от тебя, и для тебя неестественно. Точно совсем от другого какого-то человека.
Если так, то хорошо, что я тебя не вижу и, м<ожет> б<ыть>, лучше, если я тебя и вовсе более не увижу. Или нет: пусть не лучше, а все равно. Не знаю, дойду ли до этого, но хочу дойти. До полной реализации того, что ты не погиб, что ты живешь — со мной, в моем сердце (больном) именно ты единственный, ты сам.
«Где был я, я сам?» — тревожно, в роковую минуту, спрашивает Пер Гюнт.
И для него, как для тебя, есть это место. Не бойся.
Но когда я так думаю, мне не хочется (кажется ненужным) даже и после моей смерти отдавать эти слова тебе. Тебе — другому, ибо феноменально ты не он, и читать будет другой.
Смешение порядков, и надо их сначала очень разделить, чтобы потом они могли слиться.
Мне нужна очень большая сила. Чтобы верно хранить тебя. И чисто хранить, отдельно, цельно, не затемняя ничем своим, ни малейшей тенью».
XIV
Философов приезжает в Париж 3 января <19>22 г. Мережковские приготовляют для него у себя комнату. Но он останавливается в гостинице, в отеле «Д’Отэй», на рю д’Отэй. В ночь с 4 на 5 января Гиппиус записывает: «Ну вот, милый Дима. Вчера «он» приехал в Париж. Он написал «petit bleu»* [*Телеграмма (фр.).] В<олоде>, чтобы он к нему зашел в гостиницу. Естественно, что ты бы пришел. И если представить себе, что он — ты, то даже смешно.
Разделила ли я до конца, т. е. и кожно, тебя от оборотня? Кажется, еще не вполне, но иду на это и дойду.
Не правда ли, мы понимаем с тобой, почему «он» не может быть равнодушен, так злится без всяких, казалось бы, причин внешних, почему с такой злобной досадой, желающей быть презрительной, говорит о «непотрясаемости Мережковских» — и все остальное? Это его бессилие, и он, кроме того, все время выдает себя. Что он не ты, мой ясный, мой родной, мой бедный. Он не знает, что ты жив, хотя он и прогнал тебя из тебя. Но он подозревает что-то смутно и боится».
Эти последние строки написаны, по-видимому, после визита Философова. Он пришел 9 января, т. е. через неделю после своего приезда. В ночь накануне его прихода Гиппиус снится сон. «Под девятое января такой сон тяжелый, — рассказывает она. — Дима умирает в соседней комнате (неизвестная квартира), а я почему-то не могу войти туда. Хожу из угла в угол. И умер, и какая-то горничная (это будто бы гостиница?) закрыла ему глаза. А я и тут лишь из двери едва могу выглянуть. Вижу только спину его на кровати.
С необыкновенной физической тяжестью проснулась. Опять заснула — и опять то же самое! Продолжение.
В этот день ты и пришел, Дима (ты или он). Я изо всех сил помогала ему казаться тобой. Для этого нужно ни о чем не говорить».
Философов как бы выходит из сна, из кошмара, который преследует Гиппиус. Но страшнее всего — это что при соприкосновении с действительностью кошмар не рассеивается. Напротив, действительность превращается в кошмар, двойник, оборотень побеждает.
Превращение Философова имеет последствия и политические. И Гиппиус это отмечает: «Тот Дима, который следовал и следует за С<авинко>вым понемножечку, шаг за шагом, от интервенции — к восстаниям, к зеленым, к «советам» без коммуны, затем к его величеству крестьянству русскому, потом куда еще? — сам не замечая, должен был дойти и до Ленина без Чека, т. е. совсем к абсурду. Я не буду с ним говорить об этом и для себя, и для него. Он будет оправдывать все это «политикой», а я не хочу свое больное сердце подвергать бесполезной боли. Не надо».
Отраженно, через Философова, она поняла и Савинкова — то, что он есть на самом деле, а не то, чем кажется. В <19>23 г., т. е. через год после последней встречи с ним, она записывает: «Иногда мне кажется, что никакого С<авинко>ва уже давно нет и ты в руках злого марева, призрака. Не боюсь тут сказать, чертовой игрушки, да! да! Ведь именно черт не воплощается, и у него игрушки такие же. Не страшная это кукла — С<авинко>в. Только для тех, кто не знает, что это. Правда, таких и природа не любит, не терпит, ибо он — пустота. Я сама не знаю, когда я пришла к такой для меня бесповоротной формуле (и с таким смыслом) пустота. А смысл такой: С<авинко>в хуже всякого большевика, Троцкого например. Т. е. он совсем за чертой человеческого и Божьего.
Нет, вот сказала — и мне стало страшно. Как это я смею так говорить? А может, это личное, за тебя. Дима, когда я вижу, что тебя он из тебя выгнал. Право, я сама двоюсь. И говорю — и не смею говорить, и знаю — и хочу не знать, верю, что ничего не знаю… Пусть Бог судит и видит С<авинко>ва, я не умею и не смею. Молчу. Молчу».
И вдруг она возмутилась. Пробовала смириться — ничего не вышло. «А иной раз бунт одолевает. Ох какой! — признается она в декабре <19>23 г. — Никого не боюсь, ни тебя, Дима, ни за тебя, все мне равно, так бы, такими бы словами последними выругаться, на «благость» смотрю как на «елей»… Да и не слова, а такой бы нож, и не задумалась бы я отрезать тебя от С<авинко>ва, чего бы это ни стоило. Ты бы выздоровел или умер, а о С<авинко>ве я, конечно, не думаю — о пустоте-то!»
Но что «нож» поможет — она не уверена: «Я знаю, что и тогда ты бы не выздоровел вполне. Ты никогда не имел бы силы вернуться к прежнему (верному). Даже и тогда. Но это не нужно. Т. е. нужно, но на это я не посмотрела бы. Лишь бы выздоровел ты хоть немного.
Т.е. я знаю, что ты и отрезанный от С<авинко>ва — никогда не простишь мне, что я была права. Именно это, а не то, что я была так виновата (этого я себе не прощу).
Но чужой правоты почти никто не может простить.
Какая боль, какая боль».
И вот, наконец, <19>24 г. Предательство Савинкова, его переход на сторону большевиков. Гиппиус записывает в ноябре: «Неужели? Неужели это совершилось? Дима, Бог рассудил, как я не думала. Как я счастлива эти дни. Я тебя видела, тебя выздоровевшего или выздоравливающего. После этих недель невероятного кошмара (за тебя все) — какая нечаянная радость! Эта книжка смысл потеряла. Так, для памяти, для себя. Чтобы «говорила же я…». А это и не нужно вовсе.
Вместо С<авинко>ва обнаружилось пустое, гадкое место, и я считаю чудом, совершившимся для тебя, что эта пустота обнаружилась, что ты мог увидеть.
Благодарение Богу за тебя, я знала, что ты не погибнешь «там», но какое счастье, что это дано здесь!
И если даже рана твоя болит и ты скрываешь боль напряжением воли — ничего, ничего! Все будет, то есть все уже есть, ибо ты — ты!»
Проходит шесть месяцев. В мае <19>25 г. получается из Москвы известие о «самоубийстве» Савинкова. Он якобы «выбросился» из окна тюрьмы. «На меня это не произвело впечатления, — записывает Гиппиус. — Убил ли он себя или что вообще случилось — не все ли равно?
Ведь он уже годы, как умер. Да и был ли когда-нибудь?
Дима, да, ты все-таки не простишь мне (или не забудешь), что я была права».
Проходит 11 лет. Но что Гиппиус за это время пережила, выражено ею в одной строчке, которой ее запись кончается. Вот эта строчка:
«Да, это пришло слишком поздно (для Д<имы>)».
В <19>43 г., за два года до своей смерти, она посвящает Философову последнее стихотворение:
Когда-то было, меня любила Его Психея, его Любовь. Но он не ведал, что Дух поведал Ему про это — не плоть и кровь. Своим обманом он счел Психею, Своею правдой лишь плоть и кровь. Пошел за ними, а не за нею, Надеясь с ними найти Любовь. Но потерял он свою Психею И то, что было — не будет вновь. Ушла Психея и вместе с нею Я потеряла его любовь.Это единственное стихотворение Гиппиус, написанное в женском роде. И это, конечно, не случайно.
З. ГИППИУС И ЧЕРТ[553]
Впервые о черте Гиппиус упоминает в стихотворении «Гризельда» 1895 г.
Гризельда, ожидающая в замке возвращения с войны мужа, перенесла «неслыханные беды», ее пытался соблазнить сам «Повелитель зла».
Но сатана смирился, Гризельдой побежден, И враг людской склонился Пред лучшею из жен. Гризельда победила, Душа ее светла… А все ж какая сила У духа лжи и зла!И Гиппиус восклицает:
О, мудрый Соблазнитель, Злой дух, ужели ты — Непонятый Учитель Великой красоты?Но так восклицала в 1895 г. не она одна: русских поэтов Серебряного века связывало с французскими символистами не одно только название. Вопрос о черте — проблема зла была поставлена уже Бодлером и Верленом[554]. Их влияние в этом вопросе на русских символистов несомненно. Семя упало на благодарную почву.
Нет, отметить следует другое четверостишие:
Гризельда победила, Душа ее светла… А все ж какая сила У духа лжи и зла!Тут в последних двух строках — поворот от созерцания к действию, — еще робкий, полусознательный, но уже роковым образом неудержимый. Впрочем, яд действует медленно. Пройдет 7 лет, прежде чем она, как всегда, с предельной ясностью выразит в стихотворении «Божья тварь» свои чувства к Дьяволу. В промежутке, в 1901 г. — за год до этого, — непонятные для непосвященных строки о чудовище, которое все куда-то ее зовет и сулит спасение:
Мое одиночество — бездонное, безгранное, Но такое душное, такое тесное; Приползло ко мне чудовище ласковое, странное, Мне в глаза глядит и что-то думает — неизвестное.[555]Что оно думает — она узнает не скоро. Но вот что о чудовище думает она сама:
За Дьявола Тебя молю, Господь! И он — Твое созданье, Я Дьявола за то люблю, Что вижу в нем — мое страданье. Борясь и мучаясь, он сеть Свою заботливо сплетает… И не могу я не жалеть Того, кто, как и я, — страдает. Когда восстанет наша плоть В Твоем суде, для воздаянья, О, отпусти ему, Господь, Его безумство — за страданья…[556]Она братски разделяет с Дьяволом его страданье — результат их общего безумья. В чем именно это безумие мы узнаем в свое время. А сейчас о ее трех встречах с чертом.
О первой — стихотворение «В черту», помеченное 1905 г. Привожу его полностью:
Он пришел ко мне, — а кто, не знаю. Очертил вокруг меня кольцо. Он сказал, что я его не знаю, Но плащом закрыл себе лицо. Я просил его, чтоб он помедлил, Отошел, не трогал, подождал. Если можно, чтоб еще помедлил И в кольцо меня не замыкал. Удивился Темный: «Что могу я?» Засмеялся тихо под плащом. «Твой же грех обвился, — что могу я? Твой же грех обвил тебя кольцом». Уходя, сказал еще: «Ты жалок!» Уходя, сникая в пустоту, «Разорви кольцо, не будь так жалок! Разорви и вытяни в черту». Он ушел, но он опять вернется, Он ушел и не открыл лица. Что мне делать, если он вернется? Не могу я разорвать кольца.Здесь сразу бросается в глаза, что черт приходит к ней отнюдь не как соблазнитель, ибо ее паденье совершилось до его прихода, а в некотором роде как бы для составления «протокола». Он, говоря современным русским языком, «констатирует факт». Далее следует отметить, что ведет он себя совсем не по-«чертовски». Он старается уязвить ее самолюбие, явно желая ей этим помочь «разорвать кольцо» — выйти из того неприятного положения, в какое она сама себя поставила. Кто он на самом деле — неизвестно. Однако есть все основания предполагать, что под плащом — ангел, а не черт.
Вторая встреча через 13 лет, в сентябре 1918 г. в Петербурге (прошу запомнить эту дату). О ней в стихотворении «Час победы»[557]. Заглавие многообещающее:
Он опять пришел — глядит презрительно (Кто — не знаю, просто Он, в плаще) И смеется: «Это утомительно. Надо кончить — силою вещей. Я устал следить за жалкой битвою, А мои минуты на счету. Целы, не разорваны круги твои, Ни один не вытянут в черту. Иль душа доселе не отгрезила? Я мечтаний долгих не люблю. Кольца очугуню, ожелезю я И надежно скрепы заклеплю». Снял перчатки он с улыбкой гадкою И схватился за концы кольца… Но его же черною перчаткою Я в лицо ударил пришлеца. Нет! Лишь кровью может быть запаяно И распаяно мое кольцо!.. Плащ упал, отвеянный нечаянно, Обнажая мертвое лицо. Я взглянул в глаза его знакомые, Я взглянул, и сник он в пустоту. В этот час победное кольцо мое В огненную выгнулось черту.[558]Итак, черт вернулся; предчувствие Гиппиус ее не обмануло. Но это уже не «декадентский» черт в романтическом плаще, а черт <19>18 г., в крылатке и в перчатках (в черных, конечно, а то в каких же?) — чекист-провокатор. Она его побеждает магическим словом «кровь» (ему ли ее бояться, и не потому ли он в перчатках, что руки у него в крови?), и он, как и его предшественник, «сникает в пустоту».
Но победа Гиппиус лишь на бумаге: «сникает» черт исключительно из уважения к ее литературным заслугам. Иначе ему незачем было бы являться в третий раз.
И вот эта третья встреча — уже в эмиграции. Дата не указана (предположительно между 1925—<19>30 гг.). Она описана с присущим Гиппиус мастерством — в стихотворении «Равнодушие».
Он приходит теперь не так. Принимает рабий зрак. Изгибается весь покорно И садится тишком в углу, Вдали от меня, на полу, Похихикивая притворно, Шепчет: «Я ведь зашел, любя, Просто так, взглянуть на тебя, Мешать не буду, — не смею… Посижу в своем уголку, Устанешь — тебя развлеку, Я разные штучки умею… Хочешь в ближнего поглядеть? Это со смеху умереть! Назови мне только любого. Укажи скорей хоть кого, И сейчас же тебя в него Превращу я, честное слово! На миг, не навек! Чтоб узнать. Чтобы в шкуре его побывать… Как минуточку в ней побудешь, Узнаешь, где правда, где ложь. Все до донышка там поймешь, А поймешь — не скоро забудешь. Что же ты? Поболтай со мной… Не забавно? Постой, постой, И другие я знаю штучки…» Так шептал, лепетал в углу, Жалкий, маленький, на полу, Подгибая тонкие ручки. Разъедал его тайный страх, Что отвечу я? Ждал и чах, Обещаясь мне быть послушен. От работы и в этот раз На него я не поднял глаз, Неответен и равнодушен. Уходи, — оставайся со мной. Извивайся, — но мой покой Не тобою будет нарушен… И растаял он на глазах. На глазах растворился в прах, Оттого, что я равнодушен.Извиняюсь за столь длинную цитату, но из длинных она — последняя. Зато благодаря ей нам дана возможность черта поздравить: в первый раз он ведет себя, как должен вести себя черт: он искушает, хотя и является в образе «дрожащей твари». Несмотря, однако, на свое унизительно-жалкое состояние, он до последней минуты не сдается. Она делает вид, что его не замечает, что его как будто нет, и от ее презрительного равнодушия он «тает, растворяется в прах».
Но равнодушие Гиппиус притворно. На самом деле тайный страх разъедает не его, а ее, и она всеми силами старается его от черта скрыть. Но и черт притворяется. Он лишь делает вид, что искушает: его соблазну поглядеть в душу ближнего, убедиться на опыте в ничтожестве тех, кто ее окружает (особенно людей, ей близких), она, как об этом свидетельствуют ее стихи, поддалась давно. Вот одно из них, наиболее характерное, — «Наставление»[559]:
Молчи. Молчи. Не говори с людьми, Не подымай с души покрова. Все люди наземле — пойми! Пойми! Ни одного не стоят слова. Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей Свои печали вольно скроет. Весь этот мир одной слезы твоей, Да и ничьей слезы не стоит. Таись, стыдись страданья твоего, Иди — и проходи спокойно. Ни слов, ни слез, ни вздоха — ничего Земля и люди недостойны.А вот другое, не менее убедительное:
Казалось, больше никогда Молчания души я не нарушу. Но вспыхнула в окне звезда, И я опять свою жалею душу. Все умерло в душе давно. Угасли ненависть и возмущенье. О, бедная душа, одно Осталось в ней: брезгливое презренье.[560]Что же черту, в конце концов, от нее надо и почему она в таком смертном страхе?
После столь блестяще ею описанного «Часа победы» она поняла, не могла при своем уме не понять, да и слишком было очевидно, что оружия — никакого, — кроме поэтической казуистики, прикрывающей, в сущности, довольно примитивный рационализм, против черта у нее нет! С точки зрения религиозного сознания это был полный провал, несколько, правда, неожиданный после тех «вершин», какие, казалось, были ею в этой области достигнуты. Но если где-либо и когда-либо ее гениальность проявила себя в совершенной силе, то именно в эту минуту, когда ею была создана против черта защита — оружие, какое при известных условиях могло оградить ее от гибели.
Она знала предчувственным знанием, что неизбежно столкнется с чертом еще раз, знала, что в этот последний раз он против нее поднимет все силы ада, и она приняла меры, чтобы в страшный час не оказаться с пустыми руками.
Одним из непременных условий победы была тайна: об этом не должен знать никто. Она старается, чтобы даже Бог «не увидел и не подслушал». Иначе оружие потеряет свою силу.
Однако до черта — неизвестно как — что-то дошло (может быть, как раз через Бога). Он забеспокоился. Ему во что бы то ни стало надо было узнать, в чем дело, и, приняв «рабий зрак», он в третий раз является к Гиппиус. Вот настоящая цель его визита. Мы знаем, что его постигла неудача — полная. Гиппиус не проронила ни слова, и он ретировался, как говорят, «несолоно хлебавши».
Что это за оружие, каким отныне Гиппиус владела, и в чем его спасительная сила — об этом подробно ниже, а сейчас вернемся к вопросу о черте как о «Божьей твари».
С этим, как бы «вторым» чертом Гиппиус не только не во вражде, напротив, разделяет с ним по-братски его страдание, результат их общего безумия… Но, чтобы избежать путаницы, мы должны твердо помнить, что под какой бы личиной черт ни являлся, какие бы чувства ни возбуждал — это все тот же черт, все тот же человекоубийца, каким был всегда и пребудет вовек. Но в раздвоенности религиозного сознания для Гиппиус — опасность величайшая, опасность, что ее метафизическая над чертом победа потеряет свой внутренний смысл, станет как бы не бывшей. И реальное против черта оружие — результат этой победы — упразднится само собой, превратится, пожалуй, с точки зрения общечеловеческой морали в нечто весьма неблаговидное, ибо как на «бедного страдающего брата» поднять руку! Но черту только это и надо.
Однако что следует понимать под «безумием» черта, безумием, какое столь неосторожно разделяет с ним Гиппиус?
Ответить на этот вопрос не так просто, и возможно, что мой несколько любительский подход к столь важной теме покажется просвещенному читателю поверхностным. Заранее прошу его о снисхождении.
Черт хочет — хотел всегда и до, и после своего падения (что было причиной его падения) — вечно длящегося блаженства с Богом наедине и чтобы, кроме этого, не было ничего, «Les amoureux sont seuls au monde», — мир для влюбленных не существует. Но Бог — троичен, и, отрицая мир, черт отрицает троичность Божества, Его сокровеннейшую сущность, вне которой — нет ничего, то есть все невозможнои всего невозможнее любовь.
Не случайно Гиппиус в 1922 г. записывает в своем дневнике: «Все страдание от любви. Всяческой — сознательной и бессознательной притом, потому что всякая любовь (жизнь) есть потеря».
Для черта сегодняшнего человек, человечество, мировая история только преграда между ним и Богом. Он ее разрушает и в своем разрушении — неутомим. Но чем он больше старается к Богу приблизиться, тем Бог от него дальше. Противоречие неразрешимое, и в этой неразрешимости — причина страдания черта и его безумия. Он пребывает в состоянии как бы вечного падения. Многие непонятные для нас стихи Гиппиус становятся в этом свете ясными. За примером ходить недалеко. Вот «Все равно»[561]:
…Нет, из слабости истощающей Никуда! Никуда! Сердце мое обтекающей, Как вода! Как вода! Ужель написано — и кем оно? В небесах, Чтоб въедались в душу два демона — Надежда и Страх? Не спасусь, я борюсь Так давно! Так давно! Все равно упаду, уж скорей бы ко дну, Но где дно?Она чувствует, что пропасть бездонна. Но что ей имя — безумие, то самое безумие, какое она разделяет с чертом, не понимает и не поймет до последней минуты.
В самом начале девятисотых годов, когда Мережковский еще проводит в своих романах «Юлиан» и «Леонардо» идею двойственности — «небо вверху, небо внизу», — она поглощена разработкой одной идеи, ставшей для нее, как она в своей книге о Мережковском пишет, чем-то вроде «idee fixe». Эта идея — «тройственное устройство мира».
В своем увлечении она несомненно искренна. Но разрабатывая свою «idee fixe» в плане ее проведения в жизнь, она снова сталкивается с вопросом о зле, без разрешения которого ее идея — отвлеченная схема, мертворожденный младенец (если черту было что-либо не по душе, то именно это «тройственное устройство мира»). И тут за ее уже по-новому звучащими словами чувствуется странная пустота, необъяснимая не чем иным, как только отсутствием личного опыта.
Это неожиданно и вполне справедливо удивляет. Она казалась и на самом деле была человеком в высшей степени уравновешенным. Но ее душевное равновесие в действительности равновесием не было, а лишь невозможностью, — внутреннего конфликта. Ее душа была устроена странно: добро и зло в ней чередовались не сталкиваясь. Когда на сцене появлялся ангел — черт исчезал, и наоборот. И вот ей все чаще начинает казаться, что это — одно лицо, с ловкостью Фреголи переодевающееся за кулисами. Но в чувствах путаница.
Смены — мгновенны. От их постоянного мерцания, качания у нее начинает кружиться голова и усиливается не покидающее ее чувство тошноты. «Тошнит, как в аду», — скажет она потом. И она слабеет физически.
Все Я мое, как маятник, качается, и длинен, длинен размах. Качается, скользит, перемежается то надежда — то страх. От знания, незнания, мерцания умирает моя плоть. Безумного качания страдание ты ль осудишь. Господь? Прерви его и зыбкое мучение останови! останови! Но только не на ужасе падения, а на взлете — на Любви.[562]Но ее молитва не была услышана. И маятник продолжает качаться. Только его размах постепенно становится короче.
В 1934 г., через 15 лет после того, как она обеспечила себе над чертом победу, следующие четыре строчки из стихотворения «8 ноября»[563] (день ее рождения)[564]:
Пахнет розами и неизбежностью, Кто поможет, и как помочь? Вечные смены, вечные смежности, Лето и осень — день и ночь.В этих простых, бедных строчках, на которые, как на заплаканные детские лица, никто не обращает внимания, — вся трагедия ее души.
А маятник все качается —
то надежда:
Я верю в счастие освобождения[565],то страх:
Страшно оттого, что не живется — снится… И все двоится, все четверится.[566]В тридцатых годах в связи с книгой Мережковского «Иисус Неизвестный» она посвящает ему восьмистишие, в каком высказывается против чрезмерного мудрствования о воскресении Христа, мудрствования, к какому Мережковский был всегда несколько склонен:
Не пытай ни о чем доругой, Легкой ткани льняной не трогай. И в пыли не пытай следов, — Не ищи невозможных слов. Посмотри, как блаженны дети. Будем просты сердцем и мы. Нету слов об этом на свете, Кроме слов — последних — Фомы.[567]«Господь мой и Бог мой!»[568] Но не успела она произнести эти слова, как происходит нечто страшное: на одно какое-то мгновение в нее входит бес, и уже не своим голосом она хрипит:
Когда я воскрес из мертвых, Одно меня поразило: Что это восстанье из мертвых И все, что когда-нибудь было, — Все просто, все так, как надо… Мне раньше бы догадаться! И грызла меня досада, Что не успел догадаться.[569]Еще в <19>18 г., когда она в мертвом Петербурге, над которым «распростерся грех», плача, повторяла: «Сердце мое, воскресни! Воскресни!»[570], знакомый ей с детства голос шептал: «Воскресение — не для всех». Теперь она думает, что уже воскресла. Отлично. Так вот ей ко дню ее преждевременного воскресения — подарок: красное яичко.
Она пишет и подписывает своим именем следующие строки:
Не предавайся никакой надежде И сожаленью о былом не верь. Не говори, что лучше было прежде, Ведь, как в яйце змеином, в этом Прежде Таилось наше страшное Теперь, И скорлупа еще не вся отпала, Лишь треснула немного, — погляди. Змея головку только показала, Но и змеенышей в яйце не мало… Без отвращенья, холодно следи: Ползут они скользящей чередою, Ползут, ползут за первою змеею, Свивая туго за кольцом кольцо… Ах да! И то, что мы зовем Землею, — Не вся ль Земля — змеиное яйцо![571]В доказательство, что, когда Гиппиус писала это стихотворение, она не была собой, приведу первое и последнее четверостишие ее же стихотворения «Божья» от ноября <19>16 г.:
Милая, верная, от века Суженая. Чистый цветок миндаля, Божьим дыханьем к любви разбуженная. Радость моя — Земля! …………………………………. Всю я тебя люблю. Единственная. Вся ты моя, моя! Вместе воскреснем, за гранью таинственною, Вместе, — и ты, и я!В этом самоотрицании, впрочем, — нового ничего. Оно существовало всегда, в большей или в меньшей степени, и отражалось в ее поэзии не в столь, может быть, категорической форме, не менее выразительно. Вот, например, начало написанного ею в 1908 г. стихотворения «Земля»:
Пустынный шар в пустой пустыне, Как Дьявола раздумие… Висел всегда, висит поныне… Безумие! Безумие!Тогда она еще сознавала, что мир в том виде, в каком он ей иногда рисовался, — безумие. Теперь же, когда она действительно коснулась дна, она это безумие не сознает, во всяком случае, слова этого не произносит. Вот, может быть, из всех ее стихотворений — самое страшное.
Вскипают волны тошноты нездешней И в черный рассыпаются туман, И вновь во тьму, которой нет кромешней. Скользят назад, в подземный океан. Припадком боли горестно-сердечной Зовем мы это здесь, но боль — не то. Для тошноты подземной и навечной Все здешние слова — ничто. Пред болью — всяческой — на избавленье Надежд раскинута живая сеть. На встречу новую, на дружбу, на забвенье. Иль, наконец, надежда — умереть. Будь счастлив, Дант, что по заботе друга В жилище мертвых ты не все узнал, Что спутник твой отвел тебя от круга Последнего. Его ты не видал. И если б ты не умер от испуга, Нам все равно о нем бы не сказал.[572]Из этого явствует, что в ад она заглянула глубже, чем Дант. О том же, что ей в последнем круге открылось, она молчит. Однако это не такая уж тайна: черт — логик и математик, и его цель неизменно одна. Там, на дне ада, в его последнем круге, она как бы воочию убедилась, что Бог есть дьявол… Ее безумие — доведенная до конца чертова логика.
После ее смерти в ее бумагах найдено было стихотворение, написанное ею как бы от лица окончательно охамевшего дьявола. Он будто бы сидит за столом против нее в образе ее лучшего друга и молча о чем-то думает. Но она угадывает его мысли (что не трудно, ибо он — в ней). Привожу последнее четверостишие этого воистину смердяковского произведения:
На харю старческую хмуро Смотрю и каменно молчу. О чем угодно думай, дура, А я о духе — не хочу.[573]*
Чем же она спаслась?
За несколько дней до 8 ноября 1918 г., дня ее рождения (напоминаю, что она родилась в день Архистратига Михаила и всех небесных сил), она пишет в большевистском Петербурге стихотворение, озаглавленное «Дни».
Все дни изломаны, как преступлением, Седого Времени заржавел ход. И тело сковано оцепенением, И сердце сдавлено, и кровь — как лед. Но знаю молнии: все изменяется… Во сне пророческом иль наяву? Копье Архангела меня касается Ожогом пламенным — и я живу!..Этот «ожог» — восьмистишие, озаглавленное «8», написанное ею 8 ноября того же года, в день ее рожденья. Но две последние строчки второго четверостишия, в каждой из которых по 4 слова, она не записывает, а ставит вместо слов тире. Вот это стихотворение, каким оно записано в ее черновой тетради — «лаборатории стихов», а затем переписано в «брюсовскую», подаренную ей Валерием Брюсовым, тетрадь:
8
Восемь слов в сердце горят, Но сказать их не осмелюсь. Есть черта — о ней молчат, И нельзя переступить через. А все-таки ведь никто не поймет, Что слова эти налиты кровью! «— «.Она показывает эти 6 строк пришедшему ее поздравить с днем рожденья другу дома и спрашивает: «Догадыватесь?»
Это — проверка. Она боится, что по рифме «кровью — любовью» можно догадаться о содержании двух последних строк. Но спрошенный не понимает ни этих строк, ни самого стихотворения, и она успокаивается.
Проходит 27 лет, она умирает и уносит свою тайну в могилу.
Чтобы тайну эту выпытать, черт и явился к ней в третий раз. И если его постигла неудача, то исключительно оттого, что «волшебные слова» никем, ни разу, даже ею самой, не были произнесены вслух.
Не в предчувствии ли этих «волшебных слов» написано ею в июне 1918 г. стихотворение «Есть речи»:
У каждого свои волшебные слова, Они как будто ничего не значат, Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва, — И сердце засмеется и заплачет. Я повторять их не люблю. Я берегу Их от себя, нарочно забывая. Они мне встретятся на новом берегу: Они написаны на двери Рая.Этих ее слов мы не узнаем никогда. Их точный смысл потерян для нас безвозвратно.
Но если иметь капельку фантазии, представить себе ее жизнь в конце <19>18 г. в большевистском Петербурге, постараться понять ее тогдашнее душевное состояние, какая проблема именно в те дни мучила ее всего больше, и если ко всему этому прибавить еще некоторое дерзновение, не говоря уже о личной интуиции, то вот приблизительно содержание не записанных ею восьми слов:
8
Восемь слов в сердце горят, Но сказать их не осмелюсь. Есть черта — о ней молчат. И нельзя переступить через. А все-таки: ведь никто не поймет, Что слова эти налиты кровью: «Но свободою Бог зовет, Что мы называем любовью».В чем же сила этих как бы простых, обыкновенных слов?
А вот в чем:
«Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает»[574] (Откр. 2, 17).
Это новое имя и есть СВОБОДА, новое имя любви, совершенное откровение Божественного Триединства. Оно дается побеждающему вместе с «сокровенной манной» — началом несокрушимых духовных сил, вкушая которую, он как бы приобщается божественной природе.
А почему 8 слов?
Ей в этом стихотворении, более чем где-либо, важно было подчеркнуть, что она родилась в день одержавшего над диаволом победу Архистратига Михаила и что она находится под его защитой. Но эта причина — не главная.
А главная вот:
Число креста четыре, восемь горящих в ее сердце слов — как бы двоящийся в трепете пламени огненный крест, приносимая втайне двойная жертва — Бога за мир и мира за пришествие Духа: «Да приидет Царствие Твое».
И когда налетела на нее идущая из глубины вечности буря смерти и обрушились силы ада, и она впервые оказалась лицом к лицу со снявшим маску врагом, то и помогавший ей в борьбе Архистратиг Михаил со своим воинством не спас бы ее, если бы в эту минуту не было у нее в руках оружие непобедимое — Огненный Крест.
ЗА ЧАС ДО МАНИФЕСТА[575]
З. Гиппиус была ярая антибольшевичка. Ее отношение к большевикам — к партии социал-демократов — вполне определилось уже в 1905 г., о чем свидетельствует письмо к Дмитрию Владимировичу Философову от 7 декабря 1905 г. На первой странице этого письма, наверху справа — отметка: «Писано за час до манифеста».
Каково бы ни было политическое значение этого документа, нельзя отказать Гиппиус ни в проницательности, ни в стремлении к объективной оценке происходивших тогда в России событий, в частности — работы социал-демократической партии, ее программы и методов проведения этой программы в жизнь.
Тогда, в 1905 г., значение, какое Гиппиус придает социал-демократам, нынешним большевикам, и ее абсолютная уверенность в их конечной победе могли казаться и многим, наверно, казались преувеличенными. Ныне эти сбывшиеся пророчества по сравнению с тем, что мы, русские, пережили и что нас и наших потомков ждет в будущем, кажутся бледными схемами. У Достоевского в его «демонологии» («Бесы»), где с удивительной точностью вскрыта истинная природа большевизма и даже угадано время переворота (после Покрова), — картина куда ярче и страшнее. Все это, однако, верно лишь, поскольку мы остаемся в рамках данного документа. Да и сама Гиппиус делает в начале письма оговорку. «Я все это пишу, — замечает она в скобках, — абсолютно без всяких рассуждений, без метафизики, совсем иначе, нежели всегда. Под другим углом».
Нет, дело вовсе не в том, что у Гиппиус не хватило воображения или что атмосферу большевистского октября она плохо улавливала. Напротив. Немногим дано было чувствовать смертоносность идущей на мир грозы так, как ее чувствовала она, и следить за ее приближением с той тревогой, с какой она следила. Этой вещей тревоги полно большинство ее произведений, особенно стихи. Так, в канун рокового <19>14 г. она пишет:
На сердце непонятная тревога, Предчувствий непонятных бред. Гляжу вперед — и так темна дорога. Что, может быть, совсем дороги нет! Но словом прикоснуться не умею К живущему во мне — и в тишине. Я даже чувствовать его не смею: Оно как сон. Оно как сон во сне. О, непонятная моя тревога! Она томительней день ото дня. И знаю: скорбь, что ныне у порога, Вся эта скорбь — не только для меня!Но ведь в том-то и беда, что, чувствуя всем своим существом близость катастрофы — стихотворение озаглавлено «У порога», — она не находит для нее имени, не связывает ее ни с какой земной действительностью, не сознает, что душивший ее всю жизнь кошмар гибели, перед видением которого она немеет, — неизбежное следствие неизбежной победы большевиков, на глазах у всех делающих свое темное дело.
Вот, главным образом, отчего в своем письме к Философову, где она — что чрезвычайно характерно — революцию промежуточную, «февральскую» не предусматривает, считая единственно возможными победителями большевиков, — в их победе не видит ничего страшного. И в этом, т. е. в разрыве между чувством и сознанием, в постоянно двоящейся воле, а временами в ее полном параличе — трагедия не только Гиппиус, но и многих ее современников.
Что же касается самого документа — письма Гиппиус к Д. Философову, — то на правой стороне, наверху число: Понедельник, 17 октября <19>05 г., в левом верхнем углу евангельская цитата: «По делам их узнаете истину их»[576]. Сбоку карандашная отметка: «Писано за час до манифеста». А вообще в начале этой главы я поставил бы эпиграфом заключительные четыре строчки стихотворения Д. Мережковского «Кассандра»:
Ты знала путь к заветным срокам, И в свете дня ты зрела ночь. Но мщение судеб пророкам: Все знать — и ничего не мочь.[577]Манифест 17 октября 1905 г.[578] и был для большевиков таким камнем на дороге, в какой превратился бы и проект конституции Лорис-Меликова[579], если б Александр Второй успел его подписать. Но 1 марта 1881 г. он был убит. Александр же Третий нашел проект несвоевременным и подписать его отказался, сыграв этим в руку революционерам.
Реформа между тем была весьма скромная: дело шло отнюдь не о введении в России парламентарной системы на манер английской, а всего лишь о создании совещательного органа из выбранных в разных слоях общества народных представителей.
По той же причине и теми же революционерами был в царствование Николая Второго убит П.А. Столыпин[580]. Его земская реформа принадлежала также к числу тормозящих революцию камней на дороге.
Но вернемся к письму Гиппиус. «Этот внутренний террор, — продолжает она с большим знанием дела, — отвлечет крестьян от какой бы то ни было — попытки даже — восстания против Временного правительства, которое оно, впрочем, должно иметь силу победить насилием, — ведь оно должно продержаться, а может только силой…»
Но тут Гиппиус как бы просыпается от «гипнотического сна» и ее пророческое зрение мутнеет. Вот что она пишет по поводу созыва Учредительного собрания (которого «большевики не хотят») и его работы: «Наконец, общее Учредительное собрание, мирно (курсив Гиппиус) вырабатывающее общие коммунистические положения. Забыла сказать, что они (большевики. — В.З.), совершенно опять-таки правильно, не боятся буржуазии».
Но, увы! мы знаем, что выбранное — при большевиках — Учредительное собрание была победа соц<иал>-революционеров, имевших в этом первом русском парламенте абсолютное большинство. Мы знаем также, что оно было большевиками разогнано, и роль, какую в этом деле сыграл матрос Железняк[581]. Кстати, в скобках, — в своих напечатанных в «Новом журнале» воспоминаниях А.Ф. Керенский рассказывает[582], как он в более-менее неузнаваемом виде на этом собрании присутствовал.
Но связь с Россией — физическую, плотскую, — связь с матерью, порвать не легко. И как ни хороша свобода, России ей всегда недоставало. В Варшаве, куда она с Мережковским сразу после бегства попадает, она заканчивает свой дневник следующим коротким стихотворением:
Там — я люблю иль ненавижу, — Но понимаю всех равно: И лгущих, И обманутых, И петлю вьющих, И петлей стянутых… А здесь — я никого не вижу. Мне все равны. И все равно.[583]В Варшаве Мережковские остаются 9 месяцев, потом переезжают в Париж. Они всячески стараются втолковать европейцам, что большевизм — опасность мировая. Но их никто не слушает. Европа устала от войны, она отдыхает, веселится и ни о какой вооруженной интервенции против большевиков и думать не хочет.
Слушает Мережковских только одна Германия. Слушает… и готовится к реваншу.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО И З. ГИППИУС[584]
I
Дмитрий Сергеевич Мережковский умер внезапно в Париже, в воскресенье 7 декабря 1941 г., в день, когда Япония вступила во Вторую мировую войну. Ему шел 77-й год.
Он не был болен. Вообще болел редко. За двадцать последних лет своей жизни он провел больным в кровати не более 3–4 дней. Неизбежные гриппы он терпеливо высиживал дома, продолжая работать. Одно из исключительных свойств его природы было полное отсутствие лени. Он писал немного, несколько часов по утрам, но каждый день, посвящая остальное время чтению и подготовке следующей книги. Отвлечь его, однако, от утренней работы не могло ничто, никакая болезнь. Но его жена, Зинаида Николаевна Гиппиус, при малейшем его нездоровье начинала беспокоиться, пристально, с затаенной тревогой за ним следить и, пока он не поправлялся, не выпускала его из дому. Из-за этого между ними часто происходили ссоры. Д.С., чувствуя себя лучше, рвался гулять, особенно когда погода была хорошая — «гулянье — свет, а негулянье — тьма», говорил он. З.Н. не пускала, находя, что он еще недостаточно «высидел». Не желая ее огорчать, Д.С. уступал. Гуляли они всегда вместе, в последний год она не отпускала его одного ни на шаг; даже к парикмахеру. Боялась, что с ним что-нибудь случится.
Этот ее постоянный страх за Д.С. казался необъяснимым, глупым, иногда смешным. Но что ей было делать? Он ее преследовал, и чем дальше, тем неотступнее. Она бы и рада была от него избавиться, да как? «Я с детства отравлена смертью и любовью», — пишет она в своем дневнике. «…Я еще живу, потому что любовь еще владеет мною и выражается страхом». Но то, что она так боится, принимает на фоне общей мировой катастрофы почти осязательную форму: «Боже мой, Боже мой! что будет в моей новой зеленой ажанде?» — спрашивает она в канун <19>41 г. Это — больше чем предчувствие. Это — знание. Она как бы знает, что Д.С. умрет первым и что смерть его подстерегает. Но так как «времена и сроки» от нас скрыты, всякую болезнь Д.С. она переживает как смертельную, всякий наступающий день — как последний.
Есть счастье у нас, поверьте. И всем дано его знать. В том счастье, что мы о смерти Умеем вдруг забывать. Не разумом ложно смелым (Пусть знает, — твердит свое), Но чувственно, кровью, телом Не помним мы про нее.[585]Бедная З.Н.! Как лег на нее в детстве гробовой камень, так и до сих пор лежит. Хоть иногда вздохнуть свободно — и то счастье. Но и оно почти недоступно. Все напоминает о смерти. «Вот слово, будто меж строк[586], глаза больного ребенка» — и кончено: «опять отравлена кровь». Если б даже она смирилась, признала, что все — в воле Божьей, что пытать ее нельзя и не надо — перед смертью все равны, — могла ли бы она забыть то, что ей открыто и что не помнить — не дано? Но раз нельзя «забыть будущее», почему бы не попытаться его исправить, изменить судьбу? И она эту отчаянную попытку делает, решает, что первая из жизни уйдет — она, убеждая себя, что и Бог иначе решить не может, не должен. Ей кажется, что и для нее, и для всех лучшего выхода — нет. «Моя смерть — какое освобождение!» И она серьезно начинает к ней готовиться.
6 января, в русский Сочельник 1922 г., почти за 20 лет до смерти Д.С., она обрывает свою запись и красным карандашом ставит внизу страницы большой крест. На следующей через месяц она пишет огромными буквами: «Конец всем моим дневникам; отсюда, от дня, которого не будет более ста лет, — 2–2—22 — начинается мое заключительное слово».
Но эта попытка духовного самоубийства — «потушить душу», как она говорит, — не удается. Она слишком «живуча», слишком еще полна сил, которые так и не найдут себе применения. И сколько бы она ни пыталась внутренне себя уничтожить — своей воли к жизни ей не сломить. Да и Бог своего решения не меняет. «Нет, нет, затянуться туманом, — пишет она в конце «Заключительного слова». — Быть «около себя», потушить душу действительно, т. е. и для себя самого. Потому что я не могу, не могу! Нельзя выдержать!» Однако она выдерживает, несмотря на «пытку страхом», от которой ей уже деваться некуда. Но втайне она продолжает надеяться, что смерти Д.С. не увидит, уйдет первая. Если же Бог решения своего не изменит, — тем хуже для Него.
Но предчувствовал ли свою смерть сам Д.С.? — сказать с уверенностью трудно. Ни дневников, ни писем, кроме — за редкими исключениями — деловых, он после себя не оставил. По свидетельству З.Н., он к смерти был готов и принимал ее спокойно. Есть на это указания и в его последних стихах:
Склоняется солнце, кончается путь; Ночлег недалеко, — пора отдохнуть![587]Или:
Скоро скажу я с улыбкой сыновней: Здравствуй, родимая Смерть.[588]Но действительно ли предчувствовал Д.С. свою смерть или только случайно о ней думал — кто в старости не думает порой о смерти, — не важно. Важно, как он к ней относится, на что надеется. З.Н. в одном из своих стихотворений говорит о смерти:
А я ее всякую ненавижу, Только свою люблю, неизвестную.[589]Любит ее и Д.С., но не за то, что она «горю земному — предел неземной», что тоже особой оригинальностью не отличалось бы. Он ее любит как избавительницу от двойного изгнания, за «вечную радость», какую она предвещает — радость райского соединения родины земной и небесной. Мысль о смерти неразлучна у него с мыслью о России. И не случайно его последний разговор с З.Н. накануне смерти — о России. Как и для древних египтян, смерть для него — возвращение на родину. В своем стихотворении «Сонное», из всех его последних стихов единственно действительно пророческом, без «предчувствий» и надсоновских восклицаний, он удивительно просто и хорошо рассказывает о каком-то видении, сокровенный смысл которого от него тоже, может быть, не случайно, ускользает.
Что это — утро, вечер? Где это было — не знаю. ………………………….. Тишь, глушь, бездорожье, В алых маках межи. Русское, русское — Божье Поле зреющей ржи. Господи, что это значит? — [590]спрашивает он, не понимая. Но душа его плачет от радости, как будто чувствует близкий конец разлуки.
И чем ближе этот конец, тем неземное становится для него все более земным, родным, русским — человеческим:
Господи, иду в неизвестное. Но пусть оно будет родное. Пусть мне будет небесное Такое же, как земное.[591]Эту молитву З<инаиды> Н<иколаев>ны мог бы повторить и он. Кстати, она отмечает в своей записной книжке: «Тот свет — ближе и доступнее, чем Россия». А что до этого, то он кажется Д<митрию> С<ергееви>чу все грубее, все нечеловечнее. Перечитывая стихи Ходасевича, он подчеркивает строчку: «В непрочной грубости живем», и, может быть, ею навеяно его стихотворение «Главное»:
Доброе, злое, ничтожное, славное, — Может быть, это все пустяки, А самое главное, самое главное, То, что страшней даже смертной тоски, — Грубость духа, грубость материи, Грубость жизни, любви — всего…[592]Торжество этой грубости, дикости, нечеловеческого в человеке — война. Он ее задолго предсказывает в своей книге «Атлантида — Европа», и уже по заглавию видно, что он от нее ждет. Но всю тяжесть двойного изгнания — двойной потери, он по-настоящему начинает чувствовать в <19>39 г., когда наступает катастрофа. Россия провалилась, но был мир. И вот мир тоже провалился. Царство лжи и человекоубийства — земной ад, в котором он проведет два последних года жизни, пышным цветом расцветает на месте, где некогда была Европа — «страна святых чудес».
Война застает Мережковских в Париже. Опасаясь воздушных бомбардировок, французское правительство усиленно рекомендует всем, кто может, покинуть столицу. Паника преждевременная — непосредственной опасностью Парижу не грозит. Но через неделю после объявления всеобщей мобилизации Мережковские, в кошмарных условиях, уезжают в Биарриц. Там они сравнительно благополучно проводят три месяца и в декабре возвращаются на свою парижскую квартиру.
Зима 1939-<19>40 проходит под знаком «drфle de guerre»* [*«Странная война» (фр.).] и Скуки с большой буквы, как говорит З.Н. «О, как надоела война, большевики и все вообще!» — отмечает она в своей записной книжке. В январе она заболевает гриппом и больше двух недель не выходит. «Не писала, потому что все то же лежанье на постели, думанье ни о чем, бледная радость, что я больна, а не он». Но через несколько дней: «Я-то ничего — что мне! а вот он, кажется, опять. Кашляет и, верно, температура». «Да, с утра он кашляет», — записывает она на следующий день. Она начинает беспокоиться: «Нет, не могу писать. Такая тревога на сердце». Но к первому февраля оба выздоравливают и возобновляют свои ежедневные прогулки.
Каждое воскресенье перед приемом — у них по старой, еще с петербургских времен традиции в этот день собираются друзья, — они заходят, гуляя, к маленькой Терезе[593], в церковь на рю Ля Фонтэн. Они ее нежно любят и верят, что она им в трудные минуты помогает. Перед ее статуей в их гостиной — всегда свежие цветы, на которые они не скупятся. Д.С. собирается писать о ней книгу, у З.Н. много посвященных ей стихотворений. Этот культ продолжается до самой смерти Д.С.
Весной <19>40 г. наступают известные всем события. «Странная война» кончена. Немцы занимают Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и вторгаются во Францию. Париж под угрозой. Друзья советуют Мережковским уехать. Они колеблются — у них мало денег. Но к началу июня ход событий ускоряется, и с большой неохотой Мережковские решают ехать опять в «этот поганый Биарриц», как называет его З.Н. Недаром она его так не любит. К счастью, они вовремя успевают заказать спальные места и еще до паники, в среду 5 июня уезжают.
В Биаррице начинаются мытарства. Город переполнен. Отель «Метрополь», в котором они остановились, через несколько дней после их приезда реквизируют под какое-то бегущее из Парижа правительственное учреждение. Мережковские остаются на улице. Они находят себе приют на одну ночь в пригороде, на вилле, за которую уже дал задаток французский писатель Жорж Дюгамель[594]. Он любезно разрешает им переночевать, но больше не появляется. Вторую ночь они на вилле у знакомой дамы, где останавливались в прошлый приезд. На третью — в «Maison basque», когда-то хорошем отеле, а теперь — ночлежке для беженцев. Там они застревают надолго. Найти помещение более подходящее и думать нечего, да и денег почти уже нет. Комната в «Maison basque» стоит недорого — 70 фр<анков> в неделю. В крайнем случае можно не платить — не выгонят.
14 июня немцы вступают в Париж. З.Н. записывает: «Я едва живу от тяжести происходящего. Париж, занятый немцами… неужели я это пишу?» 28 июня — немцы в Биаррице. «О, какой кошмар! — восклицает она. — Покрытые черной копотью, выскочили из ада в неистовом количестве, с грохотом, в таких же черных закоптелых машинах… Почти нельзя вынести». Итог за июнь лаконичен: «Погода все лучше. Черных роботов, отливающих зеленым, все больше. Выношу их все меньше. Наше положение все хуже».
Положение Мережковских действительно не блестяще. Деньги — истрачены. Заработка — никакого. Об авансе от французских издателей в этом хаосе не может быть и речи. От заграничных отделяет оккупация. Помогают друзья, но на это не проживешь. Бывают дни, когда вся их еда — кофе с черствыми корками. Бедность, чужбина, немощь и старость. Но, к счастью, находится один неизвестный человек, «добрый самарянин», как его называют Мережковские, который их кормит — носит им то котлеты, то манную кашу, то кисель. Те, у кого есть возможность, приглашают их завтракать либо обедать. Наконец, друзья, чтобы немного им помочь, устраивают под председательством Клода Фаррера[595] чествование по случаю семидесятипятилетия Д.С. Оно имеет успех и приносит чистыми около 7 тысяч франков. Мережковские покидают ненавистный «Maison basque» и переезжают в небольшую виллу «El Recres», где устраиваются на зиму.
Но дней за десять до переезда Д.С., пообедав где-то в гостях, заболевает длительной и неприятной, хотя и не опасной желудочной болезнью, какой многие в Биаррице болеют. З.Н. от страха совершенно теряет голову. Ей кажется, что это — конец. На «El Recres» у каждого своя комната, но она поселяется в одной с Д.С., чтобы не покидать его и ночью. Кроме как о его здоровье, она ни о чем другом ни думать, ни писать не может: «В вилле хорошо, но ему все нехорошо…» «У него боль». «Уж не выходит, лежит целый день». «То же, то же». «Боль, боль, и ничто не помогает». Так проходит месяц с лишним, пока Д.С. не обращается к хорошему врачу. Тот прописывает верное лекарство, и Д.С. начинает понемногу поправляться. З.Н. успокаивается.
Однако не надолго. Такой зимы, как зима <19>40-<19>41 г. еще не бывало. Окружающая их атмосфера катастрофы, дышать в которой все труднее, «Прекрасная Дама Бедность» — их постоянная гостья, голод, холод — в декабре температура падает до 18 гр<адусов> ниже нуля, — вечные заботы, вечные унижения и, наконец, болезнь — все это оставляет на Д.С. след. И хотя он легок и бодр, почти как прежде, вид у него порой усталый, каменный. Но эта усталость не от жизни, которую он со всеми ее мелочами продолжает любить по-детски, а от того, во что ее превратили. «Состарила меня эта война!» — повторяет он часто. Утомлена и З.Н. «Призрак конца» преследует ее день и ночь. Она старается его отогнать, отвлечь внимание на другое, но тщетно. Ни полицейские романы, ни маленькая Тереза не помогают.
Я сужен на единой Мысли, Одно я вижу острие.[596]Даже смерть их близкого друга Д.В. Философова, о которой они узнают случайно, в конце августа <19>40 г., потрясает ее не так, как если б он умер несколькими месяцами раньше. Что же до других бед, на которые судьба не скупится, то З.Н. к ним, в сущности, равнодушна. Неприятно и досадно, конечно, что их парижская квартира описана за неплатеж и что их выселяют. Неприятно еще и многое другое, но все это сравнительно — пустяки и поправимо. Главное — это, чтобы Д.С. был здоров, не волновался и работал.
И он работает, преодолевая все — голод, холод, болезнь, страх. Его сопротивляемость воистину чудесна: ни своей внутренней свободы, ни ясности мысли он не теряет. В «Maison basque», больной, полуголодный, он кончает первую часть «Испанских мистиков»[597] — «Жизнь св. Иоанна Креста» и начинает вторую — «Жизнь св. Терезы Авильской». Кончив «Испанцев» — уже на «El Recres», — он тотчас принимается за новую книгу — последнюю из цикла «От Иисуса к нам» — о маленькой Терезе. Одновременно он собирает материал для книги о Гёте. По поводу ее он как-то в шутку замечает: «Эти святые довольно-таки мне надоели. Напишу-ка я об язычнике Гёте». Но, увы! написать о Гёте ему не суждено. Он читает несколько лекций — о Леонардо да Винчи[598], о Паскале[599]. Последняя вызывает критику правоверных католиков — яростную и невежественную. Лекцию о Наполеоне, объявленную в казино, немцы в последнюю минуту запрещают — неизвестно почему. Для Мережковских это — шок. Они надеялись немного поправить ею свои дела: она, наверно, имела бы успех. А дела неважны. «Прекрасная Дама Бедность» посещает их все чаще и остается все дольше. Единственный договор, который Д.С. удается заключить, — это договор с немецким издателем о новых книгах. Но условия — невыгодные и аванс — ничтожный, с уплатой не сразу, а в три приема. Последних двух взносов Д.С. так и не дождался.
В начале июля <19>41 г. Мережковских за неплатеж выселяют с «El Recres». Они переезжают в две меблированные комнаты на виллу «Эрмитаж», где провели вторую ночь после выселения из «Метрополя». Хозяйка им верит в долг. Там они остаются около двух месяцев и в сентябре возвращаются наконец в Париж для устройства своих дел и спасенья квартиры. Это их последнее путешествие.
В Париж они приезжают 9 сентября в 9 ч<асов> вечера. Число «9» их, положительно, преследует. Начало всех бед — война объявлена в сентябре, сентябрь — девятый месяц — <19>39 г. Первый отъезд в Биарриц — 9 сентября <19>39 г. Возвращение в Париж — 9 декабря <19>39 г. Возвращение после второго пребывания в Биаррице — опять 9 сентября. Но этого таинственного повторения Д.С. не замечает. Он боится «чертовой дюжины» — 13, понедельника и пятницы. Не замечает его и З.Н., особенно внимательная к числам:
За числами слежу я очень зорко, Как вещий знак, дает нам числа Бог.Между тем 9 сентября — число роковое именно для нее.
В Париже прелестная поздняя осень. Мережковские рады, что дома, в своей, хотя бы и описанной квартире. Снова маленькая Тереза в цветах. Снова по воскресеньям они ходят к ней на рю Ля Фонтэн. Но салон их пустует. Друг № 1 — Мамченко[600], иногда братья Лифари[601], Зайцевы[602], Тэффи. Бунина нет в Париже, он на юге, в Грассе. Но объявляется неожиданно новый поклонник Д.С., студент-медик, Николай Журавлев, пишущий французские стихи. Раз или два заходит почтенный белобородый старец, бывший член Думы — Тесленко[603]. Его судьба странно переплетается с последними днями Д.С., как и судьба их давнишнего друга еще по России, князя В.Н. Аргутинского[604].
Жизнь входит в прежнюю колею. Биаррица как не бывало. Д.С. работает, отдыхает, гуляет. З.Н. по вечерам в своем «зеленом углу» запоем читает полицейские романы. Но с питанием плохо. Покупать на «черном рынке», где всего вдоволь, нет еще привычки, да и не по карману. Когда-то, 22 года тому назад, в советской России, З.Н. могла еще писать шуточные стихи:
Не только молока и шеколада.[605] Не только булок, соли и конфет, …………………………………… Мне даже и огня не очень надо: Две пары досок обещал комбед.Теперь — не то. Теперь от «молока и шеколада» зависит их жизнь. Более же всего они боятся холода — угля нет, а зима на пороге. В октябре Д.С. начинает мерзнуть. Он работает в теплом пальто, ноги — в пледе. Не по средствам и папиросы. От их недостатка Мережковские «позорно» страдают. Но «все это было когда-то». Гуляя раз при большевиках в Таврическом саду, З.Н. сочинила экспромтом четверостишие:
Равнодушно глаза прищуриваю (Это стало моей привычкой). Золотую папиросу закуриваю Дорогой серебряной спичкой.Все повторяется. Прошлое сквозь настоящее просвечивает, как сквозь полуистлевший саван — тело мертвеца. То, что сейчас происходит в мире, лишь повторение в гигантском размере того, что произошло в России. И все-таки Д.С. от России не отказывается, верит в нее вопреки всему.
Но проходит октябрь, ноябрь, наступает декабрь. Д.С. кончил первую часть «Маленькой Терезы» и пишет вторую. Теперь он работает не у себя, а в гостиной, где теплее. З.Н. около него, в кресле, что-то шьет, погруженная в свои невеселые мысли. Иногда он ей читает какой-нибудь удавшийся, как ему кажется, отрывок. «Хорошо?» — спрашивает он. З.Н. одобряет не всегда. Если она отвечает: «Плохо», — Д.С. уничтожен. Он спорит, сердится. Однако на следующий день, а то и в тот же вечер он забракованное исправляет, и выходит лучше.
Еще в конце прошлого месяца, в субботу 29 ноября, запись З.Н. внезапно обрывается. Как будто она чувствует близость катастрофы и от ужаса немеет. На этой первой неделе декабря к Терезе они, против обыкновения, идут на два дня раньше, в пятницу, 5-го, тоже как будто чувствуя, что в воскресенье будет поздно. В субботу, 6-го, после небольшой прогулки и отдыха в кафе Мережковские возвращаются домой, обедают, и затем Д.С., надев пальто и взяв книгу, — устраивается на диване в гостиной в «зеленом углу». У него немного болит голова и мерзнут руки, но нельзя же читать в перчатках. З.Н. рядом, за столом, что-то пишет.
Вечерний чай. Разговор о России. З.Н. своих позиций не сдает: выше России — свобода. Д.С. не возражает: «Да, да, — говорит он, — но это — отвлеченно. Без России мне и свобода не мила». — «А мне мила», — сердится З.Н.
Около часу ночи он уходит к себе. У него привычка: вечером перед тем, как лечь спать, он в столовой на диване, потушив свет, курит последнюю папиросу. «Что ты здесь делаешь, в темноте?» — спрашивает его как-то З.Н. «Ищу надежду». Но в этот вечер он не курит — забыл, и на вопрос З.Н. «Что же твоя «папироса надежды»?» отвечает: «Все равно, в другой раз».
Он — в кровати. З.Н. заходит к нему попрощаться.
«Мы с тобой по-разному любим, — продолжает Д.С. разговор о России. — Я, как Блок: «Но и такой, моя Россия[606], ты всех краев дороже мне». Ты этого не понимаешь, — прибавляет он. — Но это — ничего».
Воскресенье, 7 декабря. Д.С. встает, как обыкновенно, около восьми. Зажигает электрический радиатор и свет в умывальной. Выносит в столовую чашку с недопитым чаем, кладет на камин носовой платок, щетку, гребенку и садится в соломенное кресло около печки. Здесь после умывания он будет причесываться, а пока греет руки. Но печка потухает. Надо бы подложить немного угля…
В 8.30 приходит femme de menage*[*Домашняя работница (фр.).]. Она приготовляет кофе, чистит платье и, проходя по коридору, заглядывает через стеклянную дверь в столовую, которую, пока Д.С. умывается, надо прибрать. Она удивлена, что в это утро Д.С. сидит у печки так долго. Но не замечает ничего, ей лишь кажется, что он немного бледнее. Наконец, уже почти в 9 ч<асов>, обеспокоенная, она входит в столовую и застает Д.С. в кресле, без сознания. Она бросается к З.Н. в спальню, отдергивает на окне занавески, будит ее: «Venez vite, monsieur est malade»* [*Кончается жизнь, господин болен (фр.)]. Та, обычно просыпающаяся с трудом, вскакивает: «Oui, je viens, je viens»* [*Что он нездоров, он нездоров (фр.)]. Вот оно то, чего она так боялась, это утро, подобное тому далекому петербургскому утру, когда умерла ее мать и нянечка Даша ее с такой же поспешностью разбудила: «Скорей, скорей, мамочке дурно».
Накинув теплый стеганый халат, З.Н. бежит в столовую, подходит к Д.С. «Милый, что с тобой, ты болен?» Д.С. не отвечает. Она приносит одеколон, обтирает ему лицо. Femme de mйnage спускается к консьержке, которая по телефону вызывает доктора. Тот приходит через 15 минут. Д.С. переносят в его комнату, укладывают в кровать. Доктор впрыскивает камфору, кладет холодный компресс на сердце, другой на голову. Д.С. часто дышит. З.Н. в своем черном халате стоит к нему спиной, лицом к иконам. Губы ее что-то шепчут.
Доктор делает второе впрыскивание и уходит, обещая зайти перед завтраком. Надежды никакой: кровоизлияние в мозг. Через полчаса после его ухода Д.С., не приходя в сознание, умирает.
З.Н. выходит из его комнаты. Она очень бледна, но с виду спокойна. На письменном столе в гостиной, где со вчерашнего дня приготовлено все для утренней работы, — раскрытая рукопись книги Д.С. о маленькой Терезе. Она обрывается на 13-й странице:
Маленькая Тереза своей обыкновенностью необычайна. Кутается в серую будничность, как в серую куколку, тот жалкий червяк, о котором, устами Давида, говорит Сын Божий Единородный, устроивший миры и вечности.
…Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе (Пс. 21, 7).
Кутается в темную куколку жалкий червяк, чтобы вылететь из нее ослепительно белой, как солнце, воскресшею бабочкой.
Это воскресенье, 7 декабря, — бесконечно. Квартира Мережковских с утра полна народу. Многие приходят, ничего не зная, просто в гости, на воскресенье. Один из таких невинных визитеров — Тесленко. З.Н. сидит в полуосвещенной гостиной, в обществе дам. Тесленко садится в столовой. На него никто не обращает внимания. Леонид Лифарь что-то записывает на краю стола. Вдруг Тесленко спрашивает: «А что, Д.С. не выйдет сегодня? Он нездоров?»
Когда ровно через год З.Н. приезжает в церковь на панихиду по Д.С., первое, что она видит, — это стоящий посередине гроб. Завтра отпевают Тесленко.
Весть о смерти Д.С. быстро разносится по Парижу, и на следующий день, в понедельник, на панихиде, которую служит двоюродный племянник Мережковских, молодой о. Дмитрий Клепинин[607], — почти все друзья. Среди них и князь В.Н. Аргутинский. Но в комнату, где лежит Д.С., он не заходит, остается в столовой один: он боится покойников. В среду утром, 10 декабря — отпевание на рю Дарю и погребение на русском кладбище в С.-Женевьев де Буа. Перед службой Т.Н. Манухина[608] — жена доктора подходит к З.Н. и шепотом сообщает, что накануне, во вторник, Аргутинский внезапно умер.
II
Зинаида Николаевна без Дмитрия Сергеевича! Это почти нельзя себе представить, как Д.С. без З.Н. Но только смерть могла их разлучить. По-человечески жестоко, по-Божьему, может, и милосердно, что первый умер он, — легко, в одночасье. Что было бы с З.Н. если б он умирал медленно, от тяжелой болезни? Что было бы с Д.С., если б он дожил до ее агонии? Но к постигшему ее удару З.Н. относится по-человечески — не по-Божьему, и переживает его как незаслуженную обиду. Ей даже кажется, что духовно умерла и она: «Пишу теперь, когда моя жизнь кончена. Это я ощущаю со знанием», — записывает она через 10 месяцев после 7 декабря. «…Я пока еще живу физически — только, а потому смерти моей другие не видят, не понимают и не могут понять». Но не говорила ли она буквально теми же словами: «жизнь кончена» — и 22 года тому назад? Правда: «Я все знала — и ничего. Теперь только, пережив последнее в жизни, кончилось то, что было моей жизнью». Но действительно ли кончилось? Смерть близкого человека может в любящей душе оставить неизгладимый след, вечную рану, но душу не убивает. Убивает ее только грех. Нет, настоящая трагедия З.Н. в том, что, несмотря на постигший ее удар, — она жива и что не иссякающая в ней сила жизни не находит себе никакого выхода. Она многое могла бы сделать — своего последнего слова она не сказала. Но в опустевшем для нее со смертью Д.С. мире ей не на кого и не на что опереться. Да и мир в таком состоянии, что ничего, кроме скуки и тошноты, в ней не вызывает, — той особой тошноты, какая бывает только в аду и для какой на человеческом языке нет даже слова:
Для тошноты подземной и навечной Все здешние слова — ничто.[609]Она замыкается в себе и даже помышляет о самоубийстве. Только «остаток моей религиозности, — признается она, — (да, остаток, увы, увы! Моя, в сущности, ничтожность не могла устоять перед ударом, ее поразившим) удерживает меня от самовольного ухода из жизни (или и слабоволие?). Но жить мне нечем и не для чего». Какое признание! Но не вернее ли, не ближе ли к действительности было бы другое: не я хочу себя убить, — меня убивают. Да, все ее убивает, все против нее — и люди, и Бог, сама жизнь как бы от нее отказывается. Богу она смерти Д.С. не прощает. Маленькая Тереза — в немилости, под черным покровом, и — никаких цветов. К ней на рю Ля Фонтэн З.Н. тоже больше не ходит и до конца не пойдет. Но в этом бунте много детски беспомощного. Перед лицом смерти она — беззащитна, как малое дитя, которое неизвестно кто и за что обидел:
Не знаю, не знаю и знать не хочу. Я только страдаю и только молчу.[610]Ей холодно и одиноко. Мир для нее — ледяная пустыня, где она замерзает, подобно Каю в сказке Андерсена «Снежная королева».
Как эта стужа меня измаяла. Этот сердечный мороз. Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло, Да нет слез.[611]Оно оттает, но не раньше, чем сложится из острых льдинок слово, которое она забыла и не может вспомнить: вечность.
Ей 72 года, но она еще очень моложава и элегантна в своем черном платье. Она по-прежнему посвящает много времени своему туалету, выходит, принимает и мало-помалу начинает работать. Ей надо написать книгу о Д.С., ибо только она одна знает и помнит о нем все. И она спешит, так как чувствует, что проживет недолго. Пишет она и стихи — длиннейшую поэму «Последний круг», которую без конца переделывает. Но это — ее внешний, «дневной» облик. Свое страдание она скрывает. Оно — тайное, темное, жадное, как неведомое чудовище, которое она кормит своею кровью. По ночам у нее постоянные кошмары. Часто во сне она вскакивает, повторяя: «Oui, je viens, je viens», как привидение скользит в столовую, подходит к печке, наклоняется над пустым креслом, где в то утро сидел Д.С., и произносит те же слова: «Милый, что с тобой, ты болен?» Если утром слишком быстро отдергивают в ее комнате оконные занавески, она от этого звука опять переживает все сначала, торопливо вскакивает, путаясь в одеяле, и опять повторяет: «Oui, je viens, je viens». Это длится много месяцев.
Когда 11 ноября <19>42 г. внезапно, на улице, умирает ее сестра Анна[612], она записывает в своем дневнике: «С того дня, в ноябре, когда умерла Ася, я каждый час чувствую себя все более оторванной от плоти мира (от матери)». Но эта связь с «плотью мира», с матерью-землей еще не порвана и, может быть, окончательно не порвется никогда.
Всю я тебя люблю, Единственная. Вся ты моя, моя! Вместе воскреснем за гранью таинственною, Вместе — и ты, и я, — [613]говорит она в одном своем стихотворении о земле. В ее сердце еще теплится надежда на чудо. И это чудо такое простое, такое возможное: «маленький человек с большим горем», как звали З.Н. в детстве, ждет, чтобы его утешила, успокоила мать. Вот и все. «Своей смерти я не понимаю или, пожалуй, не боюсь ее. Мне надо быть в ощутимой любви другого». Но этого чуда, от которого, может быть, оттаяло бы ее сердце, не совершается. Все та же вокруг нее ледяная пустыня, и в ней самой — все тот же холод:
Как будто льда обломок острогранный В меня вложили тайно вместо сердца.[614]Незадолго до смерти у нее вырывается крик: «Но — мне все равно теперь. Я только и хочу — уйти, уйти, не видеть, не слышать, забыть…» И она уходит, понемножку, полузаметно, — навстречу тому чуду, которое искала и ждала всю жизнь.
Она много работает и, по старой привычке ночью выкуривая массу папирос, — спешит с книгой о Д.С. Когда устает писать, принимается за шитье — за починку своего белья, пока от усталости работа не вываливается из рук. Тогда наконец она ложится — почти на рассвете. Встает рано. Это в корне подрывает ее здоровье. Сначала у нее опухает правая нога. Ее домашний врач не придает этому большого значения и прописывает какую-то мазь. Но в одно из воскресений в конце марта <19>44 г. она, сидя у себя в комнате за книгой, вдруг с полным спокойствием объявляет: «У меня, кажется, начинается паралич». Она жалуется на «мурашки» и на онемение правой стороны тела. Ее успокаивают. Однако вызванный в понедельник утром французский доктор Андрэ находит положение серьезным: склероз мозга, где задеты некоторые центры. От З.Н. это, конечно, скрывают. Она думает, что у нее немеет и болит рука от скверного кровообращения, а скверное кровообращение от слишком узких сосудов, тем более что кончики пальцев у нее и раньше часто немели. Кроме того, Д.С. последний год так тяжко во время прогулок опирался на ее руку, что не удивительно, что рука устала. «Я его буквально на себе носила, — рассказывает она доктору. — Но я не жалею».
Проходит несколько дней. З.Н. пробует продолжать работу — переписывает на машинке свою бесконечную поэму[615]. Но боли в теле и в руке усиливаются, она падает духом, бросает все, даже чтение, и целые дни проводит, лежа на кушетке, в полной неподвижности.
Ее усиленно лечат, хорошо кормят. Вообще она не испытывает недостатка ни в чем. И мало-помалу она оживает. Через два месяца она не только уже может выходить, но и писать, и если воздерживается, то исключительно потому, что ждет, когда совсем «окрепнет рука». Летом ее состояние улучшается настолько, что в августе после освобождения Парижа союзными войсками она пешком отправляется за папиросами под Эйфелеву башню, на американский «черный рынок», и, пробродив в толпе около часу, пешком возвращается назад.
Осень и начало зимы <19>45 г. проходят без перемен, с небольшими колебаниями — ей то немного хуже, то немного лучше. Одно время ее мучают головные боли с левой стороны. Но это проходит. Она понемножку начинает писать — короткие письма, — не хочет утомлять руку, бережет ее для книги о Д.С. Письма писать — она великая мастерица и своим эпистолярным искусством славится. Почерк ее почти не изменился, разве что немного неувереннее и мельче, но это, может быть, оттого, что отвыкла рука.
Никаких других перемен в ней не заметно. Она по-прежнему верна себе, позиций своих не сдает, держится на них крепко. Перед Богом и Терезой не смиряется. Если болезнь иногда слишком резко подчеркивает какую-нибудь ее дурную сторону, она это умело смягчает, и равновесие восстанавливается. Дурных же сторон у нее порядочно, и свою «изнанку» она отлично видит. Недаром она так часто называет себя «ничтожеством», «дрянью», «пустельгой» и хочет исправиться. В ней не только «потерявшаяся девочка», не сама маленькая Тереза, умирающая от холода полной богооставленности, смотреть на которую почти нельзя без слез, но и ведьма, известная лишь немногим, сохранившим ей верность друзьям… Но им — она известна хорошо. Кстати, верность она ценит больше всего на свете и сама — верна:
Пусть это мне и не в заслугу, Но я любви не предавал, Ни Ей, ни женщине, ни другу Я никогда не изменял.[616]И это ей непременно зачтется.
Д.С. при всей своей резкости и удивительной иногда неразумности был мудр и кроток. З.Н. природно умна, но мудрости в ней — ни капли. А что до кротости, то какая кротость у ведьмы! Один почтенный иерарх, член петербургских Религиозно-философских собраний, идея которых принадлежит З.Н., называл ее не иначе, как «Белая дьяволица». Ничего даже приблизительно дьявольского в ней, конечно, нет, однако какая-то сверхъестественная сила, похожая на ту, что владела тургеневской Кларой Милич[617], владеет порой и ею.
С этой почти святой, полуведьмой-полувампиром у З.Н., как ни странно и ни страшно, что-то неуловимо общее? Во всяком случае, и З.Н. подобно Кларе из жизни уводит:
Прости мне за тех, кого я Отнял у жизни сей. Отнял у сна и покоя, У жен и у матерей.[618]Разница лишь в том, что Клара уводит «для себя», а З.Н. «не для себя». Так по крайней мере она утверждает. Но как — не на словах, а на деле — разделить в любви Божье и человеческое, святое и грешное, высшие интересы и личную выгоду? И до конца ли — ибо все в этом — разделяет в своей душе З.Н. Терезу и Клару, «замерзающую девочку» и влюбленную ведьму? При всей чистоте и святости Тереза была на волосок от гибели, Клара, несмотря на свою губительную страсть, — на волосок от спасения. Они взаимно друг друга уничтожают. Но гибель и спасение у них — одно. Невозможность разделить их в жизни до конца и от этого двойственность, смешанность самой жизни — постоянная мука З.Н. «Моя жизнь (не жизнь ли мира?) только «чаша в руке Господа, и вино кипит в ней, полное смешения». Этим все сказано».
Но дни бегут. Ничего не происходит, то есть ничего положительного. З.Н., полулежа на своей кушетке, которая стоит теперь у обеденного стола в столовой — единственной теплой комнате в квартире, — перечитывает от скуки «Современные записки». Но есть у нее и новое развлечение: это кошка. Не какая-нибудь сиамская, а самая обыкновенная, серая с разводами кошка Машка. В. Мамченко, друг № 1, привез ей как-то из Медона перепуганного крошечного котенка. Он вырос, и хотя З.Н. кошек не любит, к этой привязалась. Кошка не сходит у нее с колен. Она теплая, мягкая — живая. Если она упрямится и не идет, З.Н. ее заманивает: «Ты — кошка. Ты — хорошая кошка. Поди, поди».
Кошка сначала долго не соглашается, желая показать свою независимость. Наконец приходит, но как бы совершенно случайно.
В середине марта З.Н. совершает большую неосторожность, ускоряющую ход ее болезни. Она идет к парикмахеру «мыть голову». Но — это предлог. Тайная цель — электрическая завивка. О своей внешности она ни при каких обстоятельствах заботиться не перестает. В одной из своих старых пародий, где она не щадит и себя, она устами «Проходимки» произносит фразу, ставшую в кругу Мережковских классической: «Когда однажды погибала Помпея, я завивала папильотки». Но если она действительно завивает и в день смерти матери, и в день смерти Д.С., и, кажется, способна была бы завивать их в гробу, то — лишь в силу спасительной привычки, помогающей ей в такие минуты, как эти, держаться и не падать духом, на что одной только воли у нее не хватило бы. Уже ничего не соображая, она каждый вечер перед сном обтирает себе лицо lait de beaute* [* Молоко красоты (фр.)] и пытается причесаться без посторонней помощи. И о себе мертвой она думает, как о живой. «Когда я умру, — говорит она за несколько недель до смерти, — пожалуйста, немножко меня подмажьте». Но ее удивительная сила жизни — единственная, какою она, по собственному признанию, обладает, не только в духе, но и в теле. Несмотря на свою хрупкость, изнеженность — «тепличность», — она физически крепка. Куда крепче и выносливее Д.С. Давление у нее, как у семнадцатилетней, сердце и легкие — в порядке. Другая на ее месте не прожила бы и года!
От парикмахера она возвращается в наилучшем настроении. Но результат завивки не заставляет себя долго ждать. Сухой жар электрического тока подействовал на мозговые сосуды, и через два дня в ее состоянии наступает значительное ухудшение. Толстый том «Современных записок», который она, лежа после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук. Что это? Отчего? Как трудно поднять руку. И нога волочится. Она недоумевает. Ведь все уже было хорошо. В чем же дело? Вызванный на следующее утро доктор Андрэ находит затронутыми центры координации движений. З.Н. успокаивают, как ребенка: ничего, это скоро пройдет. Но доктор встревожен: болезнь принимает опасный оборот.
Однако ей становится лучше. Но она уже не та — болезнь ее съедает. Писать такой рукой и думать нечего. Двигаться она может лишь по комнатам, да и то с трудом. Прогулка к парикмахеру была последней. Усиливаются близорукость и глухота. Читать она, впрочем, продолжает без очков, не носит их — до сих пор — из кокетства. Изредка ее навещают друзья. Она встречает любезно, но разговор ее не занимает, вид — отсутствующий, и на вопросы она отвечает невпопад. Ее больше никто и ничто не интересует. Целые дни она проводит на своем диване в гостиной, с книгой и неразлучной кошкой, не покидающей ее ни на минуту.
Так медленно склоняясь и хладея. Мы близимся к началу своему.В первых числах августа ей снова хуже. «Совсем не плох и спуск с горы». Нет-нет, очень плох! Но она не понимает, не сознает, что — это спуск, конец. И чем хуже, тем с большим недоумением она спрашивает: «Что это? Отчего?» Только раз у нее мимолетное сомнение: «Может быть, это конец?» Но нет — невероятно. За три месяца до смерти, 7 июня, она умудряется нацарапать в своем дневнике — левой рукой — несколько строк — последних: «Я больна и не выздоровлю. Но я еще не умираю и, может быть, долго не умру». Но пусть она своей смерти не видит, не понимает — «умру и очей ее не увижу», — душа в ней втайне готовится, зная, как страшно впасть «в руки Бога живого». И З.Н., этот гордый человек, смиряется. В марте <19>45 г. она записывает «Внешне все худо (для меня). Все. Но, может быть, по-Божьему, оно и не худо — как знать? Мне больно, больно, со всех сторон, но ведь я, может быть, того и стою». Свою последнюю запись, от 7 июня, она кончает словами: «Я стою мало». И приписывает: «Как Бог мудр и справедлив».
В двадцатых числах августа она начинает испытывать затруднение в речи. «Что со мной? — спрашивает она, не переставая удивляться. — Я говорить хочу — не могу, я думать хочу — и не могу». Ей кажется, что ее неправильно лечат и что всему причиной доктор, заменяющий отсутствующего Андрэ. Однажды утром она просыпается и хочет что-то сказать, но произносит одни бессвязные слова. Вечером того же дня она на несколько минут теряет сознание и почти перестает дышать. Когда она приходит в себя, к ней неожиданно возвращается способность речи. «Последняя моя мысль перед тем, как потерять сознание, — рассказывает она, — была: слава Богу — конец. А первая, когда я пришла в себя: какая скука! Опять начинай сначала». Но это лишь краткая передышка, после которой начинается стремительный спуск.
С пятницы 31 августа она не только окончательно теряет связность речи, но и почти не может глотать. Однако за завтраком — ее все же сажают к столу — она с аппетитом выпивает чашку бульона, кое-как проглатывает полкотлеты, картофельное пюре, яблочный мусс и кофе. Она выкуривает папиросу и не забывает положить обратно мундштук в стоящую перед ее прибором круглую коробку. Затем отдых. Но к вечеру она, увы, ни слова сказать, ни куска проглотить — уже не может. Доктор Андрэ приезжает чуть ли не прямо с вокзала. «Pauvre madame!»* [*«Бедная женщина!» (фр.)] — говорит он. Но она его не слышит, не узнает. Он прописывает вливание физиологического раствора — два раза в день и камфору.
В субботу вечером 1 сентября о. Василий Зеньковский[619] ее причащает. Она сидит, грустная, за столом в столовой, ничего не понимает, но причастие проглатывает. В воскресенье ее переводят из гостиной в ее комнату. Верная кошка следует за ней.
В этой комнате, небольшой, но светлой, с окном на просторный двор католической школы St. Jean de Passy, ей хорошо. В окно видно небо и верхушки еще не тронутых осенью деревьев. Кругом — тишина, пустота. Все лишнее убрано. Оставлены только кровать, диван, комод с необходимыми вещами, стол и соломенное кресло. Она лежит лицом к окну, под образом Божьей Матери. Когда днем в комнате солнце, ставни прикрывают. От солнца тепло. Чувствует ли она эту теплоту, эту последнюю ласку?
Сверкнет ли мне в последний раз Ее корона тонкая, сквозная, Зеленая осеннесть глаз?[620]Она лежит неподвижно, высоко на подушках. Иногда стонет, но тихо. Своей здоровой рукой она, как маленькие дети, цепляется за что попало, за одеяло, за полотенце, за ложку, когда ей вливают виноградный с лимоном сок, чтобы в горле не было так мучительно сухо. Она больше ничего не умеет — разучилась, — ни слышать, ни видеть, ни говорить, ни думать. Она как маленькая больная девочка — Тереза ли, Клара ли — не все ли равно? Доктор успокаивает, что она не страдает. Однако она с каждым часом страшнеет.
Время в этой комнате будто остановилось. Каждая минута — вечность. Но оно и летит с головокружительной быстротой. Та же стремительная неподвижность, напряженность и в почти уже неживом теле больной. Нет, не прав доктор — она страдает. Но только не в ней страдание, а она — в нем. Оно ее покрывает, пронизывает насквозь, уносит ее неподвижно-стремительно в неизвестное, как среди вечных льдов огненный поток, в котором очищается, оживает ее душа.
Дойти бы только до порога! Века, века… И нет уж сил. Вдруг кто-то властно, но не строго Мой страшный путь остановил.[621]Тихое, ласковое утро. Потом такой же тихий, бледно-солнечный день. З.Н. сидит в кровати, ей трудно дышать. Вдруг в ее потухших, невидящих глазах что-то загорается, какой-то свет. Она смотрит, словно каким-то чудом опять стала собой. Но ни слова сказать, ни сделать движения — не может и говорит взглядом. В нем бесконечная нежность, бесконечная благодарность. Две слезы стекают по ее щекам. Вот когда наконец оттаяло ее сердце. Еще один взгляд, и она закрывает глаза и умирает.
Ее лицо становится прекрасным. На нем выражение глубочайшего счастья.
И ты придешь ко мне в свой час единственный, Покроешь темными крылами счастья.[622]Этот час — 3 часа 33 минуты пополудни. День — воскресенье, 9 сентября 1945 года.
Приложение. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ[623]
I
Еще никогда не было у Зинаиды Николаевны Гиппиус столько свободного времени, и никогда еще не оставалась она так долго наедине с собой, как в эту осень <19>18 г.
Жизнь после октябрьского переворота менялась медленно. В конце <19> 17 г. еще существовали наряду с газетой Горького[624] старые газеты, выходившие под новыми заглавиями (иногда заглавия менялись с каждым номером), в которых З.Н. печатала самые антибольшевистские стихи. И лето <19> 18 г. Мережковские провели вполне буржуазно, в «Дружноселье», имении князей Витгенштейнов, близ станции Сиверской, по Варшавской железной дороге. Там уже распоряжался большевистский комиссар, по фамилии Милешин-Вронский[625], человек молодой и несколько томный, каким его изображает в одном шуточном стихотворении Гиппиус.
Но с осени < 19>18 г. наступает резкая перемена. Усиливается террор, начинается голод, холод. Петербург погружен во мрак. Электричество не горит, а когда вспыхивает — это значит будет обыск. Свободной печати больше нет. Этим, может быть, объясняется, почему в конце <19>18 г. Гиппиус написала такое количество стихотворений на политические темы. Поэзия стала ее единственной отдушиной.
Еще больше, чем безделье, угнетает безлюдье. Поддерживать с внешним миром связь — все труднее. Телефон почти не работает, да и пользоваться им не рекомендуется: разговоры подслушиваются. Письма либо пропадают, либо приходят распечатанными, и Бог весть, что может в них показаться «стоящему на страже народу» контрреволюцией. Ни трамваев, ни извозчиков, одни большевистские автомобили. Город погребен под снегом. Он покрывает все, как саван, образуя местами глубокие сугробы. Навещать кого-либо при таких условиях трудно и сложно, особенно при дальности расстояния. Люди друг о друге не знали ничего месяцами. И когда однажды пришли к Мережковским с Петербургской стороны на Сергиевскую Сологуб с Чеботаревской[626], это было целое событие.
По возвращении из Дружноселья осенью <19>18 г. Д.С. Мережковский начинает зондировать у большевиков почву относительно разрешения ему и Гиппиус выезда за границу. Но Смольный дает недвусмысленно понять, что не выпустит. Тогда Мережковские решают бежать.
Д.С. принимается энергично за дело. Оно опасно и требует большой выдержки. Но в Д.С. пробуждаются силы, о каких не подозревал никто. В добывании бесчисленных пропусков, командировок, свидетельств, удостоверений, а также продуктов, всевозможных пайков — он неутомим. Нужны деньги. Он подписывает невыгодные контракты с одним издателем-спекулянтом и необходимую сумму получает. Пройдет, однако, больше года, прежде чем Мережковские вырвутся на свободу.
Но пока идут к бегству приготовления, З.Н. поглощена другим. Зимой в Петербурге темнеет рано. Д.С. нет дома по целым дням. Отсутствует и Философов, вновь поступивший на службу в Публичную библиотеку. З.Н. одна в нетопленой квартире. Тускло горит керосиновая лампа. Холодно. На ней поверх оренбургского платка шуба. Ноги в пледе, но все равно холодно. Холод пронизывает ее насквозь. Вот когда она чувствует себя не в переносном, а в прямом смысле в «ледяном озере», о котором когда-то писала Философову.
О чем она думает? О том, о чем долго не хотела, но вот пришлось: о своей вине, о своем грехе. Большевики — что! От них можно уйти. А вот от этих мыслей — никуда. Она это знает. И чем больше думает, тем ей страшнее.
Спаси меня от меня. Снова сны страшные снятся…Но она это скрывает.
Внешне на Сергиевской, 83, все по-прежнему. Так же она поздно встает, завтракает в капоте и в свой салон выходит, когда уже начинает темнеть, часам к четырем-пяти, где устраивается на своей «адамантовой» кушетке. «Ты вот все меня попрекаешь, что я на кушетке лежу, — и ты прав». Это из ее письма к Д.В. Философову еще от <19>05 г.
Но ее неподвижность, ее пассивность — кажущаяся. На самом деле она в эти «непроницаемые» минуты как бы заряжается, подобно электрическому аккумулятору. Откуда сила, из каких глубин или высот, разрушительная или созидательная, темная или светлая — она не знает и знать не хочет. Она живет, живет, несмотря ни на что, вопреки всему. «Неугасим огонь души»[627]. И только это одно важно.
В пять часов «нянечка Даша» — Дарья Павловна Соколова — приносит ей чашку кофе и сдобную булку. Но кофе — бурда, а купленная на улице из-под полы булка — тверже камня. Все обман, все призрачно. Расползается самая ткань жизни.
Хочу сказать, но нету голоса. На мне почти и тела нет.[628]Но это еще не смерть. До нее далеко. Это — переплавка, страшная, мучительная, принимающая иногда формы невыносимо уродливые.
Как выносить невыносимое, Чем искупить кровавый грех?[629]Этому «чем» посвящено много — она сама не помнит, сколько — ледяных вечеров и ночей, когда ей кажется, что она сошла с ума, что она в могиле. Но ответ приходит лишь после того, как она ставит вопрос иначе, по существу: не «чем искупать», а «надо ли искупать, надо ли страданье?». И тогда, из неведомых глубин или высот, знакомый с детства голос отвечает: «Нет».
II
Не хочу страдать. Страданье — зло». Об этом она через десять лет напишет в изгнании религиозно-философский трактат под заглавием «Выбор?» (с вопросительным знаком). А сейчас ясно и так, без трактата.
А если от страданья не уйти, как не уйти от смерти?
Она встает с кушетки, подходит к окну. За ним — ничего. Черная дыра. Давно ли она писала:
Окно мое высоко над землею.[630]И молилась:
Мне нужно то, чего нет на свете.[631]Вот оно и пришло, чего еще никогда на свете не было. А ведь могло миновать. Могло… Потом было другое окно:
Окно мое над улицей низко, Низко и открыто настежь.[632]Это было вчера, когда еще была война.
Мы думали, что мы живем на свете… Но мы воем, воем — в преисподней.[633]А сейчас даже не преисподняя — просто черная дыра. Ничего. Ей кажется, что она умерла и что так будет всегда. Эта комната, эта лампа, этот холод. И она одна… Где-то за окном бьют часы.
Вот три удара, словно пенье Далекое — колоколов.[634]Потом опять ничего. И никого. «Ворчит, будто выстрелы, тишина».[635]
В минуты вещих одиночеств Я проклял берег твой, Нева. И вот сбылись моих пророчеств Неосторожные слова.[636]Она отходит от окна. Неужели это отсюда, из этого окна, она прошлой весной смотрела вслед уходящему Блоку?
Прямая улица была пустынна, И ты ушел — в нее, туда. ……………………………… Я не прощу. Душа твоя невинна. Я не прощу ей — никогда.[637]В сущности, около нее не осталось никого. Близкие, как Мережковский, не в счет. Философов? С какой ненавистью он ей вчера крикнул в лицо: «Человекоубийца». Она сделала вид, что не слышит.
Но ничего. Ничего. Она еще поборется. Все будет хорошо.
Завтра день Архистратига Михаила и всех бесплотных сил — день ее рожденья. Ей почему-то всегда казалось, что бесплотные силы — это ее мечты, ее сны, ее «идеи», которые ей всего дороже.
О сны моей последней ночи, О дым. О дым моих надежд! …………………………………. Один другим, скользя, сменялся, И каждый был, как тень, как тень… А кто-то мудрый во мне смеялся, Твердя: проснись! Довольно! День.[638]Что же, проснулась наконец ее душа «иль досель не отгрезила»? Как будто проснулась, но еще не совсем.
А ведь казалось, что ее мечта о светлом ангеле, вольно легшем на землю ради свободы людей, потухла уже давно, еще до войны и революции.
Вспоминая, какой она была в <19>17 г. и вначале < 19> 18 г., поглощенной общественно-политической работой, в частности борьбой с ненавистными большевиками, трудно себе представить, что она вообще могла тогда мечтать о чем-либо отвлеченном, а тем более о такой явной чепухе, как белый дьявол, когда и ребенку ясно было, что он — красный. Но если судить по этому о степени ее сознательности, то отчет в происходящем она отдает себе вполне. В одном ее стихотворении от сентября <19>18 г.[639] дьявол является ей уже не в романтическом плаще, скрывающем его лицо, как в <1>905 г.:
Он пришел ко мне, — а кто, не знаю, Очертил вокруг меня кольцо. Он сказал, что я его не знаю, Но плащом закрыл себе лицо.[640]А почти без маски, в образе наглого палача-чекиста. Но что смущает — это легкость, с какой она с ним справляется (стихотворение названо «Час победы»). Так в реальности не бывает. Гиппиус явно выдает желанное за данное. И если черт от одного ее слова проваливается в тартарары, то исключительно из уважения к ее литературным заслугам, ибо ее победа над ним лишь на бумаге. Об этом с достаточной убедительностью свидетельствуют и ее последующие стихи и — главное — третий визит черта, уже здесь, в эмиграции, — ненужный и невозможный, если б она его победила действительно.
Но этот призрак, этот сон о победе ей необходим, чтобы могла длиться, не потухала ее страшная и прекрасная мечта о падшем ангеле, которого она любит, может быть, даже больше Бога.
Но забегаю вперед (как уже имел случай отметить в напечатанной в «Новом журнале» главе из той же книги о Гиппиус, «Ее судьба», хронология ее стихов решающей роли не играет, а лишь вспомогательную). В середине декабря <19>18 г., т. е. приблизительно через месяц после дня Архистратига Михаила, Гиппиус пишет стихотворение под названием «Тишь».
На улицах белая тишь, Я не слышу своего сердца.И в нем подчеркивает связь своей судьбы с судьбой Петербурга и России. Эта связь подчеркнута и внешне — путем повторения в рифме того же слова. Так первая строчка второго четверостишья «Город снежный, белый — воскресни» рифмует не случайно с четвертой: «Сердце мое, воскресни, воскресни!» Не случайно, ибо «Если кончена моя Россия — я умираю!»[641]. Не случайно и сопоставление первой и третьей строчек последнего четверостишья: «Воскресение — не для всех» и «Над городом распростерся грех». Тот же грех, что распростерся над Петербургом, над Россией, — распростерся и над ее душой.
В редкие, «зрячие» минуты она это осознает и тогда, вглядываясь в себя тайно-тайно, так, «чтобы и Бог не увидел, не подслушал» (иначе покаянья — не миновать), видит себя обнаженно, соответственно времени жизни и мере своей сознательности.
Должно быть, в одну из таких «зрячих» минут и написано то восьмистишье, о каком сейчас будет речь. Но уже дня за три до того с ней случается «что-то», от чего изменяется все, как она говорит в стихотворении «Дни»[642].
Но знаю молнии: все изменяется… Во сне пророческом иль наяву? Копье Архангела меня касается Ожогом пламенным — и я живу.Копье Архистратига Михаила. Ощущенье ожога мучительно-блаженное у нее — несколько дней. А затем, в ночь с 7 на 8 ноября, она вдруг понимает, что ей надо делать.
Отойдя от окна, она садится на кушетку, в угол, берет лежащие на круглом столике рядом с папиросной коробкой работы Лукутина и водяной пепельницей, от которой пахнет мокрыми окурками, тетрадь, карандаш и пишет, без помарок, восьмистишье. Но две последние строчки не записывает, а вместо слов ставит тире — по четыре в каждой, в общем, восемь. В виде заглавия она рисует восьмерку.
Вот это стихотворение, каким оно записано ее рукой в черновой тетради, «лаборатории стихов», как она ее называет, а затем переписано без изменений в «брюсовскую», подаренную ей Валерием Брюсовым, тетрадь:
8
Восемь слов в сердце горят, Но сказать их не осмелюсь. Есть черта — о ней молчат И нельзя переступить через. А все-таки? Ведь никто не поймет, Что слова эти налиты кровью: «……………………………….. ………………………………….».III
— Догадываетесь? — спрашивает Гиппиус, показывая на следующий день это стихотворение одному, пришедшему ее поздравить приятелю.
Это — проверка. Она боится, что горящие в ее сердце слова горят так ярко и обжигают так больно, что догадаться о них может каждый. Отрицательный ответ ее успокаивает, и больше она к этому не возвращается.
Проходит двадцать семь лет. Она умирает и тайну этих слов уносит с собой в могилу.
Можем ли мы их восстановить, можем ли догадаться, какие из всех человеческих слов те восемь, что она не хотела при жизни произнести вслух и на какой случай она их хранила?
И да и нет, ибо точно мы этих слов не узнаем никогда. Как бы ни были наши догадки близки к истине — тайна останется тайной. Но если слова в их единственном сочетании для нас потеряны безвозвратно, то, может быть, не потерян их смысл. Зная, чем жила и чем интересовалась в то страшное время Гиппиус, мы при некотором воображении могли бы не записанные слова восстановить приблизительно.
Во всяком случае, одно из них почти наверно — «любовь». Банальности рифмы «кровью — любовью» Гиппиус в таком стихотворении, как «8», не побоялась бы. Ее стихи, где она обнажает душу, всегда просты и в своей простоте незаметны, — стыдливы той «возвышенной стыдливостью страданья»[643], о какой говорит Тютчев. Кто, например, помнит следующие две строчки ее стихотворения «8 ноября»:
Вечные смены, вечные смежности, Лето и осень — день и ночь.Между тем в этих нищих, забвенных словах, на которые, как на заплаканные детские лица, никто не обращает внимания, — вся трагедия ее души. Напротив, за многими ее с блеском написанными стихами, вроде «Час победы», технически, может быть, одном из ее самых совершенных стихотворений, нет никакой реальности, если не считать реальностью факт воли.
В явь превращу я волей моею Все, что мерцает в тающем сне.Но это ей удается не всегда и не вполне.
Зинаида Гиппиус всю жизнь думала об одном — о Боге, любви и свободе. Но в зиму <19>18 г. под большевиками, в порабощенном Петербурге, вопрос о свободе становится для нее самым важным. Она, конечно, понимала, что дело не в одной только свободе, а в гармоническом соединении всех трех начал между собой. Однако, как она их ни соединяла, одно из них неизменно противоречило двум другим. Это было похоже на детскую головоломку о волке, козе и капусте, которых ей никогда не удавалось переправить целыми и невредимыми с одного берега на другой. Между тем это было так просто. Она чувствовала, что ее задача тоже проста и что сложность — призрачная и, главным образом, в ней самой. Но решенье не приходило.
Когда оно пришло — молния, о которой она говорит в стихотворении «Дни», «Но знаю молнии: все изменяется…», и была молния сознанья — она поняла, что свобода — это имя новое любви. И мгновенно все изменилось, встало на свое место. И тогда ей открылся смысл 17-го стиха второй главы Откровения: «Побеждающему дам… белый камень[644] и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Она этот камень получила. Через три дня было написано «8».
Вот это восьмистишье с двумя последними строчками, как они сами сложились:
Восемь слов в сердце горят, Но сказать их не осмелюсь. Есть черта — о ней молчат, И нельзя переступить через. А все-таки? Ведь никто не поймет, Что слова эти налиты кровью. Но свободою Бог зовет, Что мы называем любовью.Допустим, что так это на самом деле и было, что все восемь слов угаданы верно, но тогда нельзя не спросить: какое отношение имеют эти слова к ее, с Россией общему, греху, о котором, кстати, тоже неизвестно ничего и зачем она их таила так тщательно даже от себя самой?
Я повторять их не люблю; я берегу Их от себя, нарочно забывая.Чтобы на это ответить, надо прежде всего знать, в чем ее грех.
IV
О своем грехе она никогда не говорит прямо. Все, что известно, — это что она, в редкие минуты, его сознает, что каяться не хочет и не будет и что ее грех — «грех великий».
И клонит долу грех великий,
И тяжесть мне не по плечам.
Это все. Впрочем, в одном стихотворении она говорит несколько определеннее: «Тяжелее всех грехов — Богоубьение»[645]. Но, как я уже не раз отмечал, это не определяет ничего. Всякий грех в большей или в меньшей степени — Богоубийство. Все дело в том, кто и как убивает.
Что же до ее стихов о грехе вообще, явно выросших из личного опыта — как же иначе! — то они слишком отвлеченны, чтобы по ним можно было что-либо узнать о том «великом грехе», что над ней тяготеет.
Даже черт — он является ей трижды — ее не искушает, по крайней мере первые два раза. Он приходит, так сказать, уже «на готовое» и лишь «констатирует факт», как будто она пала еще до рожденья. Он очерчивает вокруг нее кольцо и, когда она его просит подождать, отвечает:
Твой же грех обвился, — что могу я? Твой же грех обвил тебя кольцом.[646]А какой — неизвестно. Во втором стихотворении, «Час победы», она черта «побеждает», разрывая кольцо.
В этот час победное кольцо мое В огненную выгнулось черту.[647]Но мы знаем, что это лишь мечта об освобождении и что на самом деле кольцо превратится в мертвую петлю, от которой ее спасет только чудо.
Искушает ее черт или делает вид, что искушает, лишь в третье посещение, уже здесь, в Париже. Соответственно с временем и местом изменяется и его внешний облик.
Он приходит теперь не так. Принимает он рабий зрак.[648]Это уже не ангел в темной одежде, прячущий лицо под романтическим плащом, как в <19>05 г.; не красный дьявол в образе чекиста-палача, какие ходили с обыском после октябрьского переворота, это — скромный эмигрант-обыватель, шофер такси или рабочий на обойной фабрике, полуинтеллигент с интересом к литературе, усердный посетитель «Зеленой лампы», а может быть, даже воскресный гость на авеню дю Колонель Бонэ, куда он проник под видом «молодого поэта».
Но это черт. И он ее искушает. Зная ее слабость ко всякого рода выдумкам, он ей предлагает забавную и как бы невинную игру:
Хочешь в ближнего поглядеть? Это со смеху умереть! Назови мне только любого. Укажи скорей хоть кого, И сейчас же тебя в него Превращу я, честное слово!Она слушает благосклонно, не догадываясь, что перед ней черт. И ободренный черт продолжает:
На миг, не на век! — Чтоб узнать, Чтобы в шкуре его побывать… Как минуточку в ней побудешь — Узнаешь, где правда, где ложь, Все до донышка там поймешь, А поймешь — не скоро забудешь.Тут выражение ее лица меняется. Она узнала гостя и принимает надменно-холодный вид. А черт беспокоится:
Что же ты? Поболтай со мной… Не забавно? Постой, постой, И другие я знаю штучки…Но она не отвечает.
Уходи — оставайся со мной, Извивайся, — но мой покой Не тобою будет нарушен… И растаял он на глазах, На глазах растворился в прах, Оттого, что я — равнодушен…Скажем прямо: и эта ее победа над чертом — не более как мечта о победе. Она хотела бы, чтобы так было, на самом же деле черт и в этот раз приходит на готовое и лишь «констатирует факт». Искушенью, какому он ее подвергает, она поддалась уже давно, и ее равнодушие — напускное. Редко, когда ее сердце билось с такой силой, как в это третье свиданье. Она поняла сразу, зачем он пришел: выпытать те восемь слов, что она скрыла от всех, но о существовании которых он неизвестно как пронюхал. Вот истинная цель его визита.
Больше она с ним в жизни не встретится. Однако это еще не конец…
А душу ближнего она знает как свои пять пальцев. Насмотрелась на нее, слава Богу, достаточно, узнала, где в ней правда, где ложь, все поняла до донышка…
Как Бог, хотел бы знать я все о каждом, Чужое сердце видеть, как свое.[649]Вот и узнала, и увидела, и, не выдержав, отвернулась с «брезгливым презрением».
Ни слов, ни слез, ни вздоха, — ничего Земля и люди недостойны.[650]«Мне — о земле — болтали сказки: «Есть человек. Есть любовь. А есть лишь злость. Личины. Маски. Ложь и грязь. Ложь и кровь». В другом стихотворении, «Страшное»[651], она говорит:
А самое страшное, невыносимое — Это что никто не любит друг друга.Если никто, то, значит, и она никого не любит. Но ведь не всегда было так. Когда-то она вглядывалась в человеческую душу с любовью и тогда видела другое.
В углу под образом Горит моя медовая свеча. Весной, как осенью, Горит твоя прозрачная душа. Душа, сестра моя! Как я люблю свечи кудрявый круг! Молчу от радости, Но ангелы твои меня поймут.[652]«Я была имеющая много», — вспоминает она в «Заключительном слове». А теперь у нее, кроме ее греха да восьми незаписанных слов, — ничего.
Все умерло в душе давно. Угасли ненависть и возмущенье. О, бедная душа! Одно Осталось в ней: брезгливое презренье.[653]Грех свое дело сделал: убил душу. Богоубийство — самоубийство. Но у этого страшного греха два имени — одно для России — свободоубийство.
Народ, безумствуя, убил свою свободу И даже не убил — засек кнутом.[654]Другое — любвеубийство, для Гиппиус.
V
Внешне на 1 Ibis, Avenue du Colonel Bonnet, как некогда на Сергиевской, 83, все по-прежнему. Так же она поздно встает, ходит днем с Д.С. в Булонский лес или едет к портнихе, по воскресеньям принимает «молодых поэтов», пишет доклады для «Зеленой лампы», будто не случилось ничего, будто черт к ней и не заглядывал. Ее золотой сон так же ослепителен, и так же она идет от победы к победе. С той же легкостью, с какой она победила черта, она побеждает смерть.
Когда я воскрес из мертвых, Одно меня поразило…[655]Но тут случается неприятность: неожиданно она получает красное, как бы пасхальное яйцо. Но из него выползают змеи. Это — чертов подарок ко дню ее преждевременного воскресенья. Поторопилась, матушка. «Воскресение — не для всех»[656].
Не отрываясь, она холодно смотрит на выползающих змей:
Ползут они скользящей чередою, Ползут, ползут за первою змеею, Свивая туго за кольцом кольцо.[657]И так же холодно, с гадливой усмешкой, замечает:
Ах да, и то, что мы зовем Землею — Не вся ль Земля — змеиное яйцо?Это даже не ад, это — безумье.
Теперь ее от золотого сна, от Царства Божьего на земле отделяет — змеиный ров.
Об этом Царстве в ее стихах так же мало, как о ее грехе. Сказать и не сделать хотя бы шага по направлению к заветной цели — значит предать свое самое святое. А сделать она и первого не может, ибо, не смирившись, не покаявшись, его не сделаешь. Вот, между прочим, одна из причин — не главная, — почему она не хочет произнести вслух те восемь слов, что горят в ее сердце.
Но еще никогда она об этом Царстве не молилась с такой силой, как со дна змеиного рва. И чем ее презренье холодней и насмешка злей, тем явственней вздох: да приидет Царствие Твое.
После смерти Мережковского она внутренне остается совершенно одна. Бог ждет с присущим Ему терпением, когда она покается. Но она упорствует. Она хочет, чтобы ее простили, как ребенка прощает мать, не принуждая его ни к чему. Наконец Бог от нее отступает. Она удивлена. «Если б я была Богом, я бы простила». Ей всегда казалось, что она знает о Нем что-то, чего не знают другие.
Ты не любишь овец покорных, Не пропадающих. Ты любишь других — упорных И вопрошающих.Но вот, оказывается, она ошиблась: Он любит первых учеников и старых дев…
Она еще может шутить. Но скоро ей будет не до шуток. Впрочем, даже в самые страшные минуты она умудряется разъединить себя со своим страданием. И однажды, когда ей кажется, что вместо пришедшего ее навестить старого приятеля перед ней черт, она от его лица пишет стихотворение, где он ей как будто говорит:
На харю старческую хмуро Смотрю и каменно молчу. О чем угодно думай, дура. А я о духе — не хочу.У нее есть поклонник — Иосиф Григорьевич Лорис-Меликов. Этот очаровательный человек, старый дипломат, бывает у нее раз в неделю обязательно, приносит ей цветы и посвящает ей французские сонеты. Это ее последний рыцарь. Он ее проводит до самой двери, на которой написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий».
Об этом ее предсмертном схождении в ад мы не знаем почти ничего. Но если судить по ее стихотворению «Последний круг» и по намекам в некоторых других ее стихах, она была на краю безумья. Вот конец «Последнего круга»:
Будь счастлив, Дант, что по заботе друга В жилище мертвых ты не все узнал, Что спутник твой отвел тебя от круга Последнего — его ты не видал. И если б ты не умер от испуга, Нам все равно о нем бы не сказал.Но что могло ее, человека бесстрашного, никаких мыслей ни о Боге, ни о черте не боящегося, не раз и Богу и черту противостоявшего, что могло ее в последнем круге так потрясти?
Только одно: что Бог и дьявол — две ипостаси некоего неведомого существа, ни дьявола, ни Бога и Бога и дьявола вместе, представить себе которого человеческое сознание не в силах. Она вдруг почувствовала себя в его власти и поняла, что это — гибель ее и мира.
Это длилось мгновенье. Словно сверкнула черная молния. Если б продлилось дольше — разум не выдержал бы. Но в этом мгновении уже было начало идущей на нее из глубины вечности бури смерти.
И не будет падений в бездны: Просто сойду со ступень крыльца, Просто совьется свиток звездный, Если дочитан до конца.Это стихотворение, которое почему-то любил И.И. Фондаминский[658], тоже из числа ее «победных снов». Но ее сознание ей подсказало — оно ошибалось редко, — что ее конец будет далеко не такой простой и легкий, как она мечтает. Тогда она написала свое восьмистишье и скрыла на самом дне души, в ее самых недоступных тайниках — так, чтобы не мог найти враг — восемь волшебных слов.
Но когда налетела на нее буря смерти и силы ада обрушились, у нее было в руках это непобедимое оружие — крест. Число креста — четыре. Восемь горящих в ее сердце слов — как бы двоящийся в трепете пламени огненный крест, приносимая втайне двойная жертва — Бога за мир и мира за пришествие Духа: да приидет Царствие Твое.
Вот что значат не записанные Гиппиус восемь слов и вот отчего она их не записала.
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ. (Стихи. Париж: Рифма, 1951)[659]
«Три ангела предстали мне в ночи…»
Три ангела предстали мне в ночи. Один держал тяжелые ключи, Второй двуострый меч, а третий три свечи. И выступил второй — не первый и не третий — И молвил: «Не меча достоин ты, а плети. Но радуйся: избрал тебя Господь. Не погубить — спасти я послан дух и плоть, Восстановить твой образ искаженный». И он взмахнул мечом, и пал я, рассеченный. И раздвоилось всё…Ночью («Не спишь, и так близко, так ясно…»)[660]
Не спишь, и так близко, так ясно, Так тихо, нежданно, без слов: «О, вспомни, пойми — все напрасно: Ты проклят на веки веков». Молчанье. Глаза закрываю. Бежать? — Но куда убегу? И плачу, и что-то считаю, И все сосчитать не могу. Пустот неподвижных громады, Бессмысленных цифр торжество. И нет ни конца, ни пощады. Ни зла, ни добра — ничего.«Она прошла и скрылась не спеша…»
Она прошла и скрылась не спеша, Крылом своим почти меня задела. С тех пор забыла всё моя душа, И ничему не радуется тело. И всё слабее между ними связь. О, эта чуждость! Словно в адском круге, Они — две тени — странствуют, томясь, И ничего не знают друг о друге. Нерадостен бесплодный их союз. И вот любви немеркнущая слава Для тела бедного как тяжкий груз, А для души как смертная отрава.У двери («Путем случайным он пришел…»)
Путем случайным он пришел. Он постучался. Дверь отворилась. Он вошел И не остался. Но он придет, придет опять Уж не случайно. И снова будет он стучать У двери тайной. Вот всё исполнится сейчас, Вздохни глубоко… Но если он и в этот раз Придет до срока, И в этот раз душа твоя Со дна колодца Над ложью призрачного «я» Не вознесется, — Ты вновь останешься один В неволе тесной. Тебя крылатый андрогин — Двойник небесный — Введет улыбкою своей Во искушенье. И будет хуже всех смертей Твое паденье.«Душа моя, иль ты забыла…»
К.А. Виноградской
Душа моя, иль ты забыла, В свой райский сон погружена, Какая радостная сила Тебе, сияющей, дана? Но обескрыленное тело Напрасно ждет твоих чудес. Ты улыбаешься несмело Счастливой пленницей небес. Ты совлекаешь все, что тленно. И вот свободна от оков, Одна, покоишься блаженно Среди несозданных миров. И легче жертвенного дыма Ты в небе таешь голубом… Но смерть присутствует незримо В чертоге солнечном твоем. Она таит, она лелеет Свою тяжелую стрелу. Она, как плод, что втайне зреет, Как угль, что рдеет сквозь золу. Ни совершенством, ни страданьем, Ни чистотой, ни красотой — Ты победишь ее слияньем Любви небесной и земной.С тех пор… («Мы встретимся на будущей неделе…»)
«Мы встретимся на будущей неделе…» Ты веришь? Что ж! Но я-то знаю, да, Что и обнявшись, и в одной постели, Не встретимся мы никогда. Не ложь, о нет, не мог преодолеть я. С тех пор… Но я молчу, не надо слов, Прошли не дни — века, тысячелетья, Мильоны световых годов. Ты далеко в созвездьи Ориона, Я на земле иль где-то на луне. И что мне в том, что трубку телефона Сниму и ты ответишь мне.Зеркала («О, ты, кого неутомимо…»)
О, ты, кого неутомимо В пустыне мира я искал, Явись, мелькни полунезримо В хрустальной ясности зеркал. Бесстрастно уст моих холодных Устами тихими коснись. Из глубины озер безводных Улыбкой вещей улыбнись. Прости обманчивые речи И праздные мои дела За чистоту грядущей встречи, Которой дышат зеркала. Моей неволи сон печальный Не вспоминай — он позади, И душу тайною зеркальной От смерти вечной огради.Ее голос («Тиха святая Женевьева…»)[661]
«Тиха святая Женевьева За аркой белою ворот… Но от любви моей и гнева Тебя разлука не спасет. Нет, за тобой слежу я зорко Из грозной вечности моей. Воды кувшин и хлеба корка Тебе за верность — ешь и пей! И веселись. Я здесь — свободна. Покорен ты своей судьбе. Живи ж не так, как мне угодно, А как изводится тебе. Желаю счастья и успеха Во всем: люби и будь любим. Отныне больше не помеха Я скромным радостям твоим. Но если, сыт от пищи пресной Любовью проклятых пиров, Услышишь голос неизвестный, Что всех нежнее голосов, — То это я зову оттуда, Предвозвещая близкий час. Зову с надеждою на чудо, Зову опять — в последний раз!»Ответ («Еще не слышен голос Мой…»)
Зачем так горько прекословил Надеждам юности моей?Лермонтов
«Еще не слышен голос Мой, Не долетает зов далекий, Но будь готов — наступят сроки, Мы снова встретимся с тобой. Не удивляйся ничему И ничему не ужасайся. Любви и гневу Моему, Как мертвый, не сопротивляйся. Молчи и втайне разумей, Какой венец тебе готовил, Зачем так горько прекословил Надеждам юности твоей».«Мы всё забыли, и растрачен…»
Мы всё забыли, и растрачен Бессмысленно остаток сил, И час, который был назначен, — Победы час — не наступил. И вот скучаем и любовью Томленье сонное зовем. И словно соловьи над кровью, О гибели своей поем.«Утешительница всех скорбей…»
Утешительница всех скорбей, Утолительница всех печалей, Наши дни последние настали. Сократи число последних дней. Прочь бежали недруги и други… Разреши болезни и недуги. Без Тебя мы на земле одни. Заступи, помилуй, сохрани.«Не жди. Забудь. Не скрипнет дверь…»
Не жди. Забудь. Не скрипнет дверь И не войдет Жених к невесте. А если Он войдет — не верь. Обман. Ты на проклятом месте. И если ты услышишь зов, На соловьиный свист похожий, — Не отвечай. Нет больше слов. Ты умер. Ты на смертном ложе.Свиданье («Они ничего не имели…»)[662]
Памяти Д М. и З. Г.
Они ничего не имели, Понять ничего не могли. На звездное небо глядели И медленно под руку шли. Они ничего не просили, Но всё соглашались отдать, Чтоб вместе и в тесной могиле, Не зная разлуки, лежать. Чтоб вместе… Но жизнь не простила, Как смерть им простить не могла. Завистливо их разлучила И снегом следы замела. Меж ними не горы, не стены — Пространств мировых пустота. Но сердце не знает измены, Душа первозданно чиста. Смиренна, к свиданью готова, Как белый, нетленный цветок Прекрасна. И встретились снова Они в предуказанный срок. Развеялись тихо туманы, И вновь они вместе — навек. Над ними все те же каштаны Роняют свой розовый снег. И те же им звезды являют Свою неземную красу. И так же они отдыхают, Но в райском Булонском лесу.«Где нет воды, прохлады, сырости…»
Где нет воды, прохлады, сырости, Где камень только да песок, Там ничего не может вырасти — Тяжелый свет, смертельный ток. О, совершенство окаянное! Ни пробужденья в нем, ни сна. Как будто в озеро стеклянное Моя душа погружена. Победное оцепенение. Тысячеградусный мороз. И я твержу: «В слезах спасение». Но ни раскаянья, ни слез.Закон («Есть закон — о нем никто не знает…»)[663]
Есть закон — о нем никто не знает, Тайна есть — ее не объяснить. Бедная душа не понимает, Все не верит, что нельзя любить. Все еще ей слышится: любите. Полюби, попробуй — навсегда. Оборвутся все живые нити, Вспыхнут и сгорят, как провода. И во тьме, внезапно наступившей, Ты один останешься навек. Берегись, земное полюбивший, Счастья пожелавший человек!Маятник («Если хочешь душу спасти…»)
Если хочешь душу спасти, Не задерживайся в пути. Только знаешь ли, как спасти? А не знаешь — не унывай. И разбойники входят в рай. В путь же, друг мой. Не унывай. Время тянется, но не ждет. И не вечен времени лёт. Никого, никого не ждет. Бог увидит — спит человек, И тогда пропадай навек. Все равно, какой человек.Чудовище («Чудовище сидело и рыдало…»)
Чудовище сидело и рыдало На каменной вершине под сосной. Над ним звезда вечерняя мерцала, Звезда любви — звездою ледяной. Огней закатных вспыхивали пятна. Кружились птицы — некуда лететь. И было все, как сон, невероятно. Чудовище хотело умереть. И удивленные глаза смотрели То на звезду, то на лицо земли. Но ангелы сойти к нему не смели, А демоны утешить не могли.Соседка («Всё, как в печке, сгорает…»)
Всё, как в печке, сгорает У соседки в саду. А соседка не знает, Что уж век, как в аду. Ей не страшно, не больно, Не похоже на ад. И погодой довольна. Ожидает наград. «Я — смиренный свидетель, Объявил кардинал, — Что ее добродетель Выше всяких похвал». «Приведите старушку, — Приказал сатана, — Да налейте ей кружку, Не воды, а вина. Пусть расскажет, как было. Факты — прежде всего. Неужель не любила Никогда никого?» Но старушка — ни звука. Не призналась ни в чем, Словно адская мука Ей давно нипочем.«Почти не касаясь земли…»
Почти не касаясь земли, Ко гробу пустому спешили. «…Зачем вы Его унесли, Куда вы Его положили?» Неясный колеблется свет, И страшно от этого света. И в мир не доходит ответ. Но сердце не хочет ответа. Доверчиво бьется оно, Полно ожиданья, как прежде. Узнает Его все равно И в светлой, и в темной одежде.Зной («Небо молочно-кирпичное…»)
Небо молочно-кирпичное, Горы в меду и в крови. Средство я знаю отличное От невозможной любви. Даже святым неизвестное. Правда, одна лишь беда: Всех исцеляет чудесное, Только меня — никогда. Пусть же сирокко из Африки Дует двенадцатый день. Ты пригласи ее завтракать, Перстень заветный надень. Как бы кольцо обручальное, С огненным камнем кольцо, — Да прояснится печальное Ангельски-птичье лицо. Бедная, бедная пленница, Если б раба твоего… Но все равно не изменится В нашей судьбе ничего.Глубина («Глубина — ее не скроешь…»)
Глубина — ее не скроешь, Если есть она в тебе. Псом голодным ли завоешь Или ведьмою в трубе, — Тотчас голос твой узнают, Ненавистный голос твой, Что, как призрак, нарушает Гордой праздности покой. В тишине ночей бессонных, При луне и без луны, Он пугает плоскодонных Звуком вечной глубины. Все же часто с ними в прятки Не играй, не зли врага. Лучше прочь и — без оглядки, Если воля дорога.Люблю («Люблю, и всё. Кому какое дело…»)
Люблю, и всё. Кому какое дело, Кого, давно ль, за что и почему. И что сильнее — душу или тело, Добро иль зло, сиянье или тьму? Но пусть от всех родное имя скрою, От Бога и людей не утаю: Предпочитаю быть в аду с тобою, — О, навсегда! — чем без тебя в раю.Огонь и вода («Она течет, течет, течет…»)[664]
Ф.М.
Она течет, течет, течет, А ветер раскаленный дует. И пусть, свободный, он бушует. Она свой тайный счет ведет. Ее холодная струя — Не мертвая струя забвенья. Она выносит смех и пенье Из глубины небытия. Он — как пожар. Но без огня Навеки все б остановилось, Слилось, сплелось, разъединилось, Ни ночи не было б, ни дня. О, дух пустыни, над тобой Ничто не властно, кроме влаги, Что вьется в каменном овраге Едва заметною струей. Вот так и мы: огонь — вода. Неутолимых два желанья, Неразрушимостью страданья Соединенных навсегда.Spontanement («Не ты ль ко мне “на крыльях тишины”…»)
Не ты ль ко мне «на крыльях тишины» Сегодня ночью прилетала? Зачем? Друг в друга мы не влюблены, А что до денег — денег мало. По-братски ими я с тобой делюсь, И ни при чем тут благородство. Живи одна. Я лжи не покорюсь, Не выношу ее уродства. По-братски, да. Не знаю, почему Наверно, жду с надеждой тайной, Что наконец свершится то, к чему Всё движется как бы случайно, Что вдруг в душе твоей забрезжит свет, Ты неожиданно прозреешь. Но в дверь мою не постучишься, нет, — Не оттого, что не посмеешь. Без стука радостно ко мне войдешь, И радостно в глаза заглянешь. И я пойму, что ссора наша — ложь, Что ты любить не перестанешь.Пленник («Не забывай в любви о славном…»)
Не забывай в любви о славном, О гордом мужестве твоем, Когда, пленен в бою неравном, Предстанешь ты перед вождем. И смуглолицый, быстроногий, Он заточит тебя в тюрьму. Но воспрепятствуют ли боги Порабощенью твоему? Платя обидой за обиду, Перенесут ли, силой чар, Как Ифигению в Тавриду, Тебя в благословенный Бар? Иль будешь в сумраке гаремном, За неприступною стеной, В позоре хуже чем тюремном Томиться скукой неземной? И вестница иного мира, Испепеленная в песках, Тобою преданная лира Не зазвучит в твоих руках?У черты («Тень ложится длинная-предлинная…»)
А.В.Р.
Тень ложится длинная-предлинная На дорогу от столба. Надоело рыло мне кувшинное Нерадивого раба. Он меня повесить собирается Этой ночью при луне, На столбе, чьей тенью разделяется Путь — чертой на полотне. Вот идем мы, тихою беседою Коротая долгий час. Окрыленный тайною победою, Не свожу с черты я глаз. Как решится дело — знать не надо вам, Но решится у черты: Будем ли гореть в огне мы адовом Иль не будем — я и ты.Разлука («Однообразно дни текут в разлуке…»)
Однообразно дни текут в разлуке И пропадают без следа. И что ни делай — не уйти от муки, Она с тобой — везде, всегда. Любви нечеловеческую силу Найти в себе — кому дано? О, положите нас в одну могилу, А остальное все равно.Гроза («Она давно из-за горы…»)[665]
Сергею Маковскому
Она давно из-за горы Грозила нам глухим ворчаньем. И то сверканьем, то молчаньем Выманивала из норы. Белее снега облака Паслись, как овцы, в небе ярком, Вода была для нас подарком, Но Божья медлила рука. Серело небо, и овец На нем все меньше становилось. Оно клубилось и дымилось, И гром ударил наконец. И долго о добре и зле Гремел он голосом сердитым. А мы подобно троглодитам В пещерной притаились мгле. Зловеще хлынула вода. И было в желтизне бурленья Как бы потопных вод кипенье — Прообраз Страшного суда.«Дружноселье» («Сад заглохший, пустынный дом…»)[666]
Сад заглохший, пустынный дом, На закате дымка лиловая. И встающая над прудом, Из-за дома, луна медовая. Запиваются соловьи. Ночь струится волшебно-белая. Загорелые руки твои, На столе — земляника спелая. Вот и всё. Ни добра, ни зла. Не бывала весна блаженнее… Двадцать лет, как ты умерла, Но не меркнет солнце весеннее.Акробаты («Мы — два брата акробата…»)
Мы — два брата акробата, Два взъерошенных чижа. Разделен чертой каната Мир, как молнией ножа. Вместе город и окрестность, Люди, небо и земля. За чертой же неизвестность, Елисейские поля. Между знаньем и незнаньем, Невесомые, как дым, По канату с замираньем Мы над пропастью скользим. Совершенство равновесья, Тел воздушные мосты. В этой малой точке весь я, В той же точке, что и ты. Безошибочность расчета, Смелость, легкость, быстрота. Чудо райского полета — Смертных вечная мечта.В первый раз («У каждого бывает в жизни час…»)
У каждого бывает в жизни час (Он может и не быть, как ни ужасно), Когда на мир, как будто в первый раз, Ты смотришь и находишь мир прекрасным. И хочется назвать — о, назови! — Ту, что с тобой, как девочка, играет. И смутное предчувствие любви Тебя всего блаженством наполняет. Из-за холмов встающая луна, Поющее в душе стихотворенье, На древний Псков сходящая весна, — Все хорошо, как в первый день творенья. В уединенье радостном твоем Ты, как Адам, у жизненного древа, В те времена, когда еще ребром Была невоплотившаяся Ева. И даже смерть — что знаешь ты о ней? — Тебя пленяет, юного поэта. Среди цветов, молчанья и огней Простертые Ромео и Джульетта. А будет день, она к тебе войдет. Усядется, фату откинет вдовью, Предъявит свой мошеннический счет, Но сгинет, побежденная любовью.«В окне всё так же небо хмурится…»
М.В. Абельман
В окне всё так же небо хмурится, Всё тот же кашель за стеной. А ты оденься и — на улицу, Да погуляй хотя б весной. Весна в Париже незаметная, Как девочка — хрупка, робка. Тоска в Париже беспредметная, Как будто даже не тоска. Когда над Сеною смеркается, Но не зажгли еще огней, И лодка легкая качается В сияньи ровном без теней, Пустынный остров — как видение. Ты к берегам его причаль, И на единое мгновение Сольются радость и печаль.«Я такой хотел бы дом…»
Я такой хотел бы дом, Одинокую квартиру, Чтобы можно было в нем Хоть в углу поставить лиру. Боком стол — в другом углу. Тишина. Звезда сияет… Спать я буду на полу, Как бродяге подобает. Буду в сумерки бряцать Я на лире — очень скверно. Жрать картошку, счастья ждать. И дождусь его — наверно.СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ
Старухи
I
За какое преступленье Про меня пустили слух, Что для дев я — огорченье, Утешенье для старух? Вот, теперь они друг к другу Ходят, согнуты дугой, То одна кряхтит: «Я старше», То другая ей в ответ: «Всю меня покрыли парши, Я — всех старше, на сто лет!» А когда из-за мэрии Подымается луна И на стогны городские Сходят ночь и тишина, И дома темны и глухи, Спят глубоко стар и млад, — Собираются старухи И в окно мое стучат: «Отопри, зажги огарок, Покажи свое лицо. Есть у нас тебе подарок, Обручальное кольцо». Неужель поверю слуху, Распахну во тьму окно, Неужель и впрямь старуху Полюбить мне суждено?II
Любезным девам не на зло, Не от распутства иль бесстыдства — Неодолимое влекло Меня к старухам любопытство. Влекло как бы на тайный зов, И внял ему я не напрасно. И вот, у невских берегов, Одна меня пленила властно. Седым блистая париком, Затянута, строга, упряма, Когда входила в дом, Я думал — Пиковая Дама. Бывало, часто до утра Она беседу нашу длила. О, пусть она была стара, — Не только в молодости сила. Но как-то раз, перед зарей, Когда луна уже склонялась, Она явилась мне такой, Какой ни разу не являлась. На боль невнятную, в ответ, О том, что все земное тленно, В ней загорелся тихий свет, Преобразив ее мгновенно. И был как будто прерван сон, Развеян вдруг покров туманный, И я склонился, ослеплен Ее красою несказанной. Но свет сбежал с ее лица, И вновь оно окаменело. И неподвижность мертвеца Сковала трепетное тело. О, если б бедный мой язык Мог удержать на миг виденье, Я на единый этот миг Все променял бы наслажденья. Не удивляйтесь потому, Влюбленно-радостные девы, Ни безучастью моему, Ни что тихи мои напевы. Современные записки. 1925. № 25.Накануне («Ни Запада с его угасшей славой…»)
И. И. Кузнецову
Ни Запада с его угасшей славой, Пристрастья наших дедов и отцов, Когда еще с Российскою Державой Был крепок мир, ни новых мудрецов, Что, властвуя, готовят гибель мира, Летящего неведомо куда, — Мы не хотим, о нет! и наша лира Не воспоет их рабство никогда. Нас никакими не сковать цепями, Не удержать ни за какой стеной. Мы шли к свободе узкими путями, Платили страшной за нею ценой. Нам не угодно ничего другого. Наш взгляд; суров, спокоен и остёр. И вот душа свободная готова На уж давно обещанный костер. Возрождение. 1952. № 21.Освобождение («Вот узник вышел на дорогу…»)
Вот узник вышел на дорогу. Захлопнулась темницы дверь. Еще он молод, слава Богу! И полон сил. Куда теперь? Под сень родительского крова? В ярмо? Но проклят отчий дом. Он дал себе в темнице слово: Ничьим не будет он рабом. К невесте? К лешему невеста! Еще позорней страсти плен. Из одного все бабы теста: Любовник, юбка до колен. И он идет и дышит, дышит, Холодный воздух жадно пьет! Уж скрылись за холмами крыши И башня городских ворот. Над ним звезда стыдливо блещет, А он — все дальше, не спеша. И словно в рай попав, трепещет Освобожденная душа. Новый журнал. 1952. № 28.Самоубийца («На скучном свадебном обеде я…»)
На скучном свадебном обеде я Сидел и свадьбы проклинал. А рядом в комнате трагедия Разыгрывалась, и не знал О том никто. Икра, шампанское… Домохозяин был речист. И что-то ухарски-цыганское Играл подвыпивший пьянист. «За новобрачных!» Тост классический. И наступила тишина. Но крик раздался истерический: «Он выбросился из окна!» С тех пор лишь год прошел, не более, Живем. Забыт тот день давно. «Припадок острый меланхолии». И этим все объяснено. И поросла травой забвения Могила. Замужем вдова. Ни ужаса, ни удивления — Пустопорожние слова. Но в час вечернего молчания Я часто на могиле той. И странное очарование Тогда овладевает мной. И будто слышу — и так внятно — я: «Мне хорошо. О, не зови. Здесь светит солнце незакатное Неугасающей любви». Новый журнал. 1952. № 29.Что это? («Бог с ним, со счастьем, — вещь неверная…»)
Бог с ним, со счастьем, — вещь неверная. Куда надежнее беда. Но этот холод, тьма пещерная, Со стен текущая вода, Ненарушимое молчание И теснота и тяжесть скал, — Что это — месть иль испытание? Зачем? И кто его послал? Иль это — ад, существование Которого я отрицал? Новый журнал. 1952. № 28.Мечта («Не хочу, чтоб ты меня любила…»)
Не хочу, чтоб ты меня любила, Поджидала ночью у ворот, По пятам, как тень, за мной ходила, Надувала свой пунцовый рот. В этой жизни подлой, беспощадной, Стал и я бесчувственно-жесток. Как дурак, за будкой лимонадной Ни у чьих уже не млею ног. Замолчала пламенная лира И мечта моя лишь об одном: Задушить кутящего банкира И ограбить мертвого потом. Новый журнал. 1952. № 29.«Вот дроги похоронные…»
Вот дроги похоронные Лошадка тянет сонная Предместьями убогими. И никого за дрогами. Вдали — закат пылающий. Возница засыпающий. Он пьян, он на бок свесился. …Любил. Убил. Повесился. Новый журнал. 1952. № 30.Без Беатриче («Я здесь один. Угасли звуки…»)
Я здесь один. Угасли звуки И человеческая речь. Покой. О, больше, чем разлуки, Боюсь я мимолетных встреч. Нет, лучше сон, оцепененье, Пустынный дом и ветра вой, Чем безобразное паденье Во тьму и в грязь — вниз головой. А время — что! Мелькнет и канет. И не сомкнешь в печали глаз, Как в новом блеске солнце встанет И подойдет свиданья час. Новый журнал. 1952. № 30.Месть («Дует ветер, задувая…»)
Дует ветер, задувая На окне моем свечу. Вот и кукла восковая. Отомщу я палачу. Он гулял в рубахе красной, Браги пенистой не пил. И к одной вдове — напрасно! Всё ходил, ходил, ходил. Палачей не уважала Злополучная вдова. Сторонилась — и пропала Той вдовицы голова. Вот за бедную вдовицу Я его и не люблю. При луне, вязальной спицей, Сердце кукле проколю. Пусть за кровь ответит кровью, Пусть не спит, не ест, не пьет, Ненасытною любовью, Окаянный, изойдет. Ну, а мне — овечья шкура, Каравай, кувшин вина И глядящая, как дура, В дверь открытую — луна. Новый журнал. 1952. № 30.В последний раз («В последний раз на этот мир взглянуть…»)
В последний раз на этот мир взглянуть, Где мы с тобою встретились когда-то. Холодный луч холодного заката В последний раз мне падает на грудь. Любил ли я тебя иль не любил — Не знаю. Но меня ты не любила. Прощай. И да хранит тебя та сила, Та вера, что в себе я угасил. Новый журнал. 1952. № 30.Дленье(«Нету времени — пропало!..»)
Нету времени — пропало! Как дыра, футляр пустой. Без конца и без начала Растянулся день шестой. Утомительного дленья Скуку я терпеть готов. Но хочу, чтоб в Воскресенье Ждал нас отдых от трудов. Чтобы не было страданья, Ни вражды добра и зла. Чтоб невеста на свиданье В платье розовом пришла. Но он длится, длится, длится, Бесконечный этот день. Солнце светит, не садится, И луне подняться лень. Только в воздухе лиловом Замирает птичий крик, И лежит в гробу дубовом Сумасшедший часовщик. Новый журнал. 1954. № 37.Рай («Как себе ты представляешь рай…»)
Как себе ты представляешь рай, Праведных блаженные селенья? Так по-детски: просто: это — край, Где целуются, едят варенье, Где никто уроков не зубрит, Не боится ничего, не плачет, И у всех всегда довольный вид… Ну, а мне он грезится иначе: Мельница. Заснувшая река. Ровный свет — ни яркий, ни холодный. Лодка так стремительно-легка, Я скольжу, как тень, по глади водной. Кто-то ждет меня в пустом саду, Где сирень, костер и лай собачий, Как тогда, в семнадцатом году, В белой мгле, под Нарвою, на даче. Новый журнал. 1955. № 41. (Ант. 2).Дверь («О если б знать! Но знать не надо…»)
О если б знать! Но знать не надо. Не любопытствуй. Не дано. Вот — сад, а за оградой сада Что б ни случилось — все равно. И кто б там ни был — дети, звери, Какой ни чудился бы рай — Не приближайся к узкой двери, Ключа к замку не подбирай. И даже будь она открыта, Остерегайся, не спеши: Пустырь, козлиное копыто, И духота. И ни души… Новый журнал. 1955. № 41. (Ант. 2).«Только в немоте оцепененья…»
Только в немоте оцепененья, На границе мрака и прозренья, Порывая все земные узы, Ты услышишь вещий голос Музы, Полноценным золотом звенящий, Древней Девы голос настоящий, Только так — в безумии и плаче. Только так — и никогда иначе. Лишь дойдя до крайнего предела, Где душа испепеляет тело, Где добро и зло одно и то же И любовь на ненависть похожа; Только в час, когда теряешь веру, Ты найдешь божественную меру. Двух миров согласную природу И в законе — высшую свободу. Новый журнал. 1956. № 45.Шаги («Мост. Ночь. Фонаря свет…»)
Мост. Ночь. Фонаря свет. Шаги за спиной. Никого нет. Тухнет фонарь. Мигнул. Потух. Тьма. Напрягаю слух. Всматриваюсь. Не видать ни зги. Тот же мост. Те же шаги Подкрадываются. Шелестят. Замерли. Опять шуршат. Глухо. Издалека. Без конца мост… Без конца река. Не добежать. Нет берегов. Тьма. Мост. Шелест шагов. Новый журнал. 1956. № 45.«Я сам себя заколдовал…»
Я сам себя заколдовал. Блаженство? Выбирай любое. Пустого зеркала овал, В нем только небо голубое. Но ты внимательно вглядись В его растущие просторы, Туда, в сияющую высь, Где тонут ангельские взоры. И как парящего орла Из этой глубины лучистой, Неудержимая стрела Тебя пронзит с протяжным свистом. И ты увидишь свой же лик, Но в восхищеньи совершенства. И будет этот краткий миг Блаженней вечного блаженства. Новый журнал. 1956. № 45.«О, если б спать, не видя снов!..»
О, если б спать, не видя снов! Но мне все время что-то снится. Душа, как пленница, томится, На волю рвется из оков. Чужие лица, города, Несуществующие страны. Взвиваются аэропланы, Со свистом мчатся поезда. А ныне страшное — опять: Москва… Сейчас меня узнают, Поймают, схватят, расстреляют. Конец… О, родина! О, мать! Новый журнал. 1956. № 45.«Какая-то высшая сила…»
Какая-то высшая сила Владела моею судьбой, От мира меня уводила, Смиряя, влекла за собой. О счастье не мог не мечтать я, Любви не желать торжества. Увы, размыкались объятья, Слабели, сомкнувшись едва. И то, что любовь сочетала, Крепка, широка, глубока, Свистящим мечом рассекала Ревнивая чья-то рука. И вот, обречен на безделье, Как пленник, сижу одинок. Сиянье. Холодная келья. Разбитая лира у ног. Новый журнал. 1955. № 41. (Ант. 2).Звезда горит («Ты не горюй, все образуется…»)
Ты не горюй, все образуется. Не стоит, право, горевать. Ну, пусть она с другим целуется, Любовь твоя — не удержать! Как будто нет беды ужаснее. Оставь ее. В пустынной мгле, Смотри, звезда горит — прекраснее Всех поцелуев на земле. В стекле оконном отражается, Как металлический цветок, Лучом граненым преломляется Ее зеленый огонек. Люби ее, люби свободную, Тебе сиявшую в раю, В земном изгнанье путеводную, Звезду холодную твою. Возрождение. 1955. № 47.«В полдневный зной к источнику склониться…»
В полдневный зной к источнику склониться И пить, и пить, и знать, что не напиться, Что не продлить быстролетящий час. Он отсверкал, он кончится сейчас. И новый час идет ему на смену, Последнюю неся с собой измену. И дым надежд, воспоминаний дым Бессильной тенью тянется за ним. Возрождение. 1955. № 47.Карусель («Прозрачный воздух ярок…»)
Прозрачный воздух ярок, Осенний полдень жгуч. Белеют крылья арок, Ни паруса, ни туч. На площади, над морем, У крепостной стены Мы кьянти пьем и спорим, В Альдонсу влюблены. Бродяги и поэты, Свободны мы от дум. Влечет нас берег Леты И ярмарочный шум. Вот гуси и факиры, Из сахара кудель. А вот, под знаком лиры, Во флагах — карусель. Старик у входа сонный Билеты продает. И голос граммофонный Проехаться зовет. Хрипит, что карусели Забавы нет верней. И мы вошли и сели На розовых свиней. И долго нас, качая, Кружила карусель, Достичь как будто чая Неведомую цель. И пела бесконечно О счастье в шалаше. И было так беспечно И пусто на душе. Возрождение. 1957. № 63.Близнецы («Душа, ты в этот мир стремилась…»)
Душа, ты в этот мир стремилась, А ныне просишься назад. К непостоянству приучилась: Из ада — в рай, из рая — в ад! Нет, раз уж ты сюда попала, — Терпи, пока не вышел срок. Ты чтишь богов. Их здесь немало: Вот добродетель, вот порок. Добро и зло. Который краше? Два близнеца — не ошибись. Но отгадав, за души наши, Слепые души, помолись. Возрождение. 1957. № 63.«Вот сижу я в финской шапке…»
Вот сижу я в финской шапке И в мешке американском И ропщу о том, что в мае Невесенняя погода. В этом Баре холод волчий И недаром он на Волке (Так зовут нетерпеливый, Ледяной поток в ущелье). На горе у Кузнецова, Где живу я под навесом, Много дум я передумал, Узелков тугих распутал. Научился я смиренью, Добродетели христьянской. И живу, не унывая, В тишине анахоретом. Одному лишь научиться До сих пор не удалось мне: Отличать холодным взглядом От пшеницы вражий плевел. Оттого, хоть и не очень Волчий холод мне приятен, Не ропщу я: нет полезней Для души моей лекарства. Возрождение. 1958. № 73.«Хорошо, что никто не знает…»
Хорошо, что никто не знает, Злой я или добрый, Умный или глупый, Святой или грешный. Хорошо, что никто не верит Ни одному моему слову, Лица моего не видит, Голоса не слышит. Я для всех давно как бы мертвый. Но Богу все известно. Кому надо, откроет, Когда придет время. Возрождение. 1958. № 73.«Помнишь крест и широкий…»
Помнишь крест и широкий Двор, поросший травой, Девы лик темноокий, В глубине — как живой? Нынче ветер и стужа, Злобно вздулась река. Отражается в лужах Уж не посох — клюка. Перед образом темным Девы чудной склонись, О бродяге бездомном Помолись. Возрождение. 1958. № 73.«Все в этот вечер было странно…»
Все в этот вечер было странно, Воздушно, трепетно, туманно. Дождь моросил, фонарь горел. Без шляпы, в макинтоше длинном, Я на мосту стоял пустынном И в воду сонную смотрел. Стоял, смотрел… Одно движенье — Конец всему и разрешенье, Забвенье вечное, покой. Но тут как будто сквозь дремоту Мне вдруг почудилось, что кто-то Следит внимательно за мной. И осветилось дно речное: «Покоя хочешь? Нет покоя. Другое дно под этим дном». И стало страшно мне и стыдно. Но ничего уже не видно В потухшем зеркале речном. Возрождение. 1958. № 73.Монах и вор («За морями далеко…»)
За морями далеко, Над землею высоко, На Лазурь-горе зеленой Жил да был монах влюбленный. А в кого он был влюблен, Ведал только Бог да он. Проходили семь старух, Все вдовицы, кроме двух. Проходили три девицы, Крутобоки, белолицы. Проходила дрянь в штанах. Но не в них влюблен монах. Месяц всходит из-за гор. По тропе крадется вор, Нос крючком, волос — папаха, Прямо к хижине монаха. За плечами — узелок, В узелке — пустой мешок. Говорит: «Отец святой, Не взыщи за нрав крутой. Понял ты мою природу: Для тебя — в огонь и в воду. Не клялся ль, что украду Я вечернюю звезду? Я украл, да не донес. Чуть скатилась под откос, Я поймал ее, нагую, За косу за золотую. Но она, как тень легка, Упорхнула из мешка». Тут монах заголосил: «Без нее мне свет не мил. Ни любви не быть, ни чуду. Что теперь я делать буду?» Утешает вор: «Найду Краше во сто раз звезду. Не тужи, доверься мне. А лежит она на дне, В глубине морской, сияя Как жемчужина большая, И нежней, чем этот свет, Во вселенной света нет!» Возрождение. 1958. № 76.«Горит над озером звезда…»
Горит над озером звезда И отражается в воде. Тебя я видел… но когда И на какой звезде? О, вспомни, может быть, на той, Что, в этот предвечерний час, Своей далекой чистотой Заворожила нас. И чей развоплощенный свет Еще играет на волнах, — На той, которой больше нет Ни в прозе, ни в стихах… Увы, я вспомнить не могу. Все это было, как во сне, На незнакомом берегу, В сверканье и в огне. Возрождение. 1958. № 76.ЮЖНЫЕ СТИХИ
I. Ферма («Здесь, от куриного помета…»)
Здесь, от куриного помета Одно спасение — метла. Любовь — которая по счету? — Меня в курятник завела. Клюя зерно, кудахчут куры, Шагают важно петухи. И без размера и цензуры В уме слагаются стихи. О провансальском полдне знойном, Переходящем в полумрак, О поведенье недостойном Стихи слагающих бродяг.II. Пчела («Если ты меня ужалишь…»)
Е.А. Каншиной
Если ты меня ужалишь, Я тебя, осу, убью. Смертью ты не опечалишь Душу смелую мою. Вот пчела — другое дело. Хоть под платье, хоть в усы. И куда приятней тело У пчелы, чем у осы. Нынче брит я, как татарин, И не сходит тень с чела, Но тебе я благодарен, Незлобивая пчела. Был бы жалким я уродом, Жил бы, всех и все кляня, Если б с детства райским медом Не питала ты меня.III. Отраженье («Что мне Париж! Там нет меня…»)
Марии Леонидовне Аш
Что мне Париж! Там нет меня. Там все иное, все иначе. Мотоциклетки трескотня Да по ночам концерт кошачий. А здесь вода — она течет, Она поет, она струится. И месяц голубой с высот Задумчиво в нее глядится. (Иль в облаках над ней плывет Как бы завернутый в бумагу.) И путник, наклонившись, пьет Луной не тронутую влагу. Он пьет, и кажется ему, Что в неподвижности движенья Он видит рая отраженье, Невидимое никому.IV. Китаец («Ты в шахматы играла с привиденьем…»)
Памяти Анны Ор
Ты в шахматы играла с привиденьем, А на дворе, под проливным дождем, Стоял китаец. Все, казалось, в нем Дышало нескрываемым презреньем. Но проиграв, с угрозой бесполезной Исчезло привиденье, дождь прошел. Один китаец ждет — упрям и зол. И как уйти: он был — трубой железной Перед твоим окном, чернодымящей. Но в час, когда средь голубых палат В малиновых штанах гулял закат, В тот час он был китаец настоящий. Он голосом рассчитанно-негромким Любезности ученые шептал, Утонченными пытками пытал И сложные чертил головоломки. Возрождение. 1958. № 80.Младенец и черт («С младенцем нежным, чуть не с люльки…»)
С младенцем нежным, чуть не с люльки, Связался черт, и сам не рад. То подавай ему свистульки, То барабан, то шоколад! Младенец плачет и смеется, Недавний вспоминает рай. И черт несчастный, как ни вьется, А райских слуг изображай. Потом — без всякого уж толка — (Однако черт ничуть не зол), Хромого представляя волка, На четвереньки и под стол. Так дни бегут, растет младенец, Стареет незаметно бес, Теперь он страшен, как чеченец. Но зверь лицом — душой воскрес. А страж-хранитель, что в загоне, Слетев с заоблачных высот, Смиренно-тих, как на иконе, Ему свой меч передает. Возрождение. 1959. № 87.Город напротив («Как смертоносной чумной заразы…»)
Как смертоносной чумной заразы, Любви бежал я, но изнемог. И златокудрый, голубоглазый Ко мне ворвался крылатый бог, — В прохладный сумрак моей пещеры, Где я недолгий вкушал покой… Напротив город жемчужно-серый Волшебно-близок — подать рукой. И дерзкий отрок склонился, глядя На плащ мой темный и на меня: «Скажи, какого безумства ради Бежишь от счастья, как от огня? Смотри — вот город. Он недалеко. Но знай, вернешься ни с чем назад. Никто не может вступить до срока В его пределы — ни стар, ни млад. А срок… — Тут вынул он из колчана Стрелу и сердце мое пронзил. — Иди, — сказал он, — теперь не рано!» Взбежал на скалы, и след простыл. Возрождение. 1959. № 87.Страж («Она одна, и ей названья нет…»)
Она одна, и ей названья нет. Не Сириус, не Вега, не Венера. Темна, о друг, темна твоя пещера, Но и туда ее доходит свет. Немеркнущий — до сердца твоего, Как дальний зов. И он его коснется. В ответ оно сильнее не забьется, Как будто не случилось ничего. Но станешь ты неведомо о чем Грустить, вздыхать и по ночам томиться. Чего-то ждать. И рай тебе приснится, У входа ангел с огненным мечом. И ангела ты будешь умолять Пустить тебя к заветному порогу. Заплачет ангел, преградив дорогу Тебе мечом. И вот ты здесь опять. Один, как был. Звезда горит в окне, Рассветный ветер с гор прибрежных веет. Молчит душа. Она еще не смеет Назвать того, с кем плакала во сне. Возрождение. 1959. № 87.Узлы («Какое странное порой…»)
Какое странное порой Владеет мной очарованье, Когда сливается с зарей Луны холодное сиянье. И сон очей моих бежит. И как за пленкой слюдяною Лежу, и кто-то ворожит В пустыне лунной надо мною. Знать, не напрасно, милый друг, Ты перед смертью говорила, Что из твоих не вырвет рук Меня ничья на свете сила. И долго в лунной тишине, Откидывая одеяло, В полусознанье, в полусне Узлы какие-то вязала. Возрождение. 1959. № 91.«Я не люблю тебя, луна…»
Я не люблю тебя, луна, И мир, тобой завороженный, — Прелюбодейная жена, Что улыбается Мадонной. Ты устремляй свой тусклый взгляд Туда, где волчья рыщет стая, Где мертвецы в могилах спят, На Божий зов не отвечая. А здесь тебя я не хочу. Я счастлив радостью земною. И только ясному лучу Окно высокое открою. Возрождение. 1959. № 91.«Посмотри, какая странная…»
Посмотри, какая странная Поднимается луна, — Бледно-розово-туманная, Так легка и так нежна. И какие стебли длинные У тюльпанов при луне, Словно души их невинные К небу тянутся во сне. Чьи-то руки простираются: «О мой брат, моя сестра!» Чьи-то крылья расправляются, — В лунном небе веера. И душа моя бессонная, Забывая все слова, От всего освобожденная, Тайнодействием жива. Возрождение. 1959. № 91.Голубое одеяло («Воскресенье, нет, Суббота…»)
Воскресенье, нет, Суббота. Год не помню, месяц — май. Полночь. Настежь вдруг ворота. Гость нежданный. Принимай. Гость? А ну его в болото. Ну его ко всем чертям! Буду на ночь я ворота Запирать отныне сам… Так и быть, ведите в зало. Ничего не подавать. Голубое одеяло Положите на кровать. И как в облаке пушистом, В одеяле голубом, В свете звездном, в свете чистом, Гость заснул последним сном. Возрождение. 1959. № 91.ЗВЕЗДА
1. «Горит над озером звезда…»
Д.К.
Горит над озером звезда И отражается в воде. Тебя я видел… Но когда И на какой звезде? О, вспомни, может быть, на той, Что в этот предвечерний час Своей далекой чистотой Заворожила нас. И чей развоплощенный свет Еще играет на волнах, На той, которой больше нет Ни в прозе, ни в стихах… Увы, я вспомнить не могу, Все это было как во сне, На незнакомом берегу, В сверканье и в огне.2. «Ледяной прозрачностью сверкая…»
Ледяной прозрачностью сверкая, Ничего от взоров не тая, Ты гори, гори, всему чужая, Безымянная звезда моя. Прикасайся острыми концами Чудодейственных твоих лучей Сквозь туман, сквозь все, что между нами, К вечереющей душе моей. Чтоб не вечно странницею бедной Ей в дома стучаться в поздний час, Но сверкать царицею победной, Ни пред кем не опуская глаз. Возрождение. 1959. № 92.ИЗ ЧЕРНОВОЙ ТЕТРАДИ
I. Этим летом («Допотопный рукомойник…»)
Допотопный рукомойник, В рукомойнике вода. Сквозь приспущенную штору Влажно-яркая звезда. Это было этим летом. Заносил, как парус, в бок Коленкоровую штору Шелковистый ветерок. Убывала, прибывала В рукомойнике вода. Это было этим летом — Ложь и верность навсегда.II. Разлука («Ну что ж, пускай друзья пируют…»)
Ну что ж, пускай друзья пируют, Меня на пир не пригласив. Стаканы бьют, подруг целуют И в драку лезут, кто драчлив. Пускай в штанах американки Всю ночь гуляют при луне. Я на турецкой отоманке Лежу в блаженном полусне. Жара. Космическая скука. Закат — восход. Закат — восход. О только б кончилась разлука, А там увидим, чья возьмет.III. О Боге («Мне без Бога что-то скучно…»)
Мне без Бога что-то скучно. Он совсем не так уж строг. Бог, которым нас пугают, — Полицмейстер, а не Бог. Не хочу такого Бога. Пусть хоть плохенький, да свой. Не такой чтоб очень грешный, Но не слишком и святой. До святого — драгоценных Много сил потратив зря — Все равно не доберешься, Как до батюшки-царя.IV. О стихах («Да, рифмы слабы, все — глагольные…»)
Да, рифмы слабы, все — глагольные. Но не в одних же рифмах суть! Стихи поют, как птицы вольные. Внимай, молчи, чтоб не вспугнуть. Вспугнешь, и с быстротой кометною Они в пространство улетят. И почерневшей станет Этною Твоей мечты волшебный сад.V. Дом с балконом («Мысли брось — они мучительны…»)
Мысли брось — они мучительны — О спасении души. Все мальчишки отвратительны, Все девчонки хороши. Кипарисы стынут длинные У кладбищенских ворот. На балконах дамы чинные Вышивают круглый год. Мимо них проходят важные Пожилые господа И на шармы авантажные Взор бросают иногда. Дамы кротко улыбаются, Прячут вышивку в мешок. И бесшумно открываются В доме двери на звонок. Все возможно в ночь безлунную. Не видать кругом ни зги. Ты вонзись во тьму чугунную, Дом с балконом подожги.VI. Имя («Твоя “свобода” не нужна мне…»)
Твоя «свобода» не нужна мне. Ребенку ясен твой расчет. Мне слово, что на белом камне, Дороже всех твоих свобод. Отныне властвуй над другими. Их — тьма. А я, пока живу, Моей любви святое имя Ни перед кем не назову. Возрождение. 1960. № 97. Новый журнал. 1961. № 63.Ослик («Ослик за сахаром вверх потянулся…»)
Ослик за сахаром вверх потянулся… Дети играли со смертью и с болью. Ослик был старенький, траченный молью. Он их катал и с прогулки вернулся. Вот он стоит и на солнышке дремлет. Снятся ему незнакомые дали, Плоские крыши, тяжелые шали, Голос гортанный. Он голосу внемлет. Вот, отвязав, повели и садится Кто-то на ослика, тихий и нежный. Блещет на солнце хитон белоснежный, Неторопливо ступают копытца. Небо все выше, все шире, огромней, Каменной лентою вьется дорога… Много детей он катал, очень много. Но благодатней, чем этот, не помнит. Город волшебный пред ними простерся. Старенький ослик беду понимает. Чует, что близко. Какая — не знает. Остановился и в землю уперся. Нет, в этот город большой он не хочет, В эти раскрытые настежь ворота. Словно мешает, препятствует что-то И неутешное горе пророчит. Старенький ослик, детей стерегущий, Если б ты мог, ты б сказал: «Да не будет!» Если б ты мог… И тебя не забудет В Царстве Небесном Господь Всемогущий. Возрождение. 1960. № 100Душа и тело («Душа моя, не бойся, не стыдись…»)
Душа моя, не бойся, не стыдись Любви земной, любви обыкновенной, Не порывайся в ледяную высь, Но в теле пребывай несовершенном. Ведь без тебя ему, о, как прожить! Хоть не всегда оно с тобой согласно. А без него как будешь ты любить Здесь, на земле, — не по-земному страстно. Тебя хранит от легкости оно, А ты его спасаешь от паденья. Но меж собой враждуя, вы — одно. Одно в покое и одно в смятенье. Новый журнал. 1961. № 63.Что это? («Тюрьма, сума, любовь неверная…»)
Тюрьма, сума, любовь неверная — Все ничего, все — не беда! Но этот холод, тьма пещерная, Со стен текущая вода, Ненарушимое молчание И теснота и тяжесть скал — Что это — месть иль испытание? За что? И кто его послал? Иль это — ад, существование Которого я отрицал? Новый журнал. 1961. № 63.Прогулка («Не знаю, как с другими, но со мной…»)
Не знаю, как с другими, но со мной Творится что-то странное весной. Вот например: апрельский день веселый, И будто я иду домой из школы. В руках портфель, он полон школьных книг, И вдруг навстречу — в зеркале — старик. Я вежливо дорогу уступаю И незаметно в зеркало вступаю. Старик же (кстати, с этим стариком Я, кажется, когда-то был знаком) Спешит, спешит к своим каким-то целям, Скрываясь за углом с моим портфелем. Новый журнал. 1962. № 69.Прогулка («Надев пальто и палку взяв…»)
Надев пальто и палку взяв, Гулять выходит кошкодав. Часы на башне полночь бьют, У стойки негры пиво пьют. Но важен, как испанский граф, Обходит площадь кошкодав. Луна повисла над прудом. На пустыре веселый дом. Собаки лают: гав, гав, гав. Их не боится кошкодав. И не для них он приберег С начинкой сладкий пирожок. Ему ль не знать собачий нрав! Но любит кошек кошкодав. А дальше… дальше, как всегда, Он ждет на берегу пруда. Потом, до вечера проспав, Всю ночь гуляет кошкодав. Новый журнал. 1963. № 73.«Пленительность смертельной красоты…»
Пленительность смертельной красоты И непорочность юного томленья, Как страсти ядовитые цветы, Волнуют вновь мое воображенье. Еще поет свирель, еще луна Преображает темные просторы, Еще из гипнотического сна Я в беспредельность устремляю взоры. Но где-то, за великою рекой, Где ветер свищет и поют сирены, Уже нарушен царственный покой Неуловимой радостью измены. Новый журнал. 1963. № 73.Les Clochards («У них — свой мир. Своя весна…»)
У них — свой мир. Своя весна. Своя любовь. Свое смиренье. Своя грошовая луна И смерть своя и воскресенье. Они идут своим путем, И мы понять их не могли бы. А мы для них, как за стеклом, В большом аквариуме рыбы. Но иногда, в столетье раз, Найдя вневременную точку, Пронизывает рыбий глаз Их каменную оболочку. Новый журнал. 1963. № 73.«Зевают львы, гуляют дачники…»
Зевают львы, гуляют дачники, От пирамид ложится тень. В арифметическом задачнике Журчит вода, цветет сирень. Неравномерно наполняются Бассейны лунною рудой. Павлин в дельфина превращается, Паук становится звездой. А босяки и математики Сидят в тюрьме и видят сон, Что оловянные солдатики Цветочный пьют одеколон. Новый журнал. 1963. № 73.Весна 1964 («Холодная парижская весна…»)
Холодная парижская весна — Как день один, что длится бесконечно. Ни листика. И башня из окна Видна, торчащая остроконечно. И как тогда, в том роковом году Все решено и нет путей обратных… Мне весело. Я через мост иду, В червонном золоте лучей закатных. На берегу — на левом — детвора Играет в садике перед собором. О, как легко! А ведь еще вчера Моя любовь казалась мне позором. Новый журнал. 1964. № 76.Упрек («Гроза уходит на восток…»)
И. Шлюзевилю[667]
Гроза уходит на восток, И солнце в лужах отражается. Промокнув с головы до ног, Кляну судьбу, как полагается. Порой и темные пути Приводят к миру и спасению. Но все ж — о, Господи, прости! — Дивлюсь я Твоему терпению. Не о погоде говорю, А о свободе зла таинственной. И если я Тебя корю, То уж таков мой нрав воинственный. Душе, что ветхий свой покров Не сбрасывает от стыдливости, Хотелось бы не только слов О доброте и справедливости. Не только смутного «потом», Случайной радости недлительной, Но торжества добра над злом — Любви победы ослепительной. Новый журнал. 1964. № 76.Серый волк («Собаку мальчик потерял в лесу…»)
Собаку мальчик потерял в лесу, Не в настоящем русском, а в Булонском. Должно быть, надоело бегать псу По голым кочкам и дорожкам конским. В собаках я когда-то ведал толк. Он был хорош, играл все время с нами, Немецкая овчарка — «серый волк» — С веселыми и умными глазами. Он не нашелся. Он не мог не знать Дорогу к дому, где мы долго жили… Вот так и мы уходим умирать Вдали от тех, кого всю жизнь любили. Новый журнал. 1964. № 76.СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БУМАЖНОЕ ИЗДАНИЕ 2004 г. (Разысканные в иных книгах и в сетевых публикациях)
Венецианский узор («Не дослушав плачущей виолы…»)
Не дослушав плачущей виолы и забыв, что продолжалась месса из собора выйдя догоресса, опустилась на скамью гондолы. Праздник был томительно хвалебен, ей хотелось зарева заката свежего, как зрелая граната, яркого, как петушиный гребень. И в порыве дикого каприза, потеряв трех герцогов из свиты, отдавала шею и ланиты поцелуям женственного бриза… Вдалеке раскинулись лагуны, а до слез влюбленные поэты сочиняли скучные сонеты, ударяя яростью о струны. А потом, вернувшись слишком рано во дворец извивами канала, принести велела два бокала тонко отшлифованных в Мурано. И под звук далекой серенады, запретив улыбки и вопросы, распустила вьющиеся косы, темные, как ночь Шахерезады. И смеялась, жемчугом играя, в хрустале отравленная пена… Было тихо, лишь у гобелена раздавался шепот попугая. И с неясной сказкою во взоре Говорила, чувствуя румянец: «Не придешь, о гордый иностранец, Любоваться мною, как в соборе?» январь 1915«Мы тоже те, чья кровь обречена…»
Мы тоже те, чья кровь обречена Не причащать из драгоценной чаши. На мир, как на чужое и не наше Мы смотрим из раскрытого окна. И взяв себе Любовницу из Муз, Мы всюду будем приняты в гостиной, Сгибая в старости сухие спины, Носившие большой, но легкий груз. И, как-нибудь упав, не сможем встать: Так дети, расшалившиеся в жмурки, Роняют на пол дряхлые фигурки, А после забывают их поднять.Жажда («Порвать себя, как тряпку, на куски…»)
Порвать себя, как тряпку, на куски И выбросить канавам или тине, И вздрогнуть, если радости отныне Забудутся и станут далеки. Быть гордым, не сгибаться пополам В сражениях сознания и плоти, И все-таки на первом повороте Продаться неразборчивым устам. Быть бедным, как сжигающий огонь, Не видеть даже солнечного света И лечь, как драгоценная монета Кому-нибудь в просящую ладонь.Венеция («Уже длинней и легче стали тени…»)
Уже длинней и легче стали тени, Мосты упруго изогнули спины, Прошел мошенник с шапкой на бекрени, И чудаки одели пелерины. И все сильней античные дурманы, Холодный мрак безжалостно расколот, На мертвой башне быстрые Вулканы Приподняли и опустили молот. И ты так строго, так неуловимо Хранишь на всем старинные печати, А помнишь, как ты отняла у Рима Литых коней монументальной рати, И как потом благословив стихию, Во времена крестового разгула, Твои купцы уплыли в Византию, Где их хранила золотая булла. Когда же пальцы тонкого Беллини Сжимали кисти бешено и плотно, — Какой восторг рождающихся линий Узнали обнаженные полотна. И сколько муз непознанных и граций Открыли чьи-то бешенные пытки — Теперь под колоннадой прокураций Не верят в ядовитые напитки. Но я люблю сквозь старые атласы И сквозь давно не ношенные цепи Смотреть на искривленные гримасы И на разврат твоих великолепий И опускать в испорченные бездны Своих корней испорченные ткани, Пока дракон, ревущий и железный, Не оборвет моих очарований…Университет («Весенний воздух, лужи, капли с крыш…»)
Весенний воздух, лужи, капли с крыш, Вдали фигура зоркого жандарма. И на углу, столетний, ты стоишь, Безвредных истин трезвая казарма. Минувший век медвежьею душой Тебя терпел, как скучную причуду, И гнет, непережитый и простой, Еще упорно смотрит отовсюду. Но ты устал от правил и от шпор, От приказаний в голосе и взоре; И неспокоен длинный коридор И полумрак твоих аудиторий. Не передать затверженным словам О накипевшей ярости усилий, И человек, бессмысленно упрям В покорности величию и пыли. Но где-то бьется мировая дрожь, И не возникнет неизбежный гений, Из веры в схоластическую ложь — Из прихоти кустарных откровений.«Кто вырастет, играя в би-ба-бо…»
На память А.К Лозинскому
Кто вырастет, играя в би-ба-бо, целуя перед сном гримасный ротик, кто нас полюбит в мраке библиотек, как мы — эпоху буклей и жабо? Тот, может быть, найдет в пыли поэм, в прозрачных пятнах сочного офорта, такой же блеск, как в замках Кенильворта, и грусть уже потухших диадем. И будет он душою букинист, влюбленный в почерневшие гравюры, в пан<н>о, в стихи, как в отзвук увертюры, забытой, как осенне-хрупкий лист. И в мерном шаге бронзовых минут, в усталом сне могильно-темных комнат, он их найдет. Их снова вспомнят… вспомнят, они живут. февраль 1915«Я будто вырос из всего на свете…»
Я будто вырос из всего на свете и все кругом бесцельно и некстати. Наверно так же вырастают дети из страшных сказок и коротких платьев. И замолчали сгорбленные няни, и так понятны сделались предметы, и нет уже ни слов, ни очертаний, лишь маятник отстукивает где-то. А мир все неподвижнее и старше, Он, утомленный, дремлет на дороге, и бородой закрыты патриаршей его большие, каменные ноги. <1916>Шкурное(«Всё равно: если все прикладом…»)
Всё равно: если все прикладом раздробляют друг другу грудь, берегись от людского стада отличаться хоть чем-нибудь. А не то в этот час недаром о тебе пожалеет мать: опрокинут одним ударом, упадешь и не сможешь встать. Будет больно тебе и плохо, отойдет победитель, глух. Никаким покаянным вздохом не обманешь звериный нюх. Только рядом качнется стебель, промелькнет лошадиный хвост, и застынут на черном небе неподвижные кольца звезд. 1916«Часы Публичной библиотеки…»
Часы Публичной библиотеки Сказали: половина пятого. Гостиный двор. В пальто на котике Прошла любовница богатого. И грязью мелкою и талою Ложится снег по лентам каменным… Трамваи улицу усталую Перекрестили крестным знаменьем. А на углу, годами согнутый, Ларек с халвою и пирожными. И люди, наглухо застегнуты, Идут, застывшие и ложные. О, кто из нас при свете месяца Сегодня, потеряв терпение, На чердаке своем повесится Из чувства самосохранения? <1916>«Ни о чем не думал и жил как в башне…»
З. Гиппиус
Ни о чем не думал и жил как в башне, Умереть хотел от своей руки, Но случилось что-то, и я не вчерашний, Не боюсь ни людей, ни слепой тоски. Словно вдруг тугие порвались узы И легко забыть о себе самом. Я не знаю, лучше я стал иль хуже, Отчего я прав, я пойму потом. И проходят ночи и дни без счета, Но в тревоге радостной и простой Веселей и легче моя забота И неутомителен мой покой. <1917>Сны («О снах — молчи. Знай, сна не рассказать…»)
О снах — молчи. Знай, сна не рассказать, Не выразить ни радости, ни боли. Волшебный этот свет — как передать, Что обновляет душу поневоле? Иль тот, другой, чей незаметный след Опасен, как смертельная зараза. О, ничего в нездешнем мире нет Доступного для уха иль для глаза. Как объяснить, чем страшен этот сон, Сам по себе такой обыкновенный, Что с детства с незапамятных времен, Мне снится, повторяясь неизменно? Все тот же полукруглый коридор, И я иду, не смея оглянуться. И до сих пор мне снится, до сих пор, Что я заснул и не могу проснуться.Возвращение («Как до войны, в тот первый год счастливый…»)
Как до войны, в тот первый год счастливый, Когда все было нипочем, По лестнице, походкой торопливой, Ты поднялась. Своим ключом Открыла дверь, и я не удивился. Я все забыл, я был как пьян. И так же дым от папиросы вился И цвел под окнами каштан. Но вдруг виски мои похолодели. Как мог забыть я? Где я был? О, милый друг, ведь нынче — две недели, Как я тебя похоронил. А ты — как будто не было разлуки. Ни этих дней, что я влачу, — Идешь ко мне, протягиваешь руки. Нет, нет… не надо… не хочу!Рожденье Венеры («Три дня он дул, без перемены…»)
Три дня он дул, без перемены, Мистраль, стремя за валом вал. Ты вышла на берег из пены, Легко ступая между скал. Не прерывался рев пучины. И плыли весело назад Тебя примчавшие дельфины, Дразня насмешливых наяд. И боги радовались чуду Блаженной радостью богов. И доносился отовсюду Их смех с ликующих холмов. А ты средь скал еще стояла, Ты косы влажные плела. И до тебя не долетала Богов певучая хвала.«Не забуду — ночь была…»
Не забуду — ночь была Как из тусклого стекла. Как из пакли, как из ваты, Полумесяц желтоватый Плыл над мыльною рекой. А надежды — никакой… В отраженно-мутном свете Целовались мы, как дети, Крепко, долго — целый час. В первый и последний раз.Муза («Я не один, я с музой…»)
Я не один, я с музой И муза мне верна. Растрепанной медузой Плывет во тьме она. Качается бесцветным, Светящимся пятном И призраком рассветным Мелькает под окном. Но чем бы ни играла Она в своем раю, Ее сухое жало Я сразу узнаю. Через моря и реки Она летит стрелой, Чтоб оградить навеки Тебя от силы злой. Чтоб рук твоих простертых Скорей коснуться вновь И воскресить из мертвых Погибшую любовь.«Не спрашивай — я все забыл…»
Не спрашивай — я все забыл: И чем я был и как я жил, Все имена и все названья. Кого преследовать дерзал, Чье сердце бедное терзал Надеждой близкого свиданья. Но мой внимательный двойник В свой обличающий дневник Записывает все прилежно. И снова тайную тетрадь Он раскрывает и опять Рукою машет безнадежно.«Мы расстались у фонтана…»
Мы расстались у фонтана, Зеленела в нем звезда. Ты сказала «буду рано». Я услышал: «никогда». Сколько этих мимолетных — Не давай себя увлечь — Сумасшедших, беззаботных, Навсегда забытых встреч. Не пришла. И сердце радо. Никогда не приходи… Высока моя ограда, Бесконечность впереди.Суета («На голых ветках пели птицы…»)
Юрию Трубецкому
На голых ветках пели птицы, Но пенью птиц я не внимал. Учитель ставил единицы И головой седой качал. А я мечтал о вечной дружбе, О вольной жизни удалой, О славных подвигах, о службе, О том, что буду я герой. Великий Цезарь Победитель, Держащий мир в своей руке. А бедный ангел мой хранитель Тихонько плакал в уголке.Сквозняк («Вздорных снов, предчувствий ложных…»)
Вздорных снов, предчувствий ложных, Помни, друг, на свете нет. Но судьба глупцов безбожных Забывать язык примет. Шерсть ли дыбом на собаке, Камнем перстень ли с руки — Это все оттуда знаки, С гор высоких сквозняки. Ветерок потусторонний Ураганом все смелей, Веселей и беззаконней Рвется в дом из всех щелей. Безразлично, что ты скажешь, Что со страху наплетешь — Ложью трещин не замажешь, Дыр насмешкой не забьешь. Новый журнал. 1955. № 41.Уйти («От всех — навеки, навсегда…»)
От всех — навеки, навсегда. И от всего — навеки тоже. В окне — холодная звезда, В углу — солома и рогожа. Не знать, не помнить ничего, Ни торжества, ни униженья. Ни даже счастья своего. Ни одного стихотворенья. Пусть только небо и земля. Четыре вечные стихии. Необозримые поля. Воспоминанье о России. Опыты. 1953. № 2.«О не пойму, никогда не пойму…»
О не пойму, никогда не пойму Эту пустую загробную тьму, Круговращенье потухших планет, Где существует лишь то, чего нет. И не понять, до конца не понять, Что можно любить и вдруг перестать.«Есть что-то странное в моих мечтах…»
Есть что-то странное в моих мечтах, В моих стихах, в моем оцепененье, В протянутых бессмысленно руках, В растущем с каждым днем недоуменье. Что б ни случилось, — все наоборот, Не то, не так, — сливается, двоится. О, неужели этот мир — не тот, В котором мне положено родиться? Но отчего ж я так его люблю. Так всепрощающе его жалею, Его дыханье каждое ловлю И о спасении мечту лелею? Новый журнал. 1962. № 69.СОВРЕМЕННИКИ О В.А. ЗЛОБИНЕ
Юрий Терапиано. Владимир Злобин[668]
«Дорогой Юрий Константинович, мы едем к Гиппиус в воскресенье. Т. к. я перед тем не дома, то встретимся между тремя и половиной четвертого в кафе des Tourelles, на углу rue de l’Alboni и Bd. Delessert, это возле метро Passy, на площади. Буду Вас ждать. Жму руку. В. Ходасевич. Пятница». Штемпель на открытке: 2 апреля 1926 года.
Четвертого апреля, следовательно, в воскресенье, Владислав Ходасевич повел меня к Мережковским, на 11-бис rue du Colonel Bonnet, и первым, кто встретил нас, открыв двери, был секретарь Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус — Владимир Ананьевич Злобин.
С того дня прошло столько лет, совершилось множество самых разнообразных событий, и до и после Второй мировой войны, но и сейчас облик В. А. Злобина для меня остался таким же, как и в первый день знакомства.
Элегантный, сдержанный, говорящий как-то особо, слегка размеренно, всегда определенно, твердо высказывающий свои взгляды, пунктуально точный во всех литературных делах и встречах, Владимир Ананьевич, можно без преувеличения сказать, был «точкой опоры» квартиры на rue du Colonel Bonnet, и Мережковские во всем полагались на «Володю».
Не спеша, спокойно на «воскресеньях» Владимир Злобин разливал чай, а изредка, во время каких-нибудь больших событий, — кофе, полагавшийся «избранным и особо отмеченным» (иногда даже ликер или вино), и следил за благочинием собраний, выходя из столовой, только чтобы впустить опоздавших.
Он помнил все даты и события, все происшествия в «Зеленой лампе» и обязан был сообщать Мережковским хронику происшествий за неделю на Монпарнасе, на других вечерах и т. д.
Он рассылал приглашения на собрания «Зеленой лампы», хлопотал, чтобы вовремя нанять зал, заведовал контролем, а кроме того, поддерживал отношения со всеми посетителями «воскресений», представляя, хотя и неофициально, всюду «начало Colonel Bonnet».
Не говорю уже о том, что все сношения с издателями и редакторами, все литературные дела З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского лежали на нем, равно как и все их жизненные дела — от самых крупных до самых мелких.
Оба отвлеченные, хотя прекрасно разбиравшиеся в делах, Зинаида Гиппиус и Мережковский были всегда «дающими задания», а выполнял их — Злобин.
Бывали, конечно, недоразумения, ошибки, волнения и даже упреки, но в общем Владимир Ананьевич уверенно вел корабль Colonel Bonnet по водам житейским.
Одно время, в двадцатых-тридцатых годах (не до конца их), у него еще сохранялась собственная дача в Cannet, на юге Франции, где Мережковские проводили лето.
Злобин должен был оттуда поддерживать связь с «Парижем», т. к. и во время каникул Гиппиус и Мережковский хотели быть в курсе того, что делают и думают в отношении «самого главного и важного» посетители их «воскресений», т. е. литературные «молодые».
Еще в Петербурге, будучи студентом филологического факультета, Владимир Злобин познакомился с Мережковскими и стал их секретарем.
Вместе с ними в 1920 году он бежал из России в Польшу, а затем приехал во Францию и до конца жизни обоих был с ними.
В 1927 году, после неудачной попытки поэта Всеволода Фохта[669] издавать журнал «молодых» «Новый дом», мне вместе с поэтом Львом Евгеньевичем Энгельгардтом удалось достать средства на издание такого же журнальчика[670] размером в четыре печатных листа большого формата.
Мережковский и З. Гиппиус живо заинтересовались этой возможностью и объявили, что они станут принимать ближайшее участие в журнале, если делегируют от себя в редакцию В. Злобина, — что и было принято.
Перелистывая сейчас пожелтевшие страницы «Нового корабля» (так по настоянию Зинаиды Гиппиус был назван журнал), находишь в нем до сих пор не потерявшие ценности статьи, стихи многих, ставших потом известными поэтов, например, почти неведомого в то время Анатолия Штейгера[671], но главный интерес представляют печатавшиеся в каждом из первых четырех номеров (их и вышло, увы, только четыре, дальше средств не хватило) стенографические отчеты четырех начальных собраний «Зеленой лампы» (из них два я поместил затем в моих воспоминаниях «Встречи»).
Лето 1927 года и весь 1928 год, особенно лето 1927-го, когда Мережковские были в Cannet, явились для Злобина периодом активнейшей редакторской работы, а мне дали возможность по достоинству оценить его выдержку и уменье сохранять спокойствие среди самых бурных обстоятельств.
В дальнейшем мне не раз приходилось принимать участие в различных редакционных группах и видеть немало всяких волнений и бурь, но должен сказать, что быть редактором журнала, в котором сотрудничают Мережковские, было очень и очень трудно, а подчас просто едва выносимо.
Они вмешивались во все, они решали и перерешали, они всегда спорили друг с другом, не говоря уже о том, что в отношении к другим журналам, газетам, писателям, поэтам, критикам, философам и политикам (без политики Мережковские жить не могли, хотя свысока громили других «утилитаристов», стремившихся ограничить свободу искусства) их линия поведения, их «да» и «нет» были чрезвычайно извилистыми и все время менялись.
Полученных из Cannet, у меня сохранялась огромная папка писем В. Злобина по делам редакции, в которых он по поручению Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны давал бесчисленные инструкции, подтверждавшиеся или изменявшиеся потом еще и Зинаидой Николаевной лично.
Работа по «Новому кораблю» сблизила меня с В. Злобиным, хотя в метафизике и в отношении к эзотерическим учениям у нас не было единомыслия и В. Злобин оставался чужд тем кругам, интересовавшим многих посетителей «воскресений».
Отмечу еще совершенно особое и, на мой взгляд, несколько придуманное отношение В. Злобина к Зинаиде Гиппиус, начавшееся еще в Петербурге и продолжавшееся до самого конца, даже после ее смерти.
В то время как идеология Мережковского не очень импонировала В. Злобину, о чем он после войны не раз писал, он был чрезвычайно захвачен внутренне «колдовским», демоническим, «ведьмовским» началом, которое находил в творчестве З. Гиппиус и в ее личности, в ее жизни.
Тут мы с ним никогда не могли совпасть — ни при жизни З.Н. Гиппиус, ни после ее смерти.
З.Н. Гиппиус не раз, иногда очень беспощадно, говорила об отношении к ней, к ее теме «Володи» (порой даже казалось — несправедливо), но, видимо, в каком-то смысле его отношение все же интересовало ее, а она была способна играть человеком, как кошка с мышкой.
Как поэт она наложила на поэзию Злобина свою печать, и лишь после ее смерти Злобин мог во многих стихах от ее влияния освободиться, хотя и после смерти З. Гиппиус некоторые стихи Злобина, иногда очень хорошие, кажутся как бы написанными не им, а З. Гиппиус.
Сейчас, вспоминая то, что писал В. Злобин о Зинаиде Гиппиус в разное время (содержание его последних лекций о Д.С. Мережковском и З.Н. Гиппиус в различных университетах во время его турне по Америке нам не известно, а объявленная в издательстве В. Камкина его книга о З. Гиппиус еще не вышла), я нахожу там, на мой взгляд, то же преувеличение, против которого не раз спорил в моих беседах с ним.
Демонизм З. Гиппиус, ее пресловутое «ведьмовское начало», о котором столько говорили и писали в эпоху символизма, еще задолго до Злобина, когда З. Гиппиус играла роль «Белой дьяволицы» и провозглашала с эстрады всякие экстравагантности, в эмиграции уже не существовал.
В стихах З. Гиппиус эмигрантского периода звучит уже подлинно человечная нота острой и грустной тревоги и любви к человеку.
Зная трезвый ум Зинаиды Гиппиус и ее скептицизм в отношении всяких воображаемых «сверхземных прозрений», наблюдая в течение многих лет ее реакции, вспоминая ее суждения об эпохе символизма, я, как и другие постоянные посетители «воскресений», никогда не принимал всерьез ее «демонизма».
Да, она с удовольствием участвовала в свое время в общей игре символистов в «белых дьяволиц» и в личное общение с Дьяволом, она прекрасно умела соблюдать все правила этой игры, но про себя, конечно, знала ей цену.
Вскоре после того, как я стал бывать у Мережковских, разговор иногда касался «демонизма» и «колдовства», но эта тема была уже не по душе пореволюционным людям, и Мережковские скоро о ней забыли.
Злобин же, не только воспринимавший всерьез духовную атмосферу декадентства и символизма, но и по своей натуре близкий им, смотрел на эту «игру» иными глазами, чем большинство его сверстников.
Он, видимо, всерьез верил в то, что другим его коллегам, поклонникам «Комментариев»[672] Георгия Адамовича, было уже просто невыносимо, и, возможно, вел с Зинаидой Гиппиус особые разговоры с глазу на глаз, наедине.
Не могу отделаться от предположения, что он видел не реальную, а им самим сотворенную Зинаиду Гиппиус.
К созданной им «Зинаиде Гиппиус» он притягивался — и отталкивался от нее, «любовь-ненависть», столь дорогая людям символической эпохи, казавшаяся им чем-то чрезвычайно значительным, порой овладевала им, — и отношение В. Злобина к З. Гиппиус еще больше уходило в глубь его «нереальной реальности».
В книге его стихотворений, выпущенной в начале пятидесятых годов издательством «Рифма», «После смерти» есть прекрасное стихотворение, посвященное памяти «Д.М. и З.Г.» — «Свиданье» — о посмертной встрече.
После войны внешние обстоятельства сложились так, что мне не часто приходилось видеться с Владимиром Ананьевичем, но наши отношения с ним — не очень близкие, но дружественные — оставались все теми же, а о его новых стихах, появлявшихся в «Новом журнале», к моему удовольствию, всегда можно было высказываться положительно.
Год тому назад приблизительно мы встретились с ним в Париже в кафе на площади Трокадеро, и Владимир Ананьевич подробно рассказал мне о своей поездке в Америку, о чтении лекций и об интересе американских студентов к нашей зарубежной литературе — к Д. Мережковскому и З. Гиппиус, в частности.
Через несколько месяцев после этого я узнал о тяжелой болезни В. Злобина — как мне сказали, «безнадежной», а 9 декабря он скончался в госпитале Ville d’Evrard, куда был переведен из парижского госпиталя.
Очень хотелось бы, чтобы какое-нибудь издательство выпустило сборник стихов В. Злобина, написанных после его книги, изданной в «Рифме», — это было бы лучшим увековечением памяти поэта.
В.С. Яновский <Злобин в «Круге»>[673]
Раз, придя на заседание правления «Круга»[674], я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена — Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню, но возражать пришлось только мне, даже Федотов[675] только брезгливо отмалчивался.
— Помилуйте, — возмущался я. — Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг…
— Вы боитесь Злобина? — победоносно спрашивал Фондаминский, зная, что я отвечу. — Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин[676] еще соблазнится их речами да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин неопасен.
Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.
Так в 1939 году появился на этих собраниях заложник Мережковских — Злобин. Человек, вероятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни Мережковских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал «каверзные» вопросы, например, после доклада Керенского:
— Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер помимо эгоистических видов на Украину искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?
На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:
— Я допускаю такую возможность.
Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!
— Верховный главнокомандующий, — насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов. — Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны.
Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: «Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа…»[677] — Иванов неизменно объяснял:
— Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал.
Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке — он выбирал груши.
— Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши! — вопила она, уверенная в своей правоте.
В этот день обсуждалась тема очередного вечера «Зеленой лампы». Мережковский с обычным блеском сформулировал ее так: «Скверный анекдот с народом-богоносцем…»
К нашему удивлению, правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась:
— Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами, — заявила она. — А может быть, и стрелять начнем.
Но и либералы, эсеры, народники тоже запротестовали, узнав о предстоящем вечере, и пришлось уступить «общественному мнению» — из трусости.
Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным виновником этого падения старичков надо считать Злобина — злого духа их дома, решавшего все практические дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром. Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживем». Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. «В чем дело, — уговаривал Злобин. — Вы ведь утверждали, что Маркс — антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть — он антидьявол».
Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)
В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.
Мережковский не был в первую очередь писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя главным образом как актер, может быть, гениальный актер… Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его — это, разумеется, роль жреца или пророка.
Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова — Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чуял издалека острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествующе подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)
Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом… и аплодисментами. И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя «нутром», не всегда выучив роль и неся отсебятину — но какую проникновенную, слезу вышибающую!
Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гиппиус: единственное оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли «таинственные» силы, и он походил на отчаянно удалого наездника… Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?
Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер — героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).
— Вот, — заливается Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом. — Вот! От Жанны д’Арк до Виолетты Нозьер — это современная Франция.
— Ах, какой из него бы получился журналист! — не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда. — Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: «От Жанны д’Арк до Виолетты Нозьер».
Такими штучками — и в плане метафизическом — блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны д’Арк до Шарля де Голля — гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.
Демонизм — это когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной, всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.
Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.
Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста… и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.
Люди постарше, вроде Цетлина[678], Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет:
— Я всегда думал, что Христос не мог бы сказать о педерастах то, что себе позволил заявить апостол Павел.
— Вы будете вечером на Монпарнасе? — тихо спрашивают рядом.
— Нет, я сегодня в «Мюрат».
Мережковский начал с резкого декадентства в литературе. Он был дружен с выдающимися революционерами этого века, такими как Савинков. Считалось, что он боролся с большевиками и марксизмом, хотя во времена нэпа вел переговоры об издании своего собрания сочинений в Москве.
Затем он ездил к Муссолини[679] на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с дуче так:
— Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гёте: «Кто ты такой? Wer bist du derm?..» А он в ответ: «Пиано, пиано, пиано».
Можно себе представить, как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от раболепного восторга, что дуче тут же должен был его осадить: «Тише, тише, тише».
Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого Данте известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюфферле[680], переводивший и мои две итальянские книги: «Альтро аморэ» и «Эсперианцо американо». От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского.
Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини:
— Пишешь — не отвечают! Объясняешь — не понимают! Просишь — не дают!
И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам.
Мережковский сравнивал Данте с Муссолини и даже в пользу последнего: забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски.
Впрочем, вскоре поспел Гитлер, и тут родные гады откровенно зашевелились, выползая на солнышко из темных углов.
Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки. Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским… Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм — антихрист; антимарксизм — антиантихрист: quod erat demonstrandum! [Что и требовалось доказать — лат.]
О Муссолини он еще осведомлялся: кто ты есть?.. Но тут, с немцами, и спрашивать нечего: все понятно и приятно.
К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских. Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер в квартирке, украшенной образками св. Терезы маленькой, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, «совсем другие люди».
Иванов, конечно, пристроился к победному обозу и собирался наконец превратиться в отечественного поэта, кумира русской молодежи. Впрочем, думаю, что вполне уютно тогда чувствовал себя только один Злобин.
Злобин, петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими склонностями, заменил Философова в хозяйстве Мережковских. На мои недоумевающие вопросы Фельзен добродушно отвечал:
— Мне сообщали осведомленные люди, что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект…
И, снисходительно посмеиваясь, добавлял:
— Говорят, что Дмитрий Сергеевич любит подсматривать в щелочку.
Как бы там ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимою: холодом, голодом, болезнями… А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, пайки, специальный поезд Берлин — Москва, эпоха Третьего Завета, новая вселенская церковь и, конечно, полное издание сочинений Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики.
Догадки, догадки, догадки… Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном? Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горнего Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя.
Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:
— Cadavre! Cadavre! Cadavre! [Труп! Труп! Труп! — фр.].
Юрий Иваск. Владимир Злобин. После ее смерти[681]
За все годы эмиграции было напечатано едва ли больше 10–12 стихотворений Злобина. Теперь вышла его первая книга. И вот создается впечатление, что появился новый поэт, уже давно печатавшийся, но еще никем не узнанный. Встреча с ним — настоящая радость.
Конечно, это «петербургская школа» (Кузмин, Анненский). Но есть в ней звук, мотив — незнакомый, неожиданный. Да, Петербург кончился, провалился… Однако это не мешает Злобину как-то умудренно, бездумно принять жизнь. Почти благословить ее. Здесь — его своеобразие, еще не вполне проявившееся. И это хорошо — значит еще можно ждать от него многого. А вот лучшая его вещь:
В окне всё так же небо хмурится, Всё тот же кашель за стеной. А ты оденься и — на улицу, Да погуляй хотя б весной…Тут то легкомысленное простодушие, за которое следовало бы отпустить сорок грехов. У Злобина веселой нищетой преодолевается уныние (греховное!) и достигается свобода. Я верю ему, когда он говорит: «Буду… жрать картошку, счастья ждать и дождусь его наверно». В век концлагерей, бомб и сюрреалистических ужасов — такие слова — ободрение, ласка! Ведь давно пора чему-то довериться в жизни — наперекор фактам и литературе. Тогда легче будет выносить ужасы и, может быть, даже легче будет с ужасами бороться.
Вкус Злобину никогда не изменяет. Да, он настоящий петербуржец. И он мастер, который едва заметно, но очень существенно что-то изменил в стихах «петербургской школы». Слова, ритмы — знакомы. Но интонация — другая.
Когда-нибудь литературоведы этим займутся и, может быть, дознаются (и даже поймут!), в чем дело, в чем секрет Злобина (его творчества, его ремесла).
В заключение нельзя не отметить стихотворения «Свиданье» — памяти Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус. Это лучшее, что когда-либо о них сказано.
Ник. Андреев. Открытие поэта[682]
Владимир Злобин. После ее смерти. Стихи. Изд-во «Рифма», Париж, 1951
Имя В.А. Злобина в представлении читателей неразрывно связано с тем направлением русской мысли и слова, которое возглавлялось Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, к ним обычно присоединялось имя Д.В. Философова: богоискатели, утонченнейшие мастера и ценители «тайновидящего слова»; в плане общественном — пламенные отрицатели «грядущего хама», затем — большевизма. В.А. Злобин был в свое время редактором «толстого», но кратковременного парижского журнала «Новый корабль», был представителем в Париже варшавского еженедельника «активного направления» «Меч»; стихотворения его печатались за границей не часто.
После последней войны преимущественно «Новый журнал» стал помещать его поэтические произведения, возбудившие внимание своей эмоциональностью и чистотою отделки, — «петербургская школа стиха», по мнению ценителей. Но еще в 1951 году, оказывается, вышел сборник его стихов «После ее смерти». И таковы ненормальные условия эмигрантского книжного рынка, что только в конце 1953 года эта книжка попала на глаза пишущему эти строки.
Надо сказать откровенно: для читателя произошло подлинное открытие поэта. Уточним понятие. Есть немало умелых техников стиха (без техники, конечно, не существует стихов как субъекта литературы). Их произведения часто производят впечатление «в розницу», взятые сами по себе, но нередко, соединенные под обложкой сборника, они обнаруживают «поэтическое худосочие» автора, неоправданность его пристрастий, повторения, скудость словаря, ограниченность технических приемов и главное — отсутствие единого поэтического мировоззрения.
Сборник Злобина — во всем противоположен подобным «поэтическим техноидам». Он создан единым дыханием поэта, для которого — при всем разнообразии отдельных частных направленностей — есть главнейшая из главных тем: попытка преодолеть раздвоенность, которая возникла как следствие взмаха «двуострого меча» ангела, присланного «восстановить образ искаженный», ибо нужно не искаженное, а истинное единство «плоти» и «духа». Теме описания «раздвоенности» отдан ряд стихотворений — пожалуй, они наименее индивидуальны.
Любопытно, что Злобин совершенно не боится идти путем классических образцов, беря центральные образы даже у Пушкина и у Лермонтова, но каждый раз он производит освоение темы и образа, потому что умеет «остранить» и привычный образ и, казалось бы, в вариант старой темы внезапно ввести то словечко, ту «изюминку», которые полностью делают злобинским — и тему и все его поэтическое хозяйство. Таковы и начальные «Три ангела предстали…»:
Буду в сумерки бряцать Я на лире — очень скверно. Жрать картошку, счастья ждать. И дождусь его — наверно.Но кроме иронии у Злобина есть всегда мысль: он — по— видимому — чужд «глуповатой поэзии», «разрешенной» Пушкиным: недаром он из «племени Мережковского — Гиппиус». И эта мысль ценна, ибо в точном, ясном, внешне непритязательном, но таком ладном, весомом стихе она и одухотворяет его строфы, которые приобретают значительность своей небанальной мудростью. Таковы «Зеркала», «Душа моя, иль ты забыла», «Ее голос», замечательное «Где нет воды, прохлады, сырости», блестяще «сделанный» «Маятник» и особенно тончайшее «Почти не касаясь земли», где поистине ошеломительна в простоте и свежести мысли строка — «Но сердце не хочет ответа». Мысль переполняет страницы сборника, она пугает:
…плоскодонных Звуком вечной глубины(«Плоскодонные» — очень хорошая и, кажется, совершенно новая словесная находка.) Но мысль ни на мгновение не устраняет легкости стиха и эмоциональной непосредственности. В стихотворении памяти Мережковских — «Свиданье» — все строфы получают звучание благодаря последнему эпитету «райский» (вот подлинная «магия» поэта):
И те же им звезды являют Свою неземную красу. И так же они отдыхают, Но в райском Булонском лесу.В мастерских «Акробатах»:
Чудо райского полета — Смертных вечная мечта.В «Дружноселье» — «загорелые руки твои», «земляника спелая», «луна медовая» — придают ту лирическую непосредственность, которая затрагивает читательское восприятие, так же как строка из «В первый раз» — «На древний Псков сходящая весна».
Несмотря и на «томленье сонное», зовимое любовью, и догадку — «Ты на проклятом месте», у Злобина есть оптимистическая нота надежды, когда:
И на единое мгновение Сольются радость и печаль.К сожалению, надо признать, что стихотворение «Чудовище» остается непонятным и как бы выпадающим из общей столь человечно-личной поэтической стихии.
Сборник удачно открывает читателям поэта, как-то неслышно скользящего по миру, верного памяти о любви, пытающегося воссоздать лик «неискаженный» и победить даже смерть.
Ни совершенством, ни страданьем. Ни чистотой, ни красотой — Ты победишь ее слияньем — Любви небесной и земной.Мария Вега. Двуликая муза (О стихах Владимира Злобина)[683]
И он взмахнул мечом, и пал я, рассеченный И раздвоилось все…(В. Злобин)
Должен ли поэт критиковать поэта? Этот вопрос часто и горячо оспаривается — от собрата по искусству невольно ждут пристрастности, «созвучности» самому себе и т. д. Я отвечаю: безусловно, должен, потому что поэт слышит и видит в стихах ту странную, не называемую, незримую их сущность, которая герметически закрыта для непосвященного, будь у этого непосвященного сколько угодно начитанности, эрудиции, библиотечной пыли на волосах и так называемого sens artistique* [Художественное чутье (фр.).], которым якобы обладают профессиональные критики. Какой поэт точно определит во что, собственно, он посвящен? Только, пожалуй, в тайну «звучания», — Блок старался увидеть на своем столе стеклянную цаплю, и, когда она появлялась, рождался стих, — звучание, и на дне безысходной бетховенской глухоты звучала та музыка, которая переживет и нас, и нашу планету.
Вот когда вы сами задеты звучаньем-ветром из безымянного Оттуда, то вы можете считать себя вправе писать о чужих стихах и, даже если написанное покажется читателю неудачным, оно всегда, будет ближе к правде, чем, скажем, те литературные произведения, в которых авторы (чаще авторши!) преподносят нам биографию Чайковского, не будучи сами посвященными ни на одну миллионную долю в тайну его звучания, а следовательно, ни в его психологию, ни в физиологию.
Можно написать тысячу отличных стихотворений, и среди них затеряется одно неуклюжее, хромое, похожее на птенца, не умеющего летать, но это одно и окажется настоящим, и глубоко взволнует, а остальные, по всем достоинствам оцененные критиками, так и останутся для шестого (или девятого, или двадцатого?) чувства поэта — только виртуозной игрой.
Потому-то все те, кто ветром задет, упрямо отстаивают то или иное, свое или чужое стихотворение, про которое «непосвященные» эрудиты «es belles lettres»* [Изящная словесность (фр.).]с уверенностью заявляют, что оно ничего из себя не представляет по сравнению с другими.
Заснул я, и снился мне Томительный сон во сне. Холодная ночь. Неверный, Как будто отравленный свет. Я в низкой пещере… Иль нет, — В таверне. Но вид пещерный. Пещерный он оттого, Что сон мой под Рождество. Над ложем старик склоненный. Безмолвен, смиренно-суров. Рассвет. Ни звезды, ни волхвов. Младенец мертворожденный.Знает ли сам Злобин, что из всех его стихотворений это — самое насыщенное, самое озаренное отравленным, неверным светом, в котором раздваиваются и сам он, и его жизнь, и лира, которая то лежит, разбитая, –
…И то, что любовь сочетала. Крепка, широка, глубока, Свистящим мечом рассекала Ревнивая чья-то рука. И вот, обречен на безделье, Как пленник, сижу, одинок. Сиянье. Холодная келья. Разбитая лира у ног…то снова звучит в той же келье:
Я такой хотел бы дом, Одинокую квартиру, Чтобы можно было в нем Хоть в углу поставить лиру. ………………………………. Буду в сумерках бряцать Я на лире…Раздвоенность во всем. Двойник. Близнец. Бог темный. Бог светлый. Вера. Неверье. Поиски любви и бегство от нее. Реальность и сны, среди которых бродят «два брата акробата»:
Мы два брата акробата, Два взъерошенных чижа. Разделен чертой каната Мир, как молнией ножа. Между знаньем и незнаньем, Невесомые, как дым, По канату с замираньем Мы над пропастью скользим.Чувствуется ли в этой раздвоенности жажда слияния? Нет! Злобинская муза может быть только двуликой, она живет раздвоением и постоянной тревогой, хочет покоя и тут же радостно себе отвечает:
Нет покоя!..Зовет любовь и, когда слышит от нее «Я жду», отвечает:
Не пришла, и сердце радо. Никогда не приходи. Высока моя ограда, Бесконечность впереди,твердит в тоске:
В слезах спасение,чтобы, испугавшись спасения, крикнуть:
Но ни раскаянья, ни слез!Его музе одинаково нужны верх и низ, ангелы и чудовища, нежно-розовая луна, к которой тянутся тюльпаны, и луна с лицом «небритой ведьмы», дрожащая среди рваных облаков. И, если она выберет какую-нибудь определенную дорогу, освободившись от двойника, то не замолчит ли, окончательно разбив лиру?
В противоположность Злобину, ищущему между строк лицо автора: «Стихи сами по себе, стихи, как таковые, отдельно от человека, их пишущего, мало меня интересуют, — говорит он в своей статье о В. Смоленском («Возрождение», тетр<адь> 70), — я не ищу за стихами никакого лица. Стихотворение само по себе, как таковое может поразить, пронзить, и для меня поэзия так же таинственна, как таинственна музыка. Оба эти искусства проходят через людей, как через радиоприемники — передатчики ЗВУКА, и меня волнует ЗВУК, но не марка аппарата, не его сложный механизм, винты и антенны».
Что же взволновало меня в Злобине, помимо качеств стиха, — а качеств у него много, и среди них нельзя не отметить уверенного владения ямбом и прекрасного слуха, не допускающего никаких ошибок фонетики?
Раздвоенность — тема не новая, борьба добра со злом тоже не сегодня придумана, зависит, какими словами о ней говорить, ведь важно не «что», а «как» (Злобин не задумывается над избитостью темы, когда пишет о звезде в окне, и совершенно прав), есть в его стихах тот провал в небытие, тот младенец мертворожденный, которого провидит не сам он, а его муза, и к этому провалу мы подходим постепенно, через отдельные ноты, отдельные музыкальные фразы, грозно звучащие то здесь, то там.
Вот, слушайте, близнецы приближаются к слиянию:
С младенцем нежным, чуть не с люльки, Связался черт, и сам не рад. То подавай ему свистульки, То барабан, то шоколад. Младенец плачет и смеется, Недавний вспоминает рай, И черт несчастный, как ни вьется, А райских слуг изображай. Потом, без всякого уж толка (Однако черт ничуть не зол), Хромого представляя волка, На четвереньки и под стол! Так дни бегут. Растет младенец, Стареет незаметно бес. Теперь он страшен, как чеченец. Но зверь лицом — душой воскрес. А страж-хранитель, что в загоне, Слетев с заоблачных высот, Смиренно-тих, как на иконе, Ему свой меч передает…и дальше, — развитие темы:
Лишь дойдя до крайнего предела, Где душа испепеляет тело, Где добро и зло — одно и то же И любовь на ненависть похожа, Только в час, когда теряешь веру, Ты найдешь божественную меру, Двух миров согласную природу. ……………………………………Признав согласность двух миров, остается шаг до слияния. Двуликая муза не может не признаться в том, что близок, отчаянно близок провал в небытие, и теряет себя в лабиринте сна:
О снах молчи! Знай, сна не рассказать, Не выразить ни радости, ни боли, Волшебный этот свет как передать, Что обновляет душу поневоле? Иль тот, другой, чей незаметный след Опасен, как смертельная зараза? О ничего в нездешнем мире нет, Доступного для уха иль для глаза. Как объяснить, чем страшен этот сон, Сам по себе такой обыкновенный, Что с детства, с незапамятных времен, Мне снится, повторяясь неизменно? Все тот же полукруглый коридор, И я иду, не смея оглянуться. Но главное: мне снится до сих пор, Что я заснул и не могу проснуться.В слиянии — гибель, а не спасение. Тема провиденного Люцифера тоже стара, но все, кто ее затрагивали, прельщенные образом бога тьмы, тоскующего о потерянном рае и вновь его обретающего, останавливались на слиянии двух начал, с соответствующим хором небесных сил и немолчной осанной от края до края вселенной. Что и говорить — соблазнительно и для поэтов, и для художников, и для композиторов! О дальнейшем молчали и молчат. И ни у одного поэта, каким бы он ни был провидцем, мы не читали:
О совершенство окаянное! Ни пробужденья в нем, ни сна, Как будто в озеро стеклянное Моя душа погружена. Победное оцепенение, Тысячеградусный мороз…или (в другом стихотворении):
Пустот неподвижных громады, Бессмысленных цифр торжество, И нет ни конца, ни пощады, Ни зла, ни добра. Ничего!Теперь еще один шаг, последний, и мы подходим к тому, что по своей художественной сжатости и яркой точности каждого звука является совершенством стиха:
ДВЕРЬ
О если б знать! Но знать не надо. Не любопытствуй! Не дано. Вот сад, а за оградой сада Чтоб ни случалось, — все равно. И кто б там ни был, — дети, звери, Какой ни чудился бы рай, Не приближайся к низкой двери, Ключа к замку не подбирай. И даже будь она открыта, Остерегайся, не спеши: Пустырь. Козлиное копыто. И духота. И ни души.Два близнеца — катод и анод. Стремятся друг к другу — слились — молния — и гибель. Конец. Там тысячеградусный мороз, окаянное совершенство, не надо подбирать ключа к замку! Раздвоенная муза это знает и этого боится. Там, за чертой, по которой скользят акробаты, лежит бездыханный стих — младенец мертворожденный. И она, как бы оправдывая свое право на жизнь, бросает вызов:
Люблю, и все! Кому какое дело, Кого, давно ль, за что и почему, И что сильнее — душу или тело, Добро иль зло, сиянье или тьму?Потому что она и горячая и холодная, но не теплая (не та, которую «извергну из уст Моих»), Она любит; и любовь ее безразлична и равнодушна (как глубоко меняется смысл от одного тире!).
Нет, еще не смежаются веки, Подбирается смерть не спеша. Расставаться не хочет навеки С умирающим телом душа. Задержалась на темном пороге. Как прекрасен приснившийся мир, И на землю сходящие боги, И бряцанье торжественных лир. Океан без конца, без начала, И над ним — первозданная мгла. Эта башня в ущелье Дарьяла, Где царица Тамара жила. Этих слез неземное сиянье, Повторенное эхом «прости». Эта нежность, которой названья Все равно никогда не найти.Представим себе на одну минуту, что «ревнивая рука», о которой пишет Злобин, разлучит навсегда двух близнецов и они, разлетясь в разные стороны, потеряют друг друга. Одному из них достанется дорога темная, другому светлая. Окрепнет ли светлый близнец, научит ли он нас чему-нибудь, поведет ли к Богу — не с тем, чтобы в конце пути найти объятие, прощение и то страшное слияние, за которым зияет пустота с висящими в черном холоде мертвыми планетами, а вечная борьба и стремление к победе над злом, посаженным на цепь, но не прощенным, — это гадательно и может быть, — но только может быть, — нужно тем, кто ждет от поэта высокой миссии пастыря душ: есть рядом с ними и другие, ничего от стихов не ждущие, кроме той музыки, того непостижимого ветра Оттуда, ветра подлинного вдохновения и подлинного искусства, который сам по себе, одним своим звучанием, уводит нас на ту или иную дорогу. Возможно, что Злобин, когда пишет стихи, «не ведает, что творит», и в этом заслуга его совсем особенной лиры, обостренно восприимчивой к каждому легчайшему дуновению, неуловимому для других. Не это ли и называется большим талантом?
Б. Нарциссов. В. Злобин. Тяжелая душа[684]
Изд. Русск<ого> книжн<ого> дела В. Камкина. Вашингтон. 1970 (141 стр.)
Чужая душа — потемки. Кроме души поэта, который освещает свою душу словом изнутри — и для себя, и для других. В этом — слово и дело поэта. И, пожалуй, душа в этом деле важнее слова: хитросплетенные слова читатели прочитают, почитают, подивятся, а потом забудут, если эти слова — без соответственного душевного покрытия. Но что делать, если душа поэта тяжелая, темная, может быть, темная прежде всего для него самого? Тогда нужно, чтобы кто— то, кто эту душу знает до потайных ее уголков, объяснил нам «самое Главное» в этой «тяжелой душе».
Именно таким объяснением является книга В. Злобина о Зинаиде Гиппиус. Автор был близким другом четы Мережковских. Видно, что он любил этих двух своеобразных и столь разных людей; но книга написана с любящей беспощадностью. Почему был беспощаден В. Злобин к самым интимным сторонам тяжелой души поэта Зинаиды Гиппиус? Да потому, что поэту нужно быть беспощадно откровенным с самим собой, а поэт Зинаида Гиппиус, чрезвычайно щедрая на слова и в письмах, и в дневниках, заботливо скрыла за этими обильными словами свое «самое Главное». Зинаиду Гиппиус нельзя упрекнуть в многословии в стихах: ее стихи отточены по форме, с заострением главной мысли, часто по-лермонтовски соединяющей два противоположных момента. Но зашифрованы эти стихи как секретная дипломатическая корреспонденция. Прежде всего, почти все стихотворения написаны в мужском роде. Они абстрактны: в них очень много от ума. Но в них чувствуется также напряженная — и заботливо скрытая — эмоциональность.
В свое время Зинаида Гиппиус была заметным представителем Серебряного века: отдавали должное ее оригинальности (и упрекали в оригинальничанье) и очень считались с ее острым языком в критических статьях, подписанных псевдонимом Антон Крайний, но все же не ставили ее стихов вровень со стихами поочередно сменявшихся «властителей дум»: Бальмонта, Брюсова, Белого, Блока.
Но теперь наступает переоценка ценностей и возникает интерес и к стихам, и к личности этого поэта. Здесь достаточно указать на работы Темиры Пахмус, на публикации отрывков из дневников и прозы самой З. Гиппиус. В. Злобиным дано перечисление работ о З. Гиппиус в предисловии к книге.
Злобин без обиняков называет стихи Мережковского слабыми. А про Гиппиус говорит: «Но главное — стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них вся ее жизнь, без прикрас, со всеми срывами и взлетами. Но надо уметь их прочесть.
Если нет к ним ключа, лучше не трогать: попадешь в лабиринт, из которого не выбраться».
Что же скрывалось за сугубой интеллектуальностью несомненно хороших стихов Гиппиус, стихов, которым не хватает — внешне — доводящей их до читателя эмоциональности?
Злобин рассказывает нам об этой буре «за зеркалами». Книга вскрывает отношения Гиппиус к мужу, Димитрию Мережковскому, к любимому ей Димитрию Философову и ее религиозные устремления — в которых ее «тяжелая душа» как-то смешивала образ Христа и добра с образом дьявола и зла. Пусть то и другое кажутся нам теперь путаньем в словах, интеллектуальным фантазированием, но для самой Гиппиус эти фантазии были источником самого реального страданья. Должно ли и можно ли рассказывать все это, пользуясь не только стихами и мемуарами, но и дневниками и письмами?
В предисловии Злобин касается этого вопроса, своих сомнений и своего решения все-таки поведать читателю то, что ему самому известно. Он принимает решение: «…невзирая на критику, по существу благожелательную, моя книга о Гиппиус выйдет без единой купюры, и ни одного слова не будет из нее выкинуто или заменено другим».
Здесь можно только наметить основные линии повествования Злобина о «тяжелой душе»: прежде всего Зинаида Гиппиус была натурой не только интеллектуальной, но и наделенной страстью доминировать. И ее встречи и с Димитрием Мережковским, и с Димитрием Философовым были, как она сама их определила, «провиденциальными». Она искренне и сильно любила — обоих и одновременно. Оба они были как раз ее прямыми дополнениями, но по-разному, — натурами слабовольными и пассивными. Злобин утверждает, что Мережковский, обладавший колоссальной эрудицией и неутомимой книжной работоспособностью, получал свои основные религиозно-философские идеи от Зинаиды Гиппиус, причем она умело оставалась в тени. Философова же надо было «обращать в свою правду» и «спасать» — и от него же самого, и от его двоюродного брата Дягилева, и от Савинкова, и от постоянного желания Философова освободиться от влияния Гиппиус. Это — в плоскости житейской.
В плоскости же религиозной — выплывает лик дьявола, черта — или Демона? Недаром в стихах Гиппиус проскальзывают нотки из Лермонтова. Злобин задает вопрос: а была ли счастлива Тамара потом, в раю, без своего Демона? И вот Тамара — или Зинаида? — хочет оправдания дьявола и объяснения его сущности. Здесь Злобин воссоздает исходную точку чувства «тяжелой души»: «…ибо не в спасении дьявола тайна, а в его падении, в том, почему он пал, кто он на самом деле. Этим все решается». В одном из своих рассказов («Он — белый», в сборнике «Лунные муравьи») З. Гиппиус дает свой ответ: в начале мира дьявол добровольно взял на себя бремя зла. Здесь Злобин говорит: «Это, собственно, даже не догадка, а мечта. И мечта опасная. Но Гиппиус, по-видимому, не сознавала того, что делает, потому что ее белого дьявола нельзя не любить». По словам Злобина, в религиозно-философских кружках Петербурга Гиппиус звали: «Белая дьяволица».
Тамара «…страдала и любила, И рай открылся для любви». З. Гиппиус в письме к Философову: «…а это холод — холод сгущенного воздуха, и бытие — как бытие в Дантовом аду, знаешь, в том ледяном озере…» Тут ад «открылся для любви». А вот и стихи:
Будь счастлив, Дант, что по заботе друга В жилище мертвых ты не все узнал, Что спутник твой отвел тебя от круга Последнего. Его ты не видал. И если б ты не умер от испуга, Нам все равно о нем бы не сказал.Комментарий Злобина: «Из этого явствует, что в ад она заглянула глубже, чем Дант. О том же, что ей в последнем круге открылось, она молчит». Что остается нам, читателям? Мы не судьи, мы читатели. Нам остаются стихи. Книга Злобина открывает нам душу написавшего их поэта.
Примечания
1
Гиппиус З. Дневники: В 2 т. Т. 2. М.: Интелвак, 1999. С. 137.
(обратно)2
Там же. Т. 2. С. 319, 320.
(обратно)3
Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Владимир Злобин. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос; Третья волна, 1987. С. 35.
(обратно)4
Марченко Т.В. Несостоявшаяся Нобелевская премия // Литературоведческий журнал. М.: ИНИОН, 2001. № 15. С. 92.
(обратно)5
Цит. по: Сергеев О.В. Статья В. Злобина о З.Н. Гиппиус / Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5–6. С. 327.
(обратно)6
Яновский В.С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 124.
(обратно)7
Сергеев О.В. С. 327.
(обратно)8
Гиппиус З. Дневники. Т. 2. С. 319, 320.
(обратно)9
Гиппиус З. Дневники. Т. 2. С. 431.
(обратно)10
Там же. С. 286.
(обратно)11
Марченко Т.В. Несостоявшаяся Нобелевская премия. С. 88.
(обратно)12
Цит. по: Сергеев О.В. С. 328.
(обратно)13
Нарциссов Б. Новый Журнал. 1972. № 107. С. 294.
(обратно)14
Снытко Н.В. Серое с красным. (Дневник Зинаиды Гиппиус 1940–1941 гг.) // Встречи с прошлым. М.: Русская книга, 1996. Вып. 8. С. 361.
(обратно)15
Снытко Н.В. Серое с красным. С. 361.
(обратно)16
Гумилев Н. Сочинения: В 3 т. Т.З. Письма о русской поэзии. М.: Художественная литература, 1991. С. 164–165.
(обратно)17
Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 60.
(обратно)18
Иваск Ю. Владимир Злобин. После ее смерти. Опыты. 1953. № 1. С. 197.
(обратно)19
Казак. В. Лексикон русской литературы XX века. М., 1996. С. 154.
(обратно)20
Впервые: Возрождение. 1956. № 53.
(обратно)21
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — прозаик, поэт, драматург, философ, публицист, критик, переводчик. Теоретик и один из вождей русского символизма. С 1919 г. в эмиграции.
(обратно)22
Гитлер Адольф (наст. фам. Шикльгрубер; 1889–1945) — руководитель Национал-социалистической партии (с 1921 г.), глава германского фашистского государства (с 1933 г.).
(обратно)23
«Ведомство пропаганды» (англ.).
(обратно)24
«Леонардо» — роман Мережковского «Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи)» (1900), ч. 2 трилогии «Христос и Антихрист».
(обратно)25
«Europe face a l’URSS» («Европа смотрит на СССР») — переиздание статьи под новым названием из коллективного сборника Мережковского, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философова и Злобина «Царство Антихриста» (Мюнхен, 1921, на нем. яз.; 1922, на рус. яз.).
(обратно)26
«Царство Антихриста» (фр.).
(обратно)27
Пий ХI (в миру Акилле Ратти; 1857–1939) — Папа Римский с 1922 г.
(обратно)28
Немезида — в греческой мифологии богиня возмездия.
(обратно)29
Бевин Эрнест(1881–1951) — в 1945–1951 гг. министр иностранных дел Великобритании.
(обратно)30
Эттли Клемент Ричард (1883–1967) — в 1945–1951 гг. премьер- министр Великобритании.
(обратно)31
Тэффи Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая, в замуж. Бучинская; 1872–1952) — прозаик, поэт, критик, драматург. С конца 1919 г. в эмиграции в Париже.
…в следующей своей статье — о З.Н. Гиппиус — смягчает… — В очерке «Зинаида Гиппиус» Тэффи, в частности, пишет: «Вот уж действительно, никто не посмеет сказать, что Мережковские «продались» немцам. Как сидели без гроша в Биаррице, так и вернулись без гроша в Париж. Снисходительность Мережковского к немцам можно было бы объяснить только одним — «хоть с чертом, да против большевиков». Прозрение в Гитлере Наполеона затуманило Мережковского еще до расправы с евреями. Юдофобом Мережковский никогда не был» (Возрождение. 1955. № 43).
(обратно)32
«Юлиан» — исторический роман Мережковского «Смерть богов. (Юлиан Отступник)» (1895), ч. 1 трилогии «Христос и Антихрист».
(обратно)33
«Божественная Комедия» (1307–1321) — поэма итальянского поэта Данте Алигьери.
(обратно)34
Смердяков — персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880), символ иезуитства и лакейства.
(обратно)35
Фритьоф Нансен, ходатай по делам большевиков… — Норвежский исследователь Арктики Ф. Нансен (1861–1930) в 1921 г. был одним из активных организаторов помощи голодающим Поволжья. Лауреат Нобелевской премии (1922).
(обратно)36
Лига Наций — международная организация (учреждена в Женеве в 1919 г.), целью которой было развитие сотрудничества между народами и гарантия мира и безопасности. Распущена в 1946 г.
(обратно)37
Кашен Марсель (1869–1958) — один из основателей (1920) Французской коммунистической партии. В 1918–1958 гг. директор газеты «Юманите».
(обратно)38
Горького, который обращается к миру с воззванием… — Имеется в виду воззвание М. Горького «Честные люди» с просьбой помочь голодающей России. «Воззвание Горького, — пишет в мемуарах бывший его друг и сподвижник А.В. Амфитеатров, — несомненно, одно из бестактнейших и неудачных выступлений этого несчастного человека, чья вся жизнь теперь сложилась в анекдот политической двусмысленности. Какой-то старинный жонглер, Блонден, что ли, изображался на своих рекламах идущим по канату, держа в руках две чаши с курящимся фимиамом — и направо, и налево. В таком роде позицию занимает сейчас и Горький: с его вечною высокомерною декламацией о культуре — к утешению страждущей интеллигенции; и с его прочною дружбою и послушным сотрудничеством с самыми антикультурными силами большевизма, которые эту страждущую интеллигенцию душат, чтобы не сказать — уже задушили. <…> Призыв его, обращенный к европейскому миру, произвел в петроградском обществе сенсацию весьма отрицательную. Одно из двух: либо не просить милостыни, либо, если уж на то пошло, не плюй в колодцы, из которых собираешься воду пить. А тут — Бог знает что! Стоит человек на европейской паперти, протягивает руку за подаянием, а в другой держит камень, а языком ругательски ругает просимого доброхотного дателя. Неприглядная картина какого-то кладбищенского нищенства» (Амфитеатров А. В. Горестные заметы. Очерки красного Петрограда. Берлин: Грани, 1922. Цит. по изд.: Собр. соч.: В 10 т. М.: НПК «Интелвак»,2003.Т. 10. Мемуары. Кн. 2. С. 524). Блонден Шарль (1824–1897) — знаменитый французский акробат, совершавший в 1855–1866 гг. переходы по канату над Ниагарским переходом.
(обратно)39
Гауптман Герхарт (1862–1846) — немецкий драматург, прозаик. Лауреат Нобелевской премии (1912).
(обратно)40
…после поездки в Россию Герберта Уэллса и его книги… — Английский прозаик-фантаст Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) приезжал в Россию в 1914,1920 и 1922 гг. После второго посещения издал книгу «Россия во мгле» (1920, первый рус. пер. — София, 1921), в которой многие страницы посвящены беседам с Лениным о будущем России. Книга вызвала возмущение русских эмигрантов. Два отклика-протеста опубликовал И.А. Бунин: «Суп из человеческих пальцев. Открытое письмо к редактору газеты “Таймс”» (Свободные мысли. Париж. 1920.27 сент., № 2) и «Несколько слов английскому писателю» (Общее дело. Париж. 1920.24,25 ноября. № 132, 133). «Стыдно, — пишет Бунин, — что знаменитый писатель оказался в своих суждениях не выше любого советского листка, что он без раздумья повторяет то, что напел ему в уши Горький, хитривший перед ним и для блага Совдепии, и для приуготовления себе возможности бегства из этой Совдепии, дела которой были весьма плохи в сентябре. Я обязан сказать, кроме этого, еще и то, что я, не 15 дней, а десятки лет наблюдавший Россию и написавший о ней много печального, все-таки от души протестую против приговоров о ней гг. Уэллсов».
Еще более резкой была отповедь Мережковского в его «Письме Уэллсу» (Последние новости. Париж. 1920.3 дек., № 189; Свобода. Варшава. 1920. 12 дек., № 125). «Вы полагаете, — писал он, — что довольно одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства. <…> Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою «спасает» Горький? Ценою оподления — о, не грубого, внешнего, а внутреннего, тонкого, почти неисследимого. Он, может быть, сам не сознает, как оподляет людей. Делает это с «невинностью». <…> Он окружил себя придворным штатом льстецов и прихлебателей, а всех остальных — даже не отталкивает, а только роняет, — и люди падают в черную яму голода и холода. Он знает, что куском хлеба, вязанкою дров с голодными и замерзающими можно делать все что угодно, — и делает. <…> «Всемирная литература», основанная Горьким, «величественное» издательство, восхищает вас, как светоч просвещения небывалого. Я сам работал в этом издательстве и знаю, что это — сплошное невежество и бесстыдная спекуляция. <.. > Вас умиляют, а меня ужасают основанные Горьким «Дом науки» и «Дом искусств» — две братские могилы, в которых великие русские ученые, художники, писатели, сваленные в кучу, как тела недобитых буржуев, умирают в агонии медленной. <…> Горький — «благодетель» наш. И не я один, а все русские писатели, художники, ученые, когда снимут веревку с их шеи, скажут вместе со мною: будь они прокляты, благодеяния Горького!
Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех большевиков — хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и растлевает души.
В Москве изобрели новую смертную казнь: сажают человека в мешок, наполненный вшами. В такой мешок посадил Горький душу России».
(обратно)41
Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из лидеров либеральной партии.
(обратно)42
Шоу Бернард (1856–1950) — английский драматург.
(обратно)43
Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт-символист.
(обратно)44
Эррио Эдуар (1872–1957) — премьер-министр Франции в 1924–1926 и 1932 гг. Его правительство в 1924 г. установило дипломатические отношения и в 1932 г. подписало договор о ненападении с СССР.
(обратно)45
Пуанкаре Раймон (1860–1934) — президент Франции в 1913–1920 гг., премьер-министр в янв. 1912–1913,1922—1924и 1926–1929 гг. Один из организаторов интервенции в период Гражданской войны в Советской России.
(обратно)46
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — критик, публицист, драматург. С 1917 г. нарком просвещения.
(обратно)47
Коминтерн — Коммунистический интернационал, международная организация, объединявшая компартии разных стран. Основан в 1919 г., распущен в 1943 г.
(обратно)48
…конференции в Рапалло. — В 1922 г. во время Генуэзской конференции в итальянском городе Рапалло подписан советско-германский договор о восстановлении дипломатических отношений.
(обратно)49
Конкордат — договор между Римским Папой и каким-либо государством, регулирующий положение Католической Церкви в данном государстве.
(обратно)50
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — нарком иностранных дел в 1918–1930 гг.
(обратно)51
«Союз русского народа» (1905–1917) — общероссийская партия русских националистов и монархистов.
(обратно)52
Атлантида — апокалипсический образ гибели Европы из книги Мережковского «Тайна Запада: Атлантида — Европа» (Белград, 1930). В основе образа — древнегреческое предание о процветающем густонаселенном острове в Атлантическом океане, опустившемся на дно после сокрушительного землетрясения.
(обратно)53
Антропофагия — каннибализм.
(обратно)54
В часы неоправданного страданья… — Из стих. З.Н. Гиппиус «Тише!» (1914).
(обратно)55
Лариса. Возрождение. 1957. № 63.
(обратно)56
Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) — поэт, драматург, публицист. Комиссар Генерального штаба военно-морского флота республики с декабря 1918 до июня 1919 г. Автор очерковых книг «Фронт» (1924), «Уголь, железо и живые люди» (1925), «Афганистан» (1922–1925).
(обратно)57
Порция водки.
(обратно)58
…через ее отца… — Михаил Андреевич Рейснер (1868–1928) — правовед, социолог, публицист, профессор права в Петербургском университете. После 1917 г. президент Российской академии наук. В 1915–1916 гг. издавал (с дочерью) журнал «Рудин».
(обратно)59
Будда (санскр. просвещенный) — имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э.), индусу из племени шакьев.
(обратно)60
Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, оказавший большое влияние на развитие европейской культуры.
(обратно)61
«Богема» (СПб., 1915) — журнал кружка молодых поэтов, основанный по инициативе Л.М. Рейснер.
(обратно)62
Лозина-Лозинский Алексей Константинович (полн. фам. Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский; 1886–1916) — поэт, прозаик, критик.
(обратно)63
…в книжном магазине Вольфа… — Имеется в виду магазин издательского товарищества (1882–1918), основанного в Петербурге Маврикием Осиповичем Вольфом (1825–1885).
(обратно)64
Яворская Лидия Борисовна (урожд. Гюббенет, в замуж. Барятинская; 1872–1921) — актриса, антрепренер «Нового театра», дававшего спектакли в Петербурге с 15 сентября 1901 г. по 12 февраля 1906 г. В 1915 г. снова попыталась открыть свой театр в Петербурге, но после нескольких спектаклей он был закрыт. С 1918 г. в эмиграции в Лондоне.
(обратно)65
Раскольников Федор Федорович (наст. фам. Ильин; 1892–1939) — политический и военный деятель, дипломат, литератор. В 1919–1921 гг. командующий Волжско-Каспийской флотилией и Балтийским флотом. С 1921 г. на дипломатической работе. Автор «Открытого письма Сталину» (1939) с обвинениями его в массовых репрессиях. Погиб в Ницце при невыясненных обстоятельствах (по одной из версий, убит агентами НКВД).
(обратно)66
Поэт нашего времени. В. Смоленский.
Возрождение. 1957. № 70. Очерк посвящен итоговой книге поэта, участника Белого движения Владимира Алексеевича Смоленского (1901–1961) «Собрание стихотворений» (Париж, 1957). С 1920 г. — в эмиграции. Был близок группе «Перекресток». Некоторое время возглавлял Союз молодых поэтов и писателей в Париже. Первый сборник стихов «Закат» (1931), второй «Наедине» (1938).
(обратно)67
Останься пеной, Афродита… — из стих. О.Э. Мандельштама «Silentium» (1910, 1935).
(обратно)68
«Священное косноязычье» — восходит к библейскому сюжету о том, как Моисей обратился к Господу с жалобой, что он «не речистый», ему тяжело говорить с рабами, ибо он «тяжело говорит и косноязычен». Тогда рассерженный Господь назначил говорить Аарона: «И будет говорить он вместо тебя к народу… он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога» (Исх. 4:10–16). См. у А. Ахматовой в стихотворении «Косноязычно славивший меня..(1913) и Н. Гумилева «Восьмистишие» (1915): «Великое косноязычье//Тебе даруется, поэт».
(обратно)69
Алданов Марк Александрович (наст. фам. Ландау; 1886–1957) — прозаик, драматург, критик, литературовед, публицист, историк. Автор популярных исторических романов. В эмиграции с марта 1919 г.
(обратно)70
Толстой Лев Николаевич (1829–1910), граф — писатель.
(обратно)71
Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891–1966) — поэт, драматург, критик. Участник Первой мировой войны и Белого движения. В эмиграции с 1920 г. В Берлине редактор отдела поэзии журнала «Сполохи» (1921–1923), сотрудник газеты «Накануне» и редактор издательства «Манфред». С 1933 г. в Париже. Во время Второй мировой войны участник французского Сопротивления. В 1944 г. был арестован нацистами и провел 10 месяцев в заключении. Печатался в газетах «Советский патриот» (1945–1948) и «Русские новости» (1945–1970). С 1953 г. в США.
(обратно)72
Антон Крайний — основной псевдоним З.Н. Гиппиус-критика.
(обратно)73
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. С июня 1922 г. в эмиграции. В 1927–1939 гг. возглавлял литературно-критический отдел в парижской газете «Возрождение».
(обратно)74
Люцифер — в христианской мифологии падший ангел, дьявол.
(обратно)75
Сологуб Федор (наст. фам. и имя Тетерников Федор Кузьмич; 1863–1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.
(обратно)76
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — философ, публицист, эссеист.
(обратно)77
«Опавшие листья» — две книги философско-исповедальных эссе («Короб первый», 1913 и «Короб второй», 1915), составляющих с книгой «Уединенное» (1912) автобиографическую трилогию В.В. Розанова.
(обратно)78
Он испытует — отдалением… — 1-я строфа стих. Гиппиус «Белая одежда» (1902).
(обратно)79
Что мы служим молебны… — Начальные строфы стих. Ф. Сологуба без названия (1902).
(обратно)80
С.К. Маковский — поэт и человек. Возрождение. 1958. № 79.
Маковский Сергей Константинович (1877–1962) — поэт, критик, искусствовед, мемуарист, издатель. Сын живописца К.Е. Маковского. Один из основателей и редакторов журналов «Старые годы» (1907–1915) и «Аполлон» (1909–1917). В эмиграции с 1920 г. В 1926–1932 гг. заведовал литературно-художественным отделом парижской газеты «Возрождение». Автор мемуарных книг «Портреты современников» (1955) и «На Парнасе Серебряного века» (1962).
(обратно)81
Брандес Георг (1842–1927) — датский литературовед и критик. Основной труд «Главные течения в европейской литературе XIX века» (т. 1–6; 1872–1890).
(обратно)82
Елена — Елена Константиновна Маковская (в замуж. Лукш-Маковская; 1878–1967), живописец, график, скульптор. Дочь К.Е. и сестра С.К. Маковских.
(обратно)83
Маковский Константин Егорович (1839–1915) — живописец-портретист, создатель жанровых картин и полотен на исторические темы.
(обратно)84
Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.) — римский поэт. Автор героического эпоса «Энеида» о странствиях троянца Энея.
(обратно)85
…далеко не легкую книгу Милля и философии Гамильтона. — Имеется в виду «Рассмотрение философии сэра Вильяма Гамильтона» (1865, рус. пер. 1869) Джона Стюарта Милля (1806–1873), английского философа-позитивиста, экономиста, идеолога либерализма, автора известных двухтомников «Система логики» (1843) и «Основания политической экономии» (1848). Вильям Гамильтон (1788–1858) — английский философ.
(обратно)86
Галич Леонид Евгеньевич (наст. фам. Габрилович; 1878–1953) — критик, публицист, поэт. Эмигрировал после 1918 г. в Париж. В 1930-х гг. переехал в США.
(обратно)87
Дымов Осип (наст, имя и фам. Иосиф Исидорович Перельман; 1878–1959) — прозаик, драматург, журналист. С 1913 г. в США. Автор романа «Томление духа» (1912), в котором узнаваемы Мережковский, Сологуб, Горький, и мемуаров «Что я помню» (т. 1–2. Нью-Йорк, 1943–1944).
(обратно)88
Семенов (Семенов-Тян-Шанский) Леонид Дмитриевич (1880–1917) — поэт. В 1907 г. стал странником-богоискателем. Убит бандитами в Рязанской губернии.
(обратно)89
Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960) — юрист, журналист, возглавлявший петербургское отделение газеты «Русское слово».
(обратно)90
…первая книга стихов Маковского. — «Собрание стихов» (кн. 1. СПб., 1905).
(обратно)91
Случевский Константин Константинович (1837–1904), поэт. В 1898–1903 гг. Случевский устраивал «пятницы», где бывали К. Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, Ф. Сологуб, Вл. С. Соловьев, М.А. Лохвицкая и др.
(обратно)92
Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт и публицист.
(обратно)93
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт, прозаик, мыслитель, естествоиспытатель.
(обратно)94
…подобно знаменитому коту Леона Блюма, о котором… рассказывает З. Гиппиус. — «Громадный ангорский, — пишет Гиппиус о коте будущего главы правительства Франции, — он появился при конце завтрака, тотчас же властно вскочил на стол и стал медленно прохаживаться между хрустальными рюмками с такой ловкостью, что ни до одного стакана не дотронулся, ни одна рюмка не зазвенела. Мне почему-то подумалось, что если б Леон Блюм родился котом, он наверно с такой же ласковой ловкостью прохаживался бы по чужим столам» (Гиппиус З. Дмитрий Мережковский // Собр. соч. М.: Русская книга, 2002. Т. 6. С. 334).
(обратно)95
…его статьи о Блоке… — «Как вспоминается мне Блок» (Возрождение. 1927. 14 февр.).
(обратно)96
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт.
(обратно)97
Рерих Николай Константинович (1874–1947) — живописец, театральный художник, археолог, путешественник, писатель. Член «Мира искусства». С 1920-х гг. жил в Индии.
(обратно)98
«Тайна Трех. Египет и Вавилон» (1923) — книга философско-эссеистской прозы Мережковского.
(обратно)99
К нему и птица не летит… — Из стих. А.С. Пушкина «Анчар» (1828). У Пушкина во 2-й строке: «И тигр нейдет».
(обратно)100
«Опыты». Возрождение. 1958. № 80. «Опыты» (Нью-Йорк, 1953–1958) — литературный журнал, редактировавшийся Р.Н. Гринбергом, В.Л. Пастуховым (№ 1–3) и Ю.П. Иваском (№ 4–9). Издатель М.С. Цетлин.
(обратно)101
Иваск Юрий Павлович (1907–1986) — поэт, критик, литературовед. С 1920 г. в эмиграции (в Эстонии). С 1944 г. в Германии. С 1949 г. в США.
(обратно)102
Цетлина Мария Самойловна (Цетлин; урожд. Тумаркина, в первом замуж. Авксентьева; 1882–1976) — издатель, общественный деятель. С апреля 1907 г. в эмиграции. Летом 1917 г. вернулась в Россию, но в апреле 1918 г. вновь уехала в Париж. В 1923 г. соредактор журнала «Окно». Будучи членом Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции, щедро помогала (в том числе из личных средств) бедствующим эмигрантам. С ноября 1940 г. в США.
(обратно)103
…«скучные песни земли». — Из стих. М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).
(обратно)104
Адамович Георгий Викторович (1892–1972) — поэт, критик. В конце 1922 г. эмигрировал. Ведущий критик парижских русских газет. Автор книг «Одиночество и свобода» (1955), «Комментарии» (Вашингтон, 1967) и др.
(обратно)105
Присманова Анна (наст, имя и фам. Анна Семеновна Присман; 1892–1960) — поэт, прозаик. В эмиграции с 1922 г. С 1924 г. в Париже.
(обратно)106
Померанцев Кирилл Дмитриевич (1907–1991) — поэт, публицист. В эмиграции с 1920 г. Сотрудник парижской газеты «Русская мысль». Автор мемуаров «Сквозь смерть» (Париж, 1955).
(обратно)107
«На смерть Кота Мурра» — стих. «Памяти Кота Мурра» (1934) В.Ф. Ходасевича.
(обратно)108
Пастухов Всеволод Леонидович (1894–1967) — поэт, пианист. В эмиграции после 1917 г. В США после 1945 г. Печатался в журнале «Опыты».
(обратно)109
Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — прозаик, драматург, публицист, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции. Автор беллетризованного жизнеописания «Чехов» (1954), главу из которого опубликовали «Опыты» в № 2.
(обратно)110
«Неистовая душа» — очерк Злобина (Возрождение. 1955. № 47), вошедший в книгу «Тяжелая душа» в новой редакции и под названием «Мис Тификация».
(обратно)111
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — прозаик, драматург, критик, публицист, переводчик, мемуарист. С 1921 г. в эмиграции.
(обратно)112
Занимался им и Бунин… — И.А. Бунин — автор мемуарных очерков «Памяти Чехова» (1904), «Из записной книжки» (1914) и др., составивших его книгу «О Чехове. Неоконченная рукопись» (Нью-Йорк, 1955).
(обратно)113
…«Гоголь» Ремизова… — В № 2 «Опытов» (1953) — глава из книги Ремизова «Огонь вещей. Сны и предсонье: Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский» (1954).
(обратно)114
Мочульский Константин Васильевич (1892–1948) — историк литературы, критик. С 1919 г. в эмиграции. Имеется в виду его труд «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934). П.М. Бицилли в рецензии на эту работу писал о сути подхода Мочульского к биографии героя: «Человек познается не в том, что он есть, а в том, чем он хочет быть, или вернее: человек, в своей внутренней сущности, есть то, чем он хочет быть» (Путь. 1934. № 45).
(обратно)115
Шик Александр Адольфович (?—1968) — критик, искусствовед. В эмиграции с начала 1920-х гг. Сотрудник парижской газеты «Русская мысль» и нью-йоркского «Нового журнала». В № 2 «Опытов» Шик напечатал отрывок «Парижские дни Гоголя» из своего цикла «Русские во Франции».
(обратно)116
«Мелочи о Горьком» (Опыты. 1953. № 2) — очерк Анненкова, вошедший в его книгу мемуаров «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» (т. 1–2,1966). Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — живописец, график, прозаик, театральный художник, художественный и театральный критик, режиссер, мемуарист. После командировки в Венецию в 1924 г. принял решение в Россию не возвращаться и поселился в Париже. Печатался под псевдонимами: Наталья Белова, Борис Темирязев и др. В 1930-е годы увлекся кинематографом, создал декорации и костюмы к нескольким десяткам фильмов. Лауреат премии «Оскар».
(обратно)117
…воспоминания о Ходасевиче… — «Воспоминания и литературные заметки» (Опыты. 1953. № 2) Вацлава Александровича Ледницкого (1891–1967), литературоведа и критика, сотрудника «Нового журнала».
(обратно)118
Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — критик, литературовед, искусствовед, поэт, публицист, мемуарист. В эмиграции с 1924 г. В 1932–1952 гг. профессор кафедры истории христианского искусства и западной Церкви в Богословском институте (Париж). Автор книг «Умирание искусства» (1937), «Задача России» (1954), «Безымянная страна» (1968) и др.
(обратно)119
Степун Федор Августович (1884–1965) — философ, прозаик, публицист, критик, теоретик театра и кино. 22 ноября 1922 г. выслан из России в Германию. Профессор Дрезденского университета (1926–1937), соредактор журнала «Новый град» (1931–1939). В 1947–1965 гг. профессор Мюнхенского университета. Основатель издательства «Товарищество зарубежных писателей» при Центральном объединении политических эмигрантов (ЦОПЭ) и альманаха «Мосты» (1958–1970). Автор книг «Основные проблемы театра» (Берлин, 1923), «Бывшее и несбывшееся» (т. 1–2,1956), «Достоевский и Толстой: Христианство и социальная революция» (на нем. яз.; 1961), «Встречи» (1962) и др.
(обратно)120
Марголин Юлий Борисович (1900–1971) — прозаик, поэт, критик. В эмиграции (Германия, Польша) с начала 1920-х гг. С июня 1940 по июнь 1945 г. в заключении и ссылке на Алтае. Репатриирован в Польшу, откуда выехал в Израиль. Его сестры Ольга (жена В.Ф. Ходасевича) и Марианна погибли в фашистском лагере Освенцим.
(обратно)121
…о Клюеве больше того, что сказал о нем Ю. Иваск… — См. статью «Клюев (1887–1937)» (Опыты. 1953. № 2). Свою негативную оценку творчества Клюева Иваск повторил и в № 4: «Ужасна клюевщина: вся эта сусальная китежская Русь, все это лубочное неонародничество… Пестрит в глазах, звенит в ушах от его словечек — олонецких, хлыстовских и им самим выдуманных… «Крестьянский поэт», но ведь вместе с тем и декадент, даже почище многих других декадентов: серебряный крест поверх русской рубашки, а глаза подведены, намазан…»
(обратно)122
«Плач о Есенине» (1927) — поэма Николая Алексеевича Клюева (1887–1937), написанная на смерть С.А. Есенина, с которым Клюева связывали некоторое время тесные отношения духовного наставничества.
(обратно)123
Изида, Исида — в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, супруга Озириса (Осириса), бога производительных сил земли, убитого на пиру заговорщиками.
(обратно)124
Иштарчо, Иштар — в аккадской мифологии богиня плодородия и плотской любви, оплакивающая смерть Тауза, одного из своих возлюбленных.
(обратно)125
Гильгамеш — аккадский мифоэпический герой.
(обратно)126
Енгиду, Энкиду — герой, сподвижник и друг Гильгамеша, вместо него принявший на себя гнев богов: они приговорили его к смерти от неизлечимой болезни.
(обратно)127
Адонис — в греческой мифологии жертва разгневанного Аполлона, который убийством мстит его возлюбленной богине Афродите за то, что она ослепила сына Аполлона. Горько оплакивая Адониса, Афродита превращает его в цветок. Из его крови расцветают розы, а из слез Афродиты — анемоны.
(обратно)128
Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903–1971) — прозаик, критик. В 1919 г. в составе Добровольческой армии Врангеля эвакуировался в Галлиполи. С 1923 г. в Париже (грузчик в порту, ночной таксист). Первый рассказ напечатал в 1926 г. Автор девяти романов, создавших ему репутацию одного из самых талантливых прозаиков эмиграции.
(обратно)129
Яновский Василий Семенович (1906–1989) — прозаик, врач. В эмиграции с 1922 г. (Варшава, Париж, Нью-Йорк). Автор мемуаров «Поля Елисейские. Книга памяти» (1983).
(обратно)130
Лехович Дмитрий — автор рассказа «Расстрел» (Опыты. 1953. № 2) и рецензии на мемуары А.И. Деникина «Путь русского офицера» (Опыты. 1954. № 3).
(обратно)131
Все непомерно или несущественно (фр.).
(обратно)132
Савин Иван Иванович (наст. фам. Саволайнен; 1899–1927) — поэт, прозаик. В 1919 г. доброволец армии Деникина. В 1921 г. бежал за границу.
(обратно)133
Эрге — псевд. Романа Николаевича Гринберга (1893–1969), критика, сотрудника «Нового журнала», редактора журнала «Опыты» (1953–1954) и альманаха «Воздушные пути» (1960–1967).
(обратно)134
Montaigne, Монтень Мишель де (1533–1592) — французский философ и писатель. Автор книги философской эссеистики «Опыты» (1580–1588).
(обратно)135
Andre Gide, Андре Жид (1869–1951) — французский поэт, прозаик. Лауреат Нобелевской премии (1947). Автор книги «Возвращение из СССР» (1936), отразившей его неприятие большевистского режима.
(обратно)136
Вильде Борис Владимирович (псевд. Борис Дикой; 1908–1942) — поэт, критик, филолог, этнограф. Один из организаторов французского Сопротивления. Расстрелян фашистами.
(обратно)137
Памяти поэта. Георгий Иванов. Возрождение. 1958. № 82. Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции.
(обратно)138
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — философ, прозаик, публицист, литературовед, критик, дипломат, врач. Незадолго до смерти совершил тайный постриг в монахи Троице-Сергиевой лавры.
(обратно)139
В. Злобин ошибается, автором цитируемых строк является не К.Н. Леонтьев, а Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885) — поэт, мемуарист, религиозный мыслитель, профессор Московского университета, монах из католического монашеского ордена редемптористов, западник, один из известных русских диссидентов и невозвращенцев. Полностью строфа, начало которой цитируется В. Злобиным выглядит так (прим. составителя электронной версии):
Как сладостно — отчизну ненавидеть И жадно ждать ее уничиженья! И в разрушении отчизны видеть Всемирного денницу возрожденья! (обратно)140
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — поэт. Погиб в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком.
(обратно)141
…сына Бальмонта (вскоре умершего). — Имеется в виду Николай Константинович Бальмонт, сын поэта, критика, прозаика, переводчика, одного из вождей русского символизма Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), и его первой жены Ларисы Михайловны Горелиной. Николай был одаренным музыкантом и поэтом. Умер после 1918 г. от острого психического заболевания.
(обратно)142
Мы смерти ждем, как сказочного волка… — Неточно из стих. О.Э. Мандельштама «От легкой жизни мы сошли с ума…» (ноябрь 1913 г.; без посвящения). У автора 2-я и 3-я строки: «…раньше всех умрет // Тот, у кого тревожно-красный рот». Что стихи посвящены Г.В. Иванову, подтверждает также И.В. Одоевцева в мемуарах «На берегах Невы» (М., 1988. С. 147).
(обратно)143
В Петербурге мы сойдемся снова… — Начальные строки стихотворения Мандельштама без названия, написанного 25 ноября 1920 г. (в публикациях поэт, спасаясь от придирок цензуры, менял дату на 1916 г.).
(обратно)144
..лестно написали Брюсов и Гумилев… — В.Я. Брюсов об этой книге написал сдержанно: «Есть «обещания» и в стихах г. Георгия Иванова, хотя он менее самостоятелен и еще находится под влиянием своих предшественников. Он умеет выдержать стиль… находит иногда изысканно милые стихи… но самостоятельного пока ничего не дал» (Сегодняшний день русской поэзии // Русская мысль. 1912. № 7). Более снисходителен был Н.С. Гумилев, который отметил в стихах Г. Иванова «крупные достоинства: безусловный вкус — неожиданность тем и какая-то «глуповатость» в той мере, в какой ее требовал Пушкин» (Аполлон. 1912. № 3–4).
(обратно)145
«Цех поэтов» (СПб., 1911–1914,1921—1923) — литературное объединение, основанное акмеистами. В него входили Н.С. Гумилев, А. А. Ахматова, С.М. Городецкий, О.Э. Мандельштам, В.И. Нарбут, М. А. Зенкевич, М.Л. Лозинский, Е.Ю. Кузьмина-Караваева (в будущем мать Мария), Г.В. Адамович, Г.В. Иванов, Н.А. Оцуп, И.В. Одоевцева, В. А. Рождественский и др. «Цех поэтов» издавал книги, журнал «Гиперборей» и альманахи (последний, 4-й, выпуск издан эмигрантами в Берлине).
(обратно)146
Кажется, в 12-м же году он начал печататься в «Аполлоне»… — В этом журнале Г. Иванов опубликовал свои акмеистские статьи в 1913 г. (в № 1 и 4).
(обратно)147
Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) — художника-карикатурист и график. Основал в 1906 г. в Петербурге (вместе с С.Ю. Копельманом) частное издательство «Шиповник», выпускавшее одноименные альманахи (1907–1916), а также «Северные сборники» (1907–1911), «Сборники литературы и искусства», «Историко-революционный альманах» (1908). Основатель «Издательства З.И. Гржебина» (Пг.; Берлин. 1919–1923). С 1921 г. в эмиграции.
(обратно)148
Ефрон Семен Абрамович (?—1933) — владелец издательств «Якорь» в Петербурге и «С. Ефрон» в Берлине. В эмиграции с 1919 г. Младший брат И.А. Ефрона, соиздателя «Энциклопедического словаря».
(обратно)149
Одоевцева Ирина Владимировна (наст, имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике, в замуж. Иванова; 1895–1990) — поэт, прозаик, критик, переводчик, мемуарист. В эмиграции с 1922 г. В 1987 г. вернулась в Россию. Автор мемуарных книг «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «На берегах Сены» (Париж, 1983).
(обратно)150
«Зеленая лампа» (Париж, 5 февраля 1927—26 мая 1939) — литературное общество, основанное по инициативе Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус. Заседания проходили почти всегда ежемесячно под председательством Г.В. Иванова, секретарь — В. А. Злобин.
(обратно)151
Франко Баамонде Франсиско (1892–1975) — после поражения республиканцев глава испанского государства в 1939–1975 гг.
(обратно)152
Медвежья услуга. Ответ Н. Евсееву. Возрождение. 1958. № 82.
(обратно)153
В поисках литературного критика. Возрождение. 1958. № 82.
(обратно)154
На предстоящем всесоюзном съезде… — Имеется в виду III съезд писателей СССР, состоявшийся в мае 1959 г. Центральной темой обсуждения стали проблемы развития так называемого метода соцреализма.
(обратно)155
Дымшиц Александр Львович (1910–1975) — критик, литературовед.
(обратно)156
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) — прозаик. Лауреат Нобелевской премии (1965).
(обратно)157
Леонов Леонид Максимович (1899–1994) — прозаик, драматург, публицист.
(обратно)158
Гладков Федор Васильевич (1883–1958) — прозаик.
(обратно)159
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) — поэт.
(обратно)160
Федин Константин Александрович (1892–1977) — прозаик.
(обратно)161
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — прозаик, публицист, поэт.
(обратно)162
Тихонов Николай Семенович (1896–1979) — поэт, прозаик, публицист, переводчик.
(обратно)163
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) — поэт, переводчик, драматург.
(обратно)164
Чуковский Корней Иванович (наст, имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) — детский поэт, критик, литературовед, переводчик.
(обратно)165
Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971) — прозаик.
(обратно)166
Лавренев Борис Андреевич (наст. фам. Сергеев; 1891–1959) — прозаик, драматург.
(обратно)167
Каверин Вениамин Александрович (наст. фам. Зильбер; 1902–1989) — прозаик.
(обратно)168
Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971) — поэт.
(обратно)169
Саянов Виссарион Михайлович (наст. фам. Махлин, по др. сведениям Мохнин; 1903–1959) — поэт, прозаик.
(обратно)170
Никитин Николай Николаевич (1895–1963) — прозаик.
(обратно)171
Лебеденко Александр Гервасьевич (1892–1975) — прозаик.
(обратно)172
Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975) — поэт, прозаик, публицист.
(обратно)173
Панов В. — в тексте ошибка: речь идет о прозаике и драматурге Пановой Вере Федоровне (1905–1973).
(обратно)174
Дудин Михаил Александрович (1916–1993) — поэт.
(обратно)175
Гранин Даниил Александрович (наст. фам. Герман; р. 1919) — прозаик.
(обратно)176
Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976) — прозаик.
(обратно)177
Герман Юрий Павлович (1910–1967) — прозаик, кинодраматург.
(обратно)178
Орлов Сергей Сергеевич (1921–1977) — поэт.
(обратно)179
Аскад Мухтар (1920–1997) — узбекский поэт и прозаик.
(обратно)180
Мясников Александр Сергеевич (1913–1982) — литературовед, писатель.
(обратно)181
Татьяничева Людмила Константиновна (1915–1980) — поэт.
(обратно)182
Человекообразные. Возрождение. 1958. № 82.
(обратно)183
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) — первый секретарь ЦК КПСС с 1953 г., в 1958–1964 гг. одновременно председатель Совета министров СССР. На XX и XXII съездах КПСС выступил с разоблачениями культа личности Сталина и осуществлявшихся им репрессий. К снятию с постов привели его политическое и экономическое прожектерство (лозунги-призывы «Догнать и перегнать Америку!», построить коммунизм к 1980 г.), подавление инакомыслия, произвол в отношении к интеллигенции, обострение военного противостояния с Западом.
(обратно)184
«Моя Россия в советской одежде» («Ма Russie habillee en URSS»; Париж, 1958, на фр. яз.) — мемуарная книга. З.А. Шаховской о пребывании в Москве в 1956–1957 гг. Зинаида Алексеевна Шаховская, княгиня (в замуж. Малевская-Малевич; 1906–2001) — прозаик (автор романов на фр. яз., печатавшихся под псевдонимом Жак Круазе), поэт, публицист, мемуарист. С 1920 г. в эмиграции. С 1942 г. редактор Французского информационного агентства в Лондоне. В 1945–1948 гг. военный корреспондент в Германии (печатала репортажи с Нюрнбергского процесса), Австрии, Греции, Италии. Офицер ордена Почетного легиона, Командор ордена Искусств и Словесности, дважды лауреат Французской академии. С 1968 по 1978 г. главный редактор газеты «Русская мысль». Автор мемуаров «Таков мой век» (т. 1–4,1964–1967; на фр. яз.) и «Отражения» (1975).
(обратно)185
Орадур (Орадур-Сюр-Глан) — поселок во Франции, уничтоженный фашистами вместе с жителями в 1944 г.
(обратно)186
…убийство Царской семьи. — Николай II и его семья по решению большевистского руководства были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 г.
(обратно)187
Петерс Яков Христофорович (1886–1938) — в 1918 г. заместитель председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала. Репрессирован.
(обратно)188
Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фам. Радомысльский; 1883–1936) — политический деятель. С 1903 г. большевик. С декабря 1917 г. председатель Петроградского совета. Один из организаторов «красного террора». Репрессирован.
(обратно)189
Кун Бела (1886–1939) — один из организаторов компартии Венгрии. С 1916 г. в России как военнопленный. Участник подавления мятежа левых эсеров в Москве (1918). Будучи членом реввоенсовета Южного фронта Красной армии, стал организатором массовых репрессий в Крыму. Впоследствии репрессирован.
(обратно)190
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) — с 1917 г. председатель ВЧК, один их главных организаторов «красного террора». В 1919–1923 гг. нарком внутренних дел, одновременно с 1921 г. нарком путей сообщения. С 1924 г. председатель ВСНХ СССР.
(обратно)191
Ежов Николай Иванович (1895–1940) — нарком внутренних дел в 1936–1938 гг. и нарком водного транспорта в 1938–1939 гг. Один из главных исполнителей массовых репрессий. Расстрелян.
(обратно)192
Пастернак, Нобелевская премия и большевики. Возрождение. 1958. № 83.
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — поэт, прозаик, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1958).
(обратно)193
Слоним Марк Львович (1894–1976) — публицист, литературовед, критик, переводчик. С 1918 г. в эмиграции в Италии. Переехав в Прагу, стал соредактором ежемесячника «Воля России» (1922–1932). В Париже в 1928 г. основал и возглавил литературное объединение «Кочевье», собиравшееся по четвергам в кафе у вокзала Монпарнас до 1938 г. Руководил также в Париже Европейским литературным бюро. Автор книг «Русские предтечи большевизма» (1922), «Портреты советских писателей» (1933), «Три любви Достоевского» (1953) и двухтомной истории русской литературы (на англ. яз.; 1950, 1953).
(обратно)194
Михайлов Николай Александрович (1906–1982) — в 1955–1960 гг. министр культуры СССР.
(обратно)195
Его отец… — Леонид Осипович Пастернак (1862–1945) — живописец, книжный график, иллюстрировавший произведения Л.Н. Толстого. Один из учредителей Союза русских художников. С 1921 г. в эмиграции.
(обратно)196
Скрябин Александр Николаевич (1871–1915) — композитор, пианист, профессор Московской консерватории (1894–1904). Автор новаторских симфонических произведений «Божественная поэма» (1904), «Поэма экстаза» (1907), «Прометей» («Поэма огня»; 1910) и др. «Скрябина я мальчиком боготворил», — вспоминал Пастернак в письме к Н.С. Родионову от 27 марта 1950 г.
(обратно)197
Галлимар Гастон (1881–1975) — с 1911 г. владелец французского книгоиздательства, которое позже стало называться «Библиотека Галлимара».
(обратно)198
Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) — поэт, переводчик, театральный деятель, дипломат. В 1900-е гг. один из сотрудников издательства «Скорпион» и журнала «Весы». В 1921–1939 гг. полномочный представитель Литвы в СССР. С 1939 г. в Париже.
(обратно)199
С Шаховской в России. Возрождение. 1958. № 83.
(обратно)200
Поль Рейно (Рено) — один из партийных псевдонимов Павла Финдера (1904–1944), польского коммуниста. Расстрелян в гестапо.
(обратно)201
Карл Болен — Чарльз Юстис Болен (1904–1974) — американский дипломат, работавший в 1930-х гг. в Москве. Посол США в СССР в 1953–1957 гг.
(обратно)202
Новые «освободители». Возрождение. 1958. № 83.
(обратно)203
Вейнбаум Марк Ефимович (1890–1973) — журналист. В США с 1913 г. Сотрудник (с 1914 г.), редактор-издатель (с 1923 г.) нью-йоркской газеты русских эмигрантов «Новое русское слово».
(обратно)204
М.Е. Вейнбаум объясняет, что на самом деле эти речи произнесены на Конгрессе не были, а попали в журнал сразу и что так случается сплошь и рядом. Но считаться с этим мы не обязаны.
(обратно)205
Проблема Пастернака. Возрождение. 1958. № 84.
(обратно)206
Заславский Давид Иосифович (1880–1965) — публицист, фельетонист газеты «Правда» с 1928 г. Участник кампании по преследованию Б.Л. Пастернака.
(обратно)207
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — прозаик, критик, издатель. Соиздатель и соредактор (с Н.И. Гречем) журнала «Сын отечества» (1825–1839) и газеты «Северная пчела» (1825–1859). Скандальную репутацию ему принесли полемические (порой грубые и граничащие с доносительством) выпады против критиков и писателей — современников, в том числе против А.С. Пушкина.
(обратно)208
Агапов Борис Николаевич (1899–1973) — поэт, писатель, сценарист.
(обратно)209
Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979) — поэт, прозаик, драматург, публицист.
(обратно)210
Кривицкий Александр Юльевич (1910–1986) — очеркист, публицист, заместитель главного редактора журнала «Новый мир».
(обратно)211
Осецкий Карл фон (1889–1938) — немецкий публицист-антифашист. Лауреат Нобелевской премии мира (1936). Погиб в концлагере.
(обратно)212
Двадцать лет назад. Возрождение. 1958. № 84.
(обратно)213
Штреземан Густав (1878–1929) — рейхсканцлер и министр иностранных дел Германии в 1923 г. Лауреат Нобелевской премии (1926).
(обратно)214
Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — генерал-фельдмаршал (1914), президент Германии с 1925 г., передавший 30 января 1933 г. власть в руки нацистов и поручивший Гитлеру формирование правительства.
(обратно)215
Веймарская республика. — В июле 1919 г. в Веймаре Германия была провозглашена демократической федеративной республикой. Просуществовала до прихода к власти в 1933 г. А. Гитлера.
(обратно)216
Яконовский Евгений Михайлович (1903–1974) — прозаик, публицист, мемуарист. Учился в Оренбургском кадетском корпусе. В период гражданской войны эмигрировал. После 1945 г. сотрудник газеты «Русское воскресение». Мемуарные произведения Яконовского были опубликованы в Париже в журнале «Военная быль» в 1950-е гг. Автор произведений «Водяные лилии», «Хлеб изгнания», романа «Солнце задворок».
(обратно)217
«Лолита» и «Распад атома». Возрождение. 1959. № 85.
(обратно)218
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) — прозаик, поэт, литературовед, критик, переводчик, драматург, мемуарист. До 1940 г. печатался под псевдонимом В. Сирин. В эмиграции с апреля 1919 г. С1922 г. в Берлине. В1937 г. поселился во Франции. В мае 1940 г. уехал в США. В октябре 1961 г. обосновался в Швейцарии (Монтрё).
(обратно)219
…английской книге… «Лолита». — Роман Набокова «Лолита» впервые вышел на английском языке в 1955 г. в Париже. Авторский перевод на русский был издан в Нью-Йорке в 1967 г.
(обратно)220
Деникина Ксения Васильевна — автор мемуарных записок (в архиве Колумбийского университета, США), воспоминаний об И.С. Шмелеве (в сб. «Памяти И.С. Шмелева». Мюнхен, 1956). Жена Антона Ивановича Деникина (1872–1947), генерала, историка, одного из организаторов Добровольческой армии в годы Гражданской войны, автора «Очерков русской смуты» (т. 1–5, Париж, 1921–1926).
(обратно)221
…при помощи всевозможных Гэллупов. — Имеется в виду социологический институт Геллопа (США), занимающийся изучением общественного мнения и регулярно публикующий статистические сведения об опросах населения.
(обратно)222
«Камера обскура» — роман Набокова (Современные записки. Париж. 1932–1933. № 49–52), напечатанного под псевдонимом Сирин.
(обратно)223
«Распад атома» (Париж: Дом книги, 1938) — роман Г. В. Иванова.
(обратно)224
«Тедди бойс» (англ. teddi boys) — стиляги, пижоны.
(обратно)225
…посмертному сборнику его стихов… — Иванов Г. Стихи. New York, 1958. Предисловие Р.Б. Гуля «Георгий Иванов» впервые опубл. при жизни поэта: Новый журнал. 1955. № 42, и вошло в книгу Гуля «Одвуконь: Советская и эмигрантская литература» (Нью-Йорк: Мост, 1973).
(обратно)226
Гуль Роман Борисович (1896–1986) — прозаик, мемуарист, сценарист, издатель. Участник «Ледяного похода» (так он назвал и свой роман) генерала Л.Г. Корнилова. С января 1919 г. в Германии, в лагере для перемещенных лиц. В 1921–1923 секретарь редакции журнала «Русская книга». С 1933 г. в Париже. С 1952 г. сотрудник, с 1959 г. — главный редактор нью-йоркского «Нового журнала». Автор романов «Конь рыжий» (1952), «Азеф» (1929), «Скиф» (1931), мемуаров «Я унес Россию: Апология эмиграции» (т. 1–3,1984–1989) и др.
(обратно)227
…букеты из весьма ядовитых цветов зла. — Имеется в виду сборник «Цветы зла» (1857) французского поэта, предшественника символизма Шарля Бодлера, эпатировавшего читателей анархическим бунтарством, эстетизацией людских пороков.
(обратно)228
…некой «редингской тюрьмы»… — Имеется в виду поэма «Баллада Редингской тюрьмы» (1898) английского поэта, прозаика, критика Оскара Уайльда (1854–1900). В поэме нашел отражение душевный кризис писателя, два года проведшего в тюрьме по обвинению в безнравственности.
(обратно)229
«Темный лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911) — книга В.В. Розанова, часть другой его книги — «В темных религиозных лучах», тираж которой (2400 экз.) в 1910 г. был уничтожен цензурой. См. издание, частично восстановленное А.Н. Николюкиным — М.: Республика, 1994.
(обратно)230
…умирает… на руках о. Флоренского, под шапочкой св. Сергия… — П.А. Флоренский утром 23 января 1919 г. прочитал отходную молитву В.В. Розанову. На голову умирающему был положен покровец от мощей Сергия Радонежского. Павел Александрович Флоренский (1882–1937) — православный философ и богослов, физик, математик, инженер. В 1908–1919 гг. преподаватель Московской духовной академии. В 1912–1917 гг. редактор журнала «Богословский вестник». В 1933 г. был арестован и отправлен в Соловецкий концлагерь, затем расстрелян.
(обратно)231
Бл<аженный> Августин Аврелий (354–430) — христианский теолог и церковный деятель. Родоначальник христианской философии истории, автор основополагающего труда в западной патристике «О граде Божием» и автобиографической «Исповеди».
(обратно)232
Памяти Н.А. Оцупа. Возрождение. 1959. № 86. Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958) — поэт, критик, прозаик, драматург, литературовед, мемуарист. В эмиграции с 1922 г.
(обратно)233
Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909) — поэт, критик, драматург, переводчик, педагог. В 1896–1905 гг. директор Николаевской гимназии в Царском Селе. Оцуп о годах учебы в этой гимназии написал очерк «Царское Село (Пушкин и Иннокентий Анненский)».
(обратно)234
…где также учился Н. С. Гумилев… — Поэт, критик, переводчик Николай Степанович Гумилев (1886–1921) учился в Николаевской гимназии (Царское Село) с осени 1903 по 1906 г.
(обратно)235
Адуев Николай Альфредович (1895–1950) — писатель, поэт- сатирик.
(обратно)236
Жаба Сергей Павлович (1894–1982) — парижский профессор, публицист, печатавшийся в журналах «Современные записки», «Вестник Русского студенческого христианского движения», «Новый град», газете «Русская мысль».
(обратно)237
Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Автор труда «Творческая эволюция» (1907). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).
(обратно)238
…он был в нашем кружке… — Оцуп об университетском «Кружке поэтов» вспоминает в «Дневнике в стихах»:
Петербург… Студенческий кружок. Злобин, и прекрасная Ларисса, И Винавер, юный, а знаток Стилей, и классическая крыса Я, и Маслов (горько, что убит На заре своей певец Авроры), И Рождественский — земляк, пиит Царскосельский (вместе коридоры Гимназические, вместе «Цех»), Даровитый, а скромнее всех, Нежный и мечтательный попович… И затем уже повыше класс Мастерства: Иванов, Адамович, А над ними и совсем Парнас: Мандельштам, Ахматова…Ларисса — Л.М. Рейснер.
Винавер Евгений Максимович (1899–1979) — до 1917 г. участник студенческого «Кружка поэтов» в Петербургском университете. В эмиграции английский медиавист.
Маслов Георгий Владимирович (1895–1920) — поэт, литературовед. Родственник З.Н., Вл. В. Гиппиусов. В 1918–1920 гг. доброволец Белой армии.
Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) — поэт.
Иванов — Георгий Владимирович.
Адамович — Георгий Викторович.
Мандельштам — Осип Эмильевич.
Ахматова Анна Андреевна (наст. фам. Горенко, в замуж. Гумилева; 1889–1966) — поэт.
(обратно)239
Анна Регат (Регатт) — псевдоним поэтессы, очеркистки Е.М. Тагер (1895–1964), с 1916 г. жены Г.В. Маслова.
(обратно)240
Пушкин, тайную свободу… — Неточно из стих. А. Блока «Пушкинскому Дому» (1921). У Блока последняя строка: «Помоги в немой борьбе!»
(обратно)241
Нет, не бывает, не бывает… — Стих. З.Н. Гиппиус «Не бывает» (август 1918).
(обратно)242
Фельзен Юрий (наст, имя и фам. Николай Бернгардович Фрейденштейн; 1894–1943) — прозаик, критик. В эмиграции с 1918 г. С 1924 г. в Париже. Участник «воскресений» у Мережковских и собраний кружка «Зеленая лампа». Погиб в гитлеровском концлагере.
(обратно)243
Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) — поэт, прозаик. С 1919 г. в эмиграции. Участник «воскресений» у Мережковских и собраний кружка «Зеленая лампа».
(обратно)244
Вайян-Кутюрье Поль (1892–1937) — французский писатель. Один из основателей французской компартии.
(обратно)245
Братья по России. Возрождение. 1959. № 86.
(обратно)246
…первый учредительный всесоюзный съезд советских писателей. — Речь идет не о всесоюзном, а о предшествовавшем ему Учредительном съезде писателей РСФСР (декабрь 1958).
(обратно)247
«Одна иностранная держава». Возрождение. 1959. № 86.
(обратно)248
Трюмэн, Трумэн Гарри (1884–1972) — 33-й президент США в 1945–1953 гг.
(обратно)249
Айзенхауэр, Эйзенхауэр Дуайт Дейвид (1890–1969) — 34-й президент США в 1953–1961 гг.
(обратно)250
Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) — историк, публицист, издатель, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции. Автор книг: «Красный террор в России. 1918–1923» (Берлин, 1923), «Трагедия адмирала Колчака» (т. 1–3,1930–1931), «На путях к дворцовому перевороту» (1931), «Как большевики захватили власть» (1939), «Судьба императора Николая II после отречения» (1951) и др.
(обратно)251
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) — генерал-лейтенант, в Первую мировую войну командир дивизии, затем корпуса. С октября 1917 г. глава военных формирований Центральной рады, в 1918 г. гетман Украины, провозгласивший создание «Украинской державы». С 1918 г. в эмиграции в Германии.
(обратно)252
Достоевский и современность. Возрождение. 1959. № 87.
(обратно)253
Альберт Камюс, Альбер Камю (1913–1960) — французский прозаик, драматург, философ-экзистенциалист.
(обратно)254
«Бесы» (1871–1872) — роман Ф.М. Достоевского.
(обратно)255
Матфей (в миру М.А. Константиновский) — священник из Ржева, духовный наставник Н.В. Гоголя.
(обратно)256
«Повесть об Антихристе» — «Краткая повесть об Антихристе», являющаяся приложением к «Трем разговорам» (1900), последней книге Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900), философа, поэта, публициста, почетного академика по разряду изящной словесности. «Это свое произведение я считаю гениальным», — так сам автор оценил свою антитолстовскую исповедь. «И он едва ли ошибался, — пишет К.В. Мочульский в монографии «Владимир Соловьев. Жизнь и учение». — Спор с Толстым и «Повесть об Антихристе» — величайшие создания русской религиозной мысли. Наша литература не имеет ничего равного им по силе пророческого вдохновения, за единственным исключением «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского» (Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 204).
(обратно)257
«Страхи и ужасы России» — гл. XXVI книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).
(обратно)258
…постановка Московским Художественным театром… — Инсценировки по романам Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы» (под названием «Николай Ставрогин»), выполненные Вл. И. Немировичем-Данченко, были им поставлены в МХТ соответственно в 1910 и 1913 гг. Спектакли вызвали острую дискуссию. Начало «спору» (отозвавшемуся после большевистского переворота запретами на книги Достоевского) положило открытое письмо М. Горького «О карамазовщине» (Русское слово. 22 сент. 1913), переполошившее читающую Россию. Поводом послужила готовящаяся в МХТ премьера «Бесов». Возмущенный Горький забирает из театра свою пьесу «Зыковы» и далее, обозвав Достоевского «злым ангелом», пишет: «Я глубоко убежден, что проповедь со сцены болезненных идей Достоевского способна еще более расстроить и без того уже нездоровые нервы общества». Не было предела удивлению тех, кто понимал, на кого посягнул певец босячества, ставший политическим заботником о нравственных устоях общества. Почти во всех центральных изданиях последовали отповеди М.П. Арцыбашева, А.И. Куприна, Л.H. Андреева, Ю.И. Айхенвальда, Р.В. Иванова-Разумника, Д.С. Мережковского и др. Ответил Горькому и коллектив театра:
«В разгар нашей трудной и радостной работы над постановкой второго романа Достоевского ваше выступление в печати нам особенно чувствительно.
Нас не то возмущает, что ваше письмо может возбудить в обществе отношение к нашему театру как к учреждению, усыпляющему общественную совесть, — репертуар театра в целом за 15 лет вполне ответит на такое обвинение.
Но нам тяжело было узнать, что М. Горький в образах Достоевского не видит ничего, кроме садизма, истерии и эпилепсии, что весь интерес «Братьев Карамазовых» исчерпывается в ваших глазах Федором Павловичем, а «Бесы» для вас не что иное, как пасквиль временно-политического характера, и что великому богоискателю и величайшему художнику Достоевскому вы предъявляете обвинение в растлении общества. Наша обязанность, как корпорации художников, напомнить, что те самые «высшие запросы духа», в которых вы видите лишь праздное «красноречие, отвлекающее от живого дела», мы считаем основным назначением театра. Если бы вам удалось убедить нас в правоте вашего взгляда, то мы должны были бы отречься от лучшего в русской литературе, отданного служению именно тем самым “запросам духа”» (Русское слово. 1913. 26 сент.).
Как и следовало ожидать, Горького под свою защиту взяли большевики и их газета «Правда» (в тот год называвшаяся «За правду»). Небезынтересно познакомиться нам сейчас с ее лексикой и приемами, которые — не пройдет и десяти лет! — станут каноническими уже на многие десятилетия. Вот типичный образчик демагогии, рожденный в споре о Достоевском. Снова открытое письмо, но — Горькому со странной подписью «Рабочие-учащиеся» (За правду. 1913. 30 окт.):
«Мы, обсудив ваше выступление против постановки «Бесов» на сцене Художественного театра, искренне присоединяемся к вашему протесту. Под видом служения искусству позорно проповедовать мракобесие, позорно служить религии.
Пусть на вас льют помоями все, кто утратил идейную почву, все испуганные приближением пробуждающейся демократии. Грязь, брызжущая от писаний из «Биржевки», не запятнает пролетарского певца-поэта низов перед лицом пробуждающегося рабочего класса. <…> Вместе со всеми истинными демократами мы протестуем против ничем не прикрытого цинизма всех этих лицемерных крикунов, которые осмелились перед лицом всего русского общества из-за угла напасть на вас. Грязь, брошенная в вас, осталась не только на руках, бросивших ее, но и на продажных душах и именах…»
В миллионах экземплярах вплоть до партийно-государственных документов будут в советские времена тиражироваться (примененные к сотням деятелей науки и культуры) рожденные вон еще когда политические штампы в форме истерической брани: «помои», «грязь», «под видом служения», «напали из-за угла», «продажные души»…
Выступление Горького, защищенное «рабочими-учащимися», печально отразилось на судьбе наследия русского гения: книги Достоевского после переворота большевиков будут пробивать себе дорогу к читателям с неслыханными препонами, сквозь брань пролеткультовской и ей вторящей официозной критики. А гениальный роман-предостережение «Бесы», провидчески угадавший приход и торжество в десятках стран революционной бесовщины, полностью будет реабилитирован только в наши дни (см. об этом монографию Ю.Ф. Карякина «Достоевский и канун XXI века». М., 1989). Актуально звучат сегодня слова, сказанные Д.В. Философовым еще в 1912 г.: «Отношение наше к Достоевскому есть мерило нашей культурности. Если мы не поймем, что загадка Достоевского есть загадка русской культуры, мы неминуемо превратимся в бурбонов».
(обратно)259
Орленев Павел Николаевич (наст. фам. Орлов; 1869–1932) — актер, игравший на сценах театров Малого, Ф.А. Корша и др. В числе его лучших ролей — Раскольников и Дмитрий Карамазов в спектаклях по романам Достоевского.
(обратно)260
Качалов Василий Иванович (наст. фам. Шверубович; 1875–1948) — актер МХТ с 1900 г.
(обратно)261
Ярославский Емельян Михайлович (наст, имя и фам. Миней Израилевич Губельман; 1878–1943) — политический деятель, публицист. Известность обрел как борец с религией.
(обратно)262
Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) — критик, литературовед.
(обратно)263
…ницшеанских и шпенглеровских героев. — Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ; автор трудов, написанных в жанре философско-поэтической эссеистики: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Так говорил Заратустра» (1883–1884) и др. В своих сочинениях проповедовал культ сильной личности. Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ, историк. Развил учение о культуре как множестве замкнутых «организмов», выражающих коллективную «душу» народа.
(обратно)264
Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) — организатор тайного общества «Народная расправа». Убил, заподозрив в предательстве, студента И.И. Иванова и скрылся за границу, однако вскоре был выдан швейцарскими властями. Приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.
(обратно)265
Ждановская реакция. — По имени советского политического деятеля Андрея Александровича Жданова (1896–1948). В 1946 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», направленное против «идеологически вредных произведений», к которым относились произведения М. Зощенко и А. Ахматовой. Жданов, глава ленинградской партийной организации, выступил с докладом по поводу этого постановления на собрании лениградских писателей.
(обратно)266
Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — публицист, социолог, критик, теоретик народничества. В 1892–1904 гг. — редактор журнала «Русское богатство». Автор полемических статей о Достоевском, в которых осуждает, в частности, роман «Бесы».
(обратно)267
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — критик, публицист. Редактор литературного отдела журнала «Мир искусства» (1899–1904). С начала 1900-х гг. ближайший друг и сподвижник Мережковского и Гиппиус. В 1901–1903 гг. активный участник Религиозно-философских собраний, соредактор (вместе с Мережковскими) журнала «Новый путь». Один из организаторов и руководителей Религиозно-философского общества в Петербурге (1907–1917). Автор книг «Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени. 1901–1908» (1909), «Неугасимая лампада», «Старое и новое. Сборник статей по вопросам искусства и литературы» (обе 1912). В конце декабря 1919 г. эмигрирует (с Мережковскими и Злобиным) в Варшаву. Соредактор варшавских газет «Свобода» (1920), «За свободу!» (1921–1932), «Молва» (1932–1934), «Меч» (1934–1939).
(обратно)268
Перед судом. По поводу статьи Н. Ульянова «Десять лет». Возрождение. 1959. № 88.
Ульянов Николай Иванович (1904–1985) — историк, литературовед, критик, прозаик, публицист. С 1935 г. профессор Ленинградского института истории, философии и литературы. В начале июня 1936 г. арестован и отправлен в лагерь на Соловки, затем в Норильск. В июне 1941 г. освобожден. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован на окопные работы под Вязьмой, где попал в плен и был отправлен в концлагерь. После войны остался в эмиграции. Участник парижского Союза борьбы за свободу России (1946–1961). В 1956–1972 гг. преподавал русскую историю в Йельском университете (США).
(обратно)269
Поэтом можешь ты не быть… — Строка из стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин». Далее в стихотворении следуют слова: «Но гражданином быть обязан».
(обратно)270
…прославляющее Сталина стихотворение… — Вероятно, имеются в виду два стихотворения: «21 декабря 1949 года», «И вождь орлиными очами…» (Огонек. 1950. № 14), посвященные 70-летию со дня рождения Сталина. Ахматова надеялась, что эти стихи помогут ей добиться освобождения сына, Льва Николаевича Гумилева, арестованного в ноябре 1949 г. Однако надежды ее были тщетными.
(обратно)271
Струве Глеб Петрович (1898–1985) — историк литературы, критик, переводчик. Участник Белого движения. С 1918 г. в эмиграции.
(обратно)272
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, публицист, политический деятель. Один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости».
(обратно)273
«Рассудку вопреки…» — слова Чацкого из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
(обратно)274
Кускова Екатерина Дмитриевна (1869–1958) — общественный и политический деятель, публицист. После 1917 г. издавала оппозиционную большевикам газету «Власть народа». В 1921 г. одна из организаторов Комитета помощи голодающим, разогнанного властями. В 1922 г. выслана из России. В эмиграции (в Берлине, Праге, Женеве) председатель Политического Красного Креста, член комитета пражского Земшра. Сотрудничала с газетами «Дни», «Последние новости», журналами «Современные записки», «Воля России», «Новый журнал» и др.
(обратно)275
Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936) — поэт, писатель, композитор, музыкальный критик, переводчик.
(обратно)276
Алексинская Татьяна Ивановна — (30 сентября/12 октября 1886, Москва — 20 октября 1968, Париж, похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа). Сестра милосердия, историк, мемуарист, общественный деятель.
Жена Г.А. Алексинского, мать Г.Г. Алексинского. Окончила Высшие медицинские курсы. Участвовала в революционной деятельности. В мировую войну работала в санитарном поезде на фронте, затем в хирургическом госпитале в Москве. В 1916 в Париже вышла ее книга «Среди раненых» (на французском языке).
В 1919 эмигрировала во Францию, жила в Париже. Работала в поликлинике «Convention». Сотрудничала во французской прессе. Основала Союз дипломированных сестер милосердия имени Ю. Вревской (1931), была бессменной председательницей его правления. Организовывала благотворительные вечера в пользу сестер милосердия. Участник Международных конгрессов сестер милосердия в Париже (1933) и Лондоне (1937). Входила в Комитет помощи Союзу русских военных инвалидов (1935). Во Вторую мировую войну организовала помощь русским солдатам, мобилизованным во французскую армию. Собрала большой архив по русской эмиграции. Публиковала очерки по истории революции и русской эмиграции и свои воспоминания в журналах «Возрождение», «Мосты», «Новый журнал», газете «Русская мысль».
(обратно)277
В Петербургском университете. Возрождение. 1959. № 89.
(обратно)278
Рудинский Владимир Андреевич — публицист, печатавшийся в журналах «Возрождение», «Новом журнале» и др. в 1950— 1970-х гг.
(обратно)279
Месняев Григорий Валерьянович — критик, публицист, печатавшийся в журнале «Возрождение» в 1950—1960-х гг. Автор книги «За гранью прошлых дней» (Буэнос-Айрес, 1957).
(обратно)280
Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) — прозаик.
(обратно)281
Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — прозаик, автор очерковых циклов «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли» и др.
(обратно)282
Лесков Николай Семенович (1831–1895) — прозаик, публицист.
(обратно)283
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), граф — поэт, прозаик, драматург. Автор исторического романа «Князь Серебряный» (1863), драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870), соавтор (с братьями Жемчужниковыми) пародийно-сатирических произведений, печатавшихся под псевдонимом Козьма Прутков.
(обратно)284
«Шансон де жест» (от фр. chanson de gestes) — французские средневековые эпические песни (сказания) о деяниях, подвигах.
(обратно)285
Тассо Торквато (1544–1595) — итальянский поэт Возрождения и барокко; автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580), подвергнутой суду инквизиции.
(обратно)286
Ариосто Лудовико (1474–1533) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор героической поэмы «Неистовый Роланд».
(обратно)287
Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт и политический деятель; автор поэм «Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671).
(обратно)288
Шелли Перси Биши (1792–1822) — английский поэт-романтик.
(обратно)289
Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681) — крупнейший драматург испанского барокко, создавший более четырехсот пьес разных жанров, в том числе 120 комедий.
(обратно)290
Джойс Джеймс (1882–1941) — ирландский прозаик-модернист. Автор романов «Улисс» (1922), «Поминки по Финнегану» (1939) и др.
(обратно)291
Пруст Марсель (1871–1922) — французский прозаик-модернист. Автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (т. 1—16, 1913–1927).
(обратно)292
Роллан Ромен (1866–1944) — французский прозаик, публицист, музыковед. Лауреат Нобелевской премии (1915).
(обратно)293
Орлова Раиса Д. (наст. фам. Либерзон; 1918–1989) — филолог, публицист. В 1941–1947 гг. заведовала Англо-американским отделом Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). Автор шести книг и более 200 статей. Жена Л.3. Копелева. С 1980 г. в вынужденной эмиграции.
(обратно)294
Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997) — писатель, публицист. В 1945 г. был арестован и приговорен к 10 годам заключения (находился в спецлагере, «шарашке», с А.И. Солженицыным). Участник правозащитного движения. С 1980 г. в вынужденной эмиграции.
(обратно)295
«Рассерженная молодежь». Возрождение. 1959. № 89.
(обратно)296
Эмис, Эймис Кингели Уильям (р. 1922) — английский прозаик, литературовед.
(обратно)297
Брейн Джон (1922–1986) — английский прозаик. Автор романа «Путь наверх» (1957), принесшего ему славу одного из ярких представителей «рассерженной молодежи».
(обратно)298
Уэйн Джон (1925–1994) — английский прозаик.
(обратно)299
Осборн Джон (1929–1994) — английский драматург.
(обратно)300
«Бит дженерейшн» (англ. beat generation) — «разбитое поколение», битники, представители анархически бунтарского движения молодежи в 1950—1960-е гг. (в основном в США и Англии).
(обратно)301
Керуак Джек (1922–1969) — американский прозаик.
(обратно)302
Аллен Гинсберг, Гинзберг (1926–1997) — американский поэт.
(обратно)303
Франсуаза Саган (1935–2004) — французская писательница, драматург.
(обратно)304
Роб-Грийе Алан (1922–2008) — теоретик «нового романа», направления во французской литературе 1940—1970-х гг., связанного с неоавангардизмом. Свои взгляды изложил в книгах «В лабиринте» (1959), «За новый роман» (1963), «Проект революции в Нью-Йорке» (1971) и др.
(обратно)305
Саррот Натали (1910–1999) — французская писательница, представительница «нового романа». Автор романов «Эра подозрения» (1956), «Золотые плоды» (1963), «Вы слышите их?» (1972) и др.
(обратно)306
Бютор Мишель (р. 1926) — французский прозаик, литературовед, искусствовед.
(обратно)307
Зигфрид Ленц (р. 1926) — немецкий прозаик.
(обратно)308
Гойтисоло, Гойтисоло-Гай Хуан (р. 1931) — испанский прозаик.
(обратно)309
Генрих Бёлль (1917–1985) — немецкий прозаик. Лауреат Нобелевской премии (1972).
(обратно)310
Герт Ледиг (1921–1999) — немецкий прозаик и драматург.
(обратно)311
Карл Людвиг Опиц (1914—?) — немецкий прозаик и публицист.
(обратно)312
Филдинг Генри (1707–1754) — английский прозаик, классик литературы Просвещения.
(обратно)313
Кеннет Рексрот (1905–1982) — американский поэт, критик, публицист, переводчик, художник-авангардист.
(обратно)314
Теннеси Уильямс (наст, имя и фам. Томас Ланир; 1911–1983) — американский драматург.
(обратно)315
«Последнее» поколение. Возрождение. 1959. № 89.
(обратно)316
Марсель Карне (1909–1996) — французский кинорежиссер.
(обратно)317
Олдингтон Ричард (1892–1962) — английский поэт и прозаик.
(обратно)318
Дадаист — последователь дадаизма, авангардистского движения в литературе и искусстве, основанного во время Первой мировой войны в Цюрихе и Нью-Йорке независимо друг от друга. К 1922 г. постепенно сошло на нет.
(обратно)319
Ничевоки — литературная группа, возникшая в 1920 г. в Москве под руководством поэта Рюрика Рока (наст. фам. и имя Рюрик Юрьевич Геринг; 1898–1930) в русле русского футуризма и имажинизма. Манифест ничевоки изложили в коллективных сборниках «Вам» (1920) и «Собачий ящик, или Труды Творческого бюро Ничевоков в течение 1920–1921 г.» (1921).
(обратно)320
Башня из слоновой кости — выражение, обозначающее отчужденность поэта и художника от жизни. Принадлежит французскому писателю и критику Шарлю Огюстену Сент-Бёву (1804–1869).
(обратно)321
Два слова о двух статьях. Возрождение. 1959. № 89.
(обратно)322
«Отцы пустынники и девы непорочны» — неточно первая строка стих, без названия (1836) А.С. Пушкина. У Пушкина: «жены непорочны».
(обратно)323
Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) — поэт, прозаик.
(обратно)324
Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) — поэт и живописец. Один из вождей русского авангарда. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)325
Третий Всесоюзный съезд советских писателей. Возрождение. 1959. № 90.
(обратно)326
Сурков Алексей Александрович (1899–1983) — поэт.
(обратно)327
Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) — прозаик.
(обратно)328
Серебряный век. Возрождение. 1959. № 90.
(обратно)329
…из его воспоминаний о Серебряном веке… — Очерк Б.К. Зайцева «Серебряный век. Из воспоминаний и размышлений» был опубликован в двух номерах парижской газеты «Русская мысль», 5 и 7 мая 1959 г.
(обратно)330
…не обмолвился о кружке Дягилева… — «Дягилевский кружок» — художественное объединение «Мир искусства» (1900–1924), возглавлявшееся С.П. Дягилевым и А.Н. Бенуа. Под их редакцией в 1899–1904 гг. издавался журнал «Мир искусства». Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) — театральный и художественный деятель. Организатор выставок русского искусства, русских концертов, а также «Русских сезонов» за границей (с 1907 г.) и зарубежной труппы «Русский балет Дягилева» (1911–1929). Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — живописец, график, художник театра, теоретик и историк искусства, художественный критик. С 1924 г. в Париже. Автор книги «Жизнь художника: Воспоминания» (Нью-Йорк, 1955).
(обратно)331
…о журнале «Мир искусства», с какого, собственно, и начинается «Серебряный век»… — Предысторию Серебряного века в русской культуре начали поэты-символисты (декаденты), в том числе Мережковский, опубликовавший сб. «Символы» в 1892 г., а в 1893-м (за семь лет до появления кружка Дягилева и его журнала) — программную работу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», ставшую манифестом Серебряного века и русского литературного модерна.
(обратно)332
…в «Возрождении» при Мельгунове… — Историк С.П. Мельгунов редактировал журнал «Возрождение» с 1951 по 1958 г. Затем издание возглавили С.С. Оболенский и В. А. Злобин, а с 1960 г. — Я.Н. Горбов.
(обратно)333
…«Иисус Неизвестный». Зайцев о ней не упомянул ни разу… — Книгу Мережковского Зайцев не упомянул, вероятно, потому, что не счел нужным повторяться: он еще в 1932 г. опубликовал в газете «Возрождение» рецензию «Иисус Неизвестный».
(обратно)334
«Лолита» во Франции. Возрождение. 1959. № 90.
(обратно)335
Князь Мышкин — герой романа Достоевского «Идиот» (1868).
(обратно)336
Мадам Бовари — героиня одноименного романа (1857) Г. Флобера.
(обратно)337
Сартр Жан Поль (1905–1980) — французский прозаик, драматург, философ, публицист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1964), от которой он отказался.
(обратно)338
Марсель Эме (1902–1967) — французский прозаик и драматург.
(обратно)339
Жан Жене (1910–1986) — французский прозаик и драматург.
(обратно)340
Кокто Жан (1889–1963) — французский писатель, художник, киносценарист и режиссер.
(обратно)341
Лауренс Дейвид Герберт (Лоуренс, Лоренс; 1885–1930) — английский прозаик и поэт. Автор известного романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928).
(обратно)342
Henri Troyat — академик. Возрождение. 1959. № 90. Henri Troyat, Анри Труайя (р. 1911) — псевдоним выходца из России Льва Тарасова, французского прозаика и драматурга, члена Французской академии с 1959 г.
(обратно)343
Приз (премия) популярности (фр.).
(обратно)344
Prix Louis Barthou — Премия Луи Барту (1862–1934), министра иностранных дел Франции, убитого террористом.
(обратно)345
«Tant que la terre durera» — трилогия «Пока стоит земля» (1947–1952).
(обратно)346
«Les Semailles et les Moissons» — серия романов «Сев и жатва» (т. 1–5,1953–1958).
(обратно)347
«La lumiei'e des justes» — серия исторических романов «Свет праведных» (1959–1963).
(обратно)348
Поговорим о прошлом. Возрождение. 1959. № 91.
(обратно)349
…«духом отрицания, духом сомнения»… — См. у М.Ю. Лермонтова в поэме «Демон»: «Дух отрицанья, дух сомненья // Летал над грешною землей».
(обратно)350
«…собрание «Зеленой лампы». — В собеседовании на тему «От чего зависит эмиграция» (по докладу Д.В. Философова, зачитанному З.Н. Гиппиус) приняли участие А.В. Алферов, Злобин, Г.В. Адамович, B.C. Варшавский, Б.В. Дикой, Н.А. Оцуп, Д.С. Мережковский и др.
(обратно)351
«Меч» (Варшава, 20 мая 1934 — 27 августа 1939) — литературно-политический еженедельник, который возглавляли Д.В. Философов (в Варшаве) и Д.С. Мережковский (в Париже). С 1934 г. воскресная газета (редакторы В.В. Бранд и Г.Г. Соколов).
(обратно)352
Алферов Анатолий В. (1902?—1954?) — прозаик, критик. Автор книги «Очерки по истории русской литературы XIX века» (Прага, 1925). В 1930-е гг. жил в Париже, работая маляром. Участник собраний «Зеленой лампы» и «Перекрестка», вечеров «Круга». Печатался в журналах «Встречи», «Иллюстрированная Россия», «Полярная звезда» (соредактор), «Числа».
(обратно)353
…доклад об «эмигрантской литературе» В. Ходасевича… — Имеется в виду доклад «Отчего мы погибаем?» (см. объявление в газ.: Возрождение. 1933. 6 апр.), сделанный Ходасевичем на заседании литературного общества «Перекресток». Его статья по докладу — «Литература в изгнании» (Возрождение. 1933. 27 апр. и 4 мая).
(обратно)354
…доклад Алферова… — «Будни эмиграции (Куда мы идем?)». Содокладчик-оппонент Злобин. В дискуссии выступили Е.В. Бакунина, B.C. Варшавский, З.Н. Гиппиус, Ю.В. Мандельштам, Д.С. Мережковский, Н.А. Оцуп, Б.Ю. Поплавский, M.Л. Слоним, В. А. Смоленский, Ю.К. Терапиано и др. (см. отчет: Числа. 1933. № 9).
(обратно)355
«Перекресток» (1928–1937) — литературная группа поэтов, живших в Париже (П. Бобринский, Д. Кнут, Ю. Мандельштам, В. Смоленский, Ю. Терапиано и др.) и Белграде (И. Голенищев-Кутузов, Е.Тагер и др.).
(обратно)356
«Страшная месть» (1832) — повесть Н.В. Гоголя.
(обратно)357
Почти свобода. Возрождение. 1959. № 91.
(обратно)358
Гурвич Георгий Давидович (1894–1965) — социолог, правовед, философ, публицист. В эмиграции с 1921 г. (Берлин, Париж). В 1920—1930-е гг. печатался в журнале «Современные записки».
(обратно)359
Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1929) — прозаик, историк, библиограф. В эмиграции с 1918 г. (Финляндия, Сербия, Латвия).
(обратно)360
…после нашумевшей речи З. Гиппиус… — Имеется в виду выступление Гиппиус на собрании «Зеленой лампы» 11 июня 1931 г. на тему «У кого мы в рабстве? (О духовном состоянии эмиграции)». После вступительного слова Г.В. Иванова в дискуссии приняли участие Г.В. Адамович, B.C. Варшавский, Б.К. Зайцев, Злобин, А.И. Куприн, Д.С. Мережковский, Н.А. Оцуп, Б.Ю. Поплавский, Ю. Фельзен, М.О. Цетлин. Речь Гиппиус напечатала варшавская газета «За свободу!» (1931.21 июня).
(обратно)361
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — ученый-правовед, переводчик, публицист. В 1880–1905 гг. обер-прокурор Святейшего Синода.
(обратно)362
Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский; 1867–1944) — церковный деятель, духовный писатель. В 1901–1905 гг. ректор С.-Петербургской духовной академии. Председатель Религиозно-философских собраний. Архиепископ Финляндский и Выборгский. С 1917 г. архиепископ, а затем митрополит Владимирский и Шуйский. В 1926 г. был арестован. С 1927 г. заместитель Патриаршего местоблюстителя (главы Русской Православной Церкви). В 1942 г. стал патриархом Московским и всея Руси.
(обратно)363
Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — экономист, историк, философ, критик, публицист, политический деятель; академик Российской Академии наук (1917). Лидер партии кадетов. В 1906–1918 гг. редактор петербургского журнала «Русская мысль». Соавтор сборника «Вехи» (1909), вызвавшего долгую политическую полемику, которая завершилась изгнанием ее участников из России. С 1920 г. в эмиграции. В 1925–1927 гг. под ред. Струве в Париже выходила ежедневная газета «Возрождение», в 1927–1928 гг. — «Россия», в 1928–1934 гг. — «Россия и славянство».
(обратно)364
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ, публицист. В 1922 г. выслан из России. Основатель и редактор парижского журнала «Путь» (сентябрь 1925 — март 1940). Автор около 40 книг и более 500 статей.
(обратно)365
О моем однофамильце. Возрождение. 1959. № 92.
(обратно)366
Не память, а — воскресенье… — Неточно из стих. «Над забвеньем» (сентябрь 1928). У Гиппиус 1-я строка: «Не память, — но воскресенье».
(обратно)367
Милая, верная, от века Суженая… — Из стих. Гиппиус «Божья» (ноябрь 1916).
(обратно)368
Он был титулярный советник… — Неточно 1-я строфа из стих, без названия Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908), положенного на музыку А.С. Даргомыжским.
(обратно)369
Е.Д. Кускова писала… о проф. Тарасевиче… — См. ее некролог «Л.А. Тарасевич» (Современные записки. 1927. № 32).
(обратно)370
Тарасевич Лев Александрович (1868–1927) — микробиолог и патолог. В 1908–1924 гг. профессор Высших женских курсов 2-го Московского университета. В годы Гражданской войны организатор борьбы с эпидемиями. Основатель (1918) и директор Московской станции по контролю сывороток и вакцин (ныне институт его имени). Покончил жизнь самоубийством в Дрездене.
(обратно)371
Семашко Николай Александрович (1874–1949) — врач. В 1918–1930 гг. нарком здравоохранения.
(обратно)372
Что дальше? Возрождение. 1959. № 92.
(обратно)373
Савинков Борис Викторович (1879–1925) — политический деятель, писатель. С 1903 г. один из лидеров боевой организации эсеров, организатор и участник убийств министра внутренних дел В.К. Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1906 г. приговорен к смертной казни. Бежал в Румынию, где занялся литературным творчеством (написал романы «Конь бледный» и «То, чего не было»). В 1917 г. управляющий военным министерством во Временном правительстве, исполняющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Ушел в отставку после подавления 25 августа 1917 г. мятежа генерала Л.Г. Корнилова (1870–1918). Участвовал в антибольшевистском движении. В 1919 г. выехал за границу. 7 мая 1925 г. покончил с собой в советской тюрьме (по другой версии — убит чекистами).
(обратно)374
Ди-пи (от англ. diplaced persons) — эмигранты «второй волны» из числа перемещенных лиц (после Второй мировой войны).
(обратно)375
Старец Зосима — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
(обратно)376
Мышеловка искусства. Возрождение. 1959. № 94.
(обратно)377
Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) — прозаик, публицист, драматург, киносценарист. Автор документальных книг, радио- и телепередач и о неизвестных героях Великой Отечественной войны.
(обратно)378
Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1986) — литературовед.
(обратно)379
Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) — литературовед. В 1956–1970 гг. главный редактор «Библиотеки поэта».
(обратно)380
Эвентов Исаак Станиславович (1910–1989) — писатель, литературовед.
(обратно)381
Хрущев и новая история коммунистической партии. Возрождение. 1959. № 94.
(обратно)382
Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988) — в 1953–1955 гг. председатель Совета министров СССР. В 1930— 1940-х гг. один из самых активных организаторов массовых репрессий. В 1957 г. участник оппозиционной группы (вместе с Л.М. Кагановичем, В.М. Молотовым и др.), выступившей против политического курса Н.С. Хрущева.
(обратно)383
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) — в 193 5— 1944 гг. нарком путей сообщения. После смерти Сталина первый заместитель председателя Совмина СССР. В 1930—1940-х гг. один из самых активных организаторов массовых репрессий. В 1957 г. участник оппозиционной группы, выступившей против политического курса Н.С. Хрущева.
(обратно)384
Молотов Вячеслав Михайлович (наст. фам. Скрябин; 1890–1986) — в 1939–1949 и 1953–1956 гг. нарком, министр иностранных дел. В 1930—1940-х гг. один из самых активных организаторов массовых репрессий. В 1957 г. участник оппозиционной группы, выступившей против политического курса Н.С. Хрущева.
(обратно)385
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) — маршал Советского Союза (1935). С 1936 г. Первый заместитель наркома обороны СССР. Подвергся репрессии и был расстрелян.
(обратно)386
Троцкий разоблачает. Возрождение. 1959. № 94.
(обратно)387
Что касается Екатеринбургского злодеяния… — Имеется в виду убийство Николая II и его семьи.
(обратно)388
Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) — с ноября 1917 г. председатель ВЦИК. В феврале — марте 1918 г. председатель Комитета революционной обороны Петрограда. Один из инициаторов и организаторов «красного террора» и «расказачивания».
(обратно)389
Красин Леонид Борисович (1870–1926) — инженер, политический деятель. В большевистском правительстве занимал посты наркома торговли, путей сообщения, внешней торговли.
(обратно)390
Гватемальское действо Возрождение. 1959. № 95.
(обратно)391
Дикий Андрей — публицист, автор книг и статей по национальному вопросу, печатавшихся в 1950—1960-х гг. в журнале «Возрождение» и др. изданиях.
(обратно)392
О «порабощенных народах». Возрождение. 1959. № 95.
(обратно)393
Миротворец. Возрождение. 1959. № 95.
(обратно)394
Авторханов Абдурахман Геназович (1908–1997) — историк, публицист. В 1937 г. репрессирован. В 1943 г. депортирован в Германию, где остался после войны. Автор радиолекций «История культа личности Сталина», книг «Технология власти» (1959), «Загадка смерти Сталина (заговор Берии)» (1976), «Империя Кремля. Советский тип колониализма» (1988).
(обратно)395
Голос крови. Возрождение. 1959. № 95.
(обратно)396
Секрет семилетки? Возрождение. 1960. № 97.
(обратно)397
Берберова Нина Николаевна (1901–1979) — писательница, критик, поэтесса. В эмиграции с 1922 г.
(обратно)398
…война… «алой и белой розы»… — Междоусобная война в Англии в 1455–1485 гг. за престол между ветвями династии Плантагенетов — Ланкастерами (в гербе алая роза) и Йорками (в венке белая роза).
(обратно)399
Вишняк Марк Вениаминович (1883–1975) — политический деятель, публицист, журналист, юрист; эсер. Один из ведущих руководителей главного журнала эмиграции в Париже — «Современные записки» (1920–1940) и журнала «Русские записки» (1937–1939). С 1940 г. в США.
(обратно)400
В великом холоде могилы… — Стих. Ф. Сологуба без названия (1902).
(обратно)401
Когда идеи гаснут. Возрождение. 1960. № 97.
(обратно)402
«Новый корабль» (Париж, сент. 1927–1928. № 1–4) — литературный журнал, выходивший под ред. Злобина, Ю.К. Терапиано и Л.E. Энгельгардта.
(обратно)403
…статья Антона Крайнего… — «Заметки о «человечестве». Человекообразные» З.Н. Гиппиус.
(обратно)404
Коверда Борис Софронович (1907–1987) — гимназист, убивший 7 июня 1927 г. советского полпреда в Польше П.Л. Войкова. Польский суд приговорил его к пожизненной каторге, однако в 1937 г. он был выпущен. Умер в США.
(обратно)405
Памяти Н.Д. Янчевского. Возрождение. 1960. № 97.
(обратно)406
Николай Дмитриевич Янчевский (1896–1959) — публицист, музыковед, искусствовед. Автор книг «Русская опера за рубежом» (1935), «Константин Коровин и его время» (1958) и др.
(обратно)407
Врангель Петр Николаевич (1878–1928), барон — генерал-лейтенант, один из главных организаторов Белого движения в Гражданскую войну. В 1920 г. принял у А.И. Деникина командование вооруженными силами России, но вскоре потерпел поражение. В эмиграции создал и возглавил Русский общевоинский союз.
(обратно)408
Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) — режиссер, драматург, историк и теоретик театра. Один из создателей знаменитых пародийных театров «Кривое зеркало» (1910–1916), «Летучая мышь» и др. Эмигрировал в 1925 г. во время гастролей «Кривого зеркала» в Варшаве. С января 1927 г. в Париже.
(обратно)409
…к сорокалетию приезда Дягилева в Париж. — С.П. Дягилев в Париж приехал в 1906 г. и в десяти залах Осеннего салона «Grand Palais» развернул выставку икон и картин русских художников. Выставка, прошедшая с огромным успехом, была показана также в Берлине и Венеции.
(обратно)410
Горянский Валентин Иванович (наст. фам. Иванов; 1888–1949) — поэт, драматург, публицист, критик, мемуарист. Сотрудник петербургских изданий «Сатирикон» и «Новый сатирикон». В эмиграции с 1920 г. Во Франции с 1926 г., где печатался в газетах «Последние новости» и «Возрождение».
(обратно)411
Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) — живописец, мастер пленэрной живописи. С 1923 г. за границей.
(обратно)412
«Воздушные пути». Возрождение. 1960. № 98.
«Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1960–1967. Вып. 1–5) — литературный альманах, издававшийся и редактировавшийся Р.Н. Гринбергом.
(обратно)413
…поэму Анны Ахматовой… — «Поэма без героя», писавшаяся в 1940–1965 гг.
(обратно)414
Чиннов Игорь Владимирович (1909–1996) — поэт. В эмиграции с 1922 г. В США с 1962 г.
(обратно)415
Моршен Николай Николаевич (наст. фам. Марченко; 1917–2001) — поэт. В эмиграции с 1944 г. В США с 1950 г.
(обратно)416
Кленовский Дмитрий Иосифович (наст. фам. Крачковский; 1892–1976) — поэт, критик, мемуарист. В эмиграции с 1943 г.
(обратно)417
Павлова Каролина Карловна (урожд. Яниш; 1807–1893) — поэтесса, прозаик, переводчица.
(обратно)418
…«губителен» Адамович. — В альманахе напечатаны заметки Г.В. Адамовича «Темы», эссеистские зарисовки о Л. Толстом, Б. Пастернаке, К. Леонтьеве, М. Цветаевой.
(обратно)419
Биск Александр Акимович (1883–1973) — поэт, переводчик, мемуарист. В эмиграции с 1917 г. с 1942 г. в США.
(обратно)420
Марков Владимир Федорович (1920–2013) — поэт, критик, литературовед. В 1941 г. попал в плен. После освобождения из фашистских лагерей — в эмиграции. С 1949 г. в США. Профессор Калифорнийского университета (1957–1990).
(обратно)421
Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) — философ, публицист, критик, юрист. В 1922 г. выслан из России. В 1925 г. вместе с Бердяевым основал в Париже журнал «Путь». Автор книг «Этика преображенного Эроса: Проблемы Закона и Благодати» (1931), «Философская нищета марксизма» (1952) и др.
(обратно)422
«Примерка гроба». Возрождение. 1960. № 98.
(обратно)423
«Вехи» — «сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909), изданный группой религиозных философов и публицистов (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Франк, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский). Большинство авторов после большевистского переворота были изгнаны из России.
(обратно)424
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — писатель.
(обратно)425
Киров Сергей Миронович (наст. фам. Костриков; 1886–1934) — политический деятель. Убит террористом.
(обратно)426
Кто посягнул на детище Петрово?.. — Из стих. Гиппиус «Петроград» (1914).
(обратно)427
Темное дело. Возрождение. 1960. № 98.
(обратно)428
Спуск на тормозах. Возрождение. 1960. № 99.
(обратно)429
…в «Зеленой лампе» был поставлен вопрос о «конце литературы». — имеется в виду заседание «Зеленой лампы» 3 марта 1929 г., на котором был обсужден доклад Г.В. Адамовича «Конец литературы».
(обратно)430
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1774) — поэт, автор знаменитых «Сатир».
(обратно)431
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — публицист, поэт, общественный деятель. Один из последних славянофилов, перешедший на позиции панславизма.
(обратно)432
Хованщина — мятеж стрельцов (1682) против царевны Софьи Алексеевны, возглавлявшийся боярином Иваном Андреевичем Хованским (?—1682). Казнен вместе с сыном Андреем после разгрома стрелецкого восстания.
(обратно)433
Гермоген (в миру Ермолай; ок. 1530–1612) — патриарх Московский и всея Руси с 1606 г… Возглавлял патриотическое движение против польских интервентов. Был заключен ими в темницу Чудова монастыря и уморен голодом. Канонизирован Русской Православной Церковью.
(обратно)434
«Ковчег Завета» — ларь, короб, в котором хранились и переносились тексты десяти священных заповедей, врученные Моисею на горе Синай богом Яхве.
(обратно)435
Хрущев и великодержавность. Возрождение. 1960. № 99.
(обратно)436
…полное собрание сочинений Иннокентия Анненского… — Имеется в виду издание: Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. Вступ. ст., сост., примеч. А.В. Федорова. Л., 1959 (Библиотека поэта. Большая серия).
(обратно)437
Макмиллан Гарольд (1894–1993) — 1957–1963 гг. премьер-министр Великобритании. Впоследствии глава крупной издательской фирмы.
(обратно)438
Вопрос без ответа. Возрождение. 1960. № 99.
(обратно)439
«Голос Родины» — ежедневная газета Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом (общество «Родина»), издававшаяся в Москве с апреля 1955 г.
(обратно)440
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945), граф — прозаик, драматург, поэт, публицист. В 1919–1923 гг. эмигрант в Париже и Берлине.
(обратно)441
Макар Девушкин — герой повести Ф.М. Достоевского «Бедные люди» (1845).
(обратно)442
Взрыв изнутри. Возрождение. 1960. № 100.
(обратно)443
Станюкович Николай Владимирович-поэт, критик. Автор книг «Из пепла» (1929), «Свидетельство» (1949), «Возвращение в гавань» (1949).
(обратно)444
Геннадий Андреев (наст, имя и фам. Геннадий Андреевич Хомяков; 1909–1984) — прозаик, публицист. В 1927–1935 гг. находился в заключении. С 1942 г. в плену у немцев. В 1958–1970 гг. редактор альманаха «Мосты» (Мюнхен). В дальнейшем жил в США.
(обратно)445
«Время, вперед!» (1932) — роман о строительстве Магнитогорского металлургического комбината Валентина Петровича Катаева (1897–1986).
(обратно)446
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) — донской казак, предводитель Крестьянской войны 1670–1671 гг. Казнен.
(обратно)447
Сила смеха. Возрождение. 1960. № 100.
(обратно)448
Два Хрущева. Возрождение. 1960. № 100.
(обратно)449
Вейган Максим (1867–1965) — французский генерал. С мая 1940 г. главнокомандующий вооруженными силами. Один из виновников капитуляции Франции, за что был обвинен в предательстве. Реабилитирован в 1948 г.
(обратно)450
«…палачу Будапешта…» — Имеется в виду вторжение советских войск в Венгрию в 1956 г., подавивших антикоммунистический мятеж.
(обратно)451
Ильичев Леонид Федорович (1906–1990) — в 1958–1961 гг. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС.
(обратно)452
Б.И. Николаевский — в инициалах неточность: имеется в виду Борис Иванович Николаевский (1887–1966), историк, архивист, публицист. Выслан из России в 1922 г. В 1924–1931 гг. представитель в Берлине московского Института Маркса-Энгельса. Лишен гражданства в 1932 г. за то, что осудил коллективизацию и сталинские репрессии. С 1940 г. в США. Один из организаторов «Лиги борьбы за народную свободу» (1949).
(обратно)453
Тяжелая душа. Печ. по первым публикациям в журнале «Возрождение» и «Новом журнале», сверенным с посмертным изданием книги В.А. Злобина «Тяжелая душа» (Вашингтон: изд. Русского книжного дела в США, Victor Kamkin, Inc. 1970).
(обратно)454
«Dichtung und Wahrheit» («Поэзия и правда»; 1833) — название автобиографической книги И.В. Гёте.
(обратно)455
Порой всему, как дети, люди рады… — Первая строфа стих. «Последнее» (1900).
(обратно)456
Ищу опасное и властное… — Из стих. «Гроза» (1905), посвященного А.А. Блоку.
(обратно)457
Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869–1962) — общественно-политический деятель, публицист, прозаик, литературовед, мемуарист. В ноябре 1917 г. вместе с А.С. Изгоевым издавала антибольшевистскую газету «Борьба». С начала 1920 г. в эмиграции. В 1921–1922 гг. редактор лондонской газеты «Russian Life». В 1921 г. основала в Лондоне Общество помощи русским беженцам и в течение 20 лет бессменно руководила им. Автор двухтомника «Жизнь Пушкина» (1929,1948), мемуарных книг «На путях к свободе» (Нью-Йорк, 1952), «То, чего больше не будет» (Париж, 1954), «Подъем и крушение» (Париж, 1956–1958).
(обратно)458
Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) — поэт, критик, историк религии. Участник Первой мировой и Гражданской войн (в составе Добровольческой армии). С 1920 г. в эмиграции. В 1925 г. один из организаторов и председатель парижского Союза молодых писателей и поэтов. Соредактор журналов «Новый дом» (1926–1927) и «Новый корабль» (1927–1928). Литературный обозреватель газеты «Русская мысль» в 1955–1978 гг. Автор мемуарной книги «Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Эссе, воспоминания, статьи» (сост. Р. Герра, А.Д. Глезер. Париж; Нью-Йорк, 1987).
(обратно)459
Великий инквизитор — герой вставной «поэмки» Ивана Карамазова из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880). Образ властолюбца и гордеца, восставшего против Иисуса Христа и его учения, стал символом насильственного устроения земного рая путем превращения человеческого общества в «бесспорный общий и согласный муравейник», в покорное стадо.
(обратно)460
З. Гиппиус и Д. Мережковский. Возрождение. 1959. № 93. Впервые: Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 31 под названием «З.Н. Гиппиус. Ее судьба» (под рубрикой «Литературный дневник»).
(обратно)461
Отец — Гиппиус Николай Романович, юрист.
(обратно)462
Степанова Анастасия — мать Гиппиус, дочь екатеринбургского полицмейстера.
(обратно)463
Не март девический сиял моей заре… — Начальные строки стих. «Овен и Стрелец» (1907).
(обратно)464
…ее отдали в Киевский институт… — Гиппиус в 1877–1878 гг. несколько месяцев училась в Киевском женском институте. Учеба была прервана из-за переезда семьи в Москву.
(обратно)465
Живые, бойтесь земных разлук… — Последняя строка стих. «Берегись..»(1913).
(обратно)466
Любовь не стерпит, не отомстив… — Из стих. «Берегись…».
(обратно)467
Она никогда не узнает… — Один из вариантов стих. «Оттуда?» (Варшава, 1920; с посвящением: Д.П.С. — няне Д.П. Соколовой).
(обратно)468
…Нежин, город Гоголя… — Н.В. Гоголь в 1821–1828 гг. учился в Нежинской гимназии высших наук.
(обратно)469
Я претепло одета… — Из стих. «Девочка» (1912).
(обратно)470
«Желанья были мне всего дороже…» — Из стих. «Брачное кольцо» (1905).
(обратно)471
По лестнице… ступени все воздушней… — Четверостишие, написанное Гиппиус на обложке коллективного сборника стихов «Якорь» (Берлин, 1936). Стихотворение привел также С.К. Маковский в книге «На Парнасе Серебряного века» (Мюнхен, 1962; очерк «Зинаида Гиппиус»).
(обратно)472
«… Неугасим огонь души». — Из стих. «Неотступное» (1925).
(обратно)473
«Труды и дни» — название дидактической поэмы древнегреческого поэта Гесиода (ок. 700 до н. э.).
(обратно)474
Но слабости смирения… — Неточно из стих. «Оправдание» (1904).
(обратно)475
Давно печали я не знаю… — В письме к В.Я. Брюсову от 11 января 1902 году, посылая это стихотворение, Гиппиус вспоминала: «В 1880 г., т. е. когда мне было 11 лет, я уже писала стихи (причем очень верила во «вдохновение» и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги). Стихи мои всем казались «испорченностью», но я их не скрывала. Были довольно однообразны, не сохранились, но вот, помню кусочки одного из самых первых. Оцените детскую и странную искренность. Должна оговориться, что я была нисколько не «испорчена» и очень «религиозна» при всем этом. <…> Выписываю со всеми трогательными «рифмами», как помню. Вот вам ваше сердце — в теле одиннадцатилетней девочки, едва прочитавшей Пушкина и Лермонтова — потихоньку! не знающей ни стиха, боящейся наказания за «испорченность», напрасно старающейся каяться перед Христом «нищих духом и обремененных!» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 288. Публикация М.В. Толмачева).
(обратно)476
Я на единой мысли сужен… — Из стих. «Смотрю» («Я сужен на единой Мысли…»; 1930).
(обратно)477
Хочу я с небом примириться… — Из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (1838).
(обратно)478
Решала я — вопрос огромен… — Из стих. «Любовь к недостойной» (1902).
(обратно)479
Нумен, ноумен (греч.) — непознаваемая «вещь в себе»; термин, введенный немецким философом Иммануилом Кантом (1724–1804).
(обратно)480
Феномен (греч. являющееся) — в философии И. Канта изменчивая часть бытия.
(обратно)481
Мне нужно то, чего нет на свете… — Первая строка стих. «Песня».
(обратно)482
Сны странные порой нисходят на меня… — Из стих. «Лестница» (1898; дата установлена А.В. Лавровым).
(обратно)483
К тебе я буду прилетать… — Из поэмы «Демон» Лермонтова.
(обратно)484
О, мудрый Соблазнитель… — Последняя строфа стих. «Гризельда» (1895).
(обратно)485
Сравнивать их с Филемоном и Бавкидой, Дафнисом и Хлоей… Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной… — Названы идеальные супружеские пары: соответственно герои древнегреческого мифа, любовно-буколического романа Лонга (ок. 200 до н. э.) и повести Н.В. Гоголя.
(обратно)486
«Я встретила его довольно сухо…» — Здесь и далее Злобин цитирует книгу Гиппиус «Дмитрий Мережковский».
(обратно)487
Данилевский Григорий Петрович (1829–1890) — прозаик, публицист. Автор популярных исторических романов.
(обратно)488
…его первым романом… — Исторический роман «Смерть богов. Юлиан Отступник» (опубл. 1895) — первый в трилогии «Христос и Антихрист», продолженной романами «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (опубл. 1901) и «Антихрист. Петр и Алексей» (опубл. 1905).
(обратно)489
Сидят, целуясь… А я, украдкой… — Из стих. «Мудрость» (1908).
(обратно)490
Мать Философова — Анна Павловна Философова (урожд. Дягилева; 1837–1912), деятельница женского движения в России, одна из учредительниц первых женских трудовых артелей, в том числе артели переводчиц, а также петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов (1878), инициатор создания Русского взаимно-благотворительного общества (1899).
(обратно)491
Душа мечтает с вещей безудержностью… — Из стих. «Водоскат» (1905), позднее посвященного Блоку.
(обратно)492
И лучших дней воспоминанья… — Из поэмы «Демон» Лермонтова.
(обратно)493
Все решено от Духа Свята… — Из стих. «Успокойся!»(1904).
(обратно)494
«Белые одежды» — библейский символ чистоты, непорочности, праведности, близости к Богу. В Апокалипсисе (гл. 3, ст. 4, 5) говорится, что те, кто не запятнал свои души грехами и преступлениями, будут как достойные награды за подвиг жизни ходить вместе с Господом облаченными в белые одежды.
(обратно)495
Единый миг застыл и длится… — Из стих. «Земля» (1908).
(обратно)496
Кто-то из мрака молчания… — Из стих. «Молитва» (1897).
(обратно)497
«Да, верю в любовь…» — Из дневника «Contes d'amour».
(обратно)498
Господь, Господь мой, Солнце, где Ты? — Из стих. «Август» (1904).
(обратно)499
Ни слов, ни слез, ни вздоха — ничего… — Из стих. «Наставление» (1925).
(обратно)500
И проклял Демон побежденный… — Из поэмы «Демон» Лермонтова.
(обратно)501
Мис Тификация. Возрождение. 1955. № 47 (под названием «Неистовая душа», с разночтениями).
(обратно)502
Мейер Александр Александрович (1875–1939) — религиозный мыслитель, философ-культуролог, публицист. Один из теоретиков «мистического анархизма» (наряду с Г.И. Чулковым). Участник дискуссий в Религиозно-философском обществе. В 1910-е гг. взгляды Мейера и Гиппиус на современное общественное движение во многом совпадали. В 1918 г. — один из учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфилы). В декабре 1928 г. был арестован и отправлен в Соловецкий концлагерь. Отбыл срок в 1935 г.
(обратно)503
…изображает ее Б.К. Зайцев… — См. «Чехов» (1954) в изд.: Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 11 т. Т. 5. М.: Русская книга, 1999. О Гиппиус Зайцев пишет: «…ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочьими глазами…» (С. 388).
(обратно)504
Чехов, впервые попавший за границу… — А.П. Чехов, приняв предложение А.С. Суворина совершить путешествие в Италию и Францию, выехал за границу 18 марта 1891 г. В Венеции 24 марта они встретились с Мережковскими.
(обратно)505
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — прозаик, драматург, публицист, мемуарист. Владелец книжного издательства, в котором выходили газета «Новое время» (с 1876 г.), журнал «Исторический вестник» (с 1880 г.). На паях с П.П. Гнедичем и П. Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895–1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно-художественного общества имени А.С. Суворина.
(обратно)506
«Я просто ничего не забываю»… в одном из последних стихотворений… — Имеется в виду стих. «Я был бы рад, чтоб это было…» (1944), посвященное Злобину, где есть строка: «Я ж — ничего не забываю». См. также в стих. «Стены» (1932): «Я ничего не забываю».
(обратно)507
Хочешь знать, почему я весел?.. — Из стих. «Негласные рифмы» (1925).
(обратно)508
…за подписью В. Витовт… — В цикл «Стихотворения В. Витовта» входят: «Дана мне грозная отрада…» (было опубл. в «Новом корабле». 1927. № 2), «Улица. Фонарь. И я…», «Ночую за полтинницей…», «Милая, выйди со мной на балкон…».
(обратно)509
Грета Герелль (1898–1982) — шведская художница, дружившая и переписывавшаяся с Мережковскими в 1930-е гг.
(обратно)510
…Живу в себе, //А если нет, не все ль равно… — Из стих. «Память» (1913–1925).
(обратно)511
…если не ошибаюсь, в «Разрушенных гнездах»… — Речь идет о романе А.В. Амфитеатрова «Восьмидесятники», кн. 1 — я «Разрушенные воли».
(обратно)512
Не слушайте меня, не стоит: бедные… — Первая строфа стих. «Шутка» (1905).
(обратно)513
Если гаснет свет — я ничего не вижу… — Четверостишие «Если» (февраль 1918).
(обратно)514
Я от дверей не отойду… — Стих. «Неотступное» (1925).
(обратно)515
«В новой» — опубл. в «Современных записках» (1932. № 49).
(обратно)516
«Отъезд» — опубл. в «Современных записках» (1935. № 57). В 1937 г. написан новый вариант.
(обратно)517
Св. Тереза Авильская(1515–1582) — испанская монахиня и писательница, святая покровительница Испании (вместе со св. Иаковом). Автор сочинений «Путь к совершенству» и «Внутренняя крепость». См. о ней философско-биографическое эссе Д.С. Мережковского «Тереза Авильская».
(обратно)518
Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) — французский поэт-романтик, драматург.
(обратно)519
Ориген (ок. 185–253/254) — философ-аскет, возглавивший в Александрии ок. 217 г. христианскую школу, в которой занятия проходили в форме вопросов и ответов. Школа стала авторитетным центром образования, ценившимся и христианами и язычниками. Автор ок. 2 тыс. сочинений, вызывавших полемику (часть из них сохранилась).
(обратно)520
Джованни Папини (1881–1956) — итальянский прозаик, поэт, публицист, историк искусства.
(обратно)521
…попадет под индекс… — Имеется в виду «Индекс запрещенных книг», издававшийся ежегодно Ватиканом с XVI в. по 1966 г.
(обратно)522
Иоанн Дамаскин — выдающийся представитель греческой церкви VIII в., автор первого и самого авторитетного курса догматического богословия «Источник знания», много раз издававшегося на русском языке.
(обратно)523
…«детям страшных лет России»… — См. в стих. Блока «Рожденные в года глухие…»(1914): «Мы дети страшных лет России».
(обратно)524
Гиппиус и Философов. Возрождение. 1958. № 74–76 (с подзаголовком: Глава из книги о Гиппиус «Тяжелая душа»), Печ. по этому изд.
(обратно)525
…на даче профессора Максима Ковачевского… — Историк, юрист, социолог Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) в 1887 г. был уволен из Московского университета и уехал за границу. Профессор жил в основном во Франции. На даче в Ницце у Ковалевского бывали многие знаменитости из России, в том числе Мережковские. Здесь они познакомились с Философовым, ставшим их самым близким другом. О встречах с Мережковскими Ковалевский рассказал в мемуарных очерках, опубликованных в 1950–1954 гг. в парижском журнале «Возрождение» (№ 11,17,29,32). В 1905 г. ученый вернулся в Россию и был избран депутатом I Государственной думы, членом Государственного совета (с 1907 г.). Он читал лекции в Политехническом институте, университете и других вузах. В 1906–1907 гг. издавал в Петербурге газету «Страна», а в 1909–1916 гг. журнал «Вестник Европы». С 1908 г. президент Педагогической академии, председатель Петербургского юридического общества. С 1914 г. академик по разряду историко-политических наук и президент Вольного экономического общества.
(обратно)526
Чигаев Николай Федорович (1859–1919) — врач, лечивший Мережковских с 1890-х гг.
(обратно)527
«…он <Философов> меня не любит и опасается». — Из «Contes d'amour» (Гиппиус З. Дневники. В 2 т. М.: Интелвак, 1999. Т. 1. С. 69).
(обратно)528
Курятнику — петух единый дан… — Вторая строфа стих. Гиппиус «Hommage» (фр.: «Дань уважения»; 1901).
(обратно)529
Земная связь людей порою рвется… — Из стих. «Числа» (1903).
(обратно)530
«Алмаз» (29 марта 1902) — стих. Гиппиус, написанное в годовщину домашнего богослужения втроем (см. дневник «О Бывшем») и посвященное Философову; публиковалось без посвящения.
(обратно)531
Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — прозаик, поэт, критик, издавал альманахи «Факелы» (кн. 1–3, 1906–1908), «Белые ночи» (1907), газету «Народоправство» (1917). Автор вызвавших полемику книг «О мистическом анархизме» (1906), «Покрывало Изиды» (1909) и мемуаров «Годы странствий» (1930).
(обратно)532
Анна Павловна — мать Д.В. Философова.
(обратно)533
Зика — Зинаида Владимировна Ратькова-Рожнова (урожд. Философова; 1871–1966), сестра Д.В. Философова, дружившая с З.Н. Гиппиус.
(обратно)534
Донон — владелец ресторана в Петербурге.
(обратно)535
Ратьков-Рожнов — Александр Николаевич, муж З.В. Ратьковой-Рожновой.
(обратно)536
Сераф<има> Павловна — Ремизова-Довгелло (1875–1943), палеограф. Жена А.М. Ремизова с 1903 г. Ей писатель посвятил большинство своих книг, а в трилогии «В поле блакитном» (1922), «Оля» (1927), «В розовом блеске» (1952) она — главная героиня (под именем Оля).
(обратно)537
Нувель Вальтер (Валентин) Федорович (1871–1949) — чиновник в министерстве императорского двора, один из активных участников художественного объединения «Мир искусства». Однокашник по гимназии, близкий друг А.Н. Бенуа (сидел с ним на одной парте) и Д.В. Философова. С Мережковскими Нувель подружился в 1901 г. (см. о нем дневник Гиппиус «О бывшем»). Гиппиус посвятила Нувелю стихотворения «Что есть грех?» (1902) и «Росное имя» (1904).
(обратно)538
Татьяна. — Т.Н. Гиппиус (1877–1957), художница.
(обратно)539
Сердце исполнено счастьем желанья… — Стих. Гиппиус «Предел» (1901).
(обратно)540
Твоя печальная звезда… — Стих. Гиппиус «Как прежде».
(обратно)541
Измена… нет, старик, в измене… — Из стих. Гиппиус «Придверник» (1938).
(обратно)542
Нет, никогда не примирюсь… — Стих. Гиппиус «Без оправданья» (апрель 1916).
(обратно)543
Впервые… в берлинском сборнике… — Неточность: впервые в сб. «Последние стихи» (Пб., 1918) с посвящением М. Горькому, снятым в последующих публикациях, в том числе в упомянутом Злобиным сб. «Стихи. Дневник. 1911–1921 «(Берлин: Слово, 1922).
(обратно)544
На сердце непонятная тревога… — Стих. Гиппиус «У порога».
(обратно)545
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал от инфантерии (1917), участник Русско-японской и Первой мировой войн. После 1917 г. один из организаторов Белого движения и Добровольческой армии. Погиб во время штурма Екатеринодара (ныне Краснодар).
(обратно)546
Меньшиков Яков Михайлович (1888–1953) — публицист, внебрачный сын публициста Михаила Осиповича Меньшикова, расстрелянного большевиками в 1918 г., и писательницы Лидии Ивановны Веселитской (псевд. В. Микулич; 1857–1936).
(обратно)547
Но где бы ты ни был — я с тобой… — Из стих. «Как прежде» (1918).
(обратно)548
Сольвейг — героиня драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1867).
(обратно)549
Рэйли, Рейли Сидней (Зигмунт Георгиевич Розенблюм; 1874–1925?) — агент британской разведки. По одной из версий, расстрелян. Рейли познакомился с Савинковым в Москве в 1918 г. Осенью 1920 г. оба приняли участие в белорусском рейде С.Н. Булак-Булаховича.
(обратно)550
Антонов Александр Степанович (1888–1922) — эсер с 1906 г., руководитель восстания крестьян Тамбовской и частично Воронежской губерний, недовольных большевистской политикой «военного коммунизма». Убит при аресте.
(обратно)551
Махно Нестор Иванович (1888–1934) — анархист-коммунист. В 1918–1921 гг. возглавил анархо-крестьянское движение на Украине под лозунгом «Государство — без власти». С августа 1920 г. в эмиграции. Автор книг «Русская революция на Украине» (1929), «Под ударами контрреволюции» (1936), «Украинская революция» (1937).
(обратно)552
…марьируется… — т. е сочетается (от фр. mariage).
(обратно)553
З. Гиппиус и черт. Новый журнал. 1967. № 86. За десять лет до этой публикации очерк печатался в журнале «Возрождение» (1957. № 72) в измененном и более полном виде под названием «Огненный крест» (см. Приложение).
(обратно)554
Верлен Поль (1844–1896) — французский поэт-символист.
(обратно)555
Мое одиночество — бездонное, безгранное… — Из стих. «Не знаю».
(обратно)556
За Дьявола Тебя молю… — Стих. «Божья тварь» (1902).
(обратно)557
«Час победы» — в этом стих. Злобин опустил эпиграф: «…Он ушел, но он опять вернется. // Он ушел и не открыл лица… // Что мне делать, если он вернется? // Не могу я разорвать кольца…» «В черту» (1905).
(обратно)558
Он приходит теперь не так… — В стих. «Равнодушие» (1927) Злобин опустил эпиграфы: «Он пришел ко мне, а кто — не знаю,//Он плащом закрыл себе лицо…» (из стих. «В черту», 1906)и «Он пришел, глядит презрительно, // Кто — не знаю, просто он в плаще…» (из стих. «Час победы», 1918).
(обратно)559
«Наставление» — в сб. «Последние стихи» под названием «Сентябрьское».
(обратно)560
Казалось, больше никогда… — Стих. «Презренье» (предположительно: осень 1919). У Гиппиус 4-я строка: «И я опять мою жалею душу».
(обратно)561
«Все равно» — неточно стих., называвшееся в первой публикации «Вниз» (Числа. 1930. № 1). У Гиппиус в предпоследней строке: «Все равно утону…»
(обратно)562
Все Я мое, как маятник, качается… — Стих. «Качание» (февраль 1919).
(обратно)563
«8 ноября» — стих. Злобин датирует неточно: оно написано и опубликовано в 1933 г. (Числа. № 9).
(обратно)564
…день ее рождения. — 8 ноября ст. ст.; день собора Архистратига Михаила.
(обратно)565
…Я верю в счастие освобождения… — Из стих. «Дни» (ноябрь 1918).
(обратно)566
Страшно оттого, что не живется — снится… — Начало стих. «Страшное» (1916).
(обратно)567
Не пытай ни о чем дорогой… — Стих. «Воскресенье» (1933), посвященное Д.С. Мережковскому.
(обратно)568
«Господь мой и Бог мой!» — См. в стих. Гиппиус «Страх и смерть» (1901): «О Господь мой и Бог! Пожалей, успокой…»
(обратно)569
Когда я воскрес из мертвых… — Стих. «Досада» (1933).
(обратно)570
«Сердце мое, воскресни! Воскресни!»…«Воскресение — не для всех». — Из стих. «Тишь» (декабрь 1918).
(обратно)571
«Не предавайся никакой надежде…» — Стих. «Прежде. Теперь» (февраль 1940). У Гиппиус 1-я строка: «Не отдавайся никакой надежде».
(обратно)572
Вскипают волны тошноты нездешней… — Начало третьей версии поэмы «Последний круг (И новый Дант в аду)». У Гиппиус в третьей строфе 3-я строка: «На дружбу новую, на Время, на забвенье».
(обратно)573
На харю старческую хмуро… — Из стих. «Не одним хлебом…» (1944), посвященного Злобину. У Гиппиус во 2-й строке: «каменем молчу».
(обратно)574
«Побеждающему дам вкушать сокровенную манну…» — Из Откровения св. Иоанна Богослова, гл. 2, ст. 17.
(обратно)575
За час до манифеста. Первая редакция — как предисловие к письму Гиппиус, адресованному Д.В. Философову: Возрождение. 1957. № 64 (под рубрикой «К 40-летию Февральской революции»).
(обратно)576
«По делам их узнаете истину их» — см. в Евангелии от Матфея: «Итак по плодам их узнаете их» (гл. 7, ст. 20).
(обратно)577
Ты знала путь к заветным срокам… — Из «Кассандры» (1921) Мережковского.
(обратно)578
Манифест 17 октября 1905 г. — «Об усовершенствовании государственного порядка». В манифесте, подписанном Николаем II, провозглашены гражданские свободы и объявлено о создании Государственной думы.
(обратно)579
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888), граф — с 12 февраля по 6 августа 1880 г. главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия с неограниченными полномочиями. С 6 августа 1880 по 4 мая 1881 г. министр внутренних дел и шеф жандармов. Сторонник примирения общественных движений с монархией путем введения конституции и парламента. Обладал диктаторскими полномочиями в конце царствования Александра II. При Александре III, взявшем курс на политическое укрепление самодержавия, Лорис-Меликов с 7 мая 1881 г. оказался не у дел.
(обратно)580
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — в 1903–1906 гг. саратовский губернатор. С 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров. Провозгласил курс социально-политических реформ и начал его осуществление. Был смертельно ранен Д.Г. Богровым, агентом охранки, связанным с анархистами.
(обратно)581
…матрос Железняк. — Железняков Анатолий Григорьевич(1895–1919) — матрос Балтийского флота, анархист, примкнувший к большевикам. 6 января 1918 г., будучи начальником караула в Таврическом дворце, объявил приказ Совнаркома о роспуске Учредительного собрания.
(обратно)582
…в своих напечатанных в «Новом журнале» воспоминаниях А. Ф. Керенский… — «Как это случилось?» (Новый журнал. 1950. № 24).
(обратно)583
Там — я люблю иль ненавижу… — Стих. «Там и здесь» (январь 1920).
(обратно)584
Последние дни Д. Мережковского и З. Гиппиус. Возрождение. 1958. № 81.
(обратно)585
Есть счастье у нас, поверьте… — Первая строфа стих. «Счастье» (1933).
(обратно)586
Вот слово, будто меж строк… — Из стих. «Счастье».
(обратно)587
Склоняется солнце, кончается путь… — Из стих. Мережковского «Вечерняя песнь» (1923).
(обратно)588
Скоро скажу я с улыбкой сыновней… — Из стих. Мережковского «Пятая» (опубл. 1936).
(обратно)589
А я ее всякую ненавижу… — Из стих. Гиппиус «Неизвестная» (1915).
(обратно)590
Что это — утро, вечер?.. — Из стих. «Сонное» (опубл. 1936).
(обратно)591
Господи, иду в неизвестное… — Заключительная строфа стих. «Когда?» (1924).
(обратно)592
Доброе, злое, ничтожное, славное… — Начальные строки стих. Мережковского без названия (опубл. 1936).
(обратно)593
…к маленькой Терезе… — Имеется в виду Тереза Лизьеская, в миру Мари Франсуа Тереза Мартен (1873–1897), монахиня кармелитского ордена, канонизированная в 1925 г. Мережковские, высоко чтившие святую, по воскресеньям до своих последних дней посещали в Париже церковь св. Терезы. Мережковский написал о ней свой последний роман «Маленькая Тереза» (1941).
(обратно)594
Жорж Дюгамель, Дюамель (Duhamel; 1884–1966) — французский поэт, прозаик, драматург, врач по профессии. Автор популярных серий романов «Жизнь и приключения Салавена» (т. 1–5,1920–1932), «Хроника семьи Паскье» (т. 1—10,1933–1944) и мемуаров «Моя жизнь при свете дня» (т. 1–5,1944–1953).
(обратно)595
Клод Фаррер (наст, имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876–1957) — французский прозаик.
(обратно)596
Я сужен на единой Мысли… — Начальные строки стих. «Смотрю» (1930).
(обратно)597
«Испанские мистики» (Брюссель: изд-во «Жизнь с Богом», 1988) — философско-биографические эссе Мережковского «Св. Тереза Иисуса», «Св. Иоанн Креста» и «Маленькая Тереза», написанные им в последние годы жизни и вошедшие в серию «Лица святых от Иисуса к нам».
(обратно)598
Леонардо да Винчи (1452–1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, поэт, ученый и инженер эпохи Высокого Возрождения. Мережковский — автор романа «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (опубл. 1901) из трилогии «Христос и Антихрист».
(обратно)599
Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик, философ, писатель. Автор книги философской эссеистики «Мысли Паскаля о религии и некоторых других вопросах». Паскаль — герой одноименного эссе Мережковского из трилогии «Реформаторы».
(обратно)600
Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) — поэт, завсегдатай «воскресений» у Мережковских и собраний «Зеленой лампы».
(обратно)601
Братья Лифари… — Лифарь Серж (наст, имя Сергей Михайлович; 1905–1986) — артист балета, хореограф, педагог. В 1923–1929 гг. входил в труппу «Русский балет Дягилева» (Париж). В 1930–1977 гг. премьер, главный балетмейстер, педагог в «Гранд-Опера». Основатель Парижского института хореографии (1947) и Университета танца (1957). Автор более 200 балетов и более 25 книг о балете. Лифарь Леонид Михайлович (1906–1982) — совладелец типографии в Париже, в которой печатались книги издательства YMCA-Press, в том числе произведения А.И. Солженицына.
(обратно)602
Зайцевы — Борис Константинович и его жена Вера Алексеевна (1879–1965).
(обратно)603
Тесленко Николай Васильевич (1870–1943) — известный адвокат-криминалист, крупный землевладелец, кадет, член II Государственной думы. С 1920 г. в эмиграции. Председатель парижской группы Партии народной свободы. Занимался адвокатской практикой. С 1927 г. бессменный председатель совета Объединения (Союза) русских адвокатов во Франции. С 1931 г. председатель Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции (см. о нем подробную справку: Серков А. И. Русское масонство. М., 2001. С. 795).
(обратно)604
Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич (1874–1941), князь — искусствовед, хранитель (директор) Императорского Эрмитажа, коллекционер. В 1915–1916 гг. 2-й секретарь посольства в Париже.
(обратно)605
Не только молока и шеколада… — Неточно начальные строки стих. «Рай» («Не только молока иль шеколада…»); в автографе название «В Альбом Чуковскому» и помета: СПб., Дек. 1919.
(обратно)606
Но и такой, моя Россия… — Неточно из стих. Блока «Грешить бесстыдно, непробудно…»(1914). У Блока: «Да, и такой, моя Россия».
(обратно)607
Клепинин Дмитрий Андреевич (1905–1944) — выпускник Свято-Сергиевского богословского института в Париже, священник, ставший 9 сентября 1937 г. настоятелем прихода на ул. Лурмель. Мученически погиб в фашистском концлагере.
(обратно)608
Манухина Татьяна Ивановна (урожд. Крундышева, псевд. Таманин; 1886–1962) — прозаик и переводчица. Дружила с З.Н. Гиппиус. Жена врача Ивана Ивановича Манухина (1882–1958). В Петрограде Манухины жили в одном доме с Мережковскими на Сергиевской ул., 83.
(обратно)609
Для тошноты подземной и навечной… — Из поэмы «Последний круг (И новый Дант в аду)».
(обратно)610
Не знаю, не знаю и знать не хочу… — Из стих. «Тереза, Тереза, Тереза, Тереза…» (1941–1942).
(обратно)611
Как эта стужа меня измаяла… — Четверостишие «Стужа» (1941).
(обратно)612
Анна (Ася) — А.Н. Гиппиус (псевд. Анна Гиз; 1872–1942), врач, автор книг по истории религии. Сестра З.Н. Гиппиус.
(обратно)613
Всю я тебя люблю, Единственная… — Из стих. «Вся» (1917).
(обратно)614
Как будто льда обломок острогранный… — Из стих. «Опустошение» («В моей душе, на миг опустошенной…»; 1902).
(обратно)615
…свою бесконечную поэму. — Имеется в виду «Последний круг (И новый Дант в аду)».
(обратно)616
Пусть это мне и не в заслугу… — Неточно из стих. «Придверник» (1938). У Гиппиус 3-я строка: «И Ей — ни женщине, ни другу…»
(обратно)617
Клара Милич — героиня повести И.С. Тургенева «Клара Милич (После смерти)», в основе которой трагическая судьба оперной певицы и драматической актрисы Евлалии Павловны Кадминой (1853–1881), покончившей жизнь самоубийством: приняла яд во время спектакля.
(обратно)618
Прости мне за тех, кого я… — Первая строфа стих. «Мир сей…» (1918).
(обратно)619
Зеньковский Василий Васильевич (протоиерей о. Василий; 1881–1962) — богослов, историк философии, психолог, публицист, критик, педагог, мемуарист. В эмиграции с 1920 г. В 1927–1962 гг. профессор, ректор Богословского института в Париже. В 1940 г. был арестован нацистами и более года находился в концлагере.
(обратно)620
Сверкнет ли мне в последний раз… — Из стих. «Прошла» («На выгибе лесного склона…»; 1921).
(обратно)621
Дойти бы только до порога… — Начало стих. «Придверник» (1938).
(обратно)622
И ты придешь ко мне в свой час единственный… — Из стих. «Две» («Она войдет, земная и прелестная»; 1915–1927).
(обратно)623
Приложение. Огненный крест. Возрождение. 1957. № 72. Печ. по этому изд. В книгу Злобина «Тяжелая душа» очерк под названием «3. Гиппиус и черт» (см. в наст, изд.) включен с изменениями и сокращениями.
(обратно)624
…наряду с газетой Горького… — «Новая жизнь» (Пг., 1917–1918), в которой Горький печатал полемические статьи «Несвоевременные мысли», составившие одноименную книгу. Гиппиус в 1917–1918 гг. печаталась в газетах «Голос жизни», «Грядущее», «Воля народа», «Вечерний звон», «Современное слово», «Новые ведомости».
(обратно)625
Милешин-Вронский… томный, каким его изображает… Гиппиус. — Имеется в виду стихотворение «Мелешин-Вронский» (Злобин ошибся в его фамилии), комиссар в имении «Дружноселье», о котором Гиппиус пишет: «В его очах — такая грусть… // Он — весь загадка, хоть и сдобен. // Я не решу вопроса… Пусть // Его решит Володя Злобин» (8 июля 1918. Сиверская).
(обратно)626
Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876–1921) — писательница, жена Ф. Сологуба.
(обратно)627
«Неугасим огонь души». — Из стих. «Неотступное» (1925).
(обратно)628
Хочу сказать, но нету голоса… — Из стих. «Летом» (1919).
(обратно)629
Как выносить невыносимое… — Из стих. «Летом».
(обратно)630
Окно мое высоко над землею… — Первая строка стих. «Песня».
(обратно)631
Мне нужно то, чего нет на свете… — Из стих. «Песня».
(обратно)632
Окно мое над улицей низко… — Начальные строки стих. «На Сергиевской» (1916).
(обратно)633
Мы думали, что мы живем на свете… — Финальные строки стих. «На Сергиевской».
(обратно)634
Вот три удара, словно пенье… — Из стих. «Тяжелый снег» (1918), посвященного Злобину.
(обратно)635
«Ворчит, будто выстрелы, тишина». — Из стих. «Тли» (28 окт. 1917).
(обратно)636
В минуты вещих одиночеств… — Начальная строфа стих. «Петербург» (1919).
(обратно)637
Прямая улица была пустынна… — Последняя строфа стих. «А. Блоку» (1918).
(обратно)638
О сны моей последней ночи… — Из стих. «Последние сны» (1912).
(обратно)639
В одном ее стихотворении от сентября <19>18 г. — «Час победы».
(обратно)640
Он пришел ко мне, а кто, не знаю… — Начальная строфа стих. «В черту» (1905).
(обратно)641
«Если кончена моя Россия — я умираю!» — Последняя строка четверостишия «Если».
(обратно)642
«Дни» — стихотворение, написанное в ноябре 1918 г.
(обратно)643
…«возвышенной стыдливостью страданья»… — У Тютчева в стих «Осенний вечер» (1830): «Божественной стыдливостью румянца!»
(обратно)644
«Побеждающему дам… белый камень…» — Из Откровения св. Иоанна Богослова, гл. 2, ст. 17.
(обратно)645
Тяжелее всех грехов — Богоубьение. — Из стих. «Что есть грех?» (1902).
(обратно)646
Твой же грех обвился, — что могу я?.. — Из стих. «В черту» (1905).
(обратно)647
В этот час победное кольцо мое… — Заключительные строки «Часа победы».
(обратно)648
Он приходит теперь не так… — Из стих. «Равнодушие» (1928).
(обратно)649
Как Бог, хотел бы знать я все о каждом… — Из «Идущего мимо» (1924).
(обратно)650
Ни слов, ни слез, ни вздоха, — ничего… — Из стих. «Наставление».
(обратно)651
«Страшное» — стихотворение, написанное в августе 1916 г.
(обратно)652
В углу под образом… — Стих. «Не согласные рифмы» (1919).
(обратно)653
Все умерло в душе давно… — Вторая строфа восьмистишия «Презренье» (предположительно: осень 1919).
(обратно)654
Народ, безумствуя, убил свою свободу… — Из стих. «Веселье» (29 октября 1917).
(обратно)655
Когда я воскрес из мертвых… — Начало стих. «Досада» (1933).
(обратно)656
«Воскресение — не для всех». — Из стих. «Тишь».
(обратно)657
Ползут они скользящей чередою… — Из стих. «Прежде. Теперь» (1940).
(обратно)658
Фондаминский Илья Исидорович (Фундаминский, псевд. Бунаков; 1880–1942) — публицист, общественно-политический деятель, эсер. В 1917 г. комиссар Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции. Один из основных учредителей парижского журнала «Современные записки». Погиб в фашистском концлагере Освенцим.
(обратно)659
После ее смерти. Стихи. Печ. по изд.: Злобин В. После ее смерти. Стихи. Париж: Рифма, 1951. Раритетный сборник стихотворений (тираж 100 экз.), посвященный памяти З.Н. Гиппиус, предоставлен для издания библиофилом Марком Владимировичем Гехтманом (издательство и составитель выражают ему сердечную благодарность).
(обратно)660
Ночью. Числа. 1933. № 9. Современные записки. 1934. № 56.
(обратно)661
Ее голос. Женевьева (ок. 420 — ок. 500) — католическая святая, заступница Парижа.
(обратно)662
Свиданье. Русский сборник. 1946. № 1. ДМ и З.Г. — Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус.
(обратно)663
Закон. Встречи. 1934. № 5.
(обратно)664
Огонь и вода. Ф. М. — вероятно, в посвящении скрыты имена Д.В. Философова и Д.С. Мережковского.
(обратно)665
Гроза. Возрождение. 1950. № 12. Посвящено С.К. Маковскому.
(обратно)666
«Дружноселье». Возрождение. 1951. № 15. Дружноселье (Красная дача) — дачная местность под Петербургом, близ станции Сиверская Варшавской железной дороги. Сюда Мережковские (а с ними и Злобин) в 1917 и 1918 гг. выезжали на лето. Г иппиус, будучи на Красной даче, в дневнике «Черные тетради» 31 июля 1918 г. записала: «Ясные, тихие — вполне уже осенние дни. Я гуляю, читаю французские романы, смотрю на закаты и — вместе с Володей Злобиным — пишу стихи! Это какое-то чисто органическое стремленье хоть на краткий срок отойти, отвести глаза и мысли в другую сторону, дать отдых душевным мозолям. И я почти не осуждаю себя за эти минуты «неделанья», за единственную жажду забвения. Душа самосохраняется» (Гиппиус З.Н. Собр. соч. М.: Русская книга, 2003. Т. 8. С. 439). Гиппиус в июле — августе 1918 г. написала шуточное послание «Мелешину-Вронскому», адресованное дружносельскому комиссару, и цикл «В Дружноселье», в который вошли стихотворения «Прогулки», «Пробуждение» и «Пусть».
(обратно)667
Шюзевиль, Шюзвиль Жан (1886 — не ранее 1959) — французский поэт, критик, переводчик русских поэтов, составитель первой антологии современной русской поэзии (1914).
(обратно)668
Юрий Терапиано. Владимир Злобин. Печ. по изд.: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж; Нью-Йорк: Альбатрос; Третья волна, 1987.
(обратно)669
Фохт Всеволод Борисович (1895–1941) — поэт, прозаик, журналист. В 1926–1927 гг. соредактор парижского журнала «Новый дом». Участник собраний кружка «Зеленая лампа» и объединения «Кочевье». В 1930-х гг. стал католическим монахом.
(обратно)670
…издание такого же журнальчика… — Имеется в виду журнал «Новый корабль» (Париж, 1927–1928), выходивший под редакцией Злобина, Ю.К. Терапиано, Л.E. Энгельгардта и при негласном руководстве Мережковских.
(обратно)671
Штейгер Анатолий Сергеевич (1907–1944), барон — поэт. В Париже член Союза младороссов.
(обратно)672
«Комментарии» (Вашингтон, 1967) — сборник литературно-критических эссе Г.В. Адамовича.
(обратно)673
C. Яновский. <Злобин в «Круге»>. Печ. по изд.: Яновский B.C. Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993.
(обратно)674
«Круг» (Париж, 1935–1939) — литературное общество, возглавлявшееся И.И. Фондаминским. Заседания проходили в его доме на авеню де Версай в каждый второй понедельник (по словам Яновского, «место встречи отцов и детей, где спорили на религиозно-философские и литературные темы»), В заседаниях наряду с преобладавшими молодыми писателями участвовали «старики» Г.В. Адамович, Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, А.Ф. Керенский, Г.В. Иванов, мать Мария (Е.Ю. Кузьмина-Караваева), Ф. А. Степун. Общество выпустило три альманаха «Круг» (1936, 1937,1938).
(обратно)675
Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — историк русской культуры, публицист. С 1925 г. в эмиграции. С 1926 г. профессор Православного богословского института (Академии) в Париже. Вместе с И.И. Фондаминским и Ф. Степуном основатель журнала «Новый корабль». С 1941 г. жил в Нью-Йорке.
(обратно)676
Кельберин Лазарь Израилевич (1907–1975) — поэт, критик. В эмиграции с начала 1920-х гг. Участник литературных собраний «Зеленая лампа» у Мережковских (1927–1939), член Союза молодых поэтов и писателей с 1925 г., объединения «Круге (1935–1939).
(обратно)677
«Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа…» — Из стих. Ходасевича «Обезьяна» (7 июня 1918; 2-я ред. — Возрождение. 1927.19 мая). Предположение Г.В. Иванова вряд ли имеет основания: Ходасевич написал это стихотворение до знакомства с Керенским, т. е он мог впервые «жать руку» вождя в 1922 г. в Берлине, когда заходил в редакцию газеты Керенского «Дни» (см. об этом запись 27 окт. 1922 г. в «Камер-фурьерском журнале» Ходасевича. М.: Эллис Лак, 2002. С. 410).
(обратно)678
Цетлин Михаил Осипович (псевд. Амари; 1882–1945) — поэт, критик, прозаик, переводчик, издатель, мемуарист. В 1920–1940 гг. редактор отдела поэзии в журнале «Современные записки». В 1942–1945 гг. один из редакторов-основателей (вместе с женой и М.А. Алдановым) «Нового журнала» в Нью-Йорке.
(обратно)679
Муссолини Бенито (1883–1945) — фашистский диктатор Италии в 1922–1943 гг. Захвачен итальянскими партизанами и казнен. Мережковский встречался с Муссолини трижды: 4 декабря 1934 г., 28 апреля и 11 июня 1936 г. Итог встреч: итальянское правительство оплатило пребывание Мережковского в Италии для работы над исследовательско-биографической книгой «Данте» (на итальянском: Болонья, 1938; на русском: Брюссель, 1939).
(обратно)680
Кюфферле Ринальдо Петрович (1903–1955) — поэт, прозаик, переводчик, скульптор. Уроженец Петербурга. В эмиграции преподавал русский язык и литературу в Миланском культурном центре, переводил на итальянский язык Бунина, Зайцева, Шмелева, Мережковского, Вяч. Иванова, Алданова и др.
(обратно)681
Юрий Иваск. Владимир Злобин. После ее смерти. Печ. по изд.: Опыты. 1953. № 1.
(обратно)682
Ник. Андреев. Открытие поэта. Грани (Франкфурт-на-Майне). 1953. № 20.
Андреев Николай Ефремович (1908–1982) — историк, литературовед, прозаик, публицист. В эмиграции жил в Чехословакии и Англии.
(обратно)683
Мария Вега. Двуликая муза. О стихах Владимира Злобина. Возрождение (Париж). 1958. № 76.
Вега Мария Николаевна (в замуж. Ланг; 1898–1980) — поэтесса, критик. После 1917 г. в эмиграции в Париже. Участница движения французского Сопротивления. В 1975 г. вернулась на родину. Автор шести сборников стихов.
(обратно)684
Борис Нарциссов. В. Злобин. Тяжелая душа. Новый журнал (Нью-Йорк). 1972. № 107.
Нарциссов Борис Анатольевич (1906–1982) — поэт, критик, переводчик. Во время Второй мировой войны попал в лагерь для перемещенных лиц в окрестностях Мюнхена. После освобождения жил в Австралии и США (с 1953 г.).
(обратно)
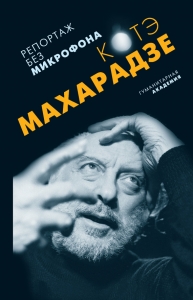


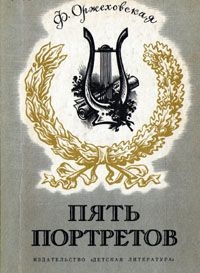


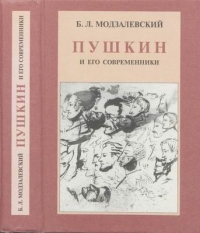
Комментарии к книге «Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения », Владимир Ананьевич Злобин
Всего 0 комментариев