Часть I Испанский ветер
Испания в огне
Восемнадцатого июля 1936 года радиостанция марокканского города Сеута передала в эфир: «Над всей Испанией безоблачное небо». Не было в этой фразе ничего зловещего, она свободно могла бы стать строкой лирического стихотворения. Между тем эта невинная фраза была условным сигналом к открытому выступлению мятежников против Испанской республики, началом кровавой трагедии испанского народа. Явные и тайные враги народа, откровенные монархисты и замаскированные фашистские молодчики, специалисты по контрабанде оружия, помещики и католические священники — все, кто мечтал о возврате дореспубликанского режима, приняли этот сигнал, и в тот же день в Наварре и Старой Кастилии, в Барселоне и Севилье, в Сарагосе и других городах загрохотали первые выстрелы и, захлебываясь в крови, пали первые жертвы военно-фашистского мятежа.
Испанская республика, официально провозглашенная в 1931 году, долгое время мало чем отличалась от свергнутой монархии. Силы подлинной демократии одержали победу лишь в начале 1936 года на выборах в кортесы, в результате которых к власти пришло новое республиканское правительство. Дорогой ценой завоевал испанский народ республику. Ценой упорной борьбы за создание единого, народного фронта против сил реакции.
Народ лишь успел протянуть руку к плодам своей победы, как мятежники начали новый поход против республики.
Покориться мятежникам? Нет! Народ провозгласил: «No pasaran!» («Они не пройдут!») Народ называл врагов презрительно «они». И «они» не прошли бы…
С первых же дней мятежа стало ясно: реакционная клика Франко, главаря мятежников, не имеет никакой поддержки в народе. Но с первых же дней стало ясно и другое: мятеж подготовили фашистские силы Германии и Италии, они были истинными режиссерами этой кровавой репетиции будущей всеевропейской, а впоследствии и мировой войны.
Германия и Италия начали открытую военную интервенцию в Испании с молчаливого согласия «социалистического» правительства Франции, представленного матерым предателем Леоном Блюмом, и при поддержке буржуазных хозяев Англии. Мятежники не успевали распределять оружие, которое поступало от их щедрых друзей. В портах Испании разгружались целые дивизии итальянцев. В небе Испании летали на немецких машинах немецкие летчики.
И в то же время подлинный хозяин страны испанский народ, законное республиканское правительство были отгорожены от мира барьером лживой англо-французской политики «нейтралитета», «невмешательства». Европейские «демократы» и «человеколюбцы» из Лондонского комитета по невмешательству, возмущаясь на словах действиями интервентов, сквозь пальцы смотрели, как к мятежникам нарастающим потоком поступают танки, самолеты, оружие. И, восхищаясь на словах мужеством испанского народа, они же с несокрушимым упорством препятствовали провозу оружия для законной защиты республики.
В тяжелые для испанского народа годы неравной, кровопролитной борьбы только наша страна до конца осталась искренним, преданным другом Испанской республики.
Читатель этих записок — современник испанских событий — помнит проходившие по всей нашей стране многочисленные митинги протеста против наглого вмешательства интервентов в испанские дела. Рабочие и колхозники, воины и интеллигенты, молодежь и старики — весь наш народ в один голос требовал: «Руки прочь от Испанской республики!» Читатель помнит наши праздничные демонстрации: вместе с призывами выполнить пятилетку в четыре года советские люди несли транспаранты, на которых были начертаны знакомые и близкие слова: «No pasaran!». И многие, очень многие высказывали в эти дни свое желание с оружием в руках защищать святое дело испанского народа.
Спустя много лет после испанских событий я пытаюсь рассказать в своих записках о некоторых эпизодах борьбы советских добровольцев, о своих боевых друзьях-летчиках.
Многих из них уже нет в живых. В Кремлевской стене покоится прах замечательного летчика нашего времени Анатолия Серова. В сердце Испании, в Мадриде, похоронен мой лучший друг, человек изумительной храбрости Александр Минаев. В маленьком испанском городке Сабадель окончил свой путь Волощенко. Уже возвратившись на Родину, погиб при испытании самолета Николай Иванов… Мне хочется воскресить их образы — образы героев, проживших короткую, но прекрасную жизнь. Это мой долг, долг друга и боевого товарища. Мне хочется показать испанских людей такими, какими я их увидел, — мужественными, решительными, непреклонными в борьбе, показать любовь простых людей Испании к Советскому Союзу. Тепло этой любви я ощущаю и сейчас… Уже немало лет прошло с тех пор, как я расстался со своим механиком — тихим и самоотверженным Хуаном, с нашим шофером — бойким, неунывающим Маноло, с моими самыми большими друзьями — испанскими летчиками. Но и сейчас я вижу их так ясно и близко, как будто только что простился с ними, только что пожал им руку…
Отъезд
Весна 1937 года. Уже сошел снег, и новенькая, лаковая зелень разлилась по нашему аэродрому. Солнце. На оцинкованные крыши ангаров больно смотреть. Еще сыро, сидеть на земле нельзя, но зато удивительно приятно стоять, прислонившись к теплому фюзеляжу самолета.
Утром газеты приносят прямо на аэродром. Мы расхватываем их и читаем вот так, стоя. Каждый сразу же просматривает сводку сообщений о военных действиях в Испании. Если республиканцы терпят поражение, чаще всего молчим. Но зато когда у наших дела идут на лад (мы так и говорим о республиканцах — «наши»), мы шумно обмениваемся мнениями.
И мечтаем… Когда человеку двадцать с небольшим, ему трудно держать в узде свое воображение. Да и стоит ли? Мы мечтаем об Испании, о тяжелой, но благородной судьбе защитников республики, об Интернациональной бригаде, о неведомых и заманчивых путях отдельных счастливчиков, которым удалось-таки встать в ряды бойцов республиканской армии.
Испания! Мы смутно представляем себе ее людей, их нравы и обычаи. Но зато мы твердо знаем главное: там, далеко за Пиренеями, идет сейчас жаркая схватка свободолюбивого народа с фашизмом.
Нам ясно, что такое фашизм. Мы, советские люди, разгадали его сущность еще в то время, когда Гитлер витийствовал в мюнхенских пивных. С болью и тревогой за народ Германии мы следили за тем, как разрастался фашизм, распространяясь, словно злокачественная опухоль, по всей немецкой земле. Мы услышали гром солдатских сапог, готовых наступить на горло народам, раньше, чем над Берлином вспыхнуло зарево подожженного рейхстага, раньше, чем на площадях немецких городов запылали костры из книг, раньше, чем тысячи коммунистов — подлинных патриотов Германии — были брошены в гестаповские казематы. И когда фашизм пришел к власти, мы поняли, что он не удовлетворится только Германией, как прежде он не удовлетворился одной Италией. Мы знали, что фашизм — это война.
Для нас испанские события — нечто большее, чем вооруженная борьба республиканцев с франкистами. Мы отчетливо сознаем: фашизм вышел в свой первый военный поход. Мы предчувствуем, что этот поход — лишь пролог будущей войны. И эта война своим острием будет обращена против нашей, Советской страны. В этом мы нисколько не сомневаемся.
«Салют, Испания!» — стучат наши сердца.
«Салют, Испания!» — повторяют миллионы людей во всех уголках земного шара.
И из разных стран, прорываясь в Испанию сквозь все преграды, на борьбу с фашизмом идут люди, проникнутые гневом и ненавистью. В один боевой строй с войсками республики, с испанским народом встают батальоны имени Тельмана, Чапаева, Эдгара Андре, Домбровского, Парижской коммуны, — встают русские, поляки, чехи, австрийцы, коммунисты, честные социал-демократы, беспартийные, рабочие, моряки, писатели…
Интернациональная бригада! Как бы и нам попасть в нее? Право, у нас есть все основания для этого: мы молоды, умеем владеть оружием и всей душой стоим за свободных испанцев. Мы летчики, для республиканцев наша профессия — клад.
Первым отваживается перейти от мечтаний к делу Саша Минаев — посылает письмо в испанское посольство. Хотя мы и не знаем, есть ли в Москве такое посольство. Попытка оказывается неудачной, видимо, письмо не нашло своего адресата…
Но неудача Минаева не обескураживает нас, мы вновь обращаемся к различным организациям, лицам. По-разному пишем об одном и том же: наша мечта — стать бойцами Интербригады.
С юга на север наступает весна. В Испании республиканцы одерживают несколько побед. После тяжелой осени 1936 года, когда иной раз казалось, что дни Мадрида сочтены, после кратковременного затишья фронт снова приходит в движение. Воодушевленные первыми успехами, защитники республики вместо «No pasaran!» («Они не пройдут!») провозглашают «Pasaremos!» («Мы пройдем!»)
А на наши письма все нет и нет ответа.
Но вот перед Первым мая 1937 года мы узнаем, что в Москве гостит испанская делегация. В газетах пишут о ней много. Делегация примет участие в первомайской демонстрации на Красной площади. Вновь строим планы: может быть, удастся встретиться с испанцами…
И еще одна маленькая надежда: в эти же дни командование нашей авиационной бригады ознакомило летно-технический состав с приказом наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова. В приказе говорилось о том, что за последние месяцы на его имя поступает много рапортов, а еще больше писем с просьбой военнослужащих послать их в Испанию.
Мы заметили, что в приказе не было категорического запрета обращаться к наркому по этому вопросу, наоборот, приказ был составлен в разъяснительной форме, и мы даже читали мысленно, скорее угадывали подтекст этого хорошего, доброго документа: «Поймите, дорогие товарищи! — сложное это дело, всему свое время».
— Знаешь, Борис, — говорит мне Минаев, откладывая газету, — весна, что ли, на меня действует, но хорошие у меня предчувствия: сбудутся наши мечты.
Наконец-то! Едем! Ночь. Мерно постукивают колеса вагона. Оконное стекло черным-черно. Изредка появляются на нем желтые пятнышки далеких огоньков, покачиваются, тлеют и пропадают. Спят мои товарищи, мои новые друзья. Спокойно, положив под голову жесткую руку, спит Бутрым. Замолк, закрыв, словно от усталости, глаза, Саша Минаев.
Мчится поезд, уносит нас от Москвы. Серьезный шаг сделал каждый из нас. Впереди немало трудностей. Никто из нас не воевал. А воевать мы обязаны так, чтобы никто никогда и ни в чем не упрекнул нас. Обязаны! Потому что мы добровольцы.
…И вот Севастополь. Знакомимся с человеком, который должен устроить нас на испанский пароход. Сам он тоже поплывет до Испании для передачи подарков представителям испанской общественности. Подобные рейсы он уже совершал неоднократно, сопровождая груз, которому нет цены, — тонны сливочного масла, печенья, ящики с консервами, теплые вещи, купленные на деньги ленинградских школьников и рыбаков Дальнего Востока, скотоводов Туркмении и горняков Урала. И мы-то знаем: не только подарки он везет, но и оружие, боеприпасы, так необходимые сейчас республиканской Испании.
Спрашиваем у сопровождающего, поплывет ли еще кто-нибудь с нами.
— Человек пять-шесть, не больше, — отвечает он. — Вас трое, еще один летчик, Иванов, тоже только что приехал… Да, впрочем, вот он и сам — видите, вон там, возле мешков…
Неподалеку в картинной позе, облокотившись на мешки, стоит высокий красивый парень, на вид заправский спортсмен. Шляпа лихо сдвинута на затылок. В углу рта папироса. Пиджак нараспашку, галстука, конечно, нет, наверняка лежит засунутый в угол небольшого чемодана, ни разу не завязанный, но уже измятый.
Знакомимся с Ивановым и устраиваем маленький военный совет. Испанский пароход еще не пришел. Можно было бы обосноваться в городе, в гостинице. Однако решаем остаться в порту. Надежнее — уж здесь-то мы не прозеваем прибытие парохода.
— Можно достать палатку? — спрашиваем сопровождающего.
— Конечно. Они уже есть.
Находим ровную каменистую площадку с несколькими зелеными кустиками. С нее открывается прекрасный вид на море, величавое, щедрое, поблескивающее бесчисленными гребешками волн. Ночью я впервые слышу, как море вздыхает, словно огромное и доброе живое существо, мучимое бессонницей. Вздыхает кротко, так, чтобы не потревожить сон людской.
А наутро к нам является новый спутник. Запыхавшись, шариком подкатывается к палатке. Первый вопрос: «Здесь летчики?». Никто из нас не может сдержать улыбки. Отвернувшись в сторону, одним уголком рта улыбается Бутрым, и даже Панас[1] застывает на месте от удивления.
Вот это экипировка! Несмотря на жару, застегнутое на все пуговицы немыслимо клетчатое пальто. Ослепительный канареечный галстук, широченные брюки и шляпа с огромными полями, из-под которых сияет круглое веснушчатое лицо. Ничего не скажешь — убил!
— Волощенко! — простодушно отрекомендовывается наш новый знакомый. — Здорово, ребята!
Заметив, что к одному из его чемоданов привязана кокетливая тросточка, мы уже не можем сдержать откровенный хохот.
Волощенко смущен. Как выяснилось потом, бедняга замучил всех, кто подбирал ему штатскую одежду, просил выбрать самую модную, элегантную пару. И вот, пожалуйста, этакий прием!
— А ну вас! — отмахивается он и сердито ставит чемоданы на землю.
— Подожди, подожди, — говорит, подходя к нему, Панас. — А это что за чемодан?
Новый взрыв хохота: Панас держит в руках… патефон.
Да, наш спутник оказался на редкость веселым малым.
Пароход не пришел и на другой день. Надолго ли мы тут застрянем? Сопровождающий пожимает плечами: странно, но пароход, видимо, где-то задержался — это раз; потом учтите, что погрузка займет несколько дней, — это два. В общем, с недельку придется просидеть.
— Отдыхайте, загорайте, — говорит он нам.
Пака я хорошо знаю лишь Бутрыма и Минаева. Высокий, костлявый и, как большинство людей такого склада, медлительный, Бутрым выглядит взрослее нас всех. Я думаю, что он может оказаться нашим командиром, и сравниваю его с Сашей Минаевым. Так же, как и Бутрыма, я знаю Минаева давно и так же давно люблю. Мы почти одногодки с ним, но я привык считать его старшим. Спорить с ним трудно: он умеет находить веские, неотразимые доводы; поссориться — невозможно: он предельно честен в отношениях с друзьями. Вообще он удивительный человек: за что бы ни брался, все у него выходило ладно, толково и красиво.
В разговоре кто-то вспомнил об Анатолии Серове. Я о нем слышал не раз, но видел его только однажды, и то мельком. Помню, он с первой минуты произвел на меня большое впечатление: рослый, с широко развернутыми плечами и открытым, энергичным лицом.
Лежа на горячей севастопольской земле, с удовольствием слушаю рассказы о Серове и молча присоединяюсь к общему мнению: хорошо бы и ему разрешили ехать в Испанию вместе с нами.
Майское солнце припекает изрядно, и беседа наша течет неторопливо. Тихо плещут о берег волны, и так же тихо рассказывает что-то Панас. Я прислушиваюсь: Панаса ли это голос? Приглушенный, странно печальный…
— Батьку доконали царские жандармы. Мать говорит веселый был: начнет плясать — хата ходуном ходит. А я ничего не помню. Только помню — борода у него была колючая, он любил щекотать бородой. И брата я потерял старшего — тот махновцам попался в лапы. В братской могиле похоронили. Сейчас там памятник стоит, и на памятнике фамилия: «Иванов».
Я слушаю Панаса, и мне становится ясно, почему этого парня потянуло в Испанию.
Все жарче и жарче печет солнце. Не выдержав зноя, Волощенко уползает в палатку. И сразу же оттуда раздается неунывающий хрип патефона. Море, белые палатки, легкая музыка — да и впрямь не на отдых ли мы приехали? Долго мы тут будем валяться?
— Куда пропал сопровождающий? — говорит Минаев.
Никто не может ответить: сопровождающий исчез бесследно, мы даже не заметили, на чем он уехал.
— Неужели мы только сутки живем здесь? — спрашивает Минаев. — Чудно… Кажется, будто уже давным-давно. Во всяком случае, пора бы сниматься.
И смотрит на бухту. Бухта — это угнетает нас больше всего — пустынна. На приколе стоят два буксирчика, несколько шаланд — и все.
— На чем же мы поплывем? Не на этих же «броненосцах»? — спрашивает Бутрым, и в голосе его слышатся нотки нетерпения.
Испания почему-то кажется очень далекой страной. Гораздо более далекой, чем это нам раньше казалось.
Как в сказке — заснули после обеда, а в это время произошло чудо. Просыпаемся — в бухте стоит большой двухтрубный пароход. Видно, только что подошел: по всей бухте волнами морщится вода. На палубе суетятся черноволосые, загорелые матросы. Явственно слышны незнакомые, твердые слова.
— Испанцы, — догадывается кто-то из нас, и, охваченные внезапной радостью, мы кричим, перебивая друг друга:
— Привет, товарищи!
Нас замечают. Матросы подходят к самому борту и, приветственно подняв сжатые кулаки, отвечают:
— Салуд, камарадас!
Первое знакомство. Пароход подошел так близко, что мы отчетливо различаем лица матросов, видим, что они возбуждены встречей. Не в силах оторваться, смотрим на пароход, пока Минаев не догадывается:
— Им же работать надо. А мы митинг устроили. Кричим друг другу и ничего не понимаем.
Нехотя уходим в палатку. Но нет-нет кто-нибудь приоткроет угол полотнища и снова взглянет на пароход, читая по складам его название «Oldecon». Там уже кипит работа.
Идет погрузка. Раздаются возгласы, которые можно услышать в любом порту мира: «Вира! Майна!». Испанцы умеют работать темпераментно и легко — с каким-то удивительно праздничным подъемом. Мы любуемся ими, и кто-то, кажется, Бутрым, не выдерживает:
— Чем глазеть без толку, пошли бы помогли…
Но его прерывает появившийся сопровождающий:
— Я советую вам заняться другим — изучением испанского языка. Пригодится.
Толковое предложение. Мы и сами не раз задумывались над простым вопросом: а как будем разговаривать с испанцами?
Наш маленький лагерь пополнился еще одним человеком. Вместе с сопровождающим прибыл молодой человек, на вид лет двадцати, не больше, одет скромно, опрятно. Сразу видно, что военной формы еще не носил, но, видно, с дисциплиной в ладу, коли не включился в разговор до тех пор, пока его не представил сопровождающий:
— Вот и учитель испанского языка, в Испании будет работать военным переводчиком. Леонид Резников.
Нас эта новость поразила. Совсем молодой парень, а уже знает иностранный язык, да какой — испанский!
Анатолий Серов
Спросонок ничего не могу понять. Невероятный шум, крики, хохот. Вскакиваю с постели — мимо меня пролетает подушка.
— Довольно спать, сони! — кричит здоровенный детина и стаскивает за ноги с постели ничего не соображающего Волощенко.
Протирая глаза, всматриваюсь — Серов! А он, не давая опомниться, уже командует:
— Ну-ка, быстро в море! Утро какое, а они спят!
И заразительно смеется. Удивительный человек этот Серов — почти никто из нас не знает его, а он врывается к нам, словно мы его старые друзья. И главное — сразу же располагает к себе, так что не остается места ни для обиды, ни для смущения. Уж на что молчалив Бутрым, но и тот громко смеется и весело расталкивает все еще полусонного Волощенко.
Не одеваясь, в трусах, обступаем Анатолия и забрасываем его вопросами. А ему не стоится на месте. Бурно жестикулируя, рассказывает, как он по дороге в Севастополь все боялся, что мы уже отплыли.
— Ну, так когда же? Когда? — спрашивает он нас.
Мы показываем на пароход: мол, грузится. Серов круто поворачивается, внимательно смотрит на него и покачивает головой.
— Н-да… Ясно. Самый обычный грузовой теплоход. На этом корабле нам долго придется шлепать до берегов Испании. Скорость не больше двенадцати узлов в час. И то по праздникам.
Утром начинаем второе занятие по изучению испанского языка.
— Вчера мы занимались только часа три, — говорит сопровождающий. — Советую вам наилучшим образом использовать свободное время и отдавать языку каждый день часов шесть.
Панас пробует о чем-то заикнуться, но его обрывает Серов:
— Шесть часов — мало. Восемь часов — нормально. Будем заниматься столько, сколько нужно. Язык-то испанский!
Лицо его становится сосредоточенным. Он достает блокнот, чинит карандаш и выжидающе глядит. Каких-нибудь пять минут назад Толя неугомонно носился в воде, хохотал на всю бухту. Как он быстро и резко изменился!
— Ну что ж, повторим испанский алфавит и произношение отдельных звуков, — размеренно говорит переводчик. — Вчера мы узнали, что испанская буква «А» пишется так же, как русская «А», и точно соответствует гласной «а» в нашем языке. Так что здесь никакой разницы нет…
Серов начинает ерзать на месте.
— Извините, — говорит он переводчику, когда тот взглядывает в его сторону. — Все это — и звуки и грамматику — мы будем повторять днем и ночью. Это я вам обещаю. А сейчас мне хочется, чтобы вы прежде всего научили нас приветствовать испанцев. А то вот он, пароход, люди на нем, наши товарищи, а мы и поздороваться с ними не умеем.
Учитель улыбается: — Ну что ж, тоже правильно. «Здравствуй, товарищ» по-испански — «салуд, камарада».
Чтобы не ошибиться, Серов повторяет слова по слогам и тут же размашисто русскими буквами записывает их в блокнот.
Перед обедом Анатолий приводит в растерянность повара — совершенно серьезно спрашивает его громовым голосом:
— Амиго, что у вас сегодня для авиадор русо?
А вечером ходит по берегу и бубнит под нос все, что было задано выучить, — отдельные слова, грамматические правила. Панасу не везет: попадается на глаза Серову, и тот допрашивает его с пристрастием. Убедившись, что Панас не знает и половины первого урока, Серов тащит беднягу на расправу к учителю. Тот смеется:
— Интересный человек…
Анатолий Серов
Нас самих многое удивляет. Уж на что Панас — разудалая головушка, да и переводчик отпустил его с миром, а вот ведь целый час послушно ходит по берегу за Серовым, и тот твердит ему:
— Следующее слово — «кверидо», что означает по-испански «дорогой». Запомнил? Ну-ка, повтори.
И Панас повторяет:
— «Кверидо» — по-испански «дорогой».
И опять, как в сказке, только с плохим, невеселым началом: просыпаемся — нет нашего парохода, а на его месте стоит другой — полупассажирского типа. Смотрим в растерянности на палубные надстройки, сияющие масляной краской, на ряды круглых иллюминаторов — и не верим своим глазам. Что же это такое? Нас обманули? Почему пароход ушел ночью, не захватив нас? Неужели придется ждать целую неделю, пока загрузят и эту посудину? Черт знает что такое!
Сопровождающий ухмыляется:
— А я думал, что летчики народ наблюдательный. Значит, ошибся. Никто из вас даже не догадался прочитать название парохода.
Смотрим на носовую часть парохода — и столбенеем. Те же белые буквы, то же название… Ничего нельзя понять.
— Один из маскировочных вариантов, — смеется сопровождающий. — Мало ли что может быть в пути. Так вот сейчас проверяется вариант номер один. Судя по вашим физиономиям, неплохой вариант…
— Здорово! — восклицает Серов. — Ну и хитрецы!
Но нам все еще не верится: неужели за одну ночь можно так неузнаваемо преобразить большой пароход? Наши сомнения быстро рассеивают испанцы. Убирается одна декорация за другой. Через два часа теплоход принимает прежний вид.
Эти «чудеса» производят на нас разное впечатление. Панас и Волощенко в восторге.
— Как в приключенческом романе! — радуется Панас.
— Знаешь, есть фильм… Забыл только, как он называется. Так вот там такое же показывали, — поддакивает ему Волощенко.
Бутрым восхищается мастерством испанцев:
— Чистая работа! Метров пятьдесят до парохода, не больше, а все как настоящее — и каюты, и иллюминаторы…
Только Минаев и Серов над чем-то всерьез призадумались. Они уединяются и долго беседуют вдвоем.
— Довольно трепать языками, — вмешивается наконец Серов в наш разговор. — Приключенческий роман! Надо серьезно подумать о предстоящем пути. Я вот думаю — и Минаев со мною согласен, — что придется нам на пароходе установить дежурства — наблюдать за морем. Испанцы будут, конечно, заниматься этим, но лишний глаз не помеха.
И, удивляя нас знанием дела, Серов подробно рассказывает о том, как вести наблюдение за морем. При этом он часто поворачивается в сторону Минаева, и тот одобрительно кивает головой.
Они хорошо понимают друг друга.
В далекий путь
Наше терпение уже истощилось, а пароход по-прежнему стоял у причала. Трюм его казался бездонной ямой. Десятки груженых платформ и вагонов подходили к подъемным кранам, быстро опорожнялись, на их месте появлялись новые — и так четыре дня подряд. Когда же насытится это морское чудовище?
Правда, нам не приходилось скучать. Изучение испанского языка шло полным ходом. К вечеру, когда кончались уроки, голова гудела от испанских существительных, глаголов и грамматических правил. Последние часы перед сном мы посвящали непритязательным занятиям. Лежа у палатки, Волощенко и Панас поочередно крутили ручку патефона и без конца рассматривали кучу фотографий — достояние Волощенко. Серов рассказывал о полетах. Я и Минаев пристрастились было к рыбалке, но развитию этой страсти помешал повар: каждый раз, когда мы ему приносили бычков, — а что мы еще могли поймать на самодельные удочки из шпулечных ниток и согнутых булавок? — повар заявлял, что жарить каких-то несчастных мальков, когда под руками есть прекрасная рыба, — значит попросту валять дурака.
Житье на берегу с каждым днем становилось все нестерпимее. Но вот в конце недели сопровождающий объявил нам, что отплытие назначено на завтрашнее утро.
Весь вечер прошел в нескончаемых разговорах. Шутка ли — завтра отплывем! Теперь до Испании — рукой подать! И в разговорах мы все чаще и чаще возвращались к одной и той же теме — к будущим боям. Теперь эти бои не беспредметная мечта. Нет. Промчится неделя, другая, наконец, третья — и мы выйдем на линию огня. Не спится. Еще раз каждый проверяет себя, безжалостно разбирает свои недостатки, осторожно взвешивает достоинства. И каждый задает себе вопрос: сумеет ли он не дрогнуть перед лицом опасности?
На рассвете мы уже на ногах. Солнце еще за горизонтом. То ли от волнения, то ли от утренней свежести пробирает озноб. Корабль высится в бухте сероватой глыбой. На нем тоже поднялись: видимо, идут последние приготовления к отплытию.
Складываем палатки, собираем вещи. Волощенко без колебания запихивает костюм и галстук в чемодан, клетчатое пальто перебрасывает через плечо, патефон с тросточкой в одну руку, чемодан — в другую, и уже стоит, посмеивается, ждет нас. Тут же к нему присоединяется Панас. На берегу он с нескрываемым удовольствием отказался от всех прелестей одежды цивилизованного человека и целыми днями щеголял в трусах. Сейчас он собрался на корабль в мгновение ока: варварски скрутил костюм в клубок и сунул под мышку, полупустой чемодан поддел двумя пальцами и, недовольный нашей медлительностью, встал рядом с Волощенко.
— Вы что это, не на палубу ли собрались? — удивленно воззрился на них Минаев.
— Ну конечно! Вас ждать… — буркнул Панас.
— Что вы, с ума сошли? В таком виде!
Волощенко и Панас почувствовали неладное.
— Нельзя, ребята, являться к чужим людям вот так, — просто сказал Минаев. — Что испанские товарищи могут подумать о нас? Надо надеть все самое лучшее, почистить одежду, чтобы ни пятнышка, ни соринки. Неужели вы не чувствуете этого?
Панас крякнул:
— Да, черт… Правильно. Недодумали.
Волощенко покраснел так, что не стало видно его рыжеватых веснушек.
А через час к Волощенко невозможно было подойти — он вылил на себя, по его собственному признанию, чуть ли не целый флакон одеколона.
— На пароходе, наверное, и то слышат запах, — шипел на него Панас, неумело завязывая галстук.
— Готовы? — спрашивает нас сопровождающий и невольно останавливает взгляд на Серове. Плотный, атлетически сложенный, в безукоризненно выглаженном костюме, он немного волнуется. Сопровождающему он, видимо, очень нравится.
По широким сходням поднимаемся на пароход. У борта стоят испанцы, приветствуя нас поднятыми кулаками. Почти все без пиджаков, в пестрых цветных рубашках. Бронзовые лица, гладко зачесанные назад волосы, лихо сдвинутые набекрень береты. И несется над бухтой:
— Салуд, камарадас!!
Мы отвечаем по-испански, вызывая ликование экипажа. Ступив на палубу, сразу же попадаем в горячие объятия. И тут же от волнения мы забыли все испанские слова. Не растерялся, кажется, один Серов. Живо жестикулируя, он что-то говорит, потом поднимает кулак, и матросы покрывают его речь громким «Viva Russia!»
Откуда-то появляются глиняные кувшины с вином. Испанцы показывают, как нужно пить из них: держа кувшины прямо перед собой, высоко поднимают их — из длинного узкого горлышка вырывается золотистая струя. Они пьют стоя, искусно направляя струю прямо по назначению. С некоторым страхом берем кувшины и, конечно, обливаемся вином. Испанцы ободряюще похлопывают нас по плечу, мы вновь мужественно поднимаем коварные сосуды, и наконец-то нам удается отведать чудесное виноградное вино.
Солнце стоит уже высоко в небе. Матросы сменили праздничную одежду на рабочую. Подается сигнал к отплытию.
Тихо поскрипывая, теплоход медленно отшвартовывается. Между нами и берегом появляется узкая полоска воды. С каждым мгновением она становится все шире и шире. Мы не в силах оторвать от нее взгляд, словно эта полоска воды обладает какой-то невиданной притягательной силой. За ней севастопольский берег. Родина…
Долго стоим, опершись о борт, не спуская глаз с удаляющегося берега. Вот уже бухта осталась позади. Теплоход — в открытом море. Вдалеке Севастополь, а впереди бесконечное синее море.
Постепенно выходим из оцепенения. Здесь же, у борта, завязывается разговор. Говорим о предстоящих воздушных боях. Душа беседы — Серов. Его спрашивают, с ним советуются, словно он уже раньше воевал. Он говорит:
— Драться надо с умом и так, чтобы «прохладно» не было. Спросите у Бутрыма и Смирнова, как их обучал Антон Губенко. Бутрым! Помнишь, ты говорил мне, что после каждого учебного боя с Губенко; тебе приходилось сушить гимнастерку? Вот это, я понимаю, бой!
Серов глубоко затягивается, выпускает целое облако папиросного дыма и почему-то вздыхает:
— Да, но то были бои учебные.
Мы спускаемся к своему кубрику и тут только замечаем, что берегов уже не видно. Куда ни кинь взгляд — волны, волны и волны…
Ближе знакомимся с экипажем. Испанцы нам очень нравятся. Они темпераментны и быстры, хотя среди матросов немало пожилых, уже поседевших на морской службе.
Капитан теплохода моложе многих своих подчиненных. На вид ему не больше тридцати лет. Несмотря на молодость, у капитана, видимо, достаточный опыт. В его жестах, манере держать себя чувствуется спокойствие бывалого моряка, твердая уверенность в своем положении.
Капитан приглашает нас к себе. Просит садиться и сразу же приступает к деловому разговору.
— Экипаж, — говорит он, — как вы уже могли убедиться, не слишком многочислен. Ничего не поделаешь, война, на фронте люди нужнее. Поэтому каждый новый человек представляет на борту большую ценность.
Вот почему он просит русских летчиков включиться в боевые расчеты. Это значит, что в случае тревоги или (помоги нам избежать напастей, пресвятая дева!) в случае нападения мы должны занять свои места у огневых точек и действовать так, как будет приказано. Немного позднее он сам покажет нам эти огневые точки, их скоро оборудуют.
— Как вы на это смотрите, сеньоры? — спрашивает нас капитан и, не дожидаясь ответа, удовлетворенно кивает головой: по нашим лицам видно, что мы согласны.
Гораздо более неожиданной для меня оказывается вторая часть его речи.
— Сеньоры авиаторы, — говорит он, — конечно, понимают, что, поскольку пароход испанский, да еще торговый, на нем не должно быть никого, кроме моряков-испанцев. Присутствие на теплоходе русских может вызвать подозрения при проверке и привести, например, к задержке или аресту парохода.
Поэтому мы все включены в списки экипажа под вымышленными испанскими именами. Капитан чрезвычайно доволен, что некоторые из нас брюнеты. Внешность при проверке — залог успеха или неудачи, так как полицейские чиновники лично не разговаривают с матросами.
— Итак… — сделав паузу, капитан начинает перечислять: — Камарада Анатоль — матрос, камарада Педро — матрос, камарада Борес (я встаю) — официант.
Гром с ясного неба! Я официант! Да я же никогда в жизни не бегал с салфеткой вокруг ресторанных столиков и наверняка не обладаю нужными для этого способностями… Смутившись, объясняю это капитану. Он внимательно выслушивает меня и громко смеется.
— Вы меня совсем не поняли. Ваша должность — простая формальность, необходимая лишь на случай проверки судовых документов. Ваши паспорта будут храниться в моем сейфе.
Я успокаиваюсь, смотрю на свой испанский паспорт, в нем значится: Мануэль Лопес Горей. Но ребята, черти, все-таки ухмыляются: им что, они матросы!
Выходим из каюты. На палубе уже полным ходом идет оборудование огневых точек. Вместе с экипажем осматриваем и проверяем оружие, советуемся с испанцами, где лучше установить пулеметы, накрываем их аккуратными фанерными ящиками, которые прекрасно сливаются с общим ансамблем палубных надстроек. Капитан наблюдает за нашей работой, не скрывая удовлетворения. Когда эта работа заканчивается, он ведет нас по палубе к укрепленным на бортах двум спасательным шлюпкам, покрытым брезентом. Глаза его лукаво щурятся.
— Что думают сеньоры авиаторы об этих шлюпках?
Что мы можем думать о них? Шлюпки как шлюпки.
Пожимаем плечами.
Капитан останавливает двух матросов, те что-то быстро делают, и вдруг каждая из шлюпок распадается на две половинки, открывая взору пушку небольшого калибра. Капитан смотрит на нас с вопрошающим видом: как нравится сеньорам маскировка?
Он приглашает нас в каюту, знакомит со своими помощниками.
— Вас с нетерпением ждут у нас, — повторяют испанцы. — До сих пор республиканская авиация слабее фашистской. Бомбежки замучили жителей Мадрида, Валенсии…
— Нам самим не терпится скорее приплыть. И — в бой, чтобы повытрясти душу из фашистских летчиков! — отвечает Серов.
Капитан молча встает из-за стола, подходит к сейфу и достает несколько крупнокалиберных патронов. Показывает их Серову.
— Видите? Итальянские и немецкие летчики угощают вот такими фруктами. На то война. Не будьте беспечными. Не думайте, что легко справитесь с врагом.
Серов смущается: неужели в его словах прозвучало бахвальство? Да нет же, он прекрасно понимает, что воевать и побеждать трудно, тяжело.
— Сеньор капитан, — поднимается он из-за стола, — вы, должно быть, не так меня поняли. Мы глубоко сознаем, что едем в Испанию не за апельсинами, а для того, чтобы помочь народу в его борьбе. Но поверьте — то, что вы нам показали, нас не пугает.
Он говорит почти клятвенно. Капитан, бурно жестикулируя, уверяет нас, что он нисколько не сомневается в наших будущих успехах. При этом он часто похлопывает Серова по плечу — обычный у испанцев жест, обозначающий полное расположение к человеку.
Как тяжела война в Испании и сколько она причиняет людям горя, мы знаем теперь не только из газет. Об этом нам много рассказывают моряки.
Прогуливаясь по палубе, заходим как-то в матросский кубрик и видим — все спят после смены и только в углу одиноко бодрствует пожилой сутулый человек с шапкой пепельно-седых волос. Перед ним пяльцы, на которые натянуто рукоделие. Мужчина, занимающийся вышиванием? Спрашиваем моряка, что он делает. Вначале он мнется, но потом отбрасывает смущение и просто отвечает:
— Скатерть, сеньоры.
— Скатерть? Зачем? На продажу?
— Нет, сеньоры, не на продажу.
Он вздыхает и говорит, что зарабатывает, как и все остальные, не много. Между тем, есть у моряков обычай: обязательно привозить родным из дальнего плавания какие-нибудь подарки. Вот он и решил вышить своей старухе скатерть. Выйдет дешево и красиво. А где он научился вышивать? О! Чему не научишься за долгую жизнь!
— Здесь, пожалуй, тесно работать, — говорим мы ему. — Заходите к нам. У нас просторнее, можно свободно растянуть всю скатерть.
— Благодарю, сеньоры. Непременно зайду.
Один рассказ моряка запоминается нам надолго.
Была у моряка соседка Пепита. Веселая как огонь.
Муж ее ушел на фронт. Она верила, что муж вернется, и не унывала. «В Астурии он, — говорила Пепита, — как оттуда пришлешь письмо? Вот кончится война — придет». То есть люди не видели, чтобы она унывала. Все она отдавала своему сыну. Хуан звали сына. Понятливый мальчик. Все просил моряка показать ему пароход. Когда начались бомбежки, Пепита стала сама не своя. Понятно, мать, а бомбы не знают милосердия… Но ведь много матерей есть, и совсем неплохих матерей, и все дрожат над своими детьми, но не так, как Пепита. Она, поверите ли, на ночь стала уходить из города. В горы. Десять километров — туда, десять — обратно. И все на руках таскала Хуана. И утром — на работу. А какая работа, если бомбили и днем! Когда она спала, никто не знал. Да и спала ли? Исхудала. Стала заговариваться. Но стоило только ей увидеть Хуана — снова делалась она веселая как огонь. И все ей было нипочем: десять километров — в горы, десять — обратно. Идет и не жалуется, песни поет.
Ушел моряк в далекое плавание. Было у него предчувствие, что плохо кончит Пепита. И сбылось его предчувствие. Вернулся — и встретил не Пепиту, а ее мужа. Тот приехал из Астурии, Без ноги. Боялся моряк его спросить, где жена, потому что на нем лица не было. Уехал молодым, а вернулся стариком — пальцы сухие, лоб желтый. Или его здесь так скрутило? Уже от других моряк узнал, что стало с Пепитой. Однажды она не пошла в горы, потому что очень устала, а бомбежка ночью была особенно жуткой. Небо полыхало со всех сторон. Она с ребенком выбежала на улицу, хотела спрятаться в соседнем доме: тот дом повыше, покрепче. Но добежать не успела. Убило мальчика, убило Хуана. Видели это многие. Но только вот что странно: наутро не нашли ни Хуана, ни Пепиты. Кто-то принес слух, что видели ее с мертвым ребенком на руках. Шагает по дороге, смеется. «Куда ты?» — спрашивают ее. «К мужу», — отвечает. «А где твой муж?» — «В Астурии, на фронте». И смеется.
Мы молчим. Серов поднимается и медленно идет на палубу. Долго стоит, облокотившись о борт…
На третьи сутки входим в турецкие воды. По заранее намеченному плану мы должны пройти Босфор с наступлением темноты. Останавливаемся, минут тридцать ждем турецкого лоцмана, который должен прибыть на теплоход и провести его через пролив в Мраморное море. Это международное правило.
Мы беспокоимся — не пронюхает ли лоцман, что на пароходе находятся русские? Капитан, посасывая трубку, усмехается:
— Турецкие лоцманы очень любят коньяк и американские доллары. Мы предусмотрительны и приготовили для «дорогого гостя» все необходимое. Только об одном прошу вас — не попадайтесь ему на глаза.
Вскоре к борту теплохода пришвартовывается катер, и через минуту на палубу, отдуваясь, поднимается маленький тучный турок. Ночь, на наше счастье, темная. Капитан любезно принимает «гостя», разговаривает с ним по-английски и проводит кратчайшим путем в каюту.
Часа через два изрядно захмелевший лоцман вываливается из кают-компании и ковыляет по трапу. Из его карманов торчат две бутылки коньяка. Его любезно поддерживают капитан и старший помощник.
Сгрузив «дорогого гостя» на катер, капитан облегченно вздыхает:
— Эта заноза глотает коньяк, как воду!
Настроение у капитана превосходное. Он громко отдает распоряжение идти полным ходом, желает всем спокойной ночи и, насвистывая песенку, уходит к себе.
На другое утро берегов уже не видно. Турция осталась позади. Мы снова в открытом море.
Тревожные дни
Собираемся на завтрак позднее обычного. Несмотря на это, стол в кают-компании не накрыт. Гадаем, в чем дело. Наверное, кок заспался…
Капитан, заложив руки за спину, нетерпеливо ходит взад-вперед и шумно высказывает свое недовольство по поводу нарушения установившегося распорядка. Наконец не выдерживает и строго говорит своему помощнику:
— Немедленно разыщите этого лентяя! Чтобы через пять минут завтрак был на столе!
Помощник уходит и пропадает минут десять. Возвращается растерянный и докладывает, что повара нет ни в его каюте, ни на кухне, плита холодная и весь экипаж, оказывается, тоже остался сегодня без завтрака.
Дело принимает серьезный оборот. Шарят по всему теплоходу. Повар как в воду канул. Помощник вторично заходит в его каюту и выбегает оттуда взволнованный. В руках у него исписанный клочок бумаги.
— Что это такое? — спрашивает капитан.
— Адресованное вам, — отвечает помощник. — Я нашел это на койке повара.
Капитан быстро прочитывает бумажку и передает нам. Заметно, что он разгневан, но старается сдерживать себя.
Записка гласит примерно следующее. Повар просит капитана и весь экипаж простить его. Он понимает, что поступает подло, но страх сильнее его. Первый рейс в Советский Союз, в котором он участвовал, прошел благополучно. Но он все время дрожал при мысли, что теплоход может быть потоплен в пути. Второй раз пережить такое он уже не в состоянии — это свыше его сил. В конце записки повар клянется капитану, что ничего не расскажет турецким властям о корабле, и желает всем успешно завершить и этот второй рейс на пользу республиканской Испании.
Помощник капитана удивленно разводит руками:
— Каким образом мог удрать этот негодяй? Я прекрасно знаю, что он не умел плавать. Разве только убежал с лоцманом… Но ведь мы провожали турка до самого катера вместе с вами, капитан!
Капитан отдает распоряжение еще раз тщательно осмотреть теплоход. Вскоре один из матросов сообщает, что с кормы в воду свешен конец каната и не хватает двух спасательных кругов. Теперь все ясно. Если этот дезертир попадет в руки турецкой разведки до окончания рейса, наше положение может стать весьма сложным. Сегодняшний трус завтра станет предателем, а турецкие разведчики с удовольствием продадут итальянцам полученные сведения.
Ясно, что надо немедленно принимать какие-то меры предосторожности. На скорую руку закусываем консервами и собираемся у капитана. Разговор ведут главным образом сопровождающий и капитан. Сопровождающий совершенно спокоен — говорит по-прежнему неторопливо, ровно и тихо. Его спокойствие невольно передается и нам.
Капитан сообщает, что отведет теплоход подальше, в сторону от главного морского пути. Это позволит избежать встреч с другими судами. Единодушно соглашаемся, что необходимо как можно скорее изменить внешний вид парохода и заново перекрасить его.
— Вариант номер один, — говорит капитан.
Работа предстоит большая. Объявляется аврал.
Откуда-то из-под брезента вытаскиваем фанерные декорации. Стучат топоры, молотки. На палубе быстро вырастают новые надстройки и даже появляется дополнительная труба. Несколько человек примостились за бортом на висячих площадках и, как заправские маляры, орудуют кистями. Вместе со всеми работаем и мы. Анатолий забрался с ведрами на мачту и малюет ее в синий цвет. Панас старательно закрашивает наименование теплохода и, приложив к борту заранее приготовленный трафарет, выводит новое название.
Через несколько часов воды Средиземного моря бороздит теплоход полупассажирского типа, светло сияют иллюминаторы, веселыми рядами тянутся белые дверцы пассажирских кают.
Мы договариваемся о наблюдении за морем и воздухом. Фашистские подводные лодки и самолеты могут появиться в любое время. Вахта должна быть круглосуточной. Распределяем посты, часы службы. Нас мало, но Серов просто выходит из затруднения: записывает себя дважды — на ночное и дневное дежурство.
— И буду следить за постами, — внушительно говорит он. — Смотрите! Потачек не ждите.
Ночью он застает Волощенко на посту спящим. Волощенко, правда, категорически отрицает, что он спал; просто, говорит, задумался и не заметил, как подошел Серов. Так или иначе, но Волощенко здорово влетело. Что ему говорил Серов, не знаем — Волощенко об этом не рассказывает. Но, встречаясь с Серовым, он непроизвольно вбирает голову в плечи. Анатолий же проходит мимо провинившегося, словно тот неодушевленный предмет.
Когда встаешь на пост, сразу вспоминаешь эту историю. Серов обязательно придет проверить, все ли в порядке… Удивительный человек — нисколько не думая о первенстве, он всюду легко становится первым. Мы знаем его лишь несколько дней, а он уже играет у нас роль командира.
Тревожное настроение постепенно рассеивается: пока идем нормально, в стороне от больших морских путей. Вторые сутки ни огонька в море, ни одного встречного корабля. Пустынная водная гладь и небо — синее, доброе, покрытое легкими перистыми облачками.
Но в полдень спокойствие экипажа нарушает одно неожиданное происшествие. Стоя на вахте, Бутрым заметил акулу, плывшую у самого борта теплохода. Знай Бутрым, что акула в открытом море — дурная примета у моряков, он, парень рассудительный, промолчал бы: зачем из-за пустяков расстраивать людей? Но Бутрым человек сухопутный и поэтому проявил неумеренное любопытство — вынул пистолет, прицелился и выстрелил в воду. Выстрел, разумеется, привлек всеобщее внимание. Подбежав к борту, Саша Минаев шутя спросил Бутрыма:
— Что, Петя, подводную лодку расстреливаешь?
— Какую там лодку! — ответил тот. — Посмотри, что за чудовище плывет!
С правого борта, совсем близко от носовой части, плыла огромная акула. Плыла быстро, вспенивая воду.
Столпившись у борта, испанцы принялись что-то горячо обсуждать. Мы не могли не заметить, что они встревожены.
— Плохие приметы сопровождают нас на всем пути, — сказал один из моряков. И, загибая пальцы, начал перечислять: — Отплыли тринадцатого числа. Хитрая бестия турецкий лоцман не настолько уж был пьян и, может быть, что-нибудь пронюхал. Наш повар как крыса сбежал с корабля. И, наконец, вот эта красавица…
Акула и впрямь оказалась дурной приметой.
Внезапно стала портиться погода. Перистые облака исчезли. По небу поползли рваные тучи зловещего черного цвета. Ветер крепчал с каждой минутой.
К вечеру поднялся шторм. Теплоход начало бросать из стороны в сторону. Мы с завистью смотрели на моряков: им хоть бы что, по-прежнему занимаются работой, напевают песенки, насвистывают. Даже как будто повеселели. В наш кубрик заглянул капитан и посочувствовал нам, не привыкшим к штормам. Но тут же высказал странное пожелание:
— Хорошо бы такая погода продолжалась до самого конца плавания.
Мы удивленно посмотрели на него.
— Ясное дело, сеньоры, — разъяснил он, — в сильный шторм наш пароход трудно заметить с моря и с воздуха, а тем более в перископ подводной лодки.
Ну что ж, это немалое утешение.
Последний этап
Шторм утих так же неожиданно, как и начался. Наступил полный штиль. Солнце, появившись на небосклоне, словно решило наверстать упущенное и пекло так, что приходилось то и дело окатываться водой.
Теперь, когда шторм миновал, мы уже вспоминали о нем с благодарностью. Пока море бушевало, нам удалось благополучно пройти солидный отрезок пути. Осторожный капитан по-прежнему вел теплоход вдали от основного морского пути, вдоль северного побережья Африки. До берега было не более двух-трех километров. Близость земли вносила в душу некоторое успокоение. Видеть берег для людей «сухопутных», должно быть, то же, что лететь на небольшой высоте для «нелетающих»: как-то оно спокойнее… Хорошая штука земля: не упадешь с нее, не утонешь на ней!
Берег пустынный, нелюдимый, но нам он нравится.
— Опасность сесть на мель исключена, — говорит капитан, — мелей здесь нет. Однако ведь можно подвергнуться атакам вражеских подводных лодок, тогда в критический момент можно будет выбросить теплоход на берег. — Капитан молчит некоторое время и добавляет: — Сегодня начинается самый ответственный этап пути. В этих водах всюду шныряют итальянцы и немцы. Надо усилить наблюдение за морем и воздухом. Ночью мы будем пересекать море курсом прямо на испанский порт Картахену. Там — дом. Родина.
И он глубоко, с удовольствием вдыхает воздух, словно уже чувствует запахи родной земли.
Вечером того же дня сопровождающий посвящает нас в некоторые подробности предстоящего пути.
— Самое неприятное, — говорит он, — остров Майорка. Нам предстоит пройти на незначительном расстоянии от него. С Майорки фашисты контролируют подходы к берегам республиканской территории. На острове расположены их крупные авиационные и морские базы. Если нам удастся проскочить это место, то главная опасность останется позади. За Майоркой нас уже должны встретить военные корабли республики и эскортировать до самого порта.
Сопровождающий советует держать спасательные пояса наготове, особенно в ночное время. Обсуждаем положение и приходим к выводу, что наблюдение надо усилить. Минаев предлагает дежурить всей группой. Часть из нас будет нести вахту на правом борту, часть — на левом.
После полудня теплоход разворачивается, ложится на новый курс и с максимальной скоростью начинает удаляться от берегов Африки. Мы вновь в открытом море. Напряжение растет с каждым часом. Капитан не уходит с мостика ни на минуту. Пробегая по палубе, матросы часто останавливаются, подолгу смотрят на море. Нам тоже не сидится в кубрике, вообще никакое дело не идет на ум.
Медленно наступает ночь. Тщательно соблюдаем светомаскировку. Даже разговариваем почему-то вполголоса. Ночь кажется бесконечной, но никто не торопит зарю: темнота для нас — спасение.
Брезжит рассвет — у всех одна мысль: прошли ли Майорку? Спрашиваем капитана. Не отрываясь от бинокля, он отвечает:
— Прошли.
Уже легче, хотя по-прежнему плывем в опасных водах и каждую минуту можем нарваться на вражескую подводную лодку.
В десять часов утра мы должны встретиться с республиканскими военными кораблями. Почти весь экипаж собирается на носу корабля. Капитан заметно волнуется, поминутно подносит к глазам большой морской бинокль и пристально всматривается в морскую даль.
— Смотрите! — вдруг восклицает Панас.
Но мы ничего не видим.
— Да что вы, ослепли, что ли! Я вижу на горизонте два дымка.
— Верно, верно, — подтверждает Бутрым. — Сейчас и я вижу.
На горизонте отчетливо вырисовываются столбики черного дыма. Два, три, четыре, пять! Вот уже их можно различить невооруженным глазом. А вдруг это фашистские корабли.
— Чьи это корабли? — спрашивает Серов капитана.
— А чьи это самолеты? — щурится тот, указывая на небо.
На большой высоте виднеются две точки.
— Трудно сказать… Они слишком высоко, — отвечает Серов.
— Вот и я не могу определить по этим дымкам принадлежность кораблей. Ясно одно — корабли военные и идут встречным курсом.
Самолеты проходят вдалеке от теплохода. Корабли все ближе и ближе. Уже ясно видны их контуры. Но еще нельзя сказать ничего определенного.
Неожиданно из рубки выбегает радист и возбужденно кричит капитану:
— Сигнал получен!
Резким движением капитан опускает бинокль и, выпрямившись, подает команду:
— Поднять республиканский флаг! Полный ход! Держать так!
Матросы дружно кричат: «Viva la Republica!» и мы — русское «Ура!»
Капитан покровительственно смотрит на общее веселье. Он и сам улыбается с довольным видом.
— У кого есть желание последний раз заняться малярным делом? — говорит он стоящим на палубе. — Нужно написать на носу теплохода старое название.
О! Это дело Панаса! Он быстро хватает ведро с белой краской. Его осторожно спускают за борт на висячей люльке. Весь экипаж словно зачарованный смотрит, как из-под кисти Панаса вновь появляется старое название корабля «Oldecor».
Эскорт кораблей берет наш теплоход в кольцо. Два корабля на несколько мгновений подходят к нам совсем близко. Военные моряки приветствуют команду теплохода высоко поднятыми кулаками. Вновь гремит: «Viva la Republica!».
Капитан спускается с мостика, на котором он простоял целые сутки, закуривает трубку.
— Еще несколько часов — и мы будем в Картахене, — говорит он. Голос у него хриплый, простуженный. Едва заметно дрожат руки — не то от усталости, не то от возбуждения.
…Над водой медленно поднимается ровная коричневая полоска земли. Все резче и резче она отделяется от воды — на коричневом фоне возникают зеленые пятна, белые кубики далеких зданий. Картахена!
— Какое сегодня число? — задумчиво, словно самого себя, спрашивает Анатолий Серов.
— Двадцать шестое мая, — отвечает ему Бутрым.
Первый день
Картахенский порт подвергался частым бомбардировкам, поэтому сразу же по прибытии моряки, не мешкая, приступили к разгрузке парохода.
Мы сошли на берег и невольно обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на теплоход. Капитан, распоряжавшийся на палубе, на минуту оторвался от дела, подошел к борту и дружески помахал нам рукой. Мимо проходили моряки. Сгорбившись под тяжестью ящиков, они улыбались одними глазами. Так мы простились…
Откуда-то из-за тюков вынырнул сопровождающий. Лицо его сияло от радости: груз — и какой груз! — благополучно доставлен в Испанию… Пока мы собирали свои вещи, сопровождающий успел наведаться к портовому начальству и уже знал решительно все.
У входа в порт вас ждет автобус, — объяснил он. — Ярко-голубой. Сразу увидите… На нем вас отвезут на сборный пункт. Это недалеко… — И замялся, оглядев нас беспокойным взглядом.
Мы хорошо поняли этот взгляд. И, кажется, Саша Минаев поспешно сказал сопровождающему, чтобы он больше не тревожился о нас, это же нехитрое дело — найти автобус, хватит ему, в конце концов, возиться с нами, когда у него и так забот полон рот. Саша положил руку на его плечо, и сопровождающий окончательно сконфузился.
— Это верно, это правильно сказано, — повторял он, впервые говоря о себе. — Не столько работы, сколько забот. — И виновато улыбнулся.
Но куда подевался наш переводчик? Мы были почему-то уверены, что Леонид Резников будет с нами вместе всегда и везде. Оказывается, он еще в Москве был определен военным переводчиком в республиканский военно-морской флот. И как только с корабля спустили трап, нашего переводчика тут же забрали в морское ведомство. Только и успели пожать ему руку на прощание.
Испания встречает нас не как гостей, а как солдат — просто, скромно, не скрывая своего горя.
У шофера, который везет нас в автобусе на аэродром, усталые глаза, вялые от бессонницы веки.
— Бомбежки, — вздыхает он и кивком головы показывает на груду развалин возле самого порта. — Вчера, — говорит он и резко переводит скорость.
На передовой. Боец народной милиции.
Странно шипят покрышки колес автобуса. Не сразу догадываемся, что едем по щебню. Вот они, следы войны, о которых нам раньше доводилось только читать… Город зверски изуродован бомбежками. На одно целое здание приходится пять-шесть разрушенных. Вот посередине мостовой в ржавой кирпичной пыли валяется синяя эмалированная дощечка с названием улицы. Автобус переезжает через нее. Возле развалин горит костер: так почти в самом центре города люди варят пищу…
Ссутулившись, напряженно смотрит по сторонам Серов. Внутренне он весь сжался, подобно пружине. Молчит Волощенко, молчит Минаев, оцепенел Бутрым. Автобус вырывается на сравнительно просторное шоссе.
Уже пять-десять минут мы едем за чертой города. Здесь как будто бы мир и тишина. Поднятая автобусом пыль медленно оседает на подступающие к дороге полоски посевов. Вдалеке курчавятся оливковые рощи. Над ними голубое, предательски голубое небо — лучшую летную погоду трудно придумать.
И здесь, на этом мирном поле, на каждом шагу тягостные приметы войны. Вот сбившиеся в кучу фургоны, палатки; возле них понурые фигуры женщин; между деревьями вьется дымок походного очага. Это беженцы. Навьючив на себя последние пожитки, идут женщины в бечевочных туфлях, плетутся с посохами старики, за ними — только что научившиеся ходить дети.
Я смотрю на своих товарищей, и меня не удивляет, что никто из них за всю дорогу не проронил ни слова.
Неожиданно из-за поворота шоссе показывается аэродром. Под сенью раскидистых деревьев стоят самолеты. Почему-то сразу становится легче на душе. Вот то, что нужно нам сейчас, чтобы успокоиться. Сесть бы сейчас в самолет — и в дело. Не случайно Серов снова выпрямился и не отрываясь смотрит на мелькающие за деревьями боевые машины. Я понимаю его. И Бутрым понимает, и Минаев. Каждый думает: «Скоро ли мы вылетим в свой первый боевой полет?»
Автобус подкатывает к широкому одноэтажному дому. Это так называемый сборный пункт летчиков. До войны здесь была усадьба крупного помещика, потомственного феодала. Помещик сбежал к Франко. Но у входа в дом остались стоять «бронированные швейцары» — так мы называли потом фигуры рыцарей в стальных латах. Впоследствии мы вдоволь насмотрелись на эти манекены: их можно было увидеть в каждом особняке, в любой дворянской усадьбе. Но сейчас они нам в новинку, мы с удивлением разглядываем эти металлические фигуры.
В доме тихо, пустынно. Блестящий холодный паркет, темные стены, увешанные рыцарскими щитами, мечами, рогами оленей. На обширной веранде, увитой плющом и диким виноградом, стоят столики. Видимо, здесь столовая для летного состава. За одним из столиков сидят четыре летчика — в желтых кожаных куртках, с тяжелыми большущими кольтами на поясах.
Невольно вглядываюсь в одного из них. Где я видел этого человека? Но не успеваю сообразить, кто это, как слышу возбужденный голос:
— Борис! Какими судьбами?
Акуленко! Мой однокашник! Он шагает ко мне, широко раскрыв руки для объятия. До чего же здорово! Мы обнимаемся, хлопаем друг друга по плечу и без конца повторяем:
— Вот не ожидал!.. Да… Вот здорово!..
Еще бы! Только ступить на чужую землю — и в первый же день встретить земляка. И не просто земляка, а близкого товарища. В 1933 году в Сталинграде мы вместе окончили летную школу и с того времени ни разу не виделись. Не виделись на Родине и встретились так далеко от нее!
Акуленко возмужал, окреп, совсем не похож на прежнего курсанта. Кожаная куртка лоснится на плотных плечах, лицо загорелое, посуровевшее. Мы засыпаем его вопросами. Настойчивее всех спрашивает Серов. Ему не терпится, ему хочется сразу же все узнать: какие машины у франкистов, какой тактики они придерживаются, часто ли у противника бывает численное превосходство и вообще, черт возьми, как их лучше всего бить, бить?!
Акуленко пристально смотрит на нас, словно решая: говорить всю правду или нет?
— Садитесь. Все расскажу, — произносит он после паузы. — Первое: не обольщайтесь, друзья… — Он говорит глуховато, медленно, взвешивая каждое свое слово, прежде чем сказать его. — Война здесь тяжелая, трудная. Легких побед у вас не будет.
Серов порывается что-то возразить, но Акуленко останавливает его взглядом: «Подожди, дослушай…»
— Почти все время я летал на прикрытие легких бомбардировщиков. Почти каждый вылет — воздушный бой. И хоть бы раз случилось так, чтобы на каждого из нас, республиканцев, приходилось по одному фашисту! Нет ведь, по два, по три, по четыре! А иногда силы противника во много раз превосходили наши. И нельзя было уходить с поля боя. Нельзя!
Акуленко зажигает папиросу. Затягивается. Взгляд его, тяжелый, неподвижный, устремлен в одну точку. И хотя эта точка — обыкновенная пепельница, мы тоже пристально смотрим на нее.
— Здешние бои, как вы понимаете, мало похожи на наши мирные учебные сражения, — продолжает он. — Во всем сплошная перегрузка: перегрузка мотора, самолета, перегрузка нервов. Приходится выжимать из самолета все, что он может дать. Больше того: часто нужно рисковать вариантами перегрузки! Мы с вами привыкли считать, что самолет имеет строго определенные летно-технические данные «от» и «до».
Здесь обстановка вынуждает забывать о пределе, установленном конструкторами, — часто именно за этим пределом и лежит победа! И крепко помните об одном, это мой самый важный совет, — добавляет он, — помните о дружбе. Если кто попробует здесь воевать в одиночку, работать на себя, я на таком заранее ставлю крест. Все время я летал с испанскими летчиками. Золотые ребята! Если бы не они, то прощай Акуленко, поминай как звали! Выручали, и как выручали!
Мы расспрашиваем о событиях на фронте.
— Вы счастливцы, — говорит Акуленко, — приехали сюда после Гвадалахары. Весна, успехи на фронте… А что здесь было осенью! Читали, конечно? Я имею в виду Мадрид. Многим тогда казалось, что дни республики сочтены. Талавера сдана, Толедо у франкистов, фашистские войска уже в предместьях Мадрида, просочились в Университетский городок, в Каса-дель-Кампо, в Западный парк. В Карабанчель-Бахо, в рабочем предместье, идут жестокие бои на баррикадах. Днем и ночью бомбежки. Приходят по двадцать-тридцать вражеских самолетов. Идут нахально, на небольшой высоте. Бомбят, тщательно прицеливаясь. А тут еще слухи, листовки. Франко передает по радио программу торжества по случаю предполагаемого занятия Мадрида. Генерал Мола вопит, что «национальные» войска — понимаете, какая наглость: это они о себе «национальные»! — идут на столицу четырьмя колоннами, а пятая выступит в самом городе. Именно тогда и появились эти слова — «пятая колонна». Говорят, в Мадриде было тогда не менее пятидесяти тысяч шпионов. Старались они вовсю. Сеяли панику, сигнализировали своим самолетам, стреляли в патрульных. Представляете такую картину: идешь вечером по улице — пусто, тихо, идешь словно не по городу, а по закоулкам крепости. Вдруг из-за угла ослепительный свет фар, душераздирающий вой сирены, выстрелы, черт знает что!
Акуленко нервничает, ломая спички, зажигает папиросу. То, о чем он рассказывает, более или менее известно нам из газет. Но в устах очевидца факты приобретают особенно зловещую окраску.
— Да, многие, очень многие поддались тогда панике. Даже Ларго Кабальеро со своим правительством. Бежал. Ночью, трусливо, как вор. Если бы не коммунисты, судьба Мадрида, и без того висевшая в те дни на волоске, возможно, была бы иной и вы бы не ехали сейчас туда. Я убежден, что осенью тридцать шестого года именно коммунисты спасли Мадрид. Они подняли рабочих на защиту города, убедили их, что фашисты не смогут сломить сопротивление мадридцев, если мадридцы будут сражаться стойко, не поддаваясь панике. Да вы сами знаете, что Хосе Диас вместе с другими коммунистами и жителями Мадрида строили оборонительные укрепления. Они же организовали Пятый Коммунистический полк, который в боях показал беспредельную храбрость. Мадрид должен быть благодарен коммунистам, — продолжает Акуленко, все больше и больше воодушевляясь. — И интеровцам. Помню, в канун нашего праздника — Октябрьской революции в Мадрид из Альбасете прибыла Интернациональная бригада. Мельком видел ее на улице. Спешил на аэродром. С вокзала, не останавливаясь, интеровцы шли прямо на фронт. На первый взгляд, странное впечатление: пожилой бородач и рядом с ним юноша. Не все умеют ходить в строю. Но что-то говорило, что эти сражаться будут здорово. В тот же день они выбили марокканцев из нескольких траншей. Кстати, говорят, что командир этой бригады — наш, советский…
— Наш?! — восклицаем мы.
— Его фамилия Лукач, но это псевдоним. У нас на Родине его называют Мате Залка. Венгерский писатель, живший у нас. Член нашей партии. О нем здесь ходят легенды. В его бригаде бойцы многих национальностей, и все бойцы его обожают и слушаются беспрекословно. Вы, наверное, читали о том, что было в марте на Гвадалахарском фронте? Помните, как одна республиканская бригада не только сдержала натиск двух фашистских дивизий, но и сумела на удар ответить мощным контрударом, в течение трех дней продвигалась вперед, сорвала все замыслы противника и позволила республиканцам начать широкое наступление? Вот это и была бригада Лукача, Мате Залка.
Некоторое время мы молчим. У каждого свои мысли. Мысли о фронте, о предстоящих боях.
— Ну, а каково положение на фронте сейчас? — спрашивает Анатолий.
— Сейчас положение в основном устойчивое, — отвечает Акуленко. — В Мадриде фашисты много месяцев не могут добиться даже мизерного успеха. На Гвадалахаре наши удерживают завоеванные позиции. Тревожно в Астурии. Рабочий район, народ там крепкий, но навалились фашисты на Астурию зверски. И главное, очень трудно помочь баскам: они заблокированы со всех сторон. Впрочем, — смотрит на нас Акуленко, — положение хоть и стабильное, но весьма и весьма напряженное. Даже мелкие бои носят ожесточенный характер. Сейчас идет борьба за метры, а это самая кровопролитная, изнурительная борьба. Да что вам говорить — сами увидите.
Шумной ватагой в столовую входят испанские летчики, в расстегнутых куртках, со шлемами в руках. Увидев нас, на мгновение замолкают.
— Aviadoros rusos! — не то спрашивает, не то восклицает один из них.
Экспансивные испанцы бросаются обнимать нас, мы — их. Волощенко неожиданно обрел изумительный дар слова: он произнес короткую пламенную речь, в которой на двадцать русских слов приходилось одно испанское. Но удивительное дело — испанцы поняли его. Они покрыли речь такими шумными возгласами, что Волощенко даже смутился.
Не знаю, по чьей инициативе, но тут же мы дружно сдвинули столы и разместились за ними одной семьей. Нас усадили в центре. Один из испанцев поднял бокал и сказал просто, коротко и взволнованно:
— Выпьем за здоровье наших гостей, за их будущие дела во славу республиканской Испании!
Мурсия
Мурсия окружила нас тишиной, спокойствием, позволила нам любоваться всеми своими нехитрыми и милыми прелестями: вековым запущенным парком, в густой зелени которого прячется мраморный сонм античных богов; улочками, узкими, как расщелины, куда и в полдень не забредает солнце, витринами колониальных лавчонок, где сами товары будто излучают палящий зной Африки. Весь город простодушно открылся перед нами в первый же день.
А мы? А мы ругаем его на чем свет стоит по той причине, что задержались в нем на целых три дня.
Конечно, можно было отнестись к этому факту спокойно. По прибытии в Мурсию нам сразу сказали на мурсийском аэродроме: «Машины будут через три дня, не раньше». Но перед нашими глазами еще стоит изувеченная Картахена, и мы, не веря своим ушам, переспрашиваем и снова получаем тот же неумолимый ответ: «Через три дня, не раньше…»
Свободного времени уйма — его всегда много, когда ждешь чего-нибудь, — и мы вновь и вновь осматриваем город, бродим по грубо мощенным улицам, заглядываем в тихие, сонные магазины, подолгу стоим перед старинными постройками с узкими, как бойницы, окнами. Город живет сравнительно спокойно. Фронт далеко.
Но и здесь война дает знать о себе. На улицах встречаются преимущественно женщины, старики. Мужчин мало, и производят они странное впечатление: словно живут в городе незаконно, сами чувствуют — не здесь, не в тылу, их место. Туговато в городе и с продовольствием. В галантерейные, антикварные лавочки мало кто заглядывает, покупатели забыли дорогу к ним. Но зато к продовольственным магазинам очереди выстраиваются с ночи.
Прежде чем сдружиться со взрослыми, быстро сходимся с ребятами. Мимо гостиницы с утра до вечера бегают стайки мальчуганов. Судя по тому, что их одежда заплатана и заштопана, это не бездомные дети, но заплат так много, что ясно — ребята живут не сладко. Почин в знакомстве делают, конечно, сами «чикос», мальчишки. Узнав, что мы русские, да еще летчики, они проводят все свое время возле гостиницы. И стоит нам показаться, как с чисто южным темпераментом, помноженным на безудержный пыл юного возраста, на нас набрасывается целая толпа — ребята предлагают свои услуги. Один готов сходить за какой-нибудь мелкой покупкой, другой вприпрыжку бежит показывать ближайшую лавочку… Как тут отказаться! Мы даем деньги и посылаем их что-нибудь купить. Сдачу оставляем мальчуганам. Но если лишних денег оказывается много, они не берут их, несмотря на все наши уговоры.
Чикос нам очень нравятся. Мы даем им поручения даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Получив свою награду, ребята чаще всего бегут к хлебным лавочкам или стремглав, не чувствуя под собой земли, домой, поделиться своим счастьем — маленьким, но зато, может быть, первым в жизни заработком.
Уже на второй день мы знаем многих ребят по именам. Особенно привлекает нас один мальчик. Он ведет себя необычно: стоит перед гостиницей часами, но когда мы появляемся, не бросается к нам со всех ног, а остается в стороне. Только смотрит — жадно, пытливо, напряженно. На вид ему лет двенадцать. Лицо бледное, с синеватыми жилками на лбу. Рубаха штопаная-перештопанная.
Подзываем его, он подходит к нам, краснея. Тихо называет свое имя — Карлос. Я смотрю на его многочисленные заплатки и думаю, как помочь мальчику. Способ один:
— Не сходишь ли ты, Карлос, купить нам зажигалки?..
Карлос вспыхивает и часто, горячо повторяет:
— Да! Да!
Получив деньги, стремительно убегает.
Проходит час, два, а Карлоса нет. Чем-то особенно понравился нам этот мальчишка — и неужели он оказался обманщиком?
Вдруг раздается тихий стук в дверь. Саша бросается к ней, открывает:
— Карлос! Какой молодец!
Усаживаем мальчугана и начинаем его расспрашивать:
— Ты уроженец Мурсии, Карлос?
— Нет, я родился в Сантандере.
— Почему же ты живешь не в родном городе, а здесь?
— Мы уехали оттуда, когда фашисты стали бомбить город.
— У тебя есть отец и мать?
— Да, мамита есть, кроме нее маленький брат и еще совсем маленькая сестренка, а об отце мы ничего не знаем…
— Где же твой отец?
— Падре в Астурии, — говорит мальчик и вздыхает. — На самом тяжелом фронте…
— Почему ты говоришь «на самом тяжелом фронте»?
— Отец мне говорил, что коммунистов всегда посылают туда, где тяжелее всего.
Он повторяет эти слова с гордостью. Но, не выдержав, отворачивается и вытирает навернувшиеся слезы. Мы молчим; труднее всего на свете утешать детей, когда у них большое, недетское горе.
Мы молчим, и, воспользовавшись нашим молчанием, Карлос засовывает руку за пазуху и достает оттуда две коробочки.
— Это вам… — И густо краснеет. — Я задержался потому, что хотел найти для вас самые лучшие зажигалки.
Минаев берет несколько больших яблок и кладет их на колени мальчику, отдает ему оставшиеся от покупки песеты. Карлос снова вспыхивает:
— Вот спасибо! Мамита будет очень рада. Знаете, она сколько работает! Этих денег хватит на целых четыре дня, и она сможет хоть немножко отдохнуть.
Саша смотрит на яблоки, на мальчика и поднимается:
— Побродим, Борис, с мальчуганом по городу.
Не понимая Минаева, Карлос растерянно смотрит на него. Саша подходит к мальчику и легко приподнимает его.
— Ну, спасибо, Карлос! Будем считать, что ты нам сделал хорошие подарки, а теперь пойдем в магазин.
— Зачем же вам идти в магазин? Я могу купить вам, что нужно.
— Нет, Карлос, теперь мы хотим тебе сделать подарок.
Мы выходим из гостиницы. Подбираем в ближайшем магазине самый лучший костюм, пару рубашек, ботинки и берет. Расплачиваемся и передаем сверток вконец растерявшемуся мальчику. Карлос не верит своим глазам. Прижав к груди драгоценный подарок, он лепечет:
— Что же я скажу маме? Она ведь спросит, откуда я взял все это…
— Так и передай ей, что это подарили тебе русские летчики, — улыбаясь, говорит Минаев.
Мы провожаем Карлоса взглядом до тех пор, пока он не скрывается за углом дальнего дома.
Самолеты
Дождались-таки! Рано утром Серов звонит по телефону и, не дослушав до конца ответа, кричит на всю гостиницу:
— Пошли!
Когда самолеты успели прийти — мы не можем понять. Видимо, они не пролетали над городом, а зашли со стороны, — иначе мы услышали бы шум моторов. Но размышлять над этим некогда и не хочется.
Быстро собираемся, спешим, но Серов все-таки подстегивает — категорически запрещает Волощенко завязывать галстук («Ты что думаешь, до обеда будем ждать тебя?»), сам тащит Панаса к умывальнику («Поменьше плескайся, не в баню пришел!») — и первый сбегает по лестнице со своим чемоданом.
Площадь перед гостиницей еще пустынна, на окнах закрыты жалюзи. Серов устремляется в какой-то переулок, и вскоре оттуда выкатывается автобус.
Город кажется нам непомерно большим. Едем, едем — и нет ему конца. Ох уж эта Мурсия!
— Вот они! — кричит наконец Серов, высовываясь из окошка, и с досадой взглядывает на шофера, хотя тот гонит машину на третьей скорости.
Желтая, выжженная солнцем площадка. В два ряда стоят истребители. Еще издали замечаем — машины разные: бипланы и монопланы.
— Мошки, — улыбаясь, говорит шофер, кивая головой в сторону монопланов.
Один Серов отворачивается от «мошек» и внимательно рассматривает бипланы. Испанцы называют их «чатос», что в переводе означает «курносые». И эти самолеты тоже советские истребители, И-15. У этих истребителей тупая, несколько вздернутая передняя часть фюзеляжа.
Автобус резко тормозит и останавливается перед группой летчиков и механиков. Снова приветствия, объятия. И вдруг из толпы радостный возглас: «Товарищи!». Худощавый, среднего роста парень в кожаной куртке проталкивается к нам и на чистом русском языке говорит:
— Михаил Якушин.
Еще один русский на испанской земле! Чудесно! Якушин поеживается от объятий Серова и объясняет, что недавно прибыл в Испанию, правда, по другому маршруту. Он возбужден, говорит короткими, рублеными фразами. Видимо, человек сдержанный, привык выражать свои мысли коротко и ясно.
Все вместе — испанцы и русские — отправляемся к машинам. Испанские летчики показывают нам «мошек» с каким-то смешанным чувством — и с гордостью и со смущением. Мимо некоторых машин они стараются провести нас как можно быстрее. Мы не сразу понимаем — почему. Неужели потому, что машины не новые, в заплатах?
Идем напролом, чтобы сразу рассеять это чувство неловкости у наших испанских друзей. Я подхожу к самолету и, показывая на рыжую заплату, спрашиваю механика:
— Что это?
Механик мнется и нехотя отвечает:
— Ничего особенного, камарада. Случайные пробоины…
И вдруг обрадованно, словно нашел прекрасный выход из положения, добавляет:
— Пусть это вас не волнует! Мы сегодня же закрасим все заплаты, и они уже не будут портить вам настроение.
Михаил Якушин.
Так вот в чем дело! Испанцы тревожатся за нас, боятся, что покалеченные в боях машины произведут на нас угнетающее впечатление.
Испанец-механик смотрит так доверчиво, и вид у него такой виноватый, что смущаюсь уже я. Продолжая осмотр машины, стараюсь всячески подчеркнуть, что в восхищении от истребителя, уважаю его боевое прошлое. При каждой похвале механик расцветает. Он очень любит свой самолет.
В полдень нас принимают представители республиканского командования. Среди них Евгений Саввич Птухин — командующий истребительной группой в Испании.
Коротко Птухин сообщает, какими самолетами располагает республиканское командование, их летно-технические данные. Мы прикидываем, на каких самолетах лучше воевать: на монопланах — у них большая скорость, чем у «чатос». Правда, «чатос» маневреннее. Но мы, истребители, знаем цену скорости, и когда Птухин спрашивает нас, на каких машинах мы хотели бы летать, почти в один голос отвечаем:
— На монопланах.
Не отвечает один Серов. Он сидит насупившись, исподлобья, сердито смотрит на нас.
Недоволен и Птухин. Мягко, но внушительно он замечает:
— Я прошу летчиков учесть одно обстоятельство: нам очень хотелось бы… — Он молчит, потом с подчеркнутой твердостью повторяет: — Нам нужно распределить свои силы между двумя эскадрильями с максимальной тактической пользой. Мы считаем, что монопланы и бипланы должны постоянно держать связь между собой, но не внутри одной эскадрильи. Здесь не так богато с техникой… Кроме того, управлять разношерстным по технике подразделением трудно. Между тем, если в одной эскадрилье будут русские, а в другой — остальные, то… Мои друзья, испанские летчики, не обидятся, если я скажу, что ваша эскадрилья будет сильнее. Правда, я понимаю, что вы люди дружные и вам нелегко расстаться…
Не в силах больше сдерживать себя, поднимается со своего места Серов:
— Дайте мне слово! — И, повернувшись к нам, гневно говорит: — Ищете большую скорость, чтобы… чтобы легко было удирать!
— Анатолий! — вскакивает Минаев.
— Ладно. Извини, — отворачивается Серов. — Разозлили! — И, взяв себя в руки, уже другим тоном продолжает: — Мы не гости. Мы солдаты. Надо это понимать, ребята. Почему вы недоверчиво относитесь к бипланам? Потому, что у них меньшая скорость? Чепуха! Зато биплан маневреннее. Я считаю, что храбрый и грамотный пилот будет с успехом драться на любой машине. Если говорить откровенно, на биплане, может быть, придется труднее. Но нам ли бежать от трудностей! По-моему, вы чего-то недодумали, когда поднимали руки за «мошек».
— Прав Анатолий, — говорит Якушин, — дело бесспорное.
Анатолий еще раз смотрит на нас, улыбается и обращается к Птухину: — Мы солдаты республики, пусть командование само решит, кого направить в одну эскадрилью, кого — в другую. Моя личная просьба — дайте мне «чато».
— И мне биплан сподручнее, — бурчит Якушин, — попросил бы и за меня. Что ж ты?
Серов смеется. Все вышло хорошо. Главное — честно.
Минаев признается мне, что чувствует себя неловко:
— Знаешь, Анатолий прав. Сейчас у меня такое ощущение, словно обманул самого себя.
— Бросьте! — утешает нас Серов. — Хорошо то, что хорошо кончается. Будем взаимодействовать. Но держитесь, не отставать от нас!
По традиции интернациональных частей мы можем высказать свое мнение о назначении командира. Узнаем, что вместе с нами будут летать испанцы, один американец, югославы, австрийцы.
Первым берет слово темноглазый, совсем юный испанец:
— Я считаю, что командиром должен быть у нас русский летчик.
Вся эскадрилья разом поднимает руки.
— Мы просим, — продолжает испанец, — советских товарищей предложить нам самую достойную кандидатуру.
Я смотрю на Сашу Минаева.
— Минаев! — коротко говорит Бутрым.
— Минаев, — повторяет Панас.
— Минаев, — улыбается Волощенко.
Птухин кивает головой:
— Пусть так и будет, я тоже знаю Минаева, хорошая кандидатура.
Саша поднимается, и одновременно, как по команде, встает вся эскадрилья. Она безоговорочно признала его своим командиром, а при командире не положено сидеть без разрешения.
— Спасибо, — просто говорит Саша. — Спасибо, товарищи, камарадас.
Вечером в гостинице узнаем, что Серов и Якушин будут летать в эскадрилье, которой командует Иван Еременко. Опытнейший летчик-истребитель прибыл в Испанию незадолго перед нашей группой. Серов все еще под впечатлением беседы с командованием, с испанскими летчиками и с теми, кто прибыл из других стран. Задумавшись, обращается к нам:
— Вы понимаете, какой это огромный факт, что мы здесь — авторитет? И не потому что русские, а потому что прибыли из Советского Союза. И смотрят на нас здесь как на представителей Советской страны. «Такие не могут подвести», — думают они, глядя на нас.
Что же, конечно, не подведем!
Наша эскадрилья
Мы стоим в строю. Если взглянуть на наш строй со стороны, то он, наверно, представится очень странным. На первом фланге, будто каланча, возвышается американец Джон — тощий, светловолосый, без головного убора, в легкой полотняной куртке. Левофланговый, замыкающий строй, — Волощенко, коротенький, круглый, с галстуком, в шляпе. От Джона ступеньками спускаются к Волощенко все ниже и ниже кепки, береты, пилотки, фуражки — это если смотреть с левого фланга. Спереди по фронту не меньшее разнообразие — кожаные куртки, френчи, рубахи с засученными рукавами.
Никто из нас не носит военной формы. Мы, русские, наотрез отказались от нее, хотя при зачислении в республиканскую авиацию нам, как летчикам, были присвоены офицерские звания.
Абсолютное большинство офицеров старой испанской армии, до республики, было крайне реакционным. Человек из народа только в редчайшем случае мог стать офицером, монархическое правительство подкупало офицерский корпус, тратя на него громадные средства. Не случайно в испанской армии на восемь солдат приходился один офицер. И, конечно, не случайно, а закономерно, что во время возникновения фашистского мятежа только двести офицеров остались верны республике. Более четырнадцати тысяч кадровых офицеров перешли в лагерь мятежников.
Форма у республиканцев осталась прежней, в глазах же простых людей офицерский мундир был запятнан предательством и изменой. Мы отказались не только от офицерских нашивок, но и от денежных наград за сбитые самолеты. Джон искренне недоумевал.
— Друзья! — сказал он внушительно. — Ведь это же деньги! Песеты!
Мы ответили ему, что приехали сюда не набивать карманы, а воевать за испанский народ.
Австрийский летчик-доброволец Вальтер Короуз.
— Но ведь одно другого не исключает, — пожал плечами Джон. — Наоборот! Захотите получше заработать — лучше будете драться. Деньги — это же стимул! — Американец смотрел на нас с сожалением.
Но зато нас хорошо поняли испанцы, к нам единодушно присоединились австрийцы Том Добиаш и Вальтер Короуз, югослав Петрович. С ними мы быстро нашли общий язык и в буквальном и в переносном смысле. Коммунисты Том Добиаш и Вальтер Короуз после подавления восстания шуцбундовцев в 1934 году некоторое время жили в эмиграции в Москве, где начали успешно овладевать русским языком. («Я, — сказал Короуз однажды с гордостью, — изучал Ленина по вашим русским книгам. Моя самая большая мечта — еще раз увидеть Страну Советов».) Оба они с большими трудностями пробились в Испанию, сквозь все преграды, как десятки и сотни других страстных антифашистов, убежденных интернационалистов, для которых борьба за свободу и счастье народов — цель жизни. С трудом прорвался в Испанию и Петрович. Когда зашла речь о денежной награде за сбитые самолеты, он усмехнулся:
— Борьба в Испании — наша партийная работа. При чем здесь деньги?
Божко Петрович — летчик-доброволец из Югославии.
Несмотря на общее решение отказаться от премии, Джон твердо стоял на своем. Ему уже довелось воевать на фронте. Человек не трусливый, он, кажется, уже прилично подработал. Впрочем, американец стеснялся об этом говорить. «Что вы меня уговариваете? — твердил он. — Я не коммунист. Я ради заработка приехал сюда!» После этого осталось одно — отступиться от него.
Строй — лицо подразделения. Внешне наша эскадрилья выглядит чрезвычайно пестро. Но чем внимательнее мы приглядываемся к нашим сотоварищам, тем больше убеждаемся, что разнохарактерность одежды, языка, привычек не помешает нам соединиться в одну крепкую, нерасторжимую цепь. Порукой тому — наша общая тревога за судьбу Испании, ненависть к фашизму и преданность свободе. Только один Джон выпадает из этой цепи, но, в конце концов, сей факт нас не очень волнует: честно бы воевал — большего мы от него не хотим. Будет трусить, увиливать от тяжелых заданий, как говорят летчики, «сачковать», тогда посмотрим.
С каждым днем мы все крепче привязываемся к испанским летчикам. Когда погасла вспышка взаимных восторгов, вызванных первой встречей с испанцами, у некоторых из нас появилось опасение: сработаемся ли мы с ними? Пугало одно — брызжущий энергией темперамент, горячность испанцев. Это превосходные качества, но как трудно ввести эти качества в строгие рамки дисциплины!
Вот мы проводим тренировочный учебный бой над Мурсией. Каждая пара истребителей должна действовать согласованно. И вдруг один из испанских летчиков, ведомый Минаева, увлекся боем, бросился в погоню за «вражеским» самолетом. Он не видит, что его заманивают в ловушку, он забыл о своем ведущем, обо всем на свете. Им владеет одно ослепляющее чувство — азарт.
Когда на земле Минаев говорит испанцу, что нужно быть хладнокровнее и осмотрительнее, что азарт — взбесившаяся лошадь, которая может унести невесть куда, чувствуется, что летчик не очень понимает Минаева.
— С холодным сердцем, — говорит он, — воевать нельзя!
— Правильно, — отвечает ему Минаев. — Но холодное сердце и хладнокровие — разные качества. Вы бросили своего ведущего, оторвались от всей группы и подставили себя под удар. Почему? Потому, что вы уже не управляли своими чувствами и, следовательно, действиями. Вас же собьют в первом бою!
— Я готов умереть за республику!
— Нужно жить во имя республики, камарада! Жить, чтобы бить, каждый день бить ее врагов. Сбить не один самолет, а два, три, десять! Об этом мечтал ваш коллега летчик Иртурби.
Одно упоминание имени Иртурби вызывает у испанцев чувство благоговения. В начале войны Иртурби оказался в гарнизоне, целиком перешедшем на сторону Франко. Он долго не раздумывал — в одном из первых полетов отважный офицер пересек линию фронта и приземлился возле Мадрида. Два месяца изо дня в день летал он на республиканских истребителях. Иртурби не знал, что таксе страх, что означают слова «не принять бой». Сколько бы ни было вражеских самолетов, летчик всегда бросался в схватку с ними. Попав однажды в безвыходное положение, Иртурби пошел на таран и погиб.
Минаев испытующе смотрит на молодого летчика. Это совсем еще мальчик, тонкий, с угловатыми плечами.
— Понял, камарада?
— Да, понял.
Но уверенности в том, что летчик глубоко осознал свою ошибку, еще нет: темперамент не просто и не сразу находит свое верное русло.
А на земле испанцы радуют нас своей дисциплинированностью. Наутро после назначения Минаева командиром эскадрильи мы вошли гурьбой в столовую. Ни один испанец не сел за стол, пока стоял командир.
Испанцы любят запивать обед одним-двумя бокалами вина. Но Саша не налил себе вина. И никто не притронулся к бутылкам, хотя они стояли на столе. Все это мы сразу заметили, и когда вечером за ужином Панас попробовал сесть прежде Саши, тотчас же одернули его:
— Подожди. Не больше остальных проголодался. Видишь, командир стоит.
Со своей стороны мы также всячески поднимаем авторитет своего командира. Он остается для нас нашим товарищем, Сашей Минаевым, но сесть прежде него в машину, вступить с ним в пререкания и тем более не выполнить его приказания, которые он отдает просто: «Борис, сделай то-то» или «Панас, сходи на стоянку…», мы считаем невозможным.
Боевое крещение
Под крылом — Кастилия. Бурые горбы холмов, выжженные долины. Зелень приморья осталась далеко позади. Лишь возле речек иногда сверкнет серебро тополей — и снова сожженная солнцем, словно побывавшая в гигантской гончарной печи, красновато-бурая, невеселая земля…
Жарко, душно, даже на высоте двух тысяч метров.
Командир эскадрильи несколько раз качнул свой самолет с крыла на крыло. Это условный сигнал: «Внимание!». На горизонте за белесой дымкой проступили очертания большого города.
Мадрид! Я вглядываюсь в мелкую россыпь далеких зданий, и в памяти мелькает клуб нашей авиационной бригады и в фойе клуба большая карта Мадрида. Возле нее всегда толпились люди. Некоторые из них превосходно знали план города, хотя, конечно, никогда не были в нем. Когда франкистам удалось прорваться в Университетский городок и захватить несколько кварталов, возле карты разгорелся спор. Один из механиков убеждал нас, что фашисты ничего не выиграли, потому что вот с этой улицы (он показывал по карте) можно легко пройти дворами на соседнюю улицу. Здесь (он твердо чертил ногтем по плану) есть другой проход. И доказывал, что связь между кварталами не только не нарушилась, но стала крепче, надежнее, а оборона республиканцев — прочнее. Мы не спрашивали механика, откуда ему известны все ходы и выходы в Университетском городке: мы сами знали некоторые районы Мадрида не хуже, чем он. Нам хотелось верить горячим словам механика, и несколько дней мы не переставляли красные флажки, обозначавшие линию фронта республиканцев. Потом мы их переставили неохотно!
Наконец-то мы сможем помочь республиканцам вернуть эти флажки на старое место! Как мы мечтали об этом! Механик, должно быть, здорово завидует нам сейчас.
Все ближе, все яснее город. Он распростерся у самого подножия хребта Сьерра-Гвадаррама. Задерживает внимание приземистая, с ровной, точно обрезанной вершиной Столовая гора. Высота ее более тысячи метров. Как единственный страж, она возвышается перед грядой Сьерра-Гвадаррама. Плато настолько ровное, что, пожалуй, на высоте более тысячи метров можно приземлиться и снова взлететь.
Но сейчас не до праздных размышлений. Уже различимы зигзаги улиц, темные скалы зданий, серые пятна развалин. Панорама города отвлекает внимание — трудно следить за машиной командира, держать строй. В западной части Мадрида гигантским удавом лежат на бульварах, на пестрой чересполосице улиц и переулков клубы дыма. Дым густой, черный. Фронт…
Вновь командир требовательно покачивает крыльями: «Внимание!». Подтягиваемся. Командир меняет курс. Показав нам город, он со снижением направляется к аэродрому Барахас. Все быстрее и быстрее мелькают под крыльями невысокие домики предместий. Издали замечаем летное поле — без цементных полос. С востока к аэродрому подступают поросшие кустарником холмы, между ними светлой ниточкой вьется речка Ларама. Четкими прямоугольниками вытянулись вдоль летного поля широкие плоские ангары.
…Едва успеваю прорулить несколько метров, как на крыло ко мне легко, по-кошачьи, вспрыгивает испанец в замасленном комбинезоне. Воздушная струя от винта отчаянно треплет его волосы. Задыхаясь, он что-то кричит, показывая рукой вправо, — там стоянка. Разворачиваюсь и рулю к ней. Испанец стоит на крыле, держась за борт кабины. Щуплый, худенький, почти юноша, но глаза взрослые, печальные.
Застенчиво улыбаясь, он протягивает мне руку, помогая вылезти из кабины, и это наше первое рукопожатие.
— Хуан, — говорит он, показывая на себя пальцем.
Я называю свое имя.
— О! Борес! — с довольным видом повторяет он, словно ожидал услышать это имя, и замолкает.
Еще на пароходе мы привыкли к тому, что испанцы забрасывали нас вопросами и, не давая ответить, сами начинали говорить. Сейчас передо мной стоял неожиданно тихий человек.
— Вы механик? — мягко спросил я его.
— Да! — обрадовался он вопросу. — Механик вашего самолета. Мы решили встретить вас на старте и оттуда проводить на стоянку. Вот я и прыгнул к вам на крыло.
И снова потупился, глядя под ноги и незаметно, словно про себя, улыбаясь. Уже потом я узнал, что именно Хуан предложил своим товарищам механикам организовать встречу русских летчиков в центре аэродрома.
— Хорошо, камарада Хуан! Спасибо.
— Слабенький паренек. Грудь впалая, — говорит мне Панас, когда мы отходим в сторону покурить, — А нагрузка, говорят, здесь большая. Если нам мало спать придется, то механикам еще меньше.
— По-моему, выдержит!
Я еще не знаю, почему так говорю. Но Хуан с первого взгляда понравился мне.
— Авиадор русо! — кричит кто-то.
Оборачиваемся. Прыгая через баллоны со сжатым воздухом, смешно выбрасывая вперед длинные ноги, бежит к нам долговязый испанец в расстегнутом нараспашку костюме. Еще издали кричит неизменное: «Sаlud!» — и, подбежав, сразу же протягивает руку.
— Маноло! — сообщает он с некоторой гордостью. — Штаб откомандировал меня в ваше распоряжение. Я ваш шофер.
И широко улыбается: мол, прошу любить и жаловать!
Ну, это истый испанец, насколько мы успели их узнать. Он совершенно не может спокойно стоять на месте. Улыбка не сходит с его лица. Сверкая карими глазами, Маноло успевает за несколько минут рассказать нам всю свою биографию. Она несложна. Копил деньги, чтобы иметь собственный автомобиль, используя его как такси; покупал машину, через некоторое время прогорал и снова начинал опускать деньги в копилку. И так несколько раз.
— Ха-ха-ха! — оглушительно смеется Маноло. — Главное в жизни — не унывать!
Внезапно он застывает на месте. С большой высоты доносится гул моторов. Панас первый замечает над аэродромом двенадцать бомбардировщиков.
— Чьи это самолеты? — спрашивает он, обращаясь к Маноло.
Маноло беспокойно пожимает плечами и смотрит уже не на нас, а почему-то на высокий забор из колючей проволоки, огораживающий аэродром.
— Сейчас узнаем… — И в этот момент раздается свист падающих бомб. — Ложись!
Страшный грохот сотрясает все вокруг. Инстинктивно вдавливаюсь в сухую каменистую почву, хотя ясно, что это бесполезно. Сухим горячим градом бьют по спине комья земли. И внезапно становится тихо. Поднимаю голову. На меня тревожно смотрит Панас. Ресницы у него поседели от пыли. Он виновато усмехается:
— Вот чертовщина какая…
Приподнимаемся и видим Сашу Минаева. Он идет прямо на нас, чистый, в несмятом костюме.
— Живы?
— Как видишь, — отвечает Панас, протирая глаза.
— А вы видели, как поспешно и неприцельно они бомбили? — деловитым тоном спрашивает командир.
— Кто это нас угостил? — в свою очередь спрашиваю я у Минаева.
— Видимо, немцы, — отвечает Саша. — Бомбардировщики типа «Хейнкель — сто одиннадцать».
Мы идем к стоянке самолетов. Выясняется, что никто не пострадал от бомбежки, она была поспешной и неприцельной. Лишь несколько машин слегка поцарапано осколками.
— Ну, вот и боевое крещение! — говорит Панас.
— Ну, это крещение пока что на земле, — замечает Саша. — Настоящее будет в воздухе. Кстати, учтите, товарищи: самолеты уже заправлены горючим. Может быть, сегодня же нам придется нанести ответный визит фашистам. Я думаю…
Шипение сигнальной ракеты — боевая тревога обрывает речь командира. Немедленно вылет. Бросаемся к своим машинам. Шлемы застегиваем на ходу. Не останавливаясь, Минаев оборачивается и кричит:
— Взлетайте вслед за мной! Ты, Борис, пристраивайся справа, а Панас слева!
Второпях не успеваю застегнуть парашютные лямки. Это я обнаружил потом, когда вернулись на свой аэродром. Выключив мотор, несколько минут сидел в кабине, пытаясь привести мысли в полный порядок, хотелось сразу, немедленно сделать правильный вывод, а когда потянулся отстегивать парашютные лямки, понял: много еще надо работать над собой, чтобы быть спокойным в боевых условиях, и что все прошлые учебные тревоги и воздушные бои только приблизительно похожи на то, что происходило несколько минут назад.
Взлетаем и через несколько минут достигаем центра Мадрида. Недалеко уже и линия фронта. Впереди, на фоне ярко-голубого неба, вижу несколько точек: фашисты!
Неожиданно меня охватывает сильное волнение. Не страх, а какой-то особый род тревоги, как бывает, когда приступаешь к еще не испытанному делу. Смотрю в сторону Минаева — он летит рядом, спокойно кивает мне головой. Становится стыдно за свою излишнюю нервозность.
Вдруг Минаев резко разворачивается влево. Повторяя за ним маневр, я замечаю большую группу фашистских истребителей. Они идут наперерез нам. Несколько мгновений — и все смешалось, закрутилось в общем клубке. Огненные пулеметные трассы молниями мелькают от самолета к самолету.
Внезапно впереди, снизу вверх, взметнулся самолет, разукрашенный темно-зелеными и желтыми пятнами. Фашист! У меня удобная позиция для атаки. Я прицелился. Осталось только нажать пулеметные гашетки, но меткий огонь Минаева уже настиг противника, и, вспыхнув, самолет исчез из поля зрения.
Оглянувшись назад, я увидел еще два фашистских истребителя, приближавшихся ко мне. Нельзя было терять ни доли секунды. Развернувшись, открыл огонь. Оба самолета разошлись в разные стороны. Я погнался за одной машиной, потом мне показалось, что легче догоню другую.
Гоняюсь, уже не видя ни одной машины, кроме той, которую хочу настичь. И когда она ускользает от меня, неожиданно замечаю, что бой уже закончился. В воздухе остались только республиканские истребители…
— Камарада Борес, наверное, был сильный бой? — озабоченно спрашивает меня Хуан.
— Честно говоря, Хуан, я не совсем разобрался, какой был бой. Я ничего, ничего не понял…
На душе скверно. Стараюсь воспроизвести в памяти все происшедшее в воздухе и ничего не могу вспомнить достойного, ободряющего.
— Вы что-то скрываете, камарада Борес. Бой был тяжелым, — мягко возражает механик. — Посмотрите!
Хуан тянет меня к самолету и показывает отмеченные мелом пометки на фюзеляже и крыльях.
— Сколько?
— Четырнадцать пробоин, — качает головой Хуан. — Зачем вы говорите, что ничего не поняли.
Горькое разочарование охватывает меня. Значит, я никуда не годен. Вот когда выяснились мои способности и умение применять на практике все то, чему учили меня раньше. Какое же это умение! Какие, к черту, способности?!
Отвратительное чувство — неуверенность в себе. Панас подливает масла в огонь: загибает пальцы, громко подсчитывает пробоины в моей машине — пальцев не хватает. Бутрым смотрит на Панаса и с усмешкой спрашивает его:
— А как у тебя дела?
— У меня? — самодовольно переспрашивает Панас. — У меня… — На мгновение он запнулся. — В общем, у меня все в порядке. Вот только две пули застряли в парашюте.
Петр хохочет.
— Чего ты смеешься? — сердится Панас.
— Ничего себе «все в порядке!» Если бы эти две пули пробили парашют насквозь, они застряли бы у тебя вот в этом месте. — И Петр хлопает Панаса пониже спины.
Панас переходит в атаку:
— А ты что хромаешь, Петя?
Но Бутрым отвечает Панасу серьезно, без улыбки:
— Нечего смеяться, друг. Смешки плохие. Вот и у меня пуля начисто отбила каблук.
Замолкаем. Да, воевать — это не говорить о войне. Чувствую острую необходимость встретиться с Сашей Минаевым, отвести душу. Вот у кого праздник — в первом же бою сбил самолет!
И правда, Саша успокаивает меня быстро и просто.
— Не унывай, Борис, — говорит он. — Посмотри на мой самолет, в нем пробоин не меньше, чем в твоем, А знаешь, почему? Плохо мы смотрим по сторонам. В таком бою, как этот, летчик должен иметь глаза не только спереди, но и сзади.
— Но я так крутил головой, что и сейчас шея болит!
— Выслушай меня до конца. Во-первых, надо не просто вертеть головой, но видеть и здраво оценивать сложившуюся обстановку. И, во-вторых, самый серьезный промах, который все мы допустили, — это то, что каждый из нас гонялся за фашистскими самолетами в одиночку и во что бы то ни стало сам старался сбить врага. Нам надо точно взаимодействовать друг с другом. И выручать друг друга. Ведь сами учим этому испанских летчиков. По-моему, если товарищу грозит опасность, летчик может даже бросить свою цель и поспешить другу на выручку.
Это почти те же самые слова, что говорил Акуленко. Минаев глубоко затягивается табачным дымом и неожиданно улыбается:
— А знаешь, Борис, все же не такое плохое начало. Их ведь было больше, а мы им всыпали. Франко недосчитается сегодня двух «фиатов». Это посерьезнее, чем наши пробоины.
— Кто сбил второй самолет?
— Испанцы. Хорошие ребята! Смелые и скромные. Смотри, как к нам относятся! Словно мы уже разогнали всю фашистскую авиацию.
И действительно, вечером испанские летчики приглашают нас отпраздновать первую победу.
— Какая победа? — возражает кто-то из нас. — Нам же досталось по первое число.
Испанцы лукаво улыбаются: знаем, мол, скромничаете, мы-то видели, как вы сражались. И настойчиво увлекают нас в небольшое здание бывшего аэропорта, где сейчас устроены столовая и буфет для летчиков.
— Ну, если такое дело, — говорит Минаев — надо пригласить и механиков. Антонио! — кричит он своему механику. — Зови в столовую всех своих!
Антонио мнется:
— Вы все офицеры… Неудобно нам.
Минаев перебивает его:
— Антонио, мы прежде всего русские, советские люди! Понимаешь? Словом, зови всех механиков — и быстрее в столовую.
И вот в просторном зале тесно сдвинуты все столы. Мы сидим вперемежку — каждый летчик со своим механиком. Антонио, расхрабрившись, первый поднимает бокал виноградного вина.
— Позвольте мне. Я хочу поздравить славного русского летчика Алехандро с первой победой. Пью за его здоровье и за здоровье всех русских.
— Вива Руссиа! — дружно восклицают испанцы и, опустив бокалы, аплодируют.
И, наверно, не только у меня одного мелькает в это время мысль: «С такими друзьями не пропадем! Научимся бить франкистов!»
Должны научиться! К этому обязывает нас Мадрид — мужественный и непреклонный Мадрид. Нам не сразу удалось его увидеть, познакомиться с ним и полюбить его.
Узнать и полюбить Мадрид и особенно мадридцев нам в значительной мере помог наш переводчик Иван Кумарьян, с которым мы впервые встретились на аэродроме Барахас. Что бы вообще мы делали без него! Наши севастопольские уроки испанского языка, разговоры с испанцами на пароходе преимущественно с помощью рук, мимики, междометий и еще очень немногих слов — слишком бедные средства для общения. Конечно, друзей понимают с полуслова, иногда даже без слов. Но слова все-таки нужны! А мы подчас не можем ни спросить, ни посоветоваться. И тут на выручку нам приходит Иван Кумарьян. «Товарищ переводчик!» — звали мы его вначале. Потом с официального перешли на более простое — Ваня. «Камарада интерпрете!» — зовут его испанцы.
«Камарада интерпрете» молод, как и мы. Он наш соотечественник, и это особенно приятно. Иван Кумарьян учился на последнем курсе института, когда началась борьба в Испании. Как и многие, он мечтал попасть на эту передовую линию борьбы с фашизмом. Он рвался в Мадрид — и попал туда. Но так случилось, что ему не удалось держать винтовку и лежать за пулеметом. «Вы учили и знаете испанский язык. Сейчас это здесь, где есть русские, — большое дело. Дать винтовку — значит сделать вас рядовым бойцом. А вы можете сделать большее — стать посредником дружбы между русскими и испанскими товарищами».
Вечером первого дня мы уехали с аэродрома в город. То и дело оборачиваясь к нам, наш шофер Маноло говорит: «Ла Аламера… Проезжаем Конильехас… Ла Консепсион… Камарадас, Ла Консепсион — это уже Мадрид». Мы ничего не видим: светомаскировка. Жадно вглядываемся и различаем только очертания плоских одноэтажных домиков. Потом пошли более массивные здания. Наш автомобиль несся по широким магистралям, кружился вокруг площадей. В стороне мелькали едва различимые силуэты памятников. Маноло не умолкал: «Камарадас! Парк Эль-Ретиро! О! Вам нужно побывать здесь. Камарадас! Пуэрто-дель-Соль!! Запомните: это Пуэрто-дель-Соль!» Маноло, голубчик, запомним! Но что сейчас для нас название этой площади, если мы толком и разглядеть ее не можем.
Лишь через несколько дней нам удалось увидеть дневной Мадрид. Ла Аламера. Небольшой пригородный поселок. Такие же, как в деревнях, домики, сложенные из камня. На зданиях плакаты и лозунги, которые мы уже видели не раз в Картахене, Мурсии: «Они не пройдут!», «Все на фронт!», «Смерть фашизму!», «Да здравствует Россия!». Лишь только мы въехали в поселок, как навстречу нам высыпали дети, женщины, мужчины (откуда они узнали, что едем именно мы?). Вслед нам неслось: «Вива Руссиа!»
Такая же встреча в Конильехасе, в Ла Консепсион.
— Маноло! Не ты ли их предупредил, что мы поедем сегодня посмотреть Мадрид?
— Нет, камарадас! Вы еще плохо знаете мадридцев. Ни к кому они не проявляют такого интереса, как к русским. Они узнали о вашем прибытии на Барахас в тот же час, когда вы опустились на аэродром. О! Камарадас! Извините, но вы мало наблюдательны. Неужели вы не замечали, что возле ограды аэродрома часто стоят группы людей? Вы думаете, они интересуются самолетами? Они их видели немало. Барахас-де-Мадрид существует давно…
Въезжаем в город. Не знаю, как выглядели мадридские улицы до войны. Сейчас они поражают нас порядком, удивительным для города, живое тело которого разрублено фронтом. На некоторых зданиях заметны совсем свежие царапины, щербины от осколков — возможно, снаряд упал вчера или позавчера, но на мостовой никаких следов щебня. Как всегда, словно в доброе мирное время, дворники неторопливо подметают улицы, тщательно собирают мусор и уносят его куда-то в глубину дворов. Девушки с помощью мела и тряпок доводят до блеска оконные стекла, видимо, нисколько не задумываясь над тем, что, может быть, через час эти стекла вылетят от взрывной волны.
Разрушений, правда, мало. Пока мало. Маноло говорит, что возле Пуэрто-дель-Соль мы увидим много поврежденных зданий.
Миновав проспект де Ронда, едем по Алькала. Широкая, столичного типа улица. Все чаще и чаще встречаются мужчины с винтовками за плечами. Улица почти пустынна. В ноябре из города эвакуировались тысячи женщин, детей, стариков; мужчины воюют на разных фронтах. Только возле киосков с водой стоят небольшие очереди да возле станций метро (оно пролегает как раз под де Энарес) сидят матери с детьми. Маноло утверждает, что некоторые из них сидят сутками: метро — прекрасное убежище от артобстрела.
Горячее дыхание фронта ощутимо здесь уже в полной мере. Машина огибает мадридский парк Эль-Ретиро.
— Парк закрыт для населения, — сообщает Маноло. — Впрочем, вас туда пустят, заедем на минуту.
Меж прекрасных каштанов поднимаются вверх дымки костров: у белоснежных мраморных статуй сидят солдаты, под сплошными зелеными сводами аллей стоят автомашины, тягачи, пушки. До войны парк был любимым местом отдыха горожан. Сейчас не до отдыха — бездействуют запылившиеся фонтаны, на газонах беспрепятственно пасутся кони, подстриженные кусты разлохматились новыми побегами. И только клумбы с многолетними цветами, как в мирные дни, благоухают стойким ароматом.
Это второй эшелон фронта, которому нередко достается не меньше, чем передовым частям. Там и сям темнеют воронки от разорвавшихся снарядов. Фашисты знают, чем стал сейчас мадридский парк, и бьют по нему часто, методично, основательно.
После бомбежки рабочего квартала Мадрида.
После всего увиденного здесь нас уже не покидает ощущение близости фронта. Проспектом Свободы мы подъезжаем к всемирно известному музею Прадо. У входа стоят бойцы народной милиции.
— Музей закрыт, камарадас!
Мы слышали это уже от Маноло. Но слишком велик соблазн хотя бы быстрым взором пройтись по залам этой редчайшей сокровищницы испанского и мирового искусства. Слова «русские летчики» действуют на милицию магически.
Входим — и ничего не видим. Ни одной картины. Лишь темные четырехугольники на стенах. Полы засыпаны землей (для предохранения от зажигательных бомб), из зала в зал вьются пожарные шланги. Картины — в подвале. Мы спускаемся туда. Полумрак. Тускло светят небольшие электрические лампочки. Длинными рядами, прислоненные одна к другой, стоят здесь более пяти тысяч картин. Тускло, безжизненно поблескивает бронза рам. Здесь — весь музей Прадо.
В грозные ноябрьские дни музей спасли жители — простые люди Мадрида, народ. Это они снесли все картины в подвал, забили нижние окна металлическими щитами, завалили их мешками с песком. Работа шла днем и ночью. И днем и ночью гудели над городом трехмоторные немецкие бомбардировщики. В одну из ночей, здание Прадо окружили световым кольцом тридцать четыре ракеты. Не может быть сомнения в том, что фашисты знали, куда они метят… Но к этому времени все до одной картины покинули свои места на стенах, а наиболее ценные были вывезены из города.
Народ защитил гениальные творения своих лучших сыновей.
Маноло рассказывает нам об этом, и в голосе его звучат и гордость и гнев.
— Здесь же нет ни пороховых погребов, ни войск! Как они могли сюда бросать бомбы!
Поднимаемся наверх. Темные пятна на стенах. Песок. Шланги. И высоко-высоко над нами — разрушенный бомбой хрупкий, стеклянный купол зала Веласкеса.
Бить фашистов, беспощадно бить в мадридском небе!
Этого ждет от нас Мадрид. Он верит в нас. Мы еще ничего, в сущности, не сделали, а нас уже окружают вниманием, любовью. Пусть Мадрид верит: мы научимся воевать!
Это будни…
В ночь на восьмое июня нам не пришлось спать. Только собрались лечь, как где-то поблизости разорвался артиллерийский снаряд. За ним — второй, третий. Отдельные разрывы быстро слились в сплошной гул артиллерийской канонады.
Еще днем, пролетая над линией фронта, мы заметили на территории противника активное движение. Передавали, что фалангисты начали сильные атаки в секторе Карабанчель и в районе Эстремадурской дороги и подтягивают к Мадриду свежие силы.
Мы вышли на улицу. Земля вздрагивала от ударов крупнокалиберных снарядов. Над соседним кварталом взвились языки пожара. В тревожном, трепещущем свете четко проступали молчаливые силуэты зданий. Мадрид проснулся. С сонными детьми на руках женщины спешили в убежища. На перекрестках — группы наспех одетых людей. Возле одного подъезда раздался вопль. Никто не бросился на помощь: поймали на месте преступления ракетчика из «пятой колонны». В разных концах города вспыхнули новые пожары. Высокое зарево встало над рабочими кварталами Куатро-Каминос. Смыкаясь в вышине, свет отдельных пожаров озарил все небо над Мадридом. Словно подожженные, пламенели облака. А снаряды все летели и летели, со свистом распарывая воздух.
Обстрел продолжался до рассвета. В третьем часу утра, так и не приклонив на ночь головы, мы едем на аэродром.
— Слышали, что говорят жители? — обращается к нам Минаев. — С самого начала войны не помнят такого сильного огня. Фашисты, видимо, готовят новый удар по Мадриду, вернее, уже возобновили попытку овладеть столицей, снова пытаются сломить железную стойкость республиканцев.
Приезжаем на аэродром и узнаем, что ночью поступил приказ: летчикам и механикам не отлучаться от стоянки самолетов ни на минуту. Все ясно.
Хуан докладывает мне о состоянии самолета и тотчас же принимается что-то мастерить под крылом машины.
— Что ты делаешь, Хуан?
— Постель, камарада Борес. Ведь вы не высыпаетесь.
А сам, сам-то разве высыпается? Но говорить об этом Хуану бесполезно: только удивится: «Я — механик. Разве можно сравнить мою усталость с вашей!»
Прилечь не удается. Сигнал «По самолетам!» — и через три минуты, набирая высоту, наша эскадрилья разворачивается в сторону фронта. И опять, как вчера, с головокружительной быстротой кружатся над Мадридом несколько десятков самолетов. Перед глазами мелькают раскрашенные итальянские истребители. Все это становится уже знакомым. Вот внизу распускается парашют, под белым куполом беспомощно раскачивается маленькая фигурка вражеского летчика. Справа дымит горящая вражеская машина. Не до нее! Саша Минаев, качнув крыльями, подает мне сигнал следовать за ним и устремляется вниз. Под нами фашистский самолет. Он резко бросается в сторону, стараясь уйти от опасности. Мгновение — и стучат Сашины пулеметы. Самолет неуклюже переворачивается, показывая свой пятнистый живот, и камнем валится вниз.
В это время я замечаю, что мы сражаемся не одни. На выручку нам подошла вторая республиканская эскадрилья на своих «курносых» — «чатос». Дерутся они здорово, смело. Итальянцы, нагло наседавшие на нас, когда у них было численное превосходство, теперь быстро строят оборонительный маневр. Еще одна наша атака — и «фиаты», прекратив сопротивление, уходят.
В это время от «курносых» отделяется один самолет и совсем близко пристраивается к нам. В самолете — Анатолий Серов. Улыбаясь, он машет нам рукой, показывает большой палец — хорошо, мол! — и, немного пролетев с нами, возвращается к своей группе.
Встреча в воздухе для летчиков всегда полна особого смысла. Эта же встреча особенно знаменательна: с Анатолием мы не виделись с тех пор, как расстались в Мурсии. Он летает с аэродрома Сото, расположенного в семнадцати километрах от нас. Однажды я там был. Разве это аэродром! На этом месте за всю историю испанской авиации не садился ни один самолет. Там, в помещичьей усадьбе, на фамильном ипподроме бегали резвые рысаки, а республиканская эскадрилья на самолетах «чатос» под командованием Ивана Еременко сумела обосноваться на земле сбежавшего помещика — и как! Не срубив ни одного из вековых пирамидальных тополей, окаймлявших патриархальную вотчину бывшего именитого владельца. Расстояние от Сото до нашего аэродрома Барахас пустячное, но мы живем в Мадриде, а Серов — возле самого аэродрома. Днем же порой нет и минуты свободного времени. Очень хорошо, что мы его увидели сегодня, точнее, он нас увидел. И неспроста он подлетел к нам, Толя не такой человек, чтобы попусту красоваться. Сегодня первый раз мы встретились в бою, помогли друг другу, и своим появлением Толя, видимо, решил напомнить: «Не забыли Мурсии, где обещали тесно взаимодействовать? Вот, друзья, и перешли от слов к делу, и видите, как хорошо поработали сегодня. Можно ведь и завтра так…» И можно, и нужно! По всему видно, что легких боев здесь не будет, а тяжелых — сколько угодно. И чем дальше — тем больше.
Короткая, минутная встреча, а разговоров о ней — без конца. Прерывает их только очередной сигнал на вылет. На этот раз нам приказано сопровождать на фронт легкие бомбардировщики. Это не добровольческое, а кадровое авиационное подразделение. Интересно познакомиться с ними. Встретив испанцев в воздухе, мы покачиваем им в знак привета крыльями. Они отвечают нам тем же. С первых минут полета мы убеждаемся, что испанцы действуют в строю слаженно, четко. Несмотря на ураганный зенитный огонь, они блестяще выполняют поставленную задачу. А уж храбрости и стойкости республиканцам не занимать!
Мы возвращаемся. Один бомбардировщик, видимо, серьезно, очень серьезно подбит. Летит по воздуху, словно по ухабам, заваливаясь то в одну сторону, то в другую. Наверное, нарушено управление, думаем мы и кружим, кружим вокруг него, подбадривая и оберегая экипаж. Ясно, что до своего аэродрома не долетит. Да, бомбардировщик снижается перед Барахасом. Совершает посадку и останавливается у самой границы аэродрома с выключенным мотором. Из самолета никто не выходит. Странно…
Мы тоже садимся.
— А ну, Борис, — говорит мне Минаев, — скорее!
Несемся на противоположный край аэродрома и видим — летчик сидит в кабине, бледный как полотно, а его стрелок, опустив голову на грудь, совсем не подает признаков жизни.
— Амиго[2], что случилось? — встревоженно спрашивает Минаев.
Летчик с трудом поворачивает голову и спрашивает:
— Хорошо ли бомбили?
— Вы ранены?
— Да. Как мы бомбили?
— Замечательно, амиго! — восклицает Саша, и мы с ним вскакиваем на плоскость самолета.
Перед нами страшное зрелище. У летчика оторвана кисть левой руки (как только он довел машину?!). Стрелок обеими руками сжимает свой живот, распоротый осколком зенитного снаряда, хотим помочь ему вылезти из кабины, но он собирает последние силы и внятно шепчет:
— Не надо… Я умираю… Помогите летчику…
Тот, кто воевал, знает: трудно идти во вторую атаку и сохранить самообладание, когда только что видел смерть. Но вновь над аэродромом взрывается ракета. И мы вновь держим курс к фронту.
С каждым часом на земле и в воздухе бои принимают все более ожесточенный характер. Ни днем ни ночью не прекращается артиллерийский обстрел Мадрида. Особенно ожесточенно фашисты бьют по рабочим кварталам Куатро-Каминос и по центру города. Подъезжая к площади Пуэрто-дель-Соль, мы часто видим, как жители подбирают раненых и убитых. В темноте тихо уносят их в квартиры. Ни плача, ни криков — привыкли…
Заслышав обстрел, Маноло меняет маршрут — уже на самой окраине города начинает плутать по каким-то кривым переулкам. Маноло не трус, он бережет нас. Подъехав к Бельяс Артэс, он чуть ли не силой вталкивает нас в дверь, чтобы мы скорее удалились с улицы. А сам остается на мостовой, осматривает машину, и лишь когда кто-нибудь из нас, высунувшись в окно, сердито кричит, чтобы он немедленно уезжал в безопасное место, он тихо трогает с места.
Еще до нашего появления в Мадриде на Центральный фронт прибыл батальон имени Чапаева. Это замечательное подразделение, слава о нем давно перекинулась через границы Испании. Его одинаково хорошо знают друзья и враги республики. Радио Саламанки захлебывается от ненависти при одном упоминании о Чапаевском батальоне. Чудом минуя тьму почтово-таможенных преград, к чапаевцам доходят восторженные письма из многих уголков земли.
Батальон организовался в Альбасете в октябре 1936 года. В его состав вошли антифашисты двадцати одной страны. «Батальон двадцати одной нации», — говорят о нем. Каждый боец — это героическая биография. Люди, не раз томившиеся в фашистских застенках, опытнейшие подпольщики, годами мечтавшие об открытой, с оружием в руках, борьбе с фашизмом как о самом большом долге в жизни.
И вот они встали в строй — слесари и горняки, поэты и ученые, немцы и итальянцы, французы и шведы. Тогда среди них еще не было ни одного русского, но все бойцы с восторгом поддержали чье-то предложение присвоить Интернациональному батальону имя русского героя Василия Чапаева.
Накануне своего первого боя под Теруэлем батальон разучил «Песню чапаевцев». Ее пели на мотив песни «Белая армия, черный барон». В ней были такие слова:
Франко и Гитлер, погибель вас ждет. Здесь мы — Испании вольный оплот. Сын ведь Чапаева каждый из нас! Близок победы решительный час!Автор этого гимна и боевого марша Чапаевского батальона немецкий поэт-антифашист Ульрих Фукс погиб под Теруэлем. Слова песни стали святыми для чапаевцев.
По всей Испании о них ходят легенды. Прошло немного дней, как мы приехали сюда, а уже слышали и от авиамехаников и от жителей, как в феврале этого года (23 февраля — в день праздника Советской Армии) Чапаевский батальон осуществил необычайный по дерзости маневр в горах Сьерра-Невада, отбил у фашистов семь деревень, в том числе самую высокогорную в Испании деревню Треволес, захватил много оружия и боеприпасов, освободил окруженных фашистами в горах, измученных, полуголодных и почти безоружных восемьсот республиканских бойцов, и все восемьсот тотчас же встали в строй.
И вот чапаевцы на нашем фронте. Сознание, что мы сражаемся бок о бок с ними, что, может быть, нам доведется поддержать их всегда стремительные атаки, наполняет сердце особым чувством гордости. Гордости, смешанной с отчетливым пониманием ответственности. Где они сейчас стоят?
Ответ на этот вопрос мы получаем вскоре от самих же чапаевцев. Утром к Минаеву вбегает часовой:
— Прибыл представитель Чапаевского батальона! С листовками!
Минаев одергивает рубашку, приглаживает волосы. Выходит подтянутый, молодцеватый. Неподалеку от стоянки самолетов возле грузовой машины уже толпятся люди. В центре — высокий загорелый человек в гимнастерке, стянутой ремнем и портупеей. На пилотке алая звездочка.
Минаев взволнован, чапаевец тоже — мнет правой рукой портупею, и от этого она врезается в крутое плечо.
— Я очень рад, очень рад, — говорит он, мешая русские, немецкие, испанские слова. — Я рад видеть людей из страны Ленина.
Он с силой вскидывает вверх кулак. На мгновение все замирают, отвечая гостю тем же интернациональным приветствием. И кажется, уже нет толпы, есть строй… Через минуту представитель, совсем как наши друзья испанцы, похлопывает Минаева по плечу.
Мы сидим на траве, и наш гость, с трудом подбирая слова, рассказывает о своем батальоне: с серьезной мужской печалью — о погибших, с нескрываемым удовольствием — о героях батальона, с глубокой заинтересованностью — о нашей стране. Его мечта, как каждого зарубежного коммуниста, — увидеть Советский Союз. И не только увидеть — дожить, довоевать до той поры, когда и его страна встанет на путь свободы и равенства.
Покидает нас чапаевец в полдень. Знойно. Земля онемела от жары. Он садится в машину, и лишь когда она трогается с места, расстегивает воротничок, машет нам рукой.
— Не забудьте — мы под Романильосом… А листовки лучше сбросить сегодня!
Долго потом вспоминаем мы эту встречу. Часто вспоминаем о ней и сейчас. Мы не говорили тогда об интернационализме, о великом и нерушимом братстве людей труда и борьбы. Но именно тогда я по настоящему понял силу этого братства, силу любви и участия друг к другу, связывающую воедино всех стремящихся к свободе.
Как трудно пришлось в эти первые и очень тяжелые дни нашему переводчику Кумарьяну! Он похудел, осунулся от огромной, нечеловеческой нагрузки. Но что поделаешь! Ведь только он один мог понимать всех и дать каждому вразумительный ответ. Приказ — его переводит Кумарьян. Совещание — на нем без Кумарьяна не обойдешься. Спор — и в нем Кумарьян. Он — у самолетов, и у складов боеприпасов, и у телеграфного аппарата; даже повар и тот донимает его, стараясь получить исчерпывающий ответ, что особенно нравится «авиадорос русос» на завтрак, обед и ужин. Он один на всех, а быть единственным и незаменимым, поверьте, не очень легко.
Увлеченные рождающейся боевой близостью с испанцами, мы не замечаем, что довольно часто «эксплуатируем» переводчика совсем не по деловым причинам.
…У Кумарьяна в руках какой-то важный документ на испанском языке. Он внимательно читает его. Но тут откуда ни возьмись Панас. У него в кулаке зажата несчастная пустая ракушка. Ну и рассмотри ее сам или выброси! Так нет, Панас лезет к переводчику: как она называется по-испански?
Кумарьян вежлив. Другой бы сказал: «Отстань, не до этого!» А он переспрашивает: «Что? Ракушка? Как?» — и, отвлекаясь от собственного течения мыслей, без тени раздражения отвечает Панасу.
Или Волощенко. Уже опустилась ночь, взошла роскошная луна. Кумарьян, как всегда, занят, а Волощенко очень важно узнать, как «луна» звучит по-испански. И тут же снова Панас — этому не терпится перевести на испанский песенку «О ваши черные глаза…» А рядом с Панасом — испанец, тому хотелось бы узнать, что мы поем по-русски.
И это тоже будни. Наши будни, когда тяжесть боев еще не отняла у нас простых человеческих радостей. И, очевидно, очень тонко и умно понимая это, наш «интерпрете» терпеливо, спокойно отвечает и Панасу, и Волощенко, и испанцу.
А может быть, он понимает нас лучше, чем мы себя. Целый день он под перекрестным огнем разноязычных вопросов. И мы и испанцы говорим, говорим и говорим. Но мы ведь хотим лучше узнать друг друга! Это важно для нашего бытия. И прежде всего — для боя.
И, наверно, это сдерживает нашего переводчика, когда ему мешают заниматься серьезным делом. Но для этого тоже нужна немалая воля.
Чем тяжелее бои, тем громче звучит клич стойкости и мужества «No pasaran!» — и мы вылетаем на фронт по пять-шесть раз в день. Почти каждый вылет сопровождается воздушным боем. Бои нелегкие. Как правило, с превосходящими силами противника. Но мы все же их бьем так, как полагается. У Саши Минаева на боевом счету уже четыре сбитых фашистских самолета. Делает почин Панас — Иванов. Петр Бутрым сбивает второй «фиат».
От постоянной, незатихающей жажды у многих летчиков потрескались губы. На стоянке уже не слышно прежнего шума, шуток, смеха. Приземляешься, выключаешь мотор — и не хочется вылезать из кабины: посидеть бы хоть одну минутку спокойно, ничего не делая, ни о чем не думая…
Чем ближе вечер, тем сильнее усталость. И все же именно предвечерние часы являются самыми благословенными. Не потому, что они обещают близкий отдых, прохладу, конец боевой работы: отдых короткий, прохлада относительная (даже в полночь ртутный столбик в термометре, словно оцепенев от зноя, показывает 35–40° тепла), а боевая работа — главное в нашей жизни.
В предвечерние часы с особой силой чувствуем и переживаем близость с Мадридом, с рабочим, трудовым Мадридом.
После каждого удачного боя мы плотным строем, крыло в крыло пролетаем над Мадридом, пролетаем над ним даже в тех случаях, когда можно дойти до аэродрома иным, более близким маршрутом. Такова традиция, и не мы ее установили — она возникла еще в первые дни сражений, ее утвердили прибывшие в Испанию советские летчики-добровольцы.
Говорят, еще до войны было два Мадрида — «Мадрид улиц» и «Мадрид крыш». На улицах сверкали зеркальные витрины магазинов, кафе, ресторанов, из открытых окон учреждений сыпалась дробь пишущих машинок, по размякшему от жары асфальту проносились автомашины. А на плоских крышах трепетало по ветру чиненое-перечиненное белье, млели в глиняных горшочках розы. Здесь же играли дети, грелись старики и старухи, занятые каким-нибудь незамысловатым домашним делом. На крышах стучали молотки сапожников, жужжали старинные веретена, художники рисовали картины.
Люди «Мадрида улиц», лакированных автомобилей, важных министерских особняков и шумных ресторанов презирали «Мадрид крыш». Для так называемого «солидного» человека считалось неприличным появиться на крыше. «Солидный» человек там не появлялся. Но это не очень огорчало постоянных обитателей «верхнего Мадрида».
Когда начались бои, жизнь на крышах стала еще более разнообразной.
Для нас, летчиков, пролет над городом — всегда волнующее событие. «Мадрид крыш» ликует: авиаторы республики одержали еще одну победу! И это чувство ликования передается нам, отгоняет усталость. Иногда, — да, впрочем, не иногда, а довольно часто — мадридцы становятся свидетелями воздушного боя. В это время крыши Мадрида усеяны тысячами людей. Мы не слышим их голосов, хотя говорят, что на крышах творится нечто невообразимое, но мы твердо знаем: каждая наша удача будет с радостью пережита многочисленными друзьями, а неудача… Нет, неудачи не должно быть! Неудаче будет рад «нижний Мадрид», притаившийся сейчас в щелях и злорадно (но, конечно, незаметно для посторонних глаз) торжествующий, если сводки сообщают об отходе республиканских войск.
В вечерние часы, приблизительно после семи, когда возвращаются домой рабочие, ремесленники, на крышах Мадрида особенно многолюдно. И в эти часы мы стараемся пролетать на небольшой высоте. Тысячи грозно поднятых кулаков говорят нам о единстве народа и республиканской армии, о том, что с нами рабочий Мадрид. Улучив удобную минутку, мы высовываем из кабины руку и отвечаем тем же антифашистским приветствием.
В эти дни мы навсегда привязались к своим механикам и, наверное, навсегда полюбили их. Нет ничего долговечнее, чем память о настоящей дружбе. Сколько было боев — не сочтешь, и многие из них казались незабываемыми. А забылись, стерлись в памяти. Но зато живы и до сих пор согревают душу простые, незатейливые воспоминания. Кажется, что в них особенного?
Вот я подруливаю к стоянке после какого-то очередного, четвертого или пятого вылета. Хуан уже спешит навстречу мне, протягивает глиняный кувшин, улыбается:
— Пиво, холодное.
Пиво, да еще холодное! С жадностью проглатываю несколько глотков. Хуан ставит кувшин на землю и помогает мне вылезти из кабины.
— Не надо, Хуан, — говорю я. Он словно не слышит, отстегивает парашютные лямки и предлагает мне отдохнуть на аккуратно сложенных чехлах самолета под огромным расписным зонтом.
— С какого пляжа ты привез такой зонт? — удивляюсь я.
— Здесь их на складе сколько хотите. До войны под этими зонтами отдыхали пассажиры, ожидая воздушного рейса.
— А пиво откуда взялось?
— Пока вы летали, я сбегал в буфет.
Несмотря на все уговоры, Хуан продолжает обращаться ко мне на «вы», и тут, видимо, ничего не поделаешь. Дважды я пробовал пить с ним на брудершафт, и как только мы выпивали, Хуан виновато смотрел на меня.
— Я пил за дружбу, камарада Борес, и, поверьте мне, я буду неплохим вашим другом.
— Почему «поверьте»? Почему «вашим»?
— Я буду неплохим другом, но позвольте мне все же обращаться к вам по-старому. Вы старше меня.
— Но мы же почти одногодки!
— Дело не в возрасте. Вы приехали из Советского Союза. Для меня советский человек — выше всех, кого я встречал в жизни.
— Но и ты и я — коммунисты!
Осмотрев самолет после очередного вылета, он присаживается рядом со мной. Вытирая масленые руки, молчит. Но я чувствую, что он хочет о чем-то спросить и не решается. Обычно так бывает, когда самолет не совсем в порядке. И я сам спрашиваю его:
— Ты хорошо осмотрел самолет?
— Как всегда.
— Ну, что?
— Спереди, — неохотно говорит Хуан, — в капоте мотора четыре пробоины. Вы должны были видеть, кто стрелял по вашему самолету.
— Почему ты так думаешь?
— Судя по пробоинам, атака произошла на встречных курсах. К счастью, пули прошли только через капоты, не повредив мотора.
— Да, досталось крепко, — говорю я. — Зато противнику я всыпал еще крепче, летать больше не будет.
— Значит, это третий! — восклицает Хуан, и его лицо выражает одновременно и радость и обиду. — Почему же вы сразу не сказали мне об этом, камарада Борес!
Хуан возмущен. Он смотрит мне прямо в глаза, и, право, я чувствую себя неловко под этим прямым, честным взглядом. Он прав. И я корю себя за невнимательность. Хуаном владеет не праздное любопытство: он такой же боец, как и я, и все наши победы — общие победы.
Честность, искренность Хуана, его беспредельная, почти самозабвенная преданность делу кажутся исключительными. Иногда я думаю: мне повезло — и еще как! Я нашел не только надежного помощника, но и верного, преданного друга.
Но только ли мне повезло?
Иногда мы возвращаемся после сильного воздушного боя парами, а случается — и в одиночку. Сегодня почему-то запоздал Бутрым. Его механик волнуется, обращается то к одному летчику, то к другому:
— Камарада! Что случилось с Педро? Скажите только одно: он прилетит?
Успокоенный кем-то из нас, он продолжает:
— Пока Педро в воздухе, не могу найти себе места, а последние минуты полета слежу только за стрелками своих часов. Если бы можно было уходить в полет вместе с вами!
Чего не отдашь за такие слова!
Ненаписанное письмо
Лежу под плоскостью самолета, прячусь от солнца. Возникает мысль написать друзьям. Мы ведь уже две недели в Испании! Рядом Хуан читает газету. Черная траурная шапка на первой полосе режет глаза: «Разрушение Альмерии! Новое злодеяние фашистов! Германские военные корабли подошли к мирному, беззащитному городу… После первых выстрелов население пыталось спастись в окрестностях города… Снаряды настигали женщин, стариков, детей… В больницах не хватает мест…»
— Хуан! — говорю я. — Это, наверно, свежая газета? Я ничего не слышал об Альмерии.
— Не совсем свежая, камарада Борес. Обстрел Альмерии случился тридцать первого числа.
— Послушай, — говорю я. — Дай мне. Я буду читать.
Перед глазами мелькают строчки: «Репетиция тотальной войны… Поголовное истребление мирных жителей…» И вдруг не только сами эти события, но и то, как рассказано о них, вызывает ярость.
Дальше читает и переводит Ваня Кумарьян. «Если вспыхнет европейская война, то сцены, подобные тем, которые мы видели в Гернике или Альмерии, будут повторяться в каждом из городов Европы. Нам, может быть, придется увидеть охваченный пламенем центр Манчестера, увидеть, как вражеские самолеты расстреливают из пулеметов мирное население Лондона…»
Кто это пишет? Некий Питер Грин, корреспондент газеты «Манчестер гардиан». Сволочь этот Питер Грин! Он хочет испугать меня, как и других простых людей мира, морально разоружить нас! Да, Альмерия разрушена. Мы запомним это и никогда не забудем. Но что за провокаторские вопли о якобы несокрушимой силе фашизма?
Я вспоминаю мощную демонстрацию протеста против измывательства убийц над испанским народом.
Вчера нас вызвали на «Телефонию» — главный наблюдательный пункт, чтобы мы уточнили с него линию фронта. Нам нужно было как можно быстрее вернуться на аэродром. Маноло гнал машину во всю мочь. Но, подъезжая к бульвару Кастельяхо, он вынужден был остановиться. Весь бульвар был запружен людьми. Мы оставили Маноло на перекрестке и пошли пешком. Здесь-то я и увидел демонстрацию республиканцев. Солдаты и рабочие, женщины и юноши шли по мостовой, взявшись за руки. Над колонной трепетали алые полотнища: «Смерть палачам Герники и Альмерии!», «Долой фашизм!». И, гулко ударяясь в стены зданий, гремела любимая песня Мадрида с решительным, как клятва, припевом: «No pasaran! No pasaran!» Солдаты пели ее, потрясая поднятыми вверх винтовками.
Проталкиваясь вперед, мы обгоняли демонстрантов.
Нам хотелось увидеть, куда идут все эти люди, кто их ведет. Наконец мы приблизились к голове колонны.
И тут мы впервые увидели Пасионарию — Долорес Ибаррури. Высокая, статная, с откинутыми назад глянцево-черными волосами, она шла, твердо сжав губы. Рядом с ней легко шагал сухощавый, похожий на молодого рабочего Хосе Диас. В одной шеренге с ними шли члены ЦК компартии Испании.
— Вива эль партидо коммуниста де Эспанья! — воскликнул кто-то.
И тотчас возникли звуки боевой песни бойцов республиканской армии — песни защитников Мадрида. Долорес улыбнулась и протянула руку Диасу. И сразу же вся первая шеренга взялась за руки.
Шла партия, партия беззаветного мужества и революционной стойкости, единственная партия в Испании, безраздельно преданная республике, свободе, народу. Шла партия коммунистов.
И отовсюду, из близлежащих переулков и улиц, вливались в колонну, не нарушая ее мерного движения, все новые и новые отряды рабочих и работниц, служащих мадридских учреждений. Вместе с партией шел народ, выражая свою непреклонную верность республике.
Через полчаса мы поднимаемся по крутым лестницам «Телефоника» — самого высокого здания в городе. Пятнадцать этажей этого здания выстроены в стиле американских небоскребов: плоские стены — ни единого выступа, балкончика, лепного украшения. Но шестнадцатый и семнадцатый этажи образуют типично испанскую средневековую башенку. Небольшая в сравнении с пятнадцатиэтажным основанием, она выглядит в общем нелепо.
Стиль этого мадридского небоскреба не случаен. Его строили американцы. Собственно говоря, до сих пор громоздкая телефонная станция, разместившаяся на пятнадцати этажах, принадлежит какой-то американской компании, служащие — американцы, телеграммы, бланки, документы, как правило, оформляются на английском языке. Американцы чувствуют здесь себя независимо: служащие компании сохраняют видимость нейтралитета и, чтобы показать свою непричастность ни к одной из сторон, называют республиканцев «домашними», а мятежников — «пришельцами». «Пришельцы» — это звучит мягко и незлобиво. Еще бы, добрая половина акций американского общества принадлежит заокеанским друзьям и сторонникам Франко!
Не нравятся нам эти «пятнадцать этажей», здесь все чужое, здесь веет холодком предательства. Возможно, и даже наверное, в «Телефонике» гнездится немало шпионов. Нашли же они себе надежное убежище в иностранных миссиях! Многим известно, что группа франкистов, именующая себя «белой колонной», приютилась под крышами южноамериканских посольств.
Распахиваем массивную дверь на площадке шестнадцатого этажа. Узкая железная лестница ведет на НП. Сверху доносятся голоса. На самом верху есть круглая комната с узкими, как бойницы, окнами: в них, словно присев на колени, установлены стереотрубы. Это уже другой мир. На НП шумно. По очереди знакомимся с собравшимися здесь командирами наземных частей и подразделений.
— Вот они, виновники непредвиденной атаки в Университетском городке, — улыбается, глядя на нас, коренастый полковник с седыми волосами, четко оттеняющими моложавое смуглое лицо.
Мы недоумеваем: какая атака и при чем здесь мы? Полковник рассказывает о нашем вчерашнем воздушном бое. Он протекал над Университетским городком, над самой линией фронта. Воздушная схватка привлекла всеобщее внимание: на земле прекратилась стрельба. Все ждали, кто одержит победу. И вот мы сбили одного фашиста. Несколько минут над окопами бушевала овация. А когда на землю упал второй вражеский истребитель, пехотинцы, не дожидаясь команды, поднялись и ринулись в атаку. И отбили у марокканцев полквартала.
В разговор вступает человек, одетый в простую солдатскую гимнастерку — никаких знаков различия.
Крепко пожимая нам руки, он представляется:
— Комиссар Интербригады. — Потом кивает в сторону полковника: — Наш сосед. Вчера, увидев их атаку, один наш батальон не выдержал и тоже пошел на штурм здания. Без предварительной подготовки, без артиллерийской поддержки. Отбили у марокканцев здание, отбили! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Вам приходилось читать это воззвание?
Он достает из планшета аккуратно сложенный лист бумаги.
«Мы пришли из всех стран Европы, часто против желания наших правительств, но всегда с одобрения рабочих. В качестве их представителей мы приветствуем испанский народ из наших окопов, держа руки на пулеметах… Вперед, за свободу испанского народа! 12-я Интернациональная бригада рапортует о своем прибытии. Она сплочена и защитит ваш город так, как если бы это был родной город каждого из нас. Ваша честь — наша честь. Ваша борьба — наша борьба. Салуд, камарадас!»
— Замечательное воззвание, — говорим мы.
— О да! Мы написали его, когда многие профашистские газеты за границей поспешили сообщить, что Франко уже вступил на белом коне на площадь Пуэрто-дель-Соль. Теперь нам легче — у нас есть опыт борьбы. Правда, мало оружия. Очень мало. Особенно пулеметов. Но решимость наша та же, что и тогда, когда мы писали это воззвание. Даже крепче!
Разговаривая, мы подходим к окну. Просим показать нам, где проходит линия фронта в Университетском городке. От «Телефоника» до северо-западной окраины Мадрида, где расположен городок, около трех километров. Невооруженным глазом можно различить лишь наиболее крупные здания. Комиссар поворачивает стереотрубу и, отыскав то, что хотел, восклицает:
— Вот! Глядите. То здание, которое мы вчера отбили!
Над зданием гордо развевается красный флаг.
Возле нас собираются представители некоторых передовых частей. Каждый стремится в первую очередь показать тот кусочек земли, который бойцам удалось вырвать у врага. В этом нет и тени хвастовства. Командиры гордятся своими победами не меньше, чем успехами соседей. Долго глаз стереотрубы смотрит на Толедский мост. Возле этого моста, ведущего через Мансанарес в центр Мадрида, уже несколько месяцев кипят кровопролитные бои. Как нигде у каменного Толедского моста звучит могучее и непреклонное «No pasaran!». Первой обороняла этот мост бригада Лукача — Мате Залка. С той поры защитники Мадрида считают высокой честью стать на охрану моста. Круто поворачиваясь, стереотруба останавливается на зеленой путанице ветвей парка Каса-дель-Кампо. Здесь марокканцы ближе всего подошли к центру Мадрида. От «Телефоника» до парка не больше двух километров.
Часть парка Каса-дель-Кампо, Университетского городка, западный берег реки Мансанарес — вот все, что захватили мятежники. Здесь проходит линия фронта (заметим, что защитники Мадрида держали врага на этой линии два с лишним года!).
Оторвавшись от стереотрубы, мы долго смотрим с высоты семнадцатого этажа на Мадрид. Узкой синеватой лентой вьется по его западным и юго-западным окраинам Мансанарес. Невелика река, но слава о ней гремит сейчас по всему свету. Ежедневно ее упоминают военные сводки, поэты слагают о ней песни. Мансанарес — рубеж, о который споткнулись фашисты.
К востоку от Мансанареса к центру города тянутся лучи улиц. Многие из них забаррикадированы мешками с песком. На зданиях колышутся красные флаги. Город прекрасен красотой солдата, вставшего на пути врага и уверенного в своих силах.
Колышутся красные флаги, и где-то там, внизу, по знойной, солнечной улице Алькала еще движутся демонстранты.
— Тише, не разговаривайте. Может быть, мы услышим их. Слышите?
До нас доносится песня демонстрантов.
— Наши поют, — тихо говорит полковник, положив руку на плечо Минаева. — Наши поют! Мы, русские, и они, испанцы, — одно целое. Ни границы, ни обычаи, ни язык — ничто и никогда не разъединит народы, если их влечет одна цель — свобода. Вот о чем я напишу товарищам в Москву!
Через час на аэродроме вырываю листок из блокнота, достаю перо. Но в этот момент взлетает огненно-красная ракета. Тревога! Вылет!
Ветер, поднятый пропеллером, отбрасывает далеко в сторону и белый листок и взъерошенный блокнот! Взлетаем прямо со стоянок, не теряя времени на выруливание.
Новые друзья
Нас поселили в Бельяс Артэс. Это одно из красивейших зданий Мадрида. До войны в нем размещался музей. Здание огромное и безлюдное. Идешь по коридорам — ни души. Пустынно. Глухо. Когда в вестибюле с шумом закрывается тяжелая дубовая дверь, слышишь это на третьем этаже.
Единственная живая душа на весь дом — старичок швейцар. Но он до того дряхл, что, кажется, не покинул Бельяс Артэс лишь потому, что ему трудно было сойти вниз, на улицу.
Правда, нашу комнату кто-то прибирает, но кто — мы не знаем: уезжаем рано, а приезжаем поздно.
Однажды, возвратившись с аэродрома, увидели на кроватях свое белье — выстиранное, выглаженное и даже заштопанное. Что за фея заботится о нас?
— Могу узнать, — говорит всеведущий Маноло и тотчас же проворно исчезает.
Он возвращается минут через десять.
— Узнал?
— Маноло не узнал?! Компаньерос! Ха-ха-ха, за кого вы принимаете Маноло! Здесь остались несколько уборщиц. Это славные люди, а старичок швейцар просто замечательный человек. Подумайте — он уже не помнит, сколько ему лет. А стирала вам одна пожилая женщина.
— Ей надо заплатить, Маноло, — говорим мы.
— Заплатить? Но она знает, кто вы! Она знает, что вы русские летчики.
— Ну и что же?
— Компаньерос! — восклицает Маноло, и густые ресницы его снисходительно опускаются. — Вы еще очень плохо изучили мадридцев. У вас они не возьмут денег.
— Брось шутить, Маноло, — говорим мы. — Если тебе нетрудно, лучше позови эту женщину.
— Пожалуйста.
Она входит, тихая как тень женщина в темном старом платье, в стоптанных башмаках. Негромко произносит слова приветствия.
— Присаживайтесь, — говорит один из нас. — Мы хотели бы поблагодарить вас и заплатить вам за работу.
— Заплатить? — Слабый голос ее вдруг становится твердым. — Я ничего не возьму у вас!
— Почему?
— Как почему? — удивляется она. — Разве вы могли бы взять деньги у людей, которые спасли от пожара ваш дом? Вы защищаете мой город. Вы солдаты. У меня сын тоже на фронте. И если чья-нибудь мать выстирает ему рубашку, так же, как я выстирала вам, — вот мы и будем квиты.
Говорит она серьезно, строго, и мы не решаемся ей противоречить. Она права — права той высшей человеческой правотой, которая заставляет и других думать и чувствовать правильно, чисто, великодушно.
— Спасибо! Большое спасибо вам за заботу! — говорим мы ей на прощание. — Буэнос ночес! Пусть вам приснится сын.
Вскоре мы поняли, почему наш Маноло с таким воодушевлением отзывался о старике швейцаре. Если говорить честно, то в первые дни пребывания в Бельяс Артэс мы почти не замечали его. Этот старичок казался как бы приросшим к своему месту. Высохший, ослабевший от старости, он неизменно сидел по утрам на своей табуретке возле массивной зеркальной двери. Но вечером табуретка часто пустовала — видимо, швейцар уже спал.
В огромном зале вестибюля был почему-то сооружен довольно большой бассейн. Возвращаясь с полетов, мы тотчас же раздевались и, не заходя в комнаты, начинали купаться.
Шумели мы во время купания на весь Бельяс Артэс и однажды, должно быть, разбудили старичка. Заспанный, он вылез из своей каморки и подошел к краю бассейна. Посмотрел, улыбнулся. Стоять ему уже было трудно, да и отвык, наверное; он сходил за табуреткой, сел и стал внимательно наблюдать за нами. В это время Бутрым, не умевший плавать, рискнул ступить на глубокое место и чуть было не ушел под воду. Старичок испуганно вскрикнул, и Бутрым тотчас же ухватился за край бассейна. Старичок облегченно вздохнул и тонко, почти по-детски, засмеялся.
На другой вечер, когда началось купание, он сразу же придвинул свою табуретку к воде. Пока мы плавали, с его лица не сходила улыбка. Он наслаждался — что-то шептал, хихикал, запрокидывал голову.
Теперь по утрам, когда мы выходили, он вставал и приветствовал нас, козыряя. К вечеру он уставал и козырял сидя. Это было и забавно и трогательно. Но то, что мы узнали некоторое время спустя, показалось нам не только трогательным.
Как-то вечером, проходя, как обычно, мимо швейцара, мы заметили — старик что-то бормочет. Первым услышал свое имя Бутрым.
— Слушайте! — тихо сказал он нам. — Честное слово, я отлично слышал слова «камарада Педро»!
Мы удивились и не поверили. На следующий вечер решили нарочно пройти мимо швейцара не всей группой разом, а поодиночке. Вот вошел в вестибюль Панас. Старичок улыбнулся ему и едва слышно, почти про себя, прошептал:
— Уна — камарада Панас.
Следующим шел Минаев. Старичок немедленно отметил:
— Дос — камарада Алехандро.
Он пересчитывал нас!
— Как же мне не считать вас, — тихо сказал он в ответ на вопрос Бутрыма, — целый день вы там, в небе. И целый день я дрожу за вас. А когда вы все приезжаете обратно, я могу спокойно уснуть.
Теперь утром и вечером, завидев нас, он, не таясь, сразу же приподнимает сухонький указательный палец и с явным удовольствием отсчитывает:
— Уна — камарада Борес, дос — камарада Педро, трес — камарада Алехандро.
Иногда мы думаем: что будет, если кто-нибудь из нас не вернется?
Партийное землячество
Минаев сказал, что, по его мнению, нужно срочно собрать партийное землячество.
— Неужели вы думаете, фортель Панаса — чепуха? На мой взгляд, он совершил антипартийный поступок. И недисциплинированность, и потеря бдительности. Если хотите, он разболтал наши замыслы врагу! Нашел время воскрешать нравы Запорожской сечи.
Поступок Панаса вывел Минаева из себя, что случалось не часто. Произошло вот что.
Утром Минаев вызвал нас в свою комнату. Мы застали его за картой, испещренной различными пометками. Карту мы знали неплохо и сразу же заметили — рядом с красной линией, обозначающей фронт, появился новый кружочек.
— Что это такое?
— Ради этого кружочка я и вызвал вас, — ответил Саша, глядя на карту. — По-моему, здесь находится фашистский аэродром. Во время последнего боя я заметил, что «фиаты» уходили именно в этом направлении и там снижались. Скорее всего, фашисты подтянули часть своих истребителей ближе к передовой.
— Я могу слетать сейчас на разведку, — тотчас же вызвался Панас.
— Разведка необходима, — сказал Минаев. — Но одному лететь рискованно. К тому же вылетать сейчас нецелесообразно. Подождем, когда солнце зайдет за горы. Тогда до наступления полной темноты можно будет успешно произвести разведку. Кстати, к этому времени все самолеты противника возвратятся на аэродром, что значительно облегчит выполнение задачи. Я думаю так: Борис пойдет ведущим, а ты, Иванов, его прикроешь.
День был напряженный, но мы с Панасом урывками успели разработать кое-какой план действий. Едва наступили сумерки и в воздух взвилась зеленая ракета — сигнал, означающий, что боевой день закончен, — как мы с Панасом снова взлетели и сразу же пошли к тому месту, которое указал нам Минаев. Благополучно пересекли линию фронта. Через четыре минуты я заметил впереди желтое пятно. Минаев не ошибся в своих предположениях. Это была небольшая площадка, на которой базировались итальянские фашистские истребители.
Чтобы точнее определить количество и тип вражеских самолетов, я решил подойти ближе к аэродрому. В воздухе, кроме нас, никого не было; без особого риска я спустился ниже, сделал последний разворот и, пролетев вдоль площадки на высоте двухсот метров, успел сосчитать: пятнадцать «фиатов».
Задача была выполнена, и на редкость легко: противник не ожидал нашего позднего визита и не оказал никакого противодействия. Я уже взял курс на наш аэродром, но в это время Панас еще раз развернулся и снова пошел в сторону площадки. «Что он заметил?» — подумал я и последовал за самолетом товарища. И вдруг увидел — Панас идет в атаку. Это было очевидное самовольство, и в — первую минуту оно только удивило меня — ведь мы на земле не договаривались об атаке. Уверен, что Минаев не одобрит наших действий — время на полет было рассчитано так, чтобы успеть вернуться в сумерках.
Но мне ничего не оставалось делать, я последовал за Панасом. Не подготовившись к атаке, я мог только прикрывать его.
Панас промахнулся. Видимо, раздосадованный неудачей, он вновь начал разворачиваться. Я сигнализировал ему. «Возвращайся на аэродром!» Тщетно! Он опять пошел в атаку. Снова пришлось присоединиться к нему.
Совместная атака оказалась удачной. Хотя противник и открыл сильный ответный огонь из пулеметов, один из «фиатов» вспыхнул ярким пламенем. «Хоть одно утешение!»— обрадовался я, думая о том, что теперь мы вернемся затемно и с посадкой нам придется туговато. Что если поломаем машины? Ведь у республиканцев каждая на счету!
И тут я возмутился. Очумел он, что ли? Снова разворачивается в сторону аэродрома! На этот раз я не поддержал Панаса. Хватит! Это не героизм, а сумасбродство. Но и Панас не открыл огня. Снизившись, он только пролетел над аэродромом, и я заметил, как от его самолета отделился белый листок бумаги.
Уже совсем стемнело. Там и сям на земле зажигались огни. Пришлось идти на предельной скорости.
— Ну, как дела? — волнуясь, спросил Минаев, лишь только мы приземлились, к счастью, без происшествий.
Я доложил, что аэродром противника нашли, обнаружили на нем пятнадцать самолетов и подожгли один «фиат».
— Вы очень долго были в полете, — заметил Минаев. — В такой поздний час надо было ограничиться только разведкой без атаки.
— Хотелось еще одного поджечь, — расплылся в улыбке Панас, — да уж больно быстро темнеть стало, и я в третий раз зашел на площадку, чтобы сбросить записку.
— Какую записку? — насторожился Минаев.
— Да так, несколько слов. Я ее еще днем написал… — Панас замялся, предчувствуя грозу. — Ничего плохого, Саша! «По нашему мнению, вы близко сели, фашистское отродье!» Вот и все.
Некоторые из присутствующих рассмеялись, но, заметив, что командир вовсе не расположен к веселью, разом утихли.
— Ты понимаешь, что ты наделал?! — Минаев сжал кулаки. Круто повернувшись, так, что скрипнул песок под каблуками, он быстро пошел к телефону. Панас мгновение стоял, пораженный резкостью Минаева. Потом рванулся вперед:
— Саша! Подожди! Я объясню…
Минаев не оглянулся.
Собираемся в комнате Минаева. Партийное землячество — особая форма организации коммунистов. Она присуща лишь интернациональным подразделениям, в которых служат представители многих компартий. Естественно, что общая партийная организация всей эскадрильи была бы чрезвычайно пестрой, разноязычной по составу и руководить ею представлялось бы делом чрезвычайно сложным.
Мы группируемся в землячества. Само слово говорит о том, что в землячество входят люди одной страны. Наше, русское, большевистское землячество невелико, оно состоит всего лишь из нескольких человек. У нас нет секретаря организации или парторга, каждый коммунист отвечает не только за себя, но и за весь партийный коллектив. Всегда — в любом деле, в любой обстановке — мы чувствуем, с каким вниманием и уважением смотрят на нас люди других стран. Мы для них — образец по той главной причине, что все мы из Страны Советов. Здесь, в Испании, по нашим поступкам многие люди будут судить о нашем народе вообще. Это заставляет быть до предела требовательным к себе и к своим товарищам.
Вот почему нас особенно волнует поступок Панаса. Может быть, в ином месте, в иных условиях мы бы сочли его поведение легкомысленным — и только. Здесь же мы не можем быть снисходительными. И Панас это чувствует. Войдя в комнату, он не садится вместе со всеми, стоит нелепо посреди комнаты.
— Садись! — отрывисто говорит ему Минаев.
Панас присаживается на край стула.
— Я считаю поведение товарища Иванова безобразным, — говорит Минаев. — Во-первых, в полете на разведку он грубо нарушил воинскую дисциплину. Я назначил его ведомым, а ведущим — Смирнова. Ведущий — командир пары, ведомый — подчиненный. Это истина для младенцев. Почему же Иванов начал действовать самостоятельно, не слушаясь своего командира?
Панас встает, порывается что-то сказать.
— Помолчи, — говорит ему Минаев. — Учись слушать правду до конца. Во-вторых, история с запиской. Глупая, мальчишеская история! Но, если употреблять точные слова, Иванов выдал наши замыслы врагу.
— Я? — вскакивает побледневший Панас.
— Сиди! Ты коммунист и должен открыто, без истерики, смотреть в лицо самым суровым фактам. Да, выдал. Здесь я могу сказать, что наше командование не случайно организовало разведку аэродрома сегодня. Завтра в район этого аэродрома должна вылететь эскадрилья наших легких бомбардировщиков. Это твердое решение командования. Представляете, как их могут встретить после того, как Панас своей запиской, по сути дела, предупредил фашистов о налете!
Мы молчим. Да-а, скверно. Совсем не смешная записочка. Панас сидит, глядя в одну точку.
— Кто хочет выступить? — спрашивает Минаев.
— Ясное дело! — говорит Бутрым. — Нечего рассуждать!
— Мы не можем наложить на товарища Иванова партийное взыскание, — продолжает Минаев. — Пока мы не возвратимся на Родину, взыскание все равно останется неутвержденным. Но мы вправе принять другое решение.
Последние слова Минаев говорит глухо, как бы с трудом выдавливая их из себя.
Панас рывком поднимается с места. Не знаю, какую речь он приготовил. Все слова забыты.
— Только не это…
— Я тоже так думаю, — говорит Минаев. — Иванов человек исправный. Храбрый летчик. Это я могу честно засвидетельствовать, как его командир. Я думаю, ограничимся товарищеским внушением.
Бутрым облегченно вздыхает: «Правильно!» Панас растерянно смотрит на нас, еще не веря, что самая тяжелая кара миновала его. «Другое решение», о котором упомянул Минаев, — это просьба землячества об откомандировании Иванова из интернациональной эскадрильи, это изгнание человека из круга друзей. Минаев не нашел в себе силы сказать об этом, но мы его хорошо поняли.
— Кажется, все, — говорит Минаев, распрямляясь. — Да, совсем забыл сказать: легких бомбардировщиков нужно будет вести на цель. Полетит Смирнов.
Панас вздрагивает от неожиданности. Бросается к Минаеву:
— Разреши мне! Понимаешь, как мне это нужно! Борис, откажись, прошу тебя! Бутрым! Петр, скажи им, что я должен лететь.
Бутрым кладет руку на плечо Панаса и поворачивает его к Минаеву:
— По-моему, Саша, можно доверить полет Панасу.
Минаев впервые за весь вечер улыбается:
— Хорошо!
Ночью Панас спит тревожно — ворочается, бормочет. Просыпается раньше всех.
— Только не нервничай, — говорит ему Минаев, когда садимся в машину. — Держи себя в руках. Безрассудство — как трясина: оступишься, не возьмешь себя в руки — и будешь вязнуть все глубже.
На аэродроме Панас заправляет машину вместе с механиком. Когда все готово к вылету, бежит к Минаеву:
— Не звонили?
— Нет еще. Да ты не волнуйся! Вылетишь!
Панасу, видимо, трудно справиться с возбуждением.
Минуты кажутся ему часами. Волнуясь, ходит вдоль стоянки, и неотступной тенью за ним — его авиамеханик. Но вот наконец Минаев кричит:
— Иванов, на вылет!
Тогда оба, и Панас и механик, срываются с места и взапуски бегут к машине.
Прикрываясь ладонью от солнца, мы провожаем самолет Панаса, пока он не скрывается вдали.
— Хороший парень, — говорит Минаев. — Правда, взбалмошный. Но ничего, это пройдет.
И снова смотрит вдаль, хотя Панаса уже и след простыл. К нам подходит его авиамеханик. Берет меня за рукав:
— Камарада Борес, когда должен вернуться Иванов?
— По-моему, минут через сорок, не раньше, — отвечаю я.
— Почему так долго?
— Да ведь он только что вылетел!
Механик смотрит на часы и сокрушается:
— Камарада Иванов улетел с бомбардировщиками один, а там могут быть фашистские истребители.
— Не беспокойся, — говорю я ему, — все будет в порядке. Командир договорился, что в тот же район вылетят «чатос»!
То, что я сообщаю механику, правда. Но мы нарочно не сказали Панасу о «чатос». Не хотелось его разочаровывать. Вылетая, он был уверен, что пойдет с бомбардировщиками один. И один расплатится за свою вину, если придется расплачиваться…
Проходит сорок минут. Ветер доносит издали тонкое гудение мотора.
— Иванов! — восклицает механик, и мы видим под облаком темную, движущуюся к аэродрому точку.
— Иванов! Наши разбили фашистов на аэродроме! — бурно радуется механик.
— Откуда ты знаешь такие подробности? — не без удивления спрашиваю испанца.
— Видите? — показывает он на истребитель, который, прежде чем идти на посадку, выделывает в небе одну «бочку» за другой.
Судя по каскаду фигур, у Иванова превосходное настроение.
— Мне камарада Иванов, улетая на задание, сказал, что если все будет хорошо, то перед посадкой сделает две «бочки». Ну вот видите, — ликует механик, — он сделал не две, а четыре — значит, республиканцы бомбили очень хорошо.
Панас рулит на свою стоянку. Обернувшись в нашу сторону, поднимает руку и показывает большой палец. Быстро отстегивает парашют и бегом направляется к командиру.
— Ну как?
Докладывая Минаеву о результатах полета, Панас сообщает, что к аэродрому противника республиканцы пришли в самый подходящий момент: фашистские летчики запускали моторы, только-только собирались вылетать. Заметив республиканские бомбардировщики, франкисты бросили свои самолеты и разбежались в разные стороны. После бомбометания на аэродроме горели пять «фиатов». На обратном пути встретилась группа вражеских истребителей, но тут подоспели «чатос». Среди них был самолет Анатолия Серова. Все республиканские бомбардировщики вернулись на свой аэродром. Иванов проводил их до места посадки.
— Хорошо, — говорит Минаев, выслушав доклад. — Хорошо, Панас!
Для того, чтобы читателю было понятно, почему вспыхнул, услышав эти слова, наш друг Иванов, я должен напомнить, что его звали Николаем, а «Панас» было имя, которым он в шутку подписал свою злополучную записку.
Николай Иванов (Панас).
«Панас»! — с того памятного дня это имя навсегда прикрепляется к Иванову. Постепенно мы все реже и реже называем его Николаем и все чаще — Панасом. Мы забываем историю с запиской, и сам Иванов уже не видит ничего обидного в имени Панас. Честное слово, это имя почему-то гораздо больше к нему подходит. И когда через год мы приезжаем в Скоморохи, стучимся в квартиру матери Иванова и спрашиваем ее: «Панас дома?», — она без удивления отвечает нам: «Дома, дома. Заходите». А спустя еще полгода, когда мы хороним Панаса, героически погибшего при испытании нового самолета, я читаю на надгробном обелиске его настоящее имя словно имя чужого, незнакомого человека: «Летчик-испытатель Николай Иванов».
Но вернемся к истории с запиской. Эта история имела продолжение.
Вскоре после полета Панас подошел ко мне:
— Пойдем покурим, Борис. Ты все еще сердишься на меня?
— Нет, уже не сержусь…
Панас закурил. Было заметно, что ему хочется высказаться. Надо знать Панаса — это очень искренний человек.
— Скажу только тебе, Борис, — произнес он наконец, — причем под строгим секретом.
— Опять что-нибудь натворил? — невольно накинулся я на него.
— Да, Борис! Но даю слово — это уже действительно в последний раз! Я им еще одну записку сбросил.
Я остолбенел.
— Всего три слова: «Поздравляю с переселением на небеса».
Я посмотрел на Панаса и… расхохотался. Ну что с ним поделаешь!
— А если бы удар по аэродрому оказался не таким удачным? — говорю ему, еле сдерживая смех.
— Этого не могло случиться! — с горячностью ответил Панас. — Ведь ты сам знаешь, как испанские летчики выполняют задания. А кроме того, я сбросил записку, когда уже несколько фашистских самолетов были охвачены огнем.
Но тут же он нахмурился и спросил:
— Как ты думаешь, Борис, сказать об этом Саше?
— Тебе следовало бы сказать об этом Минаеву полчаса назад, когда ты докладывал ему о результатах выполнения задания.
Панас взглянул на меня:
— Хорошо.
И, бросив недокуренную папиросу, он пошел в сторону командного пункта.
Минут через десять вернулся.
— Ну что?
— И смеялся, и ругал. А в конце сказал, что в следующий раз отстранит от полетов. По-моему, сказал так, для острастки. Как ты думаешь?
Праздник
В полдень на аэродром привозят свежие газеты, журналы, письма. Мы с нетерпением ждем прибытия почты, хотя писем нам пока еще не шлют и, наверное, не скоро пришлют, а газеты и журналы — испанские, мы читаем их еще с трудом. Но желание узнать, что происходит на фронте, в мире, а главное — как живет наша Родина, так велико, что мы с жадностью развертываем и мадридские газеты.
И вдруг… Не ослышались ли мы? Наш почтарь веселым тенорком кричит нам, размахивая пачкой газет:
— Камарадас! Периодико русо! (русские газеты!)
Что есть духу бежим навстречу почтальону. Никогда не думал, что можно так обрадоваться не письму, не весточке от родных, а газете. А впрочем, сейчас газета для нас — письмо с Родины, письмо о Родине.
— «Правда!» — восторженно кричит Панас, потрясая номером газеты.
Волощенко осторожно, двумя пальцами, держит в руках «Огонек». Знакомый заголовок «Известия» поглощает все внимание Бутрыма.
Кого благодарить? Кто так здорово придумал, прислав нам как раз те номера газет, о которых мы больше всего мечтали, — номера, посвященные перелету Чкалова и его друзей?!
Двадцатого июля Иван Кумарьян прочитал нам из одной испанской газеты очень краткое сообщение о том, что советский летчик Чкалов вместе с двумя своими товарищами на одномоторном самолете перелетел через Северный полюс и приземлился в Америке. И больше никаких подробностей. Все наши попытки узнать что-нибудь еще — тщетны, другие газеты прошли мимо этого события и печатали, главным образом, о происходящей войне, о политике вокруг нее.
И вот наконец-то смотрим на портреты дорогих нам земляков — Чкалова, Байдукова, Белякова, с жадностью читаем все, что относится к этому удивительно смелому свершению в истории человечества. Представляем, с каким удивлением американцы смотрят на героев русских с приятными добродушными лицами, на тех самых русских, о которых в те годы так часто говорили как о невежественных, почти первобытных или представляли их в образе красных комиссаров, готовых уничтожить все святое на земле.
Каждая прочитанная нами строчка вызывает в душе ликование, гордость за Советский Союз. Даже одно то, что мы сами являемся советскими летчиками, дает нам право принять частицу мужественного чкаловского перелета как свое личное дело.
Испанские летчики, техники спрашивают, знал ли кто из нас Чкалова. Саша Минаев отвечает:
— Вместе учились летать. Валерий на два года раньше меня окончил военное училище летчиков.
Испанцы вопросительно смотрят на нас. Мы с Петром Бутрымом дополняем. Говорю я и беспокоюсь, сможет ли Иван Кумарьян точно перевести:
— Знаем Валерия Павловича, он прилетал к нам на аэродром еще в тысяча девятьсот тридцать пятом году, чтобы помочь освоить новый тип истребителя, самолет И-шестнадцать. Чкалов испытывал этот самолет, и вот теперь мы летаем вместе с вами на том самом самолете, который вы называете «мошкой».
Испанцы смотрят на свои самолеты, смотрят на нас с таким удивлением, будто мы перелетели вместе с Чкаловым через Северный полюс.
Но нам пока приходится перелетать только линию фронта у Мадрида. Мы прекрасно понимаем, что не меньшая опасность грозила экипажу, перелетевшему Северный полюс, и считаем Чкалова лучшим летчиком мира.
Все разбрелись в разные стороны, чтобы никто не мешал читать. Словно целый год мы не были на Родине. Как трудно жить вдали от нее даже месяц…
Но чтение прерывает тревога. Взлетаем. День, наверно, сегодня счастливый — видим только «пятки» противника. При нашем приближении «фиаты» быстро сматываются за линию фронта.
Солнце, или, как мы говорим, «шарик», висит еще над Гвадаррамой, когда на востоке появляются темно-синие дождевые тучи. Они ползут тяжело, медленно охватывая небосклон. Погода хмурится. Лучшего сегодня и желать нельзя. Праздник так праздник! Авось зеленая ракета — сигнал об окончании летного дня — взовьется сегодня на часок раньше захода солнца.
И это желание сбывается. Сегодня нам необыкновенно везет. Маноло открывает дверцу машины перед Минаевым.
— В город? — спрашивает, улыбаясь.
В город — это значит не сразу в Бельяс Артэс, а с заездом в кафе или кино. Такое удовольствие выпадает на нашу долю не часто.
В машине мы снова вытаскиваем из карманов аккуратно сложенные газеты и пытаемся читать при тусклом освещении.
В этот вечер я, конечно, не мог и предположить, что без малого через год буду часто встречаться с Чкаловым в кругу общих друзей. Валерий Павлович особенно сблизился с Анатолием Серовым, они были немного похожи друг на друга своими бунтарскими характерами и очень часто сходились во взглядах, обсуждая проблемные вопросы авиации.
Чкалов не скрывал своей зависти к нам, высказывая мысль, что для летчика-испытателя бои с фашистами в Испании — самая лучшая проверка всех его качеств, он не раз сетовал, несмотря на веские доводы, что его не пускали в Испанию. Мы-то знали, почему его не пускали: в Чкалове видели человека, которому суждено двинуть далеко вперед перспективы развития авиации.
И не думали мы о том, что вскоре нам троим — Серову, Якушину и мне — придется выполнить от лица всех советских летчиков печальную миссию — пилотировать над Красной площадью в день похорон Чкалова.
Маноло везет нас осторожно, чтобы можно было спокойно читать. Но наше молчание его не очень устраивает. Маноло любит поговорить.
— Я очень рад, — произносит он нарочито спокойно, размеренно, словно размышляя вслух. — Я рад, что вам удастся сегодня немного отдохнуть. Последние дни вы все время находитесь в воздухе, а на землю садитесь только для того, чтобы забрать бензин и патроны.
Мы уже знаем, что Маноло будет продолжать свою речь до тех пор, пока кто-нибудь не вступит с ним в разговор.
— Ты преувеличиваешь, Маноло! — выручает нас Минаев, позволяя нам продолжать чтение. — Арифметика простая: четыре-пять вылетов в день, продолжительность каждого — один час десять минут, итого шесть часов в воздухе.
— Шесть часов в воздухе! — восклицает Маноло. — Шутка сказать! Простому пассажиру, сидя в мягком кресле, шесть часов в воздухе и то покажутся настоящей пыткой, а на истребителе, да еще в бою… Нет, это немыслимо!
— Правильно, Маноло! Это немыслимо. Если бы я пролетел такое время в мягком кресле, меня, наверное, вынесли бы из самолета на носилках, — смеется Минаев.
— Вы шутник, камарада Алехандро! — улыбается в ответ наш шофер. У него, как и у нас, превосходное настроение.
Останавливаемся перед кафе «Алкала». Это около площади Пуэрто-дель-Соль. Бойкое место для такого заведения, однако нередко бывают дни, когда кафе пустует. Фашисты почему-то особенно усиленно обстреливают этот район. Хозяин вздыхает:
— Действительно, бойкое место — только и жди снаряда. Это отпугивает клиентов.
Недавно большой осколок выбил стекло огромного окна, возле которого мы сидели. Посетители моментально бросились на улицу. Хозяин кафе уже привык к подобным передрягам — поднял осколок, положил его на поднос и, сокрушенно качая головой, удалился за стойку.
Что до нас, то нам нравится «Алкала» по той причине, что от него рукой подать до Бельяс Артэс. Приглашаем с собой Маноло. Внезапно пропадает вся его живость. Он никак не может привыкнуть к тому, что мы относимся к нему по-товарищески не только в разговорах.
— Это неудобно, — смущается он. — Я простой шофер, и мне с вами не положено сидеть за одним столиком. Я лучше подожду в машине.
— Маноло, уже в третий раз говорю, что мы считаем тебя товарищем, помощником, а не слугой! — сердится Минаев. — У нас нет слуг.
Маноло вздыхает, восхищенно смотрит на Минаева, но заходит в кафе все же последним, пропуская нас вперед.
— Долго засиживаться не будем, — предупреждает Минаев. — Бокал вина, чашка кофе — и хватит.
Чтобы скорее привыкнуть к необычной обстановке, наш водитель залпом выпивает большой бокал вина. И сразу же заинтересовывается соседями, сидящими рядом за столиком. Они часто поглядывают в нашу сторону и оживленно беседуют.
Мы разговариваем, не спеша потягивая вино. Маноло внимательно слушает соседей.
— Вы знаете, о ком они говорят? — шепчет он Минаеву. — О вас. Они не подозревают, что я испанец. А я все слышу. Они говорят, что вы русские и фашистские летчики вас боятся.
— Позволь, Маноло, ведь они нас видят впервые.
— Это неважно, — безапелляционно отвечает Маноло. — Добрая половина жителей Мадрида ежедневно наблюдает за вашими полетами, слух о вас давно распространился по всему городу. Мадрид стал чувствовать себя спокойнее, когда в небе появились русские летчики.
Маноло говорит пока на очень ломаном русском языке. Откуда он его знает? Как только в Мадриде появились первые советские добровольцы, Маноло решил, что его главная партийная обязанность — учить русский язык. Теперь словарь всегда с ним.
Уже темнеет, когда мы выходим на улицу. Но возвращаться в Бельяс Артэс, пожалуй, рановато.
— Саша, может, зайдем в кино?
Зашли — и едва не испортили себе чудесно начавшийся вечер. Шла картина какой-то американской фирмы под названием «Женщина-вампир». Женщина необычайной красоты усыпляла своих поклонников и высасывала из них кровь. Первым на четвертой части (а их было одиннадцать!) не выдержал Бутрым, встал и бросился к выходу, за ним последовали все остальные.
До поздней ночи мы сидим, вновь читая и перечитывая советские газеты, рассматривая фотографии.
Видимо, я засыпаю раньше всех. В самом деле — просыпаюсь и вижу: из-под кровати Панаса виднеется чемодан, намертво перехваченный ремнями. Еще вечером он был раскрыт.
У нас появились драгоценности…. Прошу Панаса:
— Дай почитать газетку.
— Вечером почитаем, — отмахивается он. — Чего зря трепать газету! Ведь бумага быстро рвется. Может, нам больше не пришлют. Сядем вечером аккуратненько за стол и почитаем.
День большой победы
Минаев вернулся из штаба хмурый и озабоченный:
— Все к моему КП! Есть серьезная новость.
Командный пункт Минаева оборудован нехитро: возле своей стоянки он разбил палатку, в ней телефонный аппарат, дежурный — вот и все. Минаев считает, что КП у него расположен очень удобно: он всегда может взлететь первым.
Быстро собираемся возле палатки — всем в нее не вместиться.
— В последнем бою мы сбили двух итальянцев, — говорит Минаев. — Так вот, эти молодчики сообщили: недавно на одном из совещаний Франко заявил, что в ближайшее время вся республиканская авиация будет разгромлена с помощью немецких истребителей новейшей конструкции. Заявление хвастливое. Но оно не случайное. Пленные фашистские летчики, правда, не знают данных нового немецкого самолета, однако они якобы слышали, что это машина с большими возможностями и значительно превышает летно-тактические данные всех действовавших до сей поры на фронте истребителей. Слышали они также и то, что на этих новых машинах будут летать только немецкие авиаторы, имеющие отличную подготовку и практический боевой опыт. Отборные летчики. Понимаете?
— Может быть, всего-навсего очередной пропагандистский трюк фашистов? — замечает кто-то.
— Не думаю, — возражает Минаев. — Мы уже могли убедиться, что немецкие фашисты ничего не жалеют для Франко. К тому же ясно, что для них Испания — опытное поле боя, где можно в настоящей боевой обстановке испытывать новые образцы оружия. Нужно серьезно готовить себя к тому, что в скором времени придется иметь дело с более сильным противником. И прежде всего усилить наблюдение за воздухом как в бою, так и на аэродроме.
— А что еще говорили в штабе? — спрашивает нетерпеливый Панас.
— Тебе мало того, что я сказал? — улыбается Минаев. — Да, чуть не забыл: всем, всем вам горячий привет от Анатолия Серова.
Я всегда замечал, что люди, знавшие Серова, говорили о нем с искренним удовольствием. Даже человек меланхоличный, вялый оживлялся, вспоминая об Анатолии, словно в самом воспоминании о человеке мощной, редкой энергии была какая-то будоражащая сила. Мы с некоторой опаской допытываемся, как Серов оценивает нашу боевую работу.
— Доволен, — коротко отвечает Минаев. — И больше всего доволен тем, что обе наши эскадрильи с каждым днем все лучше взаимодействуют друг с другом.
После такой оценки, кажется, и сам черт не страшен. Для летчика, как и для людей других специальностей, лучшая похвала — похвала мастера. Ладно, пусть только появятся эти новые немецкие машины.
Но они не появляются. Проходит день, другой — целая неделя, а за мадридское небо по-прежнему цепляются все те же знакомые «фиаты», «хейнкели», «юнкерсы». Однако слухи о новых машинах не исчезают, напротив — множатся. Словно яд, просачиваются они в Мадрид, в армию, грозя республиканской авиации «скорым и неминуемым поражением». «Пятая колонна» знает, как мутить умы.
К тому же положение на фронтах становится еще более напряженным. В руки республиканского командования попадает несколько секретных приказов, из которых явствует, что немцы и итальянцы подбрасывают новые силы на помощь мятежникам. Командир итальянской дивизии «Литторио» генерал Манчини признает в своем приказе, что в Испании уже находится пятьдесят тысяч итальянских солдат и офицеров.
«Пятая колонна», притаившаяся весной и в начале лета, вновь пытается перейти к активным действиям.
Однажды, вернувшись с аэродрома, мы решаем заглянуть минут на двадцать-тридцать в кафе «Алкала». Приглашаем с собой Маноло. Не успеваем пройти и десяти шагов от Бельяс Артэс, как к Маноло подходит какой-то человек, что-то быстро говорит ему и, не дожидаясь ответа, исчезает в темноте.
— Кто это? — спрашивает Минаев.
— Я не знаю его, — пожимает плечами Маноло, — но, судя по его словам, это хороший человек. Он сказал, что русским товарищем рискованно ходить в такой поздний час, потому что по городу, пользуясь темнотой, шныряют фашисты.
Невольно нащупываю в кармане пиджака свой пистолет. Террористические убийства из-за угла в последнее время участились.
Кафе работает вовсю, хозяин суетится за стойкой. Почти все столики заняты. Мужчины и женщины, штатские и военные, пожилые и молодые. Многие навеселе.
Разбавляя виноградное вино холодной водой из сифона, слушаем какую-то испанскую народную мелодию, которую исполняет трио музыкантов. Наш столик в стороне от других, поэтому мы можем наблюдать почти за всеми присутствующими. Публика сегодня собралась довольно подозрительная, Маноло то и дело настороженно оглядывается по сторонам.
— Обратите внимание вон на того геркулеса, что стоит недалеко от стойки, — говорит он. — Популярный мадридский торреро. Предпочитает драться на арене с быками, нежели с фашистами на фронте.
— А почему его не заставят пойти на фронт?
— Видите ли, он считает себя человеком вне политики, человеком искусства. А все-то его искусство — дырявить головы быкам. Сейчас уважаемый торреро — безработный. Впрочем, это его мало беспокоит, у него много денег, и он сейчас, должно быть, точит свои шпаги для лучших времен.
К торреро вразвалку подходит толстый, изрядно подвыпивший господин и с какой-то издевательской интонацией кричит: «Вива республика!» Торреро оглушительно хохочет.
— Сошлись приятели, — говорит Маноло. — Это один из крупнейших владельцев парфюмерных магазинов. Днем торгует, вечером пьет. Темная личность.
— Значит, днем торговец, а вечером гуляка?
— Ваше определение не совсем точно. И днем и ночью — замаскированный фашист.
Уходим из кафе с таким чувством, словно кто-то хладнокровно, расчетливо целится нам в спину.
После этого с особой настороженностью ждем появления новых вражеских самолетов. Нам необходимо побыстрее определить способы ведения боя с новым противником, а главное — узнать, каковы летно-тактические возможности последних немецких истребителей. Нам важно во что бы то ни стало убить слухи, деморализующие население, остановить ползущий по Мадриду шепот «пораженцев».
И вот наступает восьмое июля. Уже на рассвете этого дня наша эскадрилья была поднята по тревоге. Фашистские бомбардировщики проявили подозрительную прыть. Солнце еще не оторвалось от горизонта, а они уже попытались произвести налеты на некоторые республиканские аэродромы.
Мы отогнали их. Но повышенная активность вражеской авиации заставила насторожиться. Приземлившись, мы не вылезли из кабин. И правильно, едва механики кончили заправку баков, как над аэродромом с шорохом взлетела вторая сигнальная ракета.
В двенадцатом часу дня был дан третий по счету сигнал на вылет. Мы начали догадываться: нас изматывают. На этот раз линию фронта перелетела большая группа «фиатов» и сразу же стала обстреливать республиканские части в районе Университетского городка.
Десять истребителей во главе с Анатолием Серовым вылетели немного раньше нас. Как рассказывали потом жители Мадрида, больше всего их удивило то, что, вопреки своему обычному поведению, «фиаты» первыми бросились на республиканские самолеты. Непонятная храбрость фашистов удивила и серовцев. Правда, «фиатов» было в два раза больше, но ведь прежде при таком же соотношении сил они обычно не спешили завязывать бой.
Группа Анатолия Серова, как всегда, сражалась с беззаветной храбростью, на пределе своих сил и мастерства. Приближаясь к центру Мадрида, я заметил один горящий фашистский самолет, в стороне от него — второй. Несмотря на этот урон, «фиаты» не отступали. По-прежнему обладая большим численным превосходством, они начали теснить республиканцев. Воздушный бой постепенно перемещался к центру города.
Мы подоспели вовремя. Видимо, еще издали заметив нас, серовцы с новой силой обрушились на фашистов. В кипении атак забелело еще одно парашютное облачко.
Минаев развернулся и дал сигнал: «Подготовиться к бою». Несколько секунд — и мы схватились с «фиатами». Теперь силы были почти равными — при таком соотношении итальянцы раньше сразу бросились бы врассыпную. Сейчас происходило что-то невероятное. Мы били их, а они продолжали остервенело лезть на нас. Им удалось сбить один республиканский самолет. Оторвавшись на мгновение от боя, я увидел, как кто-то из наших упрямо ведет горящий самолет к окраине города.
«Что происходит сегодня с фашистами? Откуда такая смелость?» — подумал я, и как бы в ответ на мой вопрос в синей высоте холодно блеснули серебряные крылья незнакомых самолетов.
Они! Восьмерка… Восьмерка самолетов новой конструкции уверенно шла в плотном строю. Все стало ясно — и почему «фиаты» так упорно дрались на этот раз, и почему спозаранку нас начали изматывать в воздухе. Словно занесенный над нами кинжал, серебряные монопланы молниеносно развернулись и стремительно, вытянувшись цепочкой, пошли в пике. Чистый маневр, отличная слаженность, ничего не скажешь.
Говорят, что в эту минуту замер весь Мадрид, наблюдавший за воздушным боем. Монопланы отвлекли не только наше внимание — «фиаты», видимо, уже торжествуя победу, прекратили атаки. Это была первая ошибка фашистов.
Немцы допустили и вторую ошибку. Они, очевидно, хорошо знали, что «чатос», на которых летал Серов, — машины маневренные, но с меньшей скоростью на пикировании, чем все остальные самолеты. Может быть, им было известно также, что нашими «чатос» управляют летчики, не знавшие поражений, и им не терпелось в первую очередь разделаться именно с ними. Во всяком случае, они самонадеянно, всем строем обрушились на эскадрилью Серова. И это позволило нам свободно ударить по немцам.
Удар был сильным. Строй немцев раскололся. В первую же минуту острой, смертельной схватки Бутрыму удалось основательно зажать одного гитлеровца. Тот попытался уйти от Бутрыма глубоким виражом, но Петр смело, почти отчаянно, по диагонали срезал расстояние и ударил по фашисту из двух пулеметов. Бил он наверняка, целясь прямо в летчика. И новенький лакированный моноплан, которому франкисты пророчили верную победу, неуклюже повалился вниз. В мадридском небе ему удалось пробыть всего несколько минут.
Это был переломный момент боя. «Фиаты» заметались. Теряя самообладание, гитлеровцы скопом ринулись на нашу эскадрилью. Но это освободило руки Серову. Пользуясь его поддержкой, мы не упускали инициативы, и, удачно поймав в перекрестье прицела немецкую машину, я точно ударил по ней. Самолет не загорелся, но, по-видимому, мне удалось вывести из строя управление машиной, и фашистский летчик вынужден был выброситься с парашютом.
Итальянцы первыми стали уходить на свою территорию. Немцы перешли от наступательного маневра к оборонительному, отходя все дальше от центра города. И бросились наконец наутек.
Мы не преследовали их. Мы здорово устали. Я впервые заметил, что у меня дрожат руки. Едва ли от нервного напряжения — оно прошло. От слабости, от усталости.
По традиции мы собрались над центром Мадрида. И, разлетаясь по своим аэродромам, на прощание покачали крыльями самолетов. С особой силой эти безмолвные сигналы несли сегодня от одной машины к другой наши чувства дружбы, взаимной благодарности и гордости друг другом. Только одно омрачало радость: жив ли тот из наших товарищей, что вышел сегодня из воздушного боя на горящем самолете?
Лишь только расстались с эскадрильей «чатос», усталость дала себя знать с новой силой. До посадки нужно было лететь несколько минут, но казалось, что самолет тащится неимоверно медленно. Мучила жажда, язык во рту шершавый, горячий. Я радуюсь, что могу воспользоваться приспособлением Хуана. На днях он смонтировал в кабине самолета термос с трубкой. Беру в рот костяной наконечник трубки и заранее предвкушаю удовольствие от холодного пива. Тяну в себя. Что такое? Густое, теплое молоко! Через силу проглатываю один глоток, еле сдерживая отвращение.
Рядом со мной летит Панас. Гляжу в его сторону — наверное, его проделка, чья же еще? Панас ухмыляется. Эх, Панас, Панас, кто и когда тебя исправит! И обижаться-то на тебя трудно. Устаешь, как все, и откуда только силы в тебе берутся на озорство.
Мельком замечаю: за нами со снижением идет «чато». Кто это? Не Серов ли? Ну, конечно, он! «Чато» приземляется вслед за мной. Оборачиваюсь и вижу, как, заруливая, Анатолий широко улыбается. Через минуту я уже похрустываю в его объятиях. Он крутит меня в воздухе, целует и опускает на землю.
— Молодец, Борька! А где Петр? А-а! Вот он!
Через секунду Бутрым с опаской доверяется железным объятиям Толи.
Весь аэродром в волнении. Мы еще не знаем, что за нашим боем наблюдали десятки тысяч людей, что в Университетском городке воодушевленные нашим успехом республиканцы, не дожидаясь приказа, снова поднялись из окопов и пошли в атаку.
Нас окружают не только механики, не только солдаты охраны, но и весь обслуживающий персонал аэродрома. Испанцы группами обсуждают происшедшее.
А в центре нашей группы летчиков и авиамехаников — Анатолий. Мы засыпаем его вопросами. Спрашиваем, кого подожгли итальянцы и не знает ли он, что с летчиком, что с самолетом.
Анатолий называет нам фамилию летчика: Петров.
— Уже второй раз ему приходится искать выход из подобного положения. Отчаянный парень. Несгораемый! Я уверен, что он на этот раз отделается более или менее благополучно. Пламя с бензобака он сорвал скольжением, горела только обшивка правого крыла.
У Серова замечательное, неоценимое качество, которым владеет далеко не каждый летчик: ему удается видеть почти все, что происходит в воздушном бою. И меня и Бутрыма, например, удивляет: откуда, собственно, Анатолий знает, что именно мы сбили немцев?
Серов отвечает просто:
— А что вы нашли удивительного? Я же почти каждый день встречаюсь с вами в воздухе. Нетрудно запомнить, на каком самолете летает каждый из вас. Вот, например, у Саши Минаева хвостовой номер — двойка, у тебя, Борис, — пятерка, у Петра — шестерка. А тебе, Панас, кстати сказать, один «фиат» здорово всыпал снизу.
— Откуда ты мог заметить это, если я сам ничего не видел?
— Поди и посмотри свой самолет.
Идти Панасу не приходится. К нам прорывается его механик с изодранным парашютом в руках. В складках белого шелка торчат несколько осколков крупнокалиберных разрывных пуль.
И, как часто это бывает с Серовым, неожиданно и круто он поворачивает разговор в новое русло:
— Как вы думаете, прилетят они сегодня еще раз или нет? По-моему, нет. Мы им всыпали так, что дай бог, если опомнятся к вечеру. Но все-таки стоит быть настороже. Сегодняшняя встреча с немецкими монопланами дает возможность сделать некоторые выводы. Нам на «чатос» драться с ними гораздо труднее, чем вам на своих самолетах. Следовательно, давайте договоримся на будущее. При новых встречах, мне кажется, именно вам целесообразнее в первую очередь связывать боем немцев, а с итальянцами мы как-нибудь сами расправимся. Таким образом, взаимодействуя друг с другом, мы нарушим их тактику.
Неожиданно Серов снова меняет тон, усмехаясь:
— Вообще говоря, если вы и подбросите в мою сторону одного из этих немецких «пинавтов», я в обиде не буду. Сегодня неплохое начало. Немцы и итальянцы потирают сейчас свои шишки. Но ясно: надеются отплатить нам при первой же возможности.
— А как Добиаш, Короуз? Как Петрович? — спрашиваем мы Серова.
Тот только взмахнул головой:
— О, это ребята что надо! А вы знаете, — говорит он, — ведь Петрович, оказывается, сильнейший югославский футболист. Божидар — Божко — Петрович! Входил в сборную страны. И притом был студентом, учился на юриста в университете. И вот приехал сюда. Не за славой ведь приехал парень! — Он подумал, покачал головой. — Интересные ребята. Вы знаете, что у Короуза не больше не меньше как двенадцать братьев и две сестры?! Ничего себе семейка?! Вы знаете, что он во время восстания шуцбундовцев воевал все десять дней? А было ему тогда двадцать лет. Помоложе нас был парень. Вы знаете, что когда в тридцать четвертом году он и его товарищи приехали в Советский Союз, им, шуцбундовцам, предоставили честь открыть парад на Красной площади? Они шли в синих рубашках и синих беретах. Это настоящие ребята, ничего не скажешь!
Кто-то начинает вновь вспоминать детали минувшего боя. Но Серов уже нетерпеливо переминается:
— Ладно, ребята. Еще наговоримся. Спешу к своим. Будьте здоровы. До встречи в воздухе.
Он быстро жмет руки всем, кто стоит возле него, и круг размыкается…
Фашисты в этот день уже больше не появляются. День нашей большой победы оказывается в какой-то мере днем отдыха. Мы отлеживаемся под плоскостями, не торопясь наведываемся в буфет, вообще роскошничаем. Минаев предлагает вечером заглянуть в кафе, и предложение, конечно, принимается с великим удовольствием. Даже природа впервые за много дней проявляет к нам благосклонность: к вечеру над Гвадаррамой сгущаются тучи, свежий предгрозовой вечер выдувает с аэродрома застоявшуюся духоту, и наконец разражается сильный, проливной дождь.
Сняв одежду, в одних трусах, мы сечем руками прямые, словно натянутые между небом и землей струи дождя, смеемся, прыгаем, как мальчишки, освобождаясь от усталости.
А вечером Маноло везет нас в город. Кажется, уже третий раз за день он рассказывает нам, что сегодня улицы Мадрида были переполнены народом, многие залезли на крыши. Иногда пули ударялись в стены домов и мостовую, но Маноло клянется, что никто не обращал на это внимания и никто не спешил в укрытие. Все стояли, будто загипнотизированные. Двух итальянцев летчиков, спустившихся на парашютах прямо на улицу, схватили, и, честное слово, Маноло не знает, что бы с ними сталось, если бы не вмешались подоспевшие патрули.
— Мы уже слышали об этом, Маноло. Тебе же трудно говорить и вести машину. Еще задавишь кого-нибудь.
— Неважно, что вы слышали, — отвечает Маноло. — О хорошем можно говорить много раз, и хорошее не станет от этого плохим. Слушайте, что было дальше.
Когда появились какие-то новые, белые самолеты, толпа закричала: «Немцы! Немцы!» И он, Маноло, тоже закричал в негодовании. Ему, Маноло, показалось, что перевес на стороне фашистов. О! Это было страшно. Вдруг один немецкий самолет повалился на землю, за ним и другой! Если бы вы видели, камарадас, что творилось в этот момент на улицах. От радости в воздух летели кепки, шляпы, пачки сигарет, спички — все, все, что попадалось под руки!
Вдруг Маноло круто тормозит: на перекрестке — дежурный патруль. Маноло открывает дверцу.
— Авиадор русо, — говорит он, кивая головой в нашу сторону.
Старший патруля, офицер, восклицает: «О-о-о!» — и с любопытством заглядывает через опущенное стекло внутрь машины. Увидев нас, расплывается в улыбке.
— Спасибо, товарищи, за сегодняшний день! Можете следовать. Счастливого пути!
В кафе, куда мы завернули по дороге домой, к нам подходит пожилой испанец с серебряной проседью в волосах, с глазами редкого у испанцев цвета — голубыми. Почтительно останавливается на некотором отдалении от нашего столика, просит извинения и стоя обращается к нам:
— Сеньорес… камарадас… простите, не знаю, как к вам обратиться.
Мы приглашаем его сесть за стол. Мгновение он колеблется, но тотчас, молодо тряхнув головой, садится.
— Наблюдая сегодня за боем, — медленно говорит он, — я подумал, что так смело сражаться с фашистами могут только люди, защищающие свою землю. Землю, на которой старились их деды, трудились их отцы, мужали они сами, юноши. Но мне сказали, что немцев бьют русские. Я не поверил вначале. Русские? Зачем им нужно жертвовать собой? Их земля далеко. Их страна — счастливая страна. Простите, я никак не могу понять: что заставляет вас биться насмерть, рисковать не у себя на Родине, а так далеко от нее, здесь, в Испании?
Мы молчим. Что ответить этому человеку? Ведь и просто и трудно ответить…
Минаев мягко кладет руку на плечо испанцу.
— Видите ли, — говорит Саша, — наши отцы оставили нам в наследство завоеванное ими неоценимое богатство. Мы интернационалисты. Мы — за свободу всех народов и против всякого рабства и угнетения.
— Вы, молодой человек, говорите загадками, — улыбается испанец. — Можно подумать, что завещанное вам богатство находится у нас, в Испании.
— Да, вы правы, — серьезно отвечает Саша. — Часть нашего богатства находится и у вас, в республиканской Испании. Это богатство — свобода человека. За нее борются республиканцы, весь испанский народ. И мы, русские, не можем стоять в стороне от этой борьбы. И независимо от того, где нам придется драться с фашистами, — сегодня над Мадридом, а завтра, может быть, над своим родным городом, — мы будем с ними драться.
Саша отпивает глоток лимонной воды и внимательно смотрит на собеседника. А тот устремил свой взгляд куда-то в пространство и молчит. Вдруг мы замечаем в глазах у испанца слезы.
— Понимаю вас, теперь я понимаю, — волнуясь, говорит он и встает перед нами во весь рост. — Разрешите пожелать вам большого счастья. Пожелать вам жизни!
И, крепко пожав нам руки, не оборачиваясь, быстро выходит из кафе.
Маноло — живой справочник по Мадриду. Он знает тысячи людей. И мы не перестаем удивляться этой его особенности.
— Имени его я не знаю, — подумав, отвечает он. — Но знаю — это один из лучших наших музыкантов. Он сочиняет музыку к испанским песням. И еще я слышал, будто его сын недавно погиб в Астурии, сражаясь в рядах республиканцев.
Когда мы подъезжаем к Бельяс Артэс, Бутрым спрашивает Минаева:
— Ты не знаешь марки новых немецких монопланов?
— Знаю, — говорит Минаев. — «Мессершмитты».
— «Мессершмитты»?
Мы еще не предполагаем, что вскоре это слово станет одним из самых зловещих.
На другой день стало ясно, почему «мессершмитты» появились над городом именно восьмого июля. Все мадридские газеты вышли с крупными шапками: «Успех республиканцев в районе Брунете», «Бойцы республики наступают на Брунете».
Почти три месяца после победной Гвадалахарской операции фронт был в основном стабильным. Изо дня в день с небольшими изменениями скупые сводки сообщали: «Отмечаются разведывательные поиски обеих сторон…», «Ожесточенный артиллерийский обстрел Мадрида…»
Напряженные бои шли только в воздухе. На земле было сравнительно спокойно. На многих участках передней линии бойцы сумели даже благоустроить окопы: выстлали дно траншей каменными плитками, досками, соорудили парусиновые тенты от солнца.
Конечно, это никого не вводило в заблуждение. Было хорошо известно, что фашисты производят перегруппировку своих сил, вводят в Испанию новые, свежие части. Едва ли, укрываясь под тентом от солнца, хоть один боец думал, что все лето пройдет только в перестрелках и кратковременных атаках. Фалангисты готовили новые удары по обороне республики.
Республика предупредила эти удары, начав пятого июля Брунетскую операцию. Брунете — городок на фланге Мадридского фронта, маленький, но имеющий серьезное значение: это ключевая позиция, с которой фашисты могли начать фланговый обход Мадрида. Удар республиканцев был неожиданным. В первые же дни наступления им удалось подойти к Брунете, ворваться в город и завязать уличные бои. Фашистское командование начало спешно подтягивать к Центральному фронту резервные части. Слишком еще свежа была в памяти Гвадалахара.
С определенной целью — деморализовать авиацию республиканцев — на Мадрид был брошен отряд «мессершмиттов».
День нашей большой победы явился вместе с тем днем боевого успеха и наших товарищей из батальона имени Чапаева. После первой встречи мы еще ни разу не видели комиссара батальона. Но не забыли его слов: «Помните Романильос!»
Мы точно знали, где расположены чапаевцы: перед высотами, закрывающими небольшой населенный пункт Романильос. Пролетая над передним краем, мы не раз покачивали крыльями в знак привета и видели, как солдаты в окопах потрясают в ответ винтовками.
Не встречаясь, мы стали друзьями. Нас интересовало все, что происходит под Романильосом. В сводках мы в первую очередь искали это слово. Но сводки упоминали его редко.
И вдруг утром девятого… «Штурм высот под Романильосом!» Это же чапаевцы дерутся! Снова и снова перечитываем сообщение с фронта. Под Романильосом завязалось серьезное дело — жестокие бои с применением всей имеющейся у каждой из сторон техники. Читаем: «В результате многочасового боя высоты взяты республиканцами». Чапаевцами!
— Когда это было? — спрашивает кто-то.
— Вчера! Понимаешь, вчера!
— Может быть, когда мы били «мессершмиттов»?
— Может быть. Вполне может быть!
Газета переходит из рук в руки. Хочется, чтобы именно сейчас был дан сигнал на вылет и чтобы командование направило нас именно туда — в район, где, забыв о жажде, зное, об усталости, «батальон 21 нации» идет вперед по бурым кастильским высотам.
Молодость не убить!
Сегодня Волощенко упал в обморок. Произошло это неожиданно. Мы поднялись, как всегда, в половине третьего утра. Единственное средство отогнать сон — это холодная вода. Поэтому, вскочив с постели, мы сразу же бежим в умывальную комнату.
Волощенко не дошел до крана, грохнулся в коридоре. Лицо побледнело, возле глаз появились синие тени. Пульс едва прощупывался. Диагноз ставить не надо. Ясно, что этот обморок — следствие крайней усталости. Значит, дело зашло далеко. Волощенко нужен отдых. А может быть, ему, на худой конец, нужно всего-навсего выспаться. Мы советуемся друг с другом и решаем оставить его на день в Бельяс Артэс, пусть отлежится.
Волощенко открывает глаза. Удивленно смотрит на нас и наконец догадывается о случившемся. Конфузится:
— Вот черт, петрушка какая.
— Ты останься сегодня в городе. Полежи, отдохни, выспись, — говорит ему Минаев.
Волощенко краснеет, сердится:
— Вы меня уж совсем за дохлятину принимаете!
Встает, пошатываясь, держится рукой за стену.
— Я поеду. Ничего особенного не случилось.
Волощенко — человек упрямый и настойчивый. К тому же он заметно стыдится своей слабости.
— Мы все устали! — кричит он Бутрыму. — Я же видел, Петр, как тебя вчера механик подсаживал в машину. А мой обморок — чепуха. Пройдет!
В полдень, после второго вылета, я встречаю Волощенко. Он направляется к столовой.
— Куда? — спрашиваю его.
— Нужно, — уклончиво отвечает он.
Должно быть, спешит к девушкам-официанткам. Это его страсть — девушки. Волощенко привез в Испанию вместе с патефоном по крайней мере десятка два фотографий самых различных девиц — белокурых, миловидных и безнадежно некрасивых. Трудно сказать, кому из них он отдавал предпочтение. Сейчас он все фотографии рассматривает с одинаковым интересом. Скорее всего, ему нравились сразу все. И он нравился всем. Но только нравился…
Я сужу так по тому, что у Волощенко и в Испании уже появилась уйма знакомых девушек. Вечером они щебечут, окружив его возле Бельяс Артэс. Его прекрасно знает весь женский персонал нашей столовой. Когда Волощенко заходит туда, даже старая толстуха повариха считает своим долгом выйти из кухни и улыбнуться ему.
Я никогда не видел Волощенко с одной девушкой. Меньше двух возле него не бывает. И скучных, постных лиц в этой компании вы тоже не увидите. Он обладает совершенно неотразимым простодушием. Не освоив толком языка, мы, например, подчас стесняемся обращаться к испанцам: поймут ли? Был же у нас курьезный случай, когда мы только что прибыли в Мадрид. Сидя в столовой, я решил блеснуть своими успехами в испанском языке и без помощи переводчика попросил официанта принести мне кусочек ветчины. Услышав просьбу, официант растерянно посмотрел на меня и, пожав плечами, удалился. Через минуту, к моему великому смущению, он принес на тарелочке кусочек мыла.
6 окнах столовой звенели от хохота стекла. Серов, давясь от смеха, показывал пальцем на мыло:
— Ты к этой закусочке попроси еще стопку керосина, тогда совсем будет подходяще!
Оказывается, я спутал ветчину (по-испански «хамон») с мылом («хабон»). Но лишь только улегся шум, попал впросак Анатолий. Он также рискнул воспользоваться испанским языком и попросил себе жареного картофеля. Новый взрыв смеха огласил зал, когда удивленный официант ответил, что ботинки ни в сыром, ни в жареном виде испанцы не употребляют.
Ясно, что после этого мы внимательнее следили за своей испанской речью. Единственный человек, который по-прежнему чрезвычайно просто относился к этому, был Волощенко. Еще на пароходе он по любому поводу вступал в разговор с первым встречным матросом. А уж сойдя на испанскую землю, он немедленно сломал языковую преграду, отделявшую его от испанцев. Не задумываясь над такой «мелочью», как чужой язык, он стал запросто встревать в беседу с каждым: на улице с мальчишками, взрослыми, девушками, на аэродроме — с испанцами, с американцем Джоном, с французами…
Стоит один раз послушать Волощенко, чтобы понять, какой это расчудесный «кавальеро». Он никогда не рассуждает о серьезных материях (это не его стихия!), но зато острит напропалую. И не беда, что остроты подержанные, старенькие, — соль их испанцы все равно не поймут, ибо Волощенко разговаривает, конечно, в основном по-русски, вставляя в речь (чаще невпопад) одно-два испанских слова. Зато с какой неподдельной искренностью и жаром он жестикулирует и как смеется! Там, где Волощенко, всегда веселье.
Я смотрю, как он катится к столовой, и не знаю, что удивительнее — его сегодняшний обморок или смех, который (можете быть уверены) через несколько минут раздастся на веранде. Молодость ничем не погасишь: если усталость выгоняет ее в одну дверь, она возвращается в другую.
Тяжелая утрата
Вот и минул месяц с того дня, как мы прилетели в Мадрид. Можно было подвести первый итог нашей боевой работы. По напряжению этот месяц был ни с чем не сравним. Изо дня в день, с рассвета до заката, мы или ждали боя, или, что было чаще, сражались. А летом такие длинные дни и такие короткие ночи! Но зато сто двадцать раз наша эскадрилья поднималась в воздух и уходила на фронт и сто двадцать раз мы возвращались с победой, не имея за это время ни одной потери. Небо Мадрида по-прежнему принадлежало республиканцам.
В это утро был какой-то удивительно приятный воздух, свежий, бодрящий. Торжественно пересчитал нас старый швейцар: «Уна, дос, трес… Счастливого пути, сеньор Алехандро… Дай бог вам счастья, сеньор Педро…» Мягко, словно по воде, катил нас на аэродром Маноло, и впервые не хотелось досыпать в машине. Нежная лимонная заря обнимала Мадрид, и витрины магазинов казались перламутровыми от росы.
Празднично начинался этот день. Если б мы только знали, как он кончится…
В полдень был дан сигнал на вылет: к линии фронта шла волна вражеских бомбардировщиков под прикрытием не менее тридцати «фиатов».
Минаев приказал моему звену заняться бомбардировщиками, а сам с двумя звеньями врезался в группу истребителей. С первых минут воздушный бой принял угрожающий для нас характер. На каждого нашего летчика приходилось по три-четыре истребителя противника. Они теснили нас со всех сторон. В конце концов противнику удалось разрознить эскадрилью.
Впервые минаевцы дрались в одиночку, еле успевая стряхивать с себя наседающие «фиаты».
И вдруг — надежда! — сразу два «фиата» вспыхнули ярким пламенем, через мгновение взорвался третий. Мне почудилось, что я слышу, как со свистом посыпались вниз горящие обломки.
Серов! Это он с шестеркой своих «курносых» подоспел в самый критический момент. Он с такой силой и неожиданностью ворвался в бой, расшвыривая облепивших нас фашистов, что те, не сообразив, в чем дело, бросились врассыпную.
Мы с Бутрымом вышли из боя последними. Мне не раз приходилось садиться последним на аэродром. И каждый раз я не мог отделаться от безотчетной тревоги, заставляющей проверять строй приземлившихся самолетов. Такова участь замыкающего — он знает, что после него уже едва ли кто-нибудь совершит посадку. А на земле ждут не только его.
И вот снова, прежде чем приземлиться, я осматриваю сверху весь аэродром. Не хватает одного самолета. Пустая стоянка. Сашина стоянка? Не может быть! Наверное, он летит сзади нас…
Я разворачиваю машину и осматриваю воздушное пространство. Ослепительно-ясное небо. Ни облачка. В каком-то оцепенении, механически повторяя маневр Бутрыма, иду на посадку. Навстречу нам бегут летчики, механики. Они молча останавливаются перед самолетами. С опущенной головой подходит Панас. Я вижу его бледное, землистое лицо. Спрашиваю:
— Скажи, что случилось с Сашей?
— Я сделал все, что мог. Я старался до последней возможности держаться рядом с ним. Вначале мне это удавалось. Потом Саша стремительно пошел вверх за одним из «фиатов». Тут я отстал… и потерял его… совсем…
— Восемь минут, — нервно говорит Бутрым, глядя на часы. — Мы вылетели в час сорок. Сейчас… Да, еще есть в запасе восемь минут. Может, он прилетит?
Снова вспыхивает надежда. Целых восемь минут! Как мы могли поверить в гибель Саши, когда еще впереди столько времени! Тишина. Слышно дыхание людей. Напряженно прислушиваясь, механик Минаева инстинктивно отодвигается от толпы. Тишина. Мертвая, равнодушная, проклятая тишина!
— Все, — говорит Бутрым и отводит взгляд от часов.
Нет не все! Еще тлеет искра надежды. Может быть, Саша где-нибудь поблизости произвел вынужденную посадку? Бежим к телефону, к его же, Сашиному, командирскому телефону. Звоним по всем соседним аэродромам. Отовсюду один ответ: «Нет, не садился».
И вдруг резкое дребезжанье звонка. «Барахас? Да, Барахас… Барахас, слушай, Барахас, возле нас упал ваш самолет. У летчика найдены документы. Его зовут Алехандро. Алехандро Минаев. Грудь летчика пробита навылет тремя пулями. Барахас, ты слышишь меня? Барахас…»
Замер механик Минаева. Стиснув ладонями щеки, отвернулся в сторону Бутрым. Куда-то в сторону, спотыкаясь, пошел Панас. И только Волощенко как стоял, так и остался стоять, глядя в землю полными слез глазами.
Страшно, очень страшно, когда беззвучно плачут мужчины.
Снова телефонный звонок. Я машинально поднимаю трубку. Из штаба передают боевое распоряжение: всей эскадрилье немедленно вылететь в район Брунете с целью прикрытия наземных войск.
Возле телефона столпились летчики. Кто там еще говорит и что? Я быстро сообщаю поставленную задачу и вместе со всеми бегу к самолету. На полпути внезапно останавливаюсь.
«Кто же теперь поведет эскадрилью на фронт?»
Панас и Петр, бежавшие рядом, тоже останавливаются. Я растерянно смотрю на них. Петр угадывает мою мысль.
— Мы с Панасом пристроимся к тебе, Борис, — говорит он, — и пойдем ведущим звеном, остальные звенья пристроятся к нам.
Панас в знак согласия кивает головой.
Хуан уже запустил мотор и держал наготове мой парашют. Стремительно подбегает к самолету Антонио, механик Минаева:
— Камарада Борес! Отомстите за Алехандро!
Впервые среди нас нет в боевом полете Саши. Мы летим по проложенному им пути. Вот здесь он сбил первый самолет, здесь выручил в трудный момент Бутрыма, а вот там мы провели с ним один из наших славных боев. «Камарада Борес! Отомстите за Алехандро!»
Мелькают, отлетая назад, крыши Мадрида. Дачи, виноградники, огороды. Уже виднеется Брунете. На земле идет ожесточенный бой. Опасаясь повторения Гвадалахары, фашистское командование любой ценой пытается задержать продвижение республиканцев. Чтобы отвлечь наши силы от Брунете, мятежники начали наступление под Сеговией, пытаются контратаковать в районе Вильянуэвы. И это им в известной степени удается. Говорят, что Сеговия эвакуируется. Еще вчера мы узнали, что на фронт на подмогу франкистам прибыли свежие марокканские части. Делаем круг над полем боя. Ждать приходится недолго. Замечаем идущую к фронту группу вражеских истребителей. Опять «фиаты!» Ну что ж!
Мы сразу бросаемся в атаку. Врезаемся в строй фашистов стремительно и легко. С первой же атаки кто-то — кажется, Панас — поджигает «фиат» Молодец! Сегодня ему во что бы то ни стало нужно сбить самолет — отомстить за своего ведущего. Иначе не успокоить совесть… Еще один самолет падает вниз. Фашисты не выдерживают и, вырываясь из боя, уходят поодиночке.
Чем сильнее натиск врага, тем упорнее сопротивление республиканцев. Это бесит фашистов. Победа, которая казалась им близкой осенью 1936 года, отодвигается все дальше и дальше. Мальчишки поют на улицах Мадрида. Белая кобыла генерала Мола застоялась в конюшне, Ей не увидеть нашу площадь Пуэрто-дель-Соль.
Пытаясь сломить волю народа, мятежники идут на откровенный массовый террор. Страшно читать об этом, страшно об этом вспоминать. А я помню: вот, привалившись к шасси самолета, беззвучно, без слез рыдает авиамеханик, прочитав в газете о том, что в Бадахосе фашисты расстреляли всех, у кого на руках были мозоли. Он сам из Бадахоса, семья его осталась там. Механик плакал, а мы стояли поодаль, и у нас сжимались кулаки от обиды, что нельзя сегодня же, сейчас же найти тех, именно тех, кто, согнав на арену цирка полторы тысячи человек, скосил всех до одного пулеметными очередями, — найти эту сволочь и не одной очередью, а десятками очередей уничтожить. Немедленно. Не задумываясь. Я помню, как спустя два года в жаркой монгольской степи мы нашли однажды труп советского летчика, нашего товарища. Руки и ноги его были скручены колючей проволокой. Мы представили себе живого человека, оставленного в степи японцами на долгую мучительную смерть, и тогда нам тоже было очень нелегко сдержать себя, чтобы не броситься тотчас же к самолетам.
Не знаю, что за сердце у тех английских джентльменов и американских сенаторов, что после Майданека и Освенцима оправдывают палачей человечества — и не только оправдывают, но и с пеной у рта защищают их…
Вечером того же дня Маноло, как обычно, везет нас к Бельяс Артэс. Но сегодня он молчит, всю дорогу молчит. Мы выходим из машины и останавливаемся. Что мы скажем нашему старику швейцару? Впервые не хочется подниматься в наш роскошный, постылый теперь особняк, где все будет напоминать о Саше, где сейчас вот, через полминуты, нас спросят: «Где он? Где вы его потеряли?»
Медленно входим в вестибюль. Старичок еще ничего не подозревает.
— Уна — камарада Борес (улыбка)… Дос — камарада Педро (улыбка), трес — камарада Панас… А где… где камарада Алехандро?
— Дедушка! — забыв все испанские слова, по-русски говорит Бутрым. — Погиб Александр… Понимаешь, дед?
Швейцар смотрит на нас, быстро мигая выцветшими ресницами, и вдруг, сморщившись, всхлипывает и, покачивая головой, опускается на свою скамеечку.
Мы медленно идем в свою комнату. Нечего делать. Абсолютно нечего делать, не о чем говорить. И нет сна. Стук в дверь. Голос: «Здесь?» Широко раскрыв дверь, входит Серов.
— Ну что? — останавливается у порога. — Уже пали духом?
Мы не ожидали его появления. Он подходит к каждому из нас и крепко жмет руки.
— Еле разыскал вас.
Вот это жилище! Но пусто очень, тихо. Идешь по коридору и слышишь только самого себя.
Слова Серова звучат странно, как-то некстати и, наверное, именно поэтому действуют на нас отрезвляющим образом. Панас оживает и не сводит с Анатолия взгляда. Бутрым, потянувшись за папиросой, забывает ее закурить.
— Плохо, ребята, получилось. И вы виноваты. Больше всех ты, Панас, виноват. Ведомый же ты! Понимаешь? Как ты мог его потерять из виду! И вы все виноваты. Еще плохо взаимодействуете друг с другом. Вот урок, страшный урок. Какого летчика не стало!
Александр Минаев, командир республиканской истребительной эскадрильи, погиб в воздушном бою под Мадридом в 1937 году
Никто не отводит глаз под тяжелым взглядом Серова. Анатолий откидывается назад на стуле, упираясь руками в край стола.
— Самое главное: будем их бить. А за Сашу Минаева в три раза крепче будем бить. Только не зазнаваться, не думать, что одни мы можем сбивать самолеты! И они могут. И еще как, если мы будем действовать разрозненно, недружно.
Он встает из-за стола и начинает расхаживать по комнате. Рассказывает нам о своих тактических новинках и замыслах, тут же руками показывает, как он их осуществит. И ему удается сломить наше подавленное настроение, заставить думать о будущем. Я замечаю, как Бутрым что-то чертит на бумажке, готовясь к спору.
Анатолий спохватывается:
— Ого! Времени-то сколько уже! Ну, мне надо гнать обратно.
Он останавливается на пороге:
— Проводите-ка меня. Освежитесь.
Мы спускаемся в вестибюль. Анатолий шагает по лестнице через две ступеньки. Еле поспевая за ним, я думаю о том, как вовремя он приехал!
Швейцар сидит на скамеечке, опустив голову. Уже поздно, но ему не спится.
За полночь усталость все же валит нас на кровати. Беспокойно засыпает Панас. Он что-то бормочет и часто вздрагивает. Начинаю дремать, отяжелевшие веки смыкаются. И вдруг Панас вскакивает с постели. Бледное лицо Панаса кажется окаменевшим. Мертвенный лунный свет падает в окно, роняя в комнате восковые блики. Несколько секунд Панас стоит неподвижно. Затем его пальцы судорожно сжимаются. Похоже, что он нажимает двумя руками на гашетки своих пулеметов и «стреляет» по невидимому противнику.
— Панас! Панас! — тихо окликаю я его. — Успокойся! Ложись и отдохни.
И он покорно ложится. На рассвете, как обычно, едем на аэродром. У меня не выходит из головы ночное происшествие с Панасом. Неужели он так устал, что уже начинает галлюцинировать? И еще одно странное обстоятельство смущает меня: верно ли я заметил, что Панас неправильно стреляет? Ясно ведь, что когда он ночью нажимал на несуществующие гашетки, его действиями командовала привычка.
— Скажи, пожалуйста, Петр, — обращаюсь я к Бутрыму, — как ты стреляешь в бою?
— Как я стреляю? — устало пожимает плечами Бутрым. — Как обычно, большим пальцем правой руки или всей ладонью нажимаю гашетки и веду огонь короткими очередями. А почему ты вдруг спрашиваешь об этом?
— Потому, что Панас стреляет, по-моему, иначе. Он нажимает пулеметные гашетки обеими руками и, значит, бросает в этот момент сектор газа и не управляет мотором.
Панас, всю дорогу сидевший с закрытыми глазами, резко стряхивает дремоту.
— Откуда ты это знаешь? Ты что, в кабину ко мне, что ли, заглядывал во время воздушного боя?
— А разве это не так?
— Так, — тяжело признается Панас. — А откуда ты все-таки знаешь это?
— Я видел сегодня ночью, как ты стрелял во сне.
— Ночью? Когда? — Панас изумленно смотрит на меня.
— Было дело, Панас. Но не это важно. Важно то, что в самый ответственный момент боя ты бросаешь управление мотором. Рано или поздно противник поймает тебя на этом и сшибет, как желторотого птенца. Тогда будет поздно исправлять ошибку. Понял, друг?
Низкое солнце освещало лишь верхние этажи зданий, когда через Мадрид протянулась похоронная процессия. За гробом шли летчики, авиамеханики, обслуживающий персонал аэродрома. Узнав, что хоронят русского летчика, мадридцы присоединялись к нам. Когда мы уже приближались к кладбищу, я оглянулся и не увидел конца процессии. Шли женщины в черных траурных косынках (когда они успели их надеть?), шли солдаты республиканской армии в помятых пилотках, с винтовками за плечами, шли рабочие в спецодежде, видно, возвращавшиеся домой после смены, степенно, как взрослые, шагали тихие дети.
Окраина Мадрида. Над стенами кладбища недвижима темнеющая зелень деревьев. Скрипит под ногами песок широких аллей. Остро пахнет вербена. На земле стынет мягкий, сыроватый сумрак. Между двумя цветниками пунцовых роз чернеет разверстая могила. Все огромное кладбище запружено народом. Но так тихо, что слышен полусонный щебет птиц.
Бутрым произносит короткую речь:
— Прощай, Саша. Мы не смогли уберечь тебя. Прости… Это большой и тяжелый урок, и он вот где отпечатался — в сердце. Каждый из нас возьмет теперь на себя долю твоей боевой работы. И не пригнет она нам плечи. Потому что память о тебе светла. Тебя любит Мадрид, он пришел к тебе сегодня…
Чей-то одинокий вскрик вырывается из толпы. И снова тихо. И снова говорит Петр, нервно разминая рукой комок земли.
А потом мы по очереди прощаемся с Сашей. И мимо гроба проходят испанцы — суровые солдаты и молчаливые дети, женщины с широко раскрытыми влажными глазами и спокойные старики. И сначала громко, а потом все тише и тише падает на гроб сухая земля.
Испанцы снимают с машины невысокий гранитный обелиск и устанавливают его. Последний солнечный луч чудом пробивается сквозь ветви деревьев, и на обелиске вспыхивают испанские слова:
«Здесь похоронен русский летчик Александр Минаев, погибший в бою с фашистами за Республиканскую Испанию».
Я часто вспоминаю об этой одинокой русской могиле среди буйного цветения мадридских роз, под зеленой крышей деревьев. Я уверен, что фашисты не остановились перед тем, чтобы уничтожить всякую память о русском герое и настоящем друге испанского народа. Но я твердо знаю: настоящая Испания, «Мадрид крыш», помнит об Алехандро Минаеве.
Напряжение растет
Состоялся допрос пленных итальянских летчиков и одного немца, выбросившегося на парашюте из «мессершмитта». Они сообщили: «Мессершмитт БФВ-109» недавно прошел заводские и государственные испытания в Германии. В Испанию прибыла первая партия этих истребителей. Фашистское командование возлагало большие надежды на новые самолеты и уверяло итальянских летчиков, что с помощью «мессершмиттов» в ближайшие дни вся республиканская авиация будет разгромлена. Итальянские летчики, ежедневно терпевшие поражения в воздушных боях, поверили преждевременным выводам своего начальства. Этим и объясняются их вызывающие действия перед нашей схваткой с немцами. Однако, подавленно замечали пленные, «надежды не оправдались».
Отвечая на допросе, итальянские летчики косо поглядывали на своего немецкого «героя» и твердили одно и то же: «Мы были в полной уверенности, что на сей раз одержим победу, но немцы плохо нас поддержали». Немец в свою очередь заявлял, что победа была бы неминуема, если бы итальянцы не бежали раньше времени с поля боя. На итальянцев он смотрел с презрением. На вопрос о своем прошлом заявил, что уже много лет работает летчиком-испытателем.
— Здесь, в Испании, лучшие летчики Германии, — сказал немец. — Мой товарищ, которого вам удалось сбить в том же бою, где не повезло и мне, летал еще в первую мировую войну в составе группы Рихтгофена.
— Чем же вы объясняете свою неудачу? — спросили пленного.
— Мы были неправильно информированы о качестве ваших самолетов, а главное — о подготовке русских летчиков, которые сражаются в рядах республиканской авиации, и поздно поняли это.
Допрос подтвердил многое, что мы уже слышали раньше. Главное, в Испанию прибыли лучшие немецкие летчики-асы. И мы хорошо понимали, что первый бой с «мессершмиттами» — далеко не последний. Вся борьба с ними еще впереди. Борьба тяжелая, не на жизнь, а на смерть.
И действительно, с девятого июля «мессеры» все чаще и чаще стали появляться над Мадридом. В первые дни они летали совместно с «фиатами», но вскоре перешли к самостоятельным действиям отдельными группами. Воздушные бои с немецкими монопланами становились обычным явлением.
После нескольких встреч в воздухе мы поняли главное — тактику нового противника — и раскусили многие его хитроумные повадки. Однако немцы вели бои смелее, чем итальянцы, лишь вначале. Потеряв за несколько дней около десятка самолетов, они начали проявлять большую осторожность, вступали в бой только при благоприятных условиях и заметно обособились от итальянской авиации.
Последнее обстоятельство значительно помогло нам бить тех и других по отдельности. Но противник решил подавить нас численностью. Нельзя сказать, чтобы это был глупый расчет. Количество — это количество, с ним всегда приходится считаться.
С каждым днем бои становились тяжелее. Напряжение росло. Мы хорошо понимали, что облегчения в будущем не предвидится. Пленные показывали, что фашистское командование после неудачных экспериментов с новой немецкой техникой ориентируется на создание большого численного перевеса франкистской авиации. «В скором времени, — говорили они, — в Испанию станут прибывать самолеты из Германии и Италии не десятками, а сотнями». И этому можно было верить.
На что мы могли рассчитывать и надеяться? Только на то, чем располагала республика. Предательски заблокированная английскими лордами и «социалистами» — блюмовцами, республиканская Испания изнемогала от нехватки вооружения, военных материалов. В дни летних боев у стен Мадрида, когда весь фронт взывал: «Дайте снарядов!», «Дайте винтовок!», — заокеанские благодетели издевательски прислали в Мадрид ящики со свиной тушенкой, той самой тушенкой, которой потом, во время второй мировой войны, те же американские стратеги пытались замолить свои грехи перед человечеством.
Впрочем, для полноты картины следует сказать, что в Испании были американские самолеты. Но что это были за самолеты… Горе! Они могли служить только в тылу, для перевозки грузов.
— Старье! — сказал о них представитель командования. — Вероятно, сбыли то, что предназначалось на слом…
В то время как франкисты целыми партиями получают новенькие машины, мы летаем на изношенных самолетах. Да и тех мало. Чтобы не ослабить эскадрилью, механики спешно по ночам латают пробоины, исправляют повреждения, думая только об одном — чтобы к утру самолет вновь мог подняться в воздух: замены ему нет.
Трудно, тяжело. Но Мадрид непреклонен. Мадрид гордо заявляет: «Они не пройдут!»
Однако нам ясно, что, используя свое численное превосходство, мощное (по тому времени) вооружение «мессеров» — пушка, два крупнокалиберных пулемета, — немцы во что бы то ни стало попытаются сломить наше сопротивление.
В эти дни во всю ширь и мощь раскрывается творческий талант Анатолия Серова. На земле мы видим его редко, очень редко, чаще встречаемся в воздухе, в бою: мелькнет рядом — и скрылся. Но до нас доходят слухи.
— На Серова ничто не действует — ни усталость, ни постоянная опасность, — рассказывают о нем. — Кажется, что воздух боя для него самый целительный. Все устали, похудели. Только он раздается в плечах.
После Брунетской операции его назначают командиром той же эскадрильи, а Ивана Еременко командиром группы самолетов И-16.
Еще приятнее и радостнее слышать о его тактических новинках. Это он бросил клич, облетевший все республиканские эскадрильи: смело принимать лобовые встречи с фашистами, самим идти в лобовые и расстреливать врага только в упор, только наверняка! Серов смело ломает установившиеся тактические нормы. Воздушные бои проходят на вираже, или, как летчики говорят, «на карусели». Анатолий впервые с успехом применяет вертикальный маневр, получивший распространение во время Отечественной войны. Чтобы обеспечить быстрый взлет всей эскадрильи, он рассредоточивает самолеты по всему летному полю с таким расчетом, чтобы можно было взлетать с мест стоянок, не выруливая на центр аэродрома. При таком рассредоточении взлет всей эскадрильи занимал не более полутора-двух минут и позволял взлетать отдельным самолетам даже в момент появления над аэродромом фашистских бомбардировщиков (и эта новинка прочно вошла в арсенал авиации во время второй мировой войны).
Мы стараемся воевать, как воюет он, — смело, дерзко, творчески. И, несмотря на то, что бои принимают все более ожесточенный характер, мы пока не имеем поражений, а противник потерял от нашего огня еще семь самолетов. Но напряжение продолжает расти.
Приблизительно в середине июля фашистам удалось все же задержать продвижение республиканских войск в районе Брунете. На отдельных участках бойцы пытались продолжать наступление, но безуспешно — передняя линия противника была насыщена огневыми средствами. Атаки захлебывались в крови.
Оставалось перейти к обороне, чтобы удержать завоеванные рубежи. Мадрид замер, предчувствуя новый штурм франкистов. Об этом свидетельствует активность «пятой колонны». Она поднимает свою змеиную голову всякий раз, когда мятежники замахиваются на Мадрид.
Ночи становятся тревожными. Над Столовой горой, что возвышается за городом как передовой форпост Гвадаррамы, ночью вспыхивают ракеты. Там поблизости аэродром Алкала. Ясно, что ракетчики пытаются навести вражеские бомбардировщики на нашу авиационную базу, вместе с которой, кстати говоря, размещается и наш авиационный штаб. Шпионы развивают свою деятельность и в районе Барахаса. Мимо нашего аэродрома проходит шоссе. Бутрым замечает, что некоторые автомашины, проезжая по нему вечером, замедляют скорость и зажигают фары. Мы подстерегаем одну из таких машин. Гонимся за ней, стреляем по покрышкам, но нагнать ее нам не удается.
Напряжение растет.
Двадцать четвертого июля противник начал контрнаступление в районе Брунете. Одновременно усилились атаки в Университетском городке и Каса-дель-Кампо. Марокканцы пытались даже перейти Мансанарес, но их довольно быстро отрезвили пулеметным огнем.
Каждый день мы летаем в район Брунете и каждое утро перед вылетом с тревогой думаем: слишком силен натиск врага.
Именно в эти дни мы вновь по достоинству оценили скромный и самоотверженный труд нашего переводчика Ивана Кумарьяна. Ведь это были дни, когда наша эскадрилья в воздухе и на земле стала сплачиваться в единое, крепкое подразделение. И в этом нам так помог Ваня Кумарьян.
Скатертью дорога
В эти тяжелые дни произошло то, чего следовало ожидать. Уезжает Джон. Подал рапорт командованию с просьбой об отчислении из состава республиканской авиации. Отказать в просьбе нельзя: Джон — доброволец.
— Хорошо, что республиканцы не догадались заключить со мной контракт на определенный срок работы, — нисколько не смущаясь, говорит он, — это связало бы меня.
Пока ответ на рапорт не получен, американец продолжает исполнять свои обязанности. «Я не люблю получать незаработанные деньги, — говорит он. — Ведь командование уплатит мне все, что положено до дня отъезда».
Не знаю, чувствовал ли Джон тот холодок, с которым относились к нему и мы, и испанцы. Думаю, что не чувствовал: не та кожа. К тому же внешне мы никогда не выказывали неприязни к нему, а в боевой обстановке защищали так же, как всякого другого бойца эскадрильи. Последнее обстоятельство чрезвычайно нравилось Джону.
— Вы очень дружные люди, — нередко говорил он нам. — С вами хорошо воевать.
Это могло быть и лестью, но я думаю, что американец в данном случае говорил искренне. С нами ему действительно было неплохо в бою, и к тому же за два месяца Джон совсем недурно заработал.
Я уже говорил, что американец оказался единственным человеком в наших интернациональных эскадрильях, который не отказался от денежной награды за сбитые самолеты. Джон пришел к нам в эскадрилью, уже вкусив сладость крупных заработков (за каждый вражеский самолет республиканское правительство платило 10 000 песет). Три тысячи песет ежемесячного жалованья плюс награды, плюс спекулятивные махинации (в таких делах Джон был мастак) принесли ему кругленькую сумму. Об этом мы узнали довольно скоро. И вот как. Еще в первые дни знакомства мы заметили, что Джон ни ночью ни днем не расстается с двумя сафьяновыми мешочками, висевшими у него под замшевой курткой на широком поясе. Один мешочек был чем-то туго набит, другой пуст. Амулеты? Талисманы? Едва ли, хотя некоторые испанские летчики верили в спасительную силу различных амулетов и возили их с собой даже в кабинах самолетов. Джон казался прозаичнее такой романтической и старомодной вещицы, как талисман.
— Тут что-то другое. Но что? — гадали мы.
Наш интерес к мешочкам подогревал сам американец. На все наши просьбы показать или просто сказать, что он прячет в них, Джон отвечал категорическим отказом.
Разгадать тайну решился Панас. Он поступил просто. В одном из боев над Мадридом Джон сбил фашистский самолет (10 000 песет). Приземлившись на аэродроме, он бросился к Панасу со словами горячей благодарности за помощь, оказанную в бою. Панас принял это как должное и тут же заметил американцу, что тот может действительно отблагодарить лично его, Панаса, и притом без труда — стоит только Джону показать, что таится в его мешочках. Панас ночей не может спать, не узнав этой тайны!
Проникновенная, лукавая речь Панаса не произвела на американца никакого впечатления.
— Нет, не могу! — сказал он.
— Не можете, сэр Джон? — удивился Панас. — Ну, тогда мы произведем сейчас маленькую операцию.
И жестами довольно выразительно показал, что намерен снять с Джона штаны.
— Камарадас! Ко мне! — тотчас же издал Панас воинственный клич.
Джон растерялся: он уже успел познакомиться с характером Панаса.
— Не надо, не надо, я покажу, — забормотал он.
И началось священнодействие. Джон бережно расстелил на земле чистый носовой платок, отстегнул от пояса тот мешочек, который был чем-то набит, и начал двумя пальцами вытаскивать из него содержимое. Мы оторопели. На платке росла горка самых разнообразных золотых вещей. Здесь были обручальные кольца, и смятые браслеты, и золотые крышки от часов, и монеты, и цепочки с золотыми крестиками, и еще бог знает какие ювелирные изделия. Ломаное золото бесстыдно сияло на солнце.
— Ну, как? — спросил нас американец, расплываясь в улыбке. И тут же, значительно быстрее, чем выкладывал, начал запихивать золото обратно в мешочек.
Пока он пристегивал его на старое место, мы пришли в себя.
— Сэр! К чему вы собираете эту коллекцию? — не скрывая разочарования, спросил Панас.
— Странный вопрос вы задаете, коллега! — удивился Джон. — Это не коллекция. Я не настолько богат, чтобы смотреть на эти вещи с точки зрения коллекционера. Это доллары, самые настоящие доллары. Летная карьера меня никак не устраивает. Я решил бросить это опасное занятие, как только сколочу приличную сумму.
— И что же вы будете делать после этого? — скучным голосом спросил Панас.
— Как что! — с воодушевлением воскликнул Джон. — Открою, например, галантерейный магазин. Разве это плохо?
— М-да… Этот американец — штучка, — промолвил Панас, когда мы отошли от Джона. — Тип!
С того дня Панас не мог пройти мимо Джона, чтобы не съязвить по его адресу. Не знаю, по какой причине, но американец с удовольствием принимал его ехидные шуточки. Может быть, соль этих шуток не доходила до Джона. Вероятнее всего. Но Джон был все же человеком, ему хотелось с кем-нибудь поговорить, а единственным летчиком, проявлявшим в его присутствии словоохотливость, был Панас. На земле Бутрым, например, просто не замечал американца — вроде того и нет на свете.
Но в воздухе мы его не только замечали, но и берегли. Джон не любил рисковать в бою, но и трусом его никак нельзя было назвать. Деньги он ценил не дороже жизни — они были его жизнью. Трусить — значило бы не заработать. Не заработать — зачем жить? Так, видимо, рассуждал Джон.
Скоро и второй его сафьяновый мешочек начал заметно толстеть. С каждым днем Джон увереннее и легче ходил по земле. И вдруг — отъезд. В чем дело? Что гонит американца из Испании?
— Трудно стало воевать. Вот и бежит от опасностей, — замечает Бутрым.
Но., видимо, причина отъезда кроется еще и в чем-то другом: жажда наживы у Джона все же сильнее всего.
Разгадку приносит Панас. В полдень приходит приказ об отчислении Джона. Джон не теряет времени: время — тоже деньги. Он быстро собирается в дорогу, спешит в Валенсию.
Панас не простит себе, если Джон уедет без его «напутственного слова».
— Алло, Джон! Как ваши дела? Как золотишко? — ухмыляется он, застав американца за сборами к отъезду.
Джон, улыбаясь, расстегивает «молнию» своей замшевой куртки и показывает второй мешочек, до половины набитый золотом.
— Нужно было бы и второй набить полностью, а тогда уж ехать к себе в Америку! — резонно замечает Панас.
— Я еду не в Америку, — отвечает Джон.
— А куда же?
— В Китай.
Панас чуть не подпрыгивает на месте:
— Какая нелегкая несет вас с одного края земли на другой?
— Здесь стало трудно добывать золото, — вздыхает Джон. — Республиканское правительство запретило торговать им.
— Но ведь вы можете получать свое жалованье не песетами, а долларами!
— Да, но мне это невыгодно, получается на одну треть меньше.
Да, Испания ему действительно стала неподходящим местом!
— А что вы будете делать в Китае? — спрашивает его Панас.
— Тоже золото. Китай воюет с Японией, и я слышал, что там хорошо платят летчикам.
— Ну что ж, ни пуха ни пера! Бейте японцев, они ничем не лучше здешних фашистов.
Панас замолкает: ему все же хочется хоть на прощанье сказать американцу несколько дружелюбных слов.
— Если мне когда-нибудь придется быть в Америке, — говорит он наконец Джону, — я обязательно найду ваш галантерейный магазин и куплю себе на память подтяжки для штанов.
— О'кей! — радостно восклицает Джон. — Скажите, Панас, вы можете мне ответить на один вопрос: в Китае воюют русские летчики?
— А почему вас интересует это?
— С вами удобно воевать! — повторяет Джон свою старую мысль. — Сколько раз меня выручали в бою русские летчики! Я всегда буду помнить, как мистер Серов привез однажды в своем самолете десяток пробоин, и только потому, что бросился ко мне на выручку.
— Кто его знает, может, и русских в Китае вы встретите. Ведь и там есть фашисты, только японской масти, — говорит Панас.
Разговор что-то не клеится. Панас жмет руку американцу и в последний раз замечает:
— Может быть, когда-нибудь и встретимся — ведь пути летчиков могут пересекаться над всем земным шаром!
Бутрым молчит, глядя на носок ботинка, и когда американец уходит, медленно цедит сквозь зубы:
— Уехал в такое тяжелое время, когда каждый летчик для республики дороже, чем десяток его сафьяновых мешочков…
Рано утром мы узнали, что сдана Сеговия.
В эти же дни погиб Петрович. Мы ни разу не видели его. Серов говорил, что красивый парень. Петрович погиб геройски в бою над Вилья-Нуэва дель Каньяда. Геройски и, как это иногда бывает, нелепо. Преследуя «фиат», он вогнал его в землю, но, видимо, уже сам не мог выйти из пике и тоже рухнул.
Смелый почин
Эскадрилья Серова разместилась возле самого аэродрома Сото, в большой красивой вилле со множеством затейливых башенок, веранд, стеклянных галерей.
Мы завидуем серовцам: просыпаются — не надо никуда ехать, кончились полеты — могут сразу ложиться спать.
Мы не высыпаемся. Три-четыре часа в сутки — разве это сон? Панас как-то сказал, что если когда-нибудь эскадрилье предоставят выходной день, он будет спать все двадцать четыре часа.
— Мало, — вздохнул Волощенко. — Мне бы дня два поспать.
На этот раз он не острил.
Месяц назад мы высчитали по календарю, что к концу июля у нас прибавится лишний час свободного времени. Целый час! Тридцать минут — утром и тридцать — вечером.
Но вот и конец июля. Южная ночь подросла, вытянулась на шестьдесят с лишним минут, но сон наш по-прежнему короче воробьиного носа. Даже стало хуже, чем прежде: только отъедешь вечером от аэродрома, а над Мадридом уже слышится: ву-у-у, ву-у-у, ву-у-у. И всю ночь забивает уши ноющий, нудный, какой-то ревматический звук.
Это фашистские бомбардировщики. Мы сковали их действия в дневных полетах. Теперь при солнечном свете они появляются только с истребителями. Ночью полеты фашистов особого вреда не приносят — они просто рассыпают бомбы куда попало. Однако фашистам удается держать и город и республиканские войска на переднем крае в напряжении. По ночам беспокойно стало и на аэродроме: франкисты дерзят — пытаются налетать на наши базы. Правда, обычно их бомбы рвутся далеко от самолетов или вообще за пределами аэродрома. Но авиамеханики, вынужденные ночевать возле стоянок, — им ведь приходится вставать раньше нас, чтобы успеть до нашего приезда подготовить машины к вылету, — тяжело переносят непрерывную бессонницу. Хуан тает на глазах, и я замечаю, как иногда во время работы его руки механически повторяют уже ненужные движения: он засыпает.
В конце концов, так долго продолжаться не может! Нельзя допустить, чтобы фашисты, летающие ночью, считали себя в полной безопасности. Но что делать? Что делать, если республиканская армия не располагает достаточным количеством необходимых средств для борьбы с воздушным противником ночью? Прожекторных установок не хватает даже для обороны портов. Зенитные средства слабы, к тому же без прожектора зенитчики бьют наугад — и, может быть, не столько успокаивают, сколько нервируют население своим неорганизованным, бесполезным огнем. Что делать, если нет почти никакой надежды на улучшение противовоздушной обороны города?
Нас волнует, мучает этот вопрос. Мучает потому, что в Мадриде только мы, летчики, можем на этот вопрос ответить. И не в силах ответить.
У себя на Родине каждый из нас летал ночью. Но в каких условиях! Взлет и посадка производились на больших ровных аэродромах, при хорошем освещении! Эти условия считались обязательной, непременной гарантией безопасности полетов.
Наш аэродром Барахас невелик, он строился в расчете на пассажирские и почтовые самолеты. У эскадрильи Серова еще худшее положение: по сути дела, у них нет аэродрома. Они базируются на бывшем помещичьем ипподроме. Трава на нем растет великолепная, с цветочками, зато взлетать и садиться на этом поле нелегко. Тем более что размеры его тоже ограничены: с трех сторон оно сжато отрогами Гвадаррамы.
Но главная беда не в этом. Мы сможем и ночью подниматься со своих аэродромов, если взлетная полоса будет даже недостаточно освещена. Но вообще-то необходимо освещение при посадке. Здесь уж никак не обойдешься без него. Никто еще за всю историю авиации не осмелился приземляться на затемненный аэродром, да и как можно осмелиться совершить посадку наугад, не видя самой земли!
Можно было бы зажечь костры вдоль посадочной полосы, как это делалось у нас на Родине в двадцатые годы, в начале освоения ночных полетов, но это очень рискованно, такой способ освещения слишком демаскирует аэродром, не говоря уже о самой примитивности.
Что же делать, что делать?
Мы ломаем голову, пытаясь найти ответ на этот вопрос, — и вдруг слух: Серов и Якушин решили летать ночью. Это кажется невероятным. С трудом дозваниваюсь до Сото.
— Да, Борис, слух верный, — слышу голос Серова. — Решил летать. Не могу сидеть и ждать, когда бомбы начнут сыпаться на наши головы. Что у нас глаз нет, что ли! Мы же летали ночью!
— Да, но освещение…
— Я кое-что придумал. Поставлю возле посадочной полосы две-три автомашины с зажженными фарами, одну против другой, так, чтобы они не очень выдавали расположение аэродрома.
— И все?
— Все. Больше ничего нельзя сделать. Иначе бомбы посыплются на нас не когда-нибудь, а в ту же ночь, как мы начнем экспериментировать. Ты же понимаешь.
Он молчит несколько секунд, я уже думаю, что нас разъединили, и вдруг снова слышу его голос:
— Знаешь, дело не в освещении. Я думаю о другом: как уговорить начальство? Ведь ни за что не пойдет оно на наш опыт. Даже летчики сомневаются в успехе. Я хорошо знаю, что еще никто никогда не вел ночных боев. Но нам больше ничего не остается. Я буду добиваться у командования разрешения на вылет. Попытайся и ты. Может быть, обоюдными усилиями мы уговорим, вырвем согласие.
Звоню в штаб, прошу принять меня.
— Серьезное дело? — спрашивает командующий.
— Да, очень серьезное.
— Какое? Если можете, говорите по телефону.
— Хочу просить вашего разрешения на вылет ночью.
— Вы что, вместе с Серовым с ума, что ли, сошли? Особенно вы! Ведь для ваших самолетов требуется аэродром еще больших размеров, чем для «чатос». Я и разговаривать не хочу на эту тему. Не разрешаю приезжать.
На другом конце провода слышится щелчок, трубка повешена. Теперь вся надежда на Серова. Добьется ли он разрешения? Какое-то внутреннее убеждение подсказывает мне, что добьется, хотя это будет стоить ему немалых трудов.
Он и Якушин нажимают на командование — один раз, два, три. И командование наконец соглашается на пробный полет с лучшего в Мадриде аэродрома Алкала. Вся организация и ответственность за ночной эксперимент возлагается на Серова.
Ответственность, которую добровольно возложили на себя Серов и Якушин, была нешуточной. Если пробный полет не удастся, командование ни за что не пойдет на повторение эксперимента. Ясно было и другое: летчики подвергают себя большой опасности. Но риск, вернее, безбоязненное стремление к риску всегда жило в Серове, проявлялось в его дерзких и неожиданных, почти неповторимых подвигах. Он был летчиком-новатором, а новые пути всегда таят неизвестность.
И вот от Гвадаррамы уже тянутся и растут фиолетовые густеющие тени. Затихает последний мотор, Тишину нарушает лишь ворчанье трех автомашин. Серов производит последнюю репетицию: ставит машины возле посадочной полосы под некоторым углом и велит шоферам включить фары. Три луча последовательно один за другим падают на посадочную полосу.
— Выключите! — тотчас же командует Серов: боится, как бы раньше времени не сели аккумуляторы.
Фары молниеносно вбирают в себя лучи. Становится еще темнее. И начинается ожидание. Якушин молча прохаживается возле своего самолета. Все время курит, и только по этому можно догадаться, что он волнуется. Серов то и дело смотрит на часы. На востоке загораются первые звезды — в их мерцающем свете безоблачное небо кажется отполированным.
— Пора, Миша, — говорит Серов, приминая каблуком тлеющий на земле окурок.
Надевая парашют, Анатолий уточняет последние детали предстоящего полета:
— Значит, условились: ты патрулируешь на высоте грех тысяч, а я буду искать бомбардировщиков ниже, на двух тысячах метров.
И Серов и Якушин твердо сходятся на одном: заметив вражеский бомбардировщик, всячески стремиться вплотную сблизиться с ним. Стараться подходить к врагу снизу, маскируясь на фоне темной земли. Бить в упор, бить наверняка, ибо последующие маневры уже могут оказаться лишними — бомбардировщик легко ускользнет и скроется.
Снова включаются фары; вблизи свет их кажется сильным, но стоит отойти немного в сторону — видно, что они освещают лишь небольшой участок. Короткие лучи упираются в густую темь, как в стену. А если отойти еще дальше — светлое пятно на аэродроме, наверное, кажется совсем бледным. Но как ни в чем не бывало Анатолий поспешно направляется к истребителю.
Одно-два мгновения машина Якушина скользит в свете фар и устремляется в ночную тьму. За Михаилом — Серов. Самолеты поднимаются все выше и выше. Звук моторов становится слабее и вскоре совсем пропадает.
Никто не расходится со стоянки. Люди напряженно вслушиваются в тишину, ждут. Думают о товарищах: вдруг заблудятся, не найдут своего аэродрома. О благополучной посадке где-то вне аэродрома не может быть и речи. Повсюду горы, а редкие низменные места вдоль и поперек пересечены неровными складками местности и пересохшими ручьями.
Небо безмолвное, глухое. Словно бархатный шатер, оно поглощает, скрадывает каждый звук. Видимо, Серов и Якушин ушли к линии фронта. И вдруг ухо ловит далекое гуденье. Кто это? Люди на аэродроме замирают. И в тишине кто-то громко, с досадой басит:
— Немец!
Да, ничего не поделаешь, немецкий бомбардировщик. Шум моторов с каждой минутой нарастает. Кляня фашистов последними словами, шоферы со злостью выключают свет. Бомбардировщик проходит аэродром и разворачивается на обратный курс; не торопится, высматривает, куда лучше сбросить бомбы.
— Подождите! Тише! Тише! Слышите? — кричит кто-то.
Вслушиваемся. Точно. В шум немецких моторов вплетается другой звук — знакомый звук «чато». Кто-то из двух, Серов или Якушин, ищут немца. Видят ли они его?
— Бывает же так: совсем рядом — и не замечают друг друга, — раздается чей-то голос.
— Это тебе не днем, в такой темноте можно и лбами стукнуться, — снова звучит бас.
Немец уходит от аэродрома. В том же направлении удаляется и «чато».
— Неужели уйдет? — вслух высказывает кто-то общее опасение.
И в тот же момент молнией вспыхивает огненная трасса, за ней вторая, третья. Отчетливо слышится пулеметная трескотня.
— Горит! Горит! — восторженно кричат летчики.
Кто горит — ясно: «чато» уже над аэродромом. Безуспешно пытаясь сбить пламя, бомбардировщик набирает скорость. Огонь вытягивается за машиной длинным желтым хвостом. Поздно! Теряя управление, бомбардировщик валится вниз. Небо гаснет, издали доносятся глухие удары взрывающихся бомб.
Не отрываясь, все присутствующие на аэродроме продолжают смотреть в ту сторону, где только что разыгрался бой. И люди с удивлением замечают, что ночь уже не такая темная, как казалось. Ясная, замечательная ночь!
Никто и не думает уходить. Шоферы вновь включили свет, и он буравит темноту, отодвигая ее подальше.
Первым совершает посадку Серов. Летчики, авиамеханики бегут к нему. Улыбаясь, Анатолий отмахивается:
— Не я! Не я! Михаила будем качать. Он сбил.
Несмотря на отсутствие специальных посадочных огней, Якушин приземляется мастерски, останавливаясь возле самых автомашин. Широко шагая, Анатолий идет навстречу ему. Оба сияют. Серов крепко обнимает своего друга:
— Поздравляю, поздравляю, Миша! А мне не повезло!
— Хватит и на твою долю, — смеется Якушин. — Уверен, что они не сразу поймут, в чем дело, и еще будут летать.
Почин сделан. И какой почин! Доказавший полную возможность борьбы истребителей с бомбардировщиками в ночных условиях!
Первый в истории ночной бой. Первые строки в новой главе истории авиации.
В ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое июля…
На другой день стало известно, что четыре человека из состава экипажа немецкого бомбардировщика были убиты еще в воздухе, пятый выбросился с парашютом и был взят в плен. Удар Якушина оказался точным.
Республиканское правительство в тот же день, двадцать шестого июля, наградило Якушина и Серова именными золотыми часами. Награда смутила Анатолия.
— Я здесь ни при чем, — повторял он, отвечая на поздравления. — Виновник торжества — Михаил, он мне заработал часы.
Несмотря на тяжелый летный день, Анатолий твердо решил вылететь снова этой ночью.
— Ты же не спишь третьи сутки, — возразил ему кто-то.
Серов отмахнулся:
— У меня долг, надо расквитаться.
Нетерпение томило его. Лишь только окончились дневные полеты, он сразу же принялся за подготовку к ночному вылету. Анатолий избрал новый план патрулирования — не над городом, как это было прошлой ночью, а над линией фронта. Там привлекала более вероятная встреча с врагом.
К вечеру погода стала портиться. По небу медленно плыли густые шапки облаков. От предгорий потянул необычный в эту пору знобящий холодок. Непроглядный серый закат незаметно сменился густыми сумерками. Горы словно шагнули к аэродрому, обступив его глухой, грозной стеной.
Встревоженные переменой погоды, испанские друзья Серова и Якушина посоветовали им пропустить ночь, но ни тот ни другой и слышать об этом не хотели. Если Серов принял решение, переубеждать его бесполезно.
И вот они снова взлетели. На этот раз летчики проводили их с еще большей тревогой.
— Ну и ночка, будто сатана чернила пролил! — сказал кто-то и вздохнул.
Ровный гул моторов несколько успокаивал.
— Сегодня командир без победы не вернется, — сказал один из испанских летчиков, и эта фраза заглушила последний, слабый звук моторов, долетавший с неба.
Вновь наступила тишина, и вновь началось ожидание. Если бы летчики знали в тот час, какой тяжелой окажется эта ночь! Серов рассказывал потом. Набрав высоту в две тысячи метров, он оставил Якушина над Мадридом, а сам пошел дальше, к линии фронта. На земле — ни огонька. Кое-где по дорогам вспыхивали автомобильные фары и тотчас же гасли. Напряженно вглядываясь в темноту, он видел под крыльями самолета лишь смутные очертания города. Через несколько минут он был уже над передним краем. Прошел над ним в одном направлении, в другом, тщательно обыскивая небо. Пламя из выхлопных патрубков мешало смотреть вперед. Приходилось ежеминутно делать отвороты в стороны. От напряжения начало ломить глаза. И вдруг нежданное облегчение — выглянула луна. Почти в ту же минуту, когда она посеребрила края облаков, Серов увидел совсем недалеко от себя черный силуэт вражеского бомбардировщика, летевшего к Мадриду. Цель найдена! И Анатолий теперь ни на секунду не выпускал ее из виду. Быстро, незаметно приблизился к бомбардировщику, прильнув к прицелу и выбрав удобный момент, нажал на гашетку. Сразу из четырех пулеметных стволов брызнули огненные струи. Немецкий самолет накренился и повалился вниз. С правой стороны фашистской машины вспыхнуло и внезапно погасло пламя. Серов уже приготовился добавить несколько очередей, но в это время над фашистским бомбардировщиком поднялся целый огненный столб.
И все? Так просто? Серов разочаровался. Победа досталась без большой борьбы. Такой легкий успех не мог удовлетворить Анатолия. Патроны еще оставались. И, развернувшись, он снова стал искать противника. Через несколько минут ему удалось обнаружить второй бомбардировщик. Но фашистские летчики, видимо, были уже начеку. Своевременно заметив «чато», они тотчас же пустились наутек. На одно мгновение Серов потерял врага из виду, но луна вновь помогла ему отыскать вражеский самолет. Анатолий гнался за бомбардировщиком, позабыв обо всем. Только бы догнать! Но расстояние сокращалось медленно — гитлеровцы выжимали из своей машины предельную скорость. И вдруг луна опять предательски скрылась, темнота, словно занавес, закрыла цель. Бомбардировщик пропал в облаках.
И в этот момент Серов взглянул на приборы. Взглянул — и невольно похолодел: горючее было на исходе. Под самолетом он различил контуры незнакомой местности. Азарт преследования далеко завел летчика. «До своего аэродрома не дотянуть», — понял Серов. Круто развернувшись, он пошел прямо на Мадрид. Остатки бензина убывали катастрофически. С какой радостью Серов увидел вдали костер! Вначале удивился: что такое? Но тут же сообразил: догорает сбитый бомбардировщик.
Сразу отлегло от сердца. Под ним — своя территория, он твердо знал, что бомбардировщик упал в расположении республиканцев. И, так как бензина уже почти не оставалось, решил садиться где-нибудь поблизости от догорающего самолета.
Но выбрать подходящую площадку для приземления было почти невозможно. Планируя на малой скорости, Серов заметил узкую светлую полоску на темном фоне земли. Иного выбора уже не было, надо было садиться. Сделав последние расчеты, Анатолий перед самой землей выключил мотор. Колеса коснулись земли. Самолет пробежал нёсколько десятков метров и Остановился.
Не веря свершившемуся, Серов неподвижно сидел в кабине. Он не только дотянул до своих, не только приземлился, но его «чато» остался совершенно целым и невредимым.
Серов вышел из машины и прошелся из края в край по узкой крестьянской полоске, устланной золотистой соломой сжатого хлеба. Вряд ли днем он решился бы произвести здесь посадку. Самолет стоял в пяти метрах от глубокого оврага.
Совсем близко слышна была ночная вялая перестрелка. Где-то неподалеку проходила линия фронта. Оставив машину, Анатолий пошел на восток: надо поскорее найти людей, которые помогли бы до рассвета оттащить самолет подальше от переднего края.
Пробираясь меж камней и глубоких воронок, Серов осторожно продвигался вперед. Вдруг перед ним мелькнули тени. Анатолий на всякий случай вынул пистолет. Тени снова скользнули и скрылись где-то совсем рядом.
Летчика тихо окликнули. Анатолий замер на секунду, но тотчас же решился ответить:
— Компаньерос!..
Впереди зашевелились, и Серов громко сказал по-испански:
— Компаньерос. Авиадор русо!
— Наш летчик! — раздались в ответ радостные возгласы.
Из темноты выскочили несколько республиканских бойцов, к ним, появившись словно из-под земли, присоединились другие.
Через минуту в блиндаже командира пехотной части уже зазвонили телефоны. Соседняя танковая часть обещала немедленно привезти бензин. Солдаты отправились расчищать площадку, на которой стоял «чато». Бережно они отгребали в сторону сжатую пшеницу, выворачивали камни, унося их к оврагу. С помощью бойцов Анатолий заправил самолет бензином и развернул его носом в обратную сторону.
— Теперь я могу взлететь, — сказал он.
— Взлететь? — переспросил командир и задумался. — Я ничего не смыслю в авиации, но мне кажется, что вы, камарада Серов, идете на большой риск. Площадка крайне мала. Не лучше ли попробовать с нашей помощью вытащить самолет на ближайшую дорогу, там разобрать его и в таком виде отвезти на аэродром.
— Это невозможно! На несколько дней я останусь без машины и не смогу летать. И потом, — Серов улыбнулся, — если я благополучно приземлился, то, наверное, и поднимусь нормально.
— Вы, несомненно, коммунист?
— Да.
— Это ясно. Я не буду настаивать на своем предложении. Я тоже коммунист и хорошо понимаю вас. Только, прошу, будьте настороже: фашисты очень близко от нас и могут в любую минуту открыть по самолету не только артиллерийский, но и пулеметный огонь. Вашу вынужденную посадку они, конечно, заметили.
— А почему же они сейчас молчат?
— Ждут рассвета. Кроме того, они, наверное, думают, что самолет неисправный и потому не сможет улететь.
— Тем лучше, — усмехнулся Анатолий.
— Можно пожать вам руку? — неожиданно спросил молоденький солдат. — Я давно мечтал пожать руку советскому человеку.
Волнение солдата передалось Серову. По приглашению бойцов Серов пошел по траншеям от одного блиндажа к другому. Летчику наперебой задавали вопросы. Ему протягивали походные фляги, наполненные вином («Нет вина приятнее, чем в Андалузии!»), предлагали закурить сигареты («Попробуйте наших, солдатских!»), карманы его куртки и брюк были набиты яблоками и апельсинами («Вы не можете отказаться: мне их прислали на фронт родные…»).
Небо бледнело, предвещая чистую зарю.
В это время Михаил Якушин, облокотившись на крыло своего самолета, стоял в тяжелом раздумье.
В полете он видел, как далеко в стороне фронта загорелся в воздухе чей-то самолет. Горел он не так, как сбитый им прошлой ночью бомбардировщик, — вспыхнул и погас, а затем снова разгорелся ярким пламенем. С недобрым предчувствием Якушин посадил машину и сразу же спросил:
— Анатолий не вернулся?
— Нет, — сказали ему.
Были запрошены все аэродромы. Отовсюду один ответ:
— Не видели, не знаем.
За полночь ожидание стало невыносимым. Вернувшись на командный пункт, Якушин то садился возле телефона, то вставал, нервно расхаживая из угла в угол. Молчал телефон. Молчали люди. Не расходились, ждали.
Во втором часу ночи раздался звонок, первый за все эти тревожные часы. Якушин схватил трубку, люди затаили дыхание. Звонили из штаба Центрального фронта.
— Что? Жив? — крикнул обычно сдержанный Якушин. — И сбил! А где приземлился? Возле линии фронта? Спасибо, спасибо за известие!
…Предрассветный сумрак. Клочья тумана выстелили долины. Темнота отползла в ущелья, притаившись там.
Усевшись в кабину, Серов запустил мотор и, не теряя ни минуты, с места пошел на взлет. Мотор работал отлично. Самолет послушно бежал по земле. У самой границы площадки Анатолий коротким, точным движением заставил машину отделиться от земли. «Чато» послушно повис в воздухе над оврагом. Еще два-три лишних метра пробежки по земле — и трудно было бы надеяться на что-нибудь хорошее. Но Серов мастер своего дела, недаром он трижды измерил шагами длину площадки.
Фашисты не успели ахнуть, как Анатолий оказался уже над ними и ударил по окопам из всех своих пулеметов: не возвращаться же домой с неизрасходованным боекомплектом! Расстреляв все патроны, он развернулся обратно, покачал на прощание крыльями республиканцам и пошел на восток, в направлении Мадрида.
А на аэродроме возле посадочной полосы уже собралась вся эскадрилья. Когда Анатолий приземлился, десятки сильных рук подхватили его и несколько раз подбросили вверх.
— Хватит, хватит, ребята! Во мне же весу… Надорветесь! — уговаривал Серов. — Знаете, чему я больше всего радуюсь сейчас? — спросил он неожиданно. — Радуюсь, что не вижу здесь повешенных носов! Мне кажется, — и он, улыбаясь, посмотрел на тех, кто еще вчера сомневался в успехе ночных полетов, — что с сегодняшнего дня ни у кого не может быть сомнений в дальнейшем успехе ночной работы.
— Что ты, Толя! Какие могут быть сомнения! Две ночи — два бомбардировщика. Это же счет!
— Серова в штаб! — крикнул дежурный.
— Что такое? — спросил Анатолий.
— Привезли немцев, тех, что вы сбили. Хотят вас видеть.
— А спросили меня, хочу я видеть их или нет? — сердито повернулся Серов. И сдержался, понимая, что дежурный здесь ни при чем. — Ладно. Иду.
Два уцелевших немецких офицера считали себя асами. Держались они нагло, говоря, что дадут показания лишь в том случае, если им покажут летчика, который поставил их в положение пленных.
Анатолий вошел в комнату, где сидели пленные. Увидев его, оба немецких офицера, словно по команде, вытянулись в струнку и отдали честь. Серов обратился к переводчику и спросил, что гитлеровцам от него нужно. Один из офицеров, командир корабля, начал с апломбом, видимо, приготовившись к долгому разговору:
— Я приехал сюда из великой Германии, чтобы бороться с коммунистами.
Анатолий резко оборвал его:
— Ваши политические убеждения меня не интересуют. Они известны всем, кто страдает от войны, от фашизма. Говорите конкретнее, что вам нужно?
Немец осекся, в голосе его появились льстивые нотки:
— Я очень много летал, и никто не мог меня сбить. Скажите, как вам удалось это сделать?
— У меня нет времени заниматься воспоминаниями.
— Вы поймете нас. Вы летчик.
— Я коммунист.
— Оставьте нам жизнь.
— Ах, вот вы о чем! Это будет решать испанский народ и его суд.
Серов повернулся и вышел из штаба.
Ошибка старшего
Событий много, так много, что обо всем и не напишешь. Самое волнующее событие — весть с Родины: Михаил Якушин и Анатолий Серов награждены орденами Красного Знамени.
Награда поднимает дух всех летчиков. Почин Якушина и Серова сделал свое дело. Не только на Центральном фронте, но и на других организуются и тренируются республиканские группы истребителей-ночников на самолетах И-15 («чатос»). Все чаще и чаще ослепительными факелами вспыхивают в ночи горящие фашистские самолеты-бомбардировщики. Вскоре за Якушиным и Серовым на Сарагосском фронте Иван Еременко сбивает еще вражеский самолет, в районе Барселоны Евгений Степанов и Илья Финн увеличивают счет сбитых, на этот раз горят хваленые итальянские самолеты — подарок Франко от Муссолини. В районе Валенсии отличаются испанские авиаторы.
Летчики, летающие на самолетах И-16, завидуют ночникам, нам не разрешают летать ночью, не позволяют малые размеры аэродромов и отсутствие специального ночного аэродромного оборудования.
Однако и нам хватает работы. После окончания Брунетской операции появилась маленькая отдушина. Используя ее, наша эскадрилья приступила к тренировке испанских летчиков, только что прибывших из летного училища. Казалось бы, началась мирная учеба, которой и нужно отдать все внимание, но нежданно-негаданно произошло неприятное происшествие, коснувшееся нашей эскадрильи.
Как раз незадолго до окончания операции в Испанию прибыл новый советник по авиации. Вскоре, ознакомившись с положением на фронтах, он решил лично включиться в боевую работу. В разгар нашей мирной учебы, когда над аэродромом стоял гул учебных боев, меня попросили к прямому проводу с командным пунктом.
Звонил Птухин, приказал выделить двух лучших летчиков и по готовности перелететь к нему на аэродром Алкала. На просьбу ознакомить с заданием Птухин ответил, что задание летчики получат на месте.
Обычно, ставя задачу, Евгений Саввич, как правило, подчеркивал и главную ее сторону, а здесь какая-то неясность.
Оставив за себя на время полета Петра Бутрыма, мы вместе с Панасом вылетели в Алкала. Встретил нас Птухин, тепло поздоровался как с равными товарищами. Он знал, что простота в обращении не повредит той железной дисциплине, которая царила в Испании среди советских летчиков.
Птухин, хитровато глядя на меня, улыбнулся:
— Значит, сам решил прилететь? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Пожалуй, правильно, а то кто знает, как это получится.
Опять загадка! Мы вопросительно посмотрели на Евгения Саввича. Он понял нас и пояснил, что мы полетим на сопровождение самолета СБ, а задание уточнит сам советник.
Слово «советник» для нас было непривычным. Командовал республиканской авиацией испанский генерал Идальго де Сиснерос, и для нас и генерал Сиснерос, и наш советский летчик-советник были большими начальниками. В предчувствии ответственного предстоящего полета мы с Панасом только переглянулись, понимая друг друга.
Из помещения командного пункта вышли два человека. Иван Прянишников, держа в руках летный шлем и планшет, рассматривал на ходу полетную карту (штурманы всегда заняты картой). Впереди шагал человек среднего роста, в модном спортивном пиджаке, при ярком галстуке, в брюках покроя «бриджи», в гольфах. Он смахивал на жокея, не хватало только стэка. Когда расстояние между нами сократилось, я узнал его. Мне приходилось видеть его раньше, когда он занимал крупную должность в одном из наших военных округов.
Птухин представил меня и Панаса. Советник обратился к нам:
— Вы знаете меня?
Панас промолчал, а я ответил:
— Да, знаю вас, вы…
Но советник не дал договорить, предупредительно подняв руки, и опять задал вопрос, адресованный мне жестом:
— Где, в какой должности служили до Испании, сколько имеете боевых вылетов?
— Командир звена авиационной бригады. На мадридском фронте сделал примерно восемьдесят вылетов.
Советник посмотрел на Птухина, тот кивнул головой.
— Так вот. Сейчас я полечу на разведку района Аранда-де-Дуеро — Вальядолид — Сеговия, вы будете сопровождать мой самолет. Доложите, как думаете расположить ваши самолеты в полете.
Я ответил, что полечу справа немного выше, в пятидесяти метрах сзади. Мой ведомый займет место слева сзади.
Через десять минут самолет СБ, пилотируемый советником, взял курс на Аранда-де-Дуеро.
Мы с Панасом заняли свои места сопровождающих, еще на земле договорились с ним в случае появления истребителей противника не ввязываться в воздушный бой, а короткими атаками отсекать фашистских истребителей от самолета советника.
Ответственность, конечно, большая, но меня успокаивала мысль, что в этом районе вряд ли появится противник. Кроме того, у самолета СБ отличная скорость, и к тому же он по курсу все время набирал высоту.
Под нами гряда гор Сьерра-де-Гвадаррама. Высота две тысячи метров. Северные склоны гор — франкистская территория. Вдали показался пункт Аранда-де-Дуеро. На всякий случай я решил опробовать пулеметы и дал две короткие очереди (так мы делали всегда). Глядя на меня, Панас сделал тоже самое.
С двух сторон по курсу самолета советника блеснули трассирующие нити.
И вдруг самолет СБ, заложив глубокий крен, стал разворачиваться на сто восемьдесят градусов. «Значит, у советника какая-то неисправность», — подумал я, а через несколько минут сомнений не было в том, что мы возвращаемся на свой аэродром.
Приземлившись, мы подрулили поближе к ангарам, там нас ожидал Птухин.
— Что случилось? — спросил он, глядя на СБ, из которого не спеша выбирался советник.
— Наверное, что-то с самолетом, — предположил я, — хотя, судя по полету, все вроде нормально.
Штурман Прянишников остался у самолета, советник подошел к нам.
— Что-нибудь помешало полету? — поинтересовался Птухин. — В воздухе вы были не более двадцати минут.
Советник, как бы между прочим, будто вопрос не столь важен, спокойно ответил:
— На маршруте появились самолеты противника, не было смысла продолжать полет.
Птухин вопросительно посмотрел на меня и на Панаса, я удивленно пожал плечами. Заметив мой неопределенный жест и молчание Панаса, советник остановил на мне взгляд:
— Разве вы не видели противника?
— Нет, товарищ командующий, — назвал советника по привычке так, как к нему обращались на Родине.
— А пулеметные трассы вы тоже не видели? Они прошли перед носом моего самолета.
Теперь все стало ясно: наши пробные пулеметные очереди были приняты за огонь противника. Значит, советник пока еще не знал, что все летчики делают так в полете, держа курс на территорию, занятую франкистскими войсками.
Но как доказать? На его месте, возможно, и другой воспринял бы этот случай как атаку противника. И произошло самое неожиданное. На мои объяснения советник отреагировал просто:
— Евгений Саввич! Отправьте его обратно в Союз, пусть там поучится, — и не сказав больше ни слова, пошел в помещение штаба.
Надо было возвращаться на свой аэродром, там нас ждали, а я стоял, словно врос в землю, не мог шевельнуться, в ушах все еще звучали слова советника. «Как отнестись к этим словам?» — сверлила мысль.
Может быть, пойти попытаться убедить его в случайности происшедшего? Но он не отступит от своего решения, уж это я знаю.
Что значит вернуться в Советский Союз человеком, не сумевшим принести пользу в борьбе за республику, не оправдавшим высокого доверия, которое ему оказали на Родине? Такого случая в Испании еще не было, каждый из нас предпочел бы погибнуть в бою, нежели с позором вернуться на Родину и всю жизнь носить на душе тяжелый груз.
Заметив мое состояние, Евгений Саввич ободряюще подтолкнул:
— Чего нос повесил? Лети домой и выкинь все из головы — утрясется!
Появилась надежда. Евгения Саввича я раньше не знал, увидел его здесь, в Испании, впервые. Смелый летчик, большого масштаба командир, а главной чертой его характера была принципиальная справедливость ко всем без исключения. У него не было ни любимчиков, ни пасынков, хотя здесь, в Испании, сражались некоторые летчики, служившие до этого в авиабригаде, которой командовал Птухин на Родине. Он знал цену боевым летчикам и никогда не спешил с выводом. С ним было легко воевать и всегда хотелось выполнить любое задание, которое ставил он. Я был уверен, что Евгению Саввичу совершенно ясна вся нелепость случая, происшедшего в полете.
Шагая к самолетам, Панас бурчал себе под нос:
— Ничего себе… «Отправьте доучиваться», а не подумал о том, что лучше в землю вместе с самолетом, чем так вот ехать на Родину.
Я с благодарностью посмотрел на друга. Он понимал меня.
На Северный фронт
На Центральном фронте наступило некоторое затишье. Воспользовавшись этим, командование на несколько дней освободило нашу эскадрилью от боевой работы. Необходимо было привести в порядок изрядно потрепанные самолеты. Да и отдохнуть не мешало. И вот нас отвели на аэродром возле одного из тыловых городков. Этот городок ничем не отличается от других небольших населенных пунктов. Те же грубо мощенные улицы с пучками полузасохшей травы меж камней, те же выбеленные мелом домики с каменными заборами, за которыми вяло шуршит потускневшая от зноя листва фруктовых деревьев. После Мадрида странной показалась провинциальная, словно застоявшаяся тишина городка.
Мы отдыхали. Впрочем, отдых не удался уже в первый день. Волощенко, еще недавно мечтавший поспать этак часиков тридцать, проснулся, как всегда, на рассвете.
— Интересно, — удивился он, протирая глаза, — почему-то не спится. Ладно, днем отосплюсь. Меня всегда днем тянет ко сну…
Панас к этому времени тоже проснулся, но сделал вид, что его разбудил Волощенко. Возмутился:
— Голос у тебя какой-то ненормальный! Ты своим шепотом мертвого разбудишь…
Но и днем почему-то никому из нас не захотелось прилечь. Побродили по городку — ничего интересного. И как-то само собой получилось, что мы забрели на аэродром. Механики возились во внутренностях моторов, латали пробоины, закрашивали заплаты. Помочь им? А почему бы и не помочь: время, по крайней мере, будет идти быстрее.
С трудом уломали механиков.
— В конце концов, вам приказали отдыхать! — сердился Хуан.
Уговорили испанцев с условием, что работать будем только до обеда.
После обеда день показался нестерпимо длинным.
— Сколько времени мы пробудем здесь? — уныло спросил вечером Бутрым, но никто не ответил на его вопрос. Ясно — пока не вызовут обратно в Мадрид. Засыпали недовольные.
Утром нас разбудил шум — приехали испанские летчики. Человек десять. Они вошли в нашу комнату и смущенно остановились у порога: думали, что мы спим.
— Откуда?
Из группы испанцев выступил стройный, красивый парень с вьющимися волосами.
— Клавдий, — отрекомендовался он. — Вот письмо из штаба.
Прочитываю письмо. Штаб предлагает нам дня три-четыре потренировать группу испанцев. Они только что окончили специальную программу обучения в летной школе. Это новое пополнение для республиканской авиации. Штаб дает молодым летчикам очень лестные оценки: почти все они добровольцы из рабочей и студенческой молодежи, мужественны, храбры, преданны республике.
— Ну что ж, — говорю я, — на аэродром!
По пути знакомимся. Некоторые из испанских летчиков — коммунисты или комсомольцы. Пылко жестикулируя, они говорят о том, как им не терпится скорее идти в бой.
С удовольствием принимаемся за полеты. Вначале объясняем летчикам смысл различных тактических приемов, затем демонстрируем эти приемы в воздухе. После этого испанцы сами отрабатывают элементы одиночного и группового боя. Мы же только поправляем их, указываем на ошибки. Они влюблены в авиацию, и не только потому, что профессия летчика кажется им романтичной (впрочем, этого никак нельзя отрицать), а по главной причине, что самолет — мощное оружие.
— О! Воевать на истребителе — это не стрелять из винтовки! — часто говорят они. — Франко непоздоровится, когда мы пойдем в бой.
С утра до вечера на аэродроме гудят моторы. Каждый из нас взял под свою опеку одного испанца. Мой ученик — Клавдий. Он мне понравился с первого взгляда, и чем больше я узнаю его, тем сильнее укрепляюсь в своем первоначальном впечатлении.
— Пришлось покинуть университет, — рассказывает он мне. — Хотя я уже учился на третьем курсе.
— Жалеете об этом?
Он удивленно смотрит на меня.
— Камарада Борес! Как вы можете говорить это? Что такое Клавдий и что такое республика! Клавдий — только Клавдий, а республика — это народ, это свобода и счастье народа! Вот победим — и я вновь вернусь в университетские аудитории. А пока будем учиться в свободное время! — И он хлопает рукой по оттопыренному карману летной куртки — в этом кармане у него всегда лежит какая-нибудь книжка.
— Довольно скоро обнаруживается, что Клавдий в свободные часы занимается и другим делом — пишет стихи. Вечером испанцы спрашивают его:
— Написал?
Не в пример большинству начинающих стихотворцев, он не смущается:
— Написал.
— Прочти, прочти, Клавдий!
Испанцам нравятся стихи, они слушают их внимательно, раздается восхищенное «буэно!» («хорошо!»).
Стих Клавдия точен и прост. Вслушиваясь в его строки, я с удивлением отмечаю, что в поэтический ритм каким-то чудом уложились советы, которые мы давали летчикам, во время полетов: «Не горячитесь! Храбрость без выдержки может привести к глупостям. Учитесь владеть собой. В любом, самом горячем бою трезво оценивайте обстановку».
— Придется стихи Клавдия взять на вооружение! — смеется вечером Панас, когда мы собираем партийное землячество, посвященное обучению молодых летчиков.
— Что ты смеешься? — сердито спрашивает его Бутрым. — Ничего не нахожу смешного. Замечательный парень этот Клавдий и пишет хорошие, очень нужные стихи. Я думаю, надо попросить его сочинить что-нибудь о тактике воздушного боя.
— Поэма о боевом маневре! О тактике!
Бутрым упрямо стоит на своем, и мне лично кажется, что в его словах есть правильная, здоровая мысль. А почему бы Клавдию действительно не написать о бое, о том, как он его представляет, и о том, как должны воевать республиканцы? Разве стихи хороши лишь тогда, когда они посвящены любимой девушке?
Я решаю поговорить об этом с Клавдием. Правда, мне еще никогда не приходилось иметь дело с поэтами, вдруг Клавдий обидится и скажет: «Камарада Борес! Разве стихи делаются по заказу? Это не пальто и не туфли!»
Но Клавдий и не думает обижаться. Он серьезно выслушивает меня и задумывается:
— Да, об этом следовало бы написать… — И воодушевляется, треплет рукой свои кудри. — Хорошо. Если будет свободное время, обязательно напишу! Летчики будут довольны!
И получается у Клавдия замечательно! Мужественно звучит каждая строка стихотворения, мускулистая, упругая, лишенная внешних красот, но зато энергичная, как боевой клич.
— Марш! — говорит кто-то.
— О да! Марш! — подхватывают испанцы, и неожиданно звонкий тенор высоко поднимает новую песню.
Оказывается, стихотворение написано размером широко известной песни республиканцев. Не ожидал этого эффекта и сам Клавдий.
Через некоторое время я убеждаюсь, что из Клавдия выйдет первоклассный летчик. Вчера в одиночном бою он меня так загонял, что я уже не знал, как спастись от его бурного натиска. Клавдий не только беспредельно храбр, но и расчетлив, чего пока еще нельзя сказать о других испанских летчиках. Остальным ученикам мы часто повторяем: «Старайтесь быть более уравновешенными. Не воюйте в одиночку. Всегда держите тесный контакт с товарищами. Не бейте врага растопыренными пальцами, обрушивайте на него крепко сжатый кулак». Клавдию не приходится говорить этого: в групповом бою он не бросается на противника очертя голову, умело выбирает позицию для атаки, все время видит создавшуюся в ходе боя обстановку, цепко держится за своим ведущим.
Учеба идет нормально, или, как принято говорить, планомерно. Деловой ход ее, правда, нарушает одно довольно скандальное событие, взволновавшее и нас и весь тыловой городок. Самое неприятное, что мы никак не могли предвидеть, что явимся главными виновниками переполоха.
Приезжаем вечером в гостиницу — нас встречает обеспокоенная хозяйка:
— Сеньоры! Это вы сегодня спускались низко над городом?
— Да, мы. Пролетали на бреющем. А в чем дело?
— О, что вы наделали! Я теперь так боюсь за вас!
— Но мы и вчера и позавчера тренировались в воздухе над городом. Что же случилось сегодня?
— Понимаете, ровно в полдень местные анархисты решили организовать свою демонстрацию, — объясняет нам хозяйка. — Здесь не Мадрид, здесь еще есть такие, которых можно соблазнить глупыми баснями. Публика уже начала собираться на площади, как вдруг ваши самолеты появились низко, над самой толпой. Жители врассыпную — не успели разглядеть, чьи самолеты. Анархисты кричат, зовут обратно, но их уже никто не слушает. Тем более что вы вновь пронеслись над площадью.
На лице женщины и тревога и удовлетворение.
— Скажите, это вы сделали сознательно? Вы, наверно, знали о демонстрации?
Куда там сознательно! Вот ведь неприятность… Дали анархистам повод болтать, что, мол, испанские коммунисты мешают свободному развитию других партий в республике, применяют насилие. Не может быть сомнений: нашу оплошность враги республики обязательно постараются использовать в своих агитационных целях. И еще как разукрасят картину! Чего доброго, появится и «пикирование», и «обстрел мирных жителей». За газетными «утками» у них дело не станет.
Смотрю на своих друзей — задумались. И только испанские летчики ликуют.
— Чему вы радуетесь? — спрашиваем их.
— Замечательно! Так им и надо, анархистам! Сволочи, пытаются изнутри разложить республику. Выкидывают фокусы за фокусами. Кричат на всех перекрестках: «Настоящая свобода не нуждается и в республике!» Замаскированные франкисты, вот кто они!
Мы согласны с такой оценкой. Но радоваться не стоит.
— Поймите, — говорим мы испанцам, — как завопят теперь эти предатели республики! Уж наверно раздувают кадило, льют грязь на коммунистов!
— Сеньоры! — прерывает наш разговор хозяйка. — Уже поговаривают, что анархисты решили расправиться с вами. Они не могут вам простить своей неудачи.
— Вот видите! — говорим мы испанцам. — Они еще попробуют помешать, а то и сорвать нашу учебу.
Заходим в комнату. На столе-лежит конверт с черной, траурной каймой. Ну, это уже смешной, дешевенький трюк! Ясно, кто подбросил это письмо.
В конверте записка-анонимка: «Убирайтесь из города, пока не поздно». Вместо подписи череп и крест.
Дураки, набитые дураки эти анархисты! Панас хохочет:
— Помнишь, Борис, почти такую же угрозу?
Как же не помнить! Ту первую анонимную записочку, которую подкинули нам в Мадриде, трудно забыть. Ею порадовали нас господа троцкисты. «Русские летчики! — обращались они к нам. — Зачем вы приехали в Испанию? За каждым углом вам грозит выстрел троцкиста». Ну кто же, кроме троцкистов, мог проявить такую заботу о нашем здоровье? Мол, уезжайте подобру-поздорову.
— Помню, — говорю я и сам думаю: «Здесь не Мадрид, городок маленький, коммунистов мало, сумеют ли они оказать противодействие анархистам, которые, видимо, свили здесь прочное гнездо?»
Подхожу к окну. Над городом сгустились сумерки. Обычно в это время улица пуста, а сейчас вдоль и поперек ее шныряют какие-то подозрительные типы. По части провокаций анархисты мастаки. Приглядываюсь к подъезду — возле него стоит группа людей. Э-э, да они вооружены!
Клавдий выбегает из комнаты и спускается вниз. Напряженное молчание. Прислушиваемся, что происходит у парадного. Вдруг раздался выстрел. Слышится торопливое топанье нескольких десятков ног. Поднимаются наверх. Мы вытаскиваем пистолеты.
Дверь открывается, и в комнату влетает Клавдий:
— Товарищи! Нас охраняют горожане! Ура!
Они толпятся у двери, усачи с охотничьими ружьями, кое-как вооруженные юноши.
— Входите! Входите!
Они заполняют комнату и сразу же начинают нас благодарить.
— За что? — изумляемся мы.
— Но ведь вы же разогнали этих проходимцев.
— И очень плохо, что так получилось!
Теперь уже изумляются горожане. Почему плохо? Очень хорошо! Мы внушаем им, что наш промах может повлечь за собой неприятные последствия, вызвать шум в печати.
— Пусть анархисты болтают что угодно, — говорят горожане. — Народ все равно не поверит им! Ну, а с вами они ничего не посмеют сделать. Мы уже их предупредили, чтобы они сами убирались из города.
Наутро наша учеба начинается так же, как и всегда. Но над городом мы уже не летаем: кто знает, может, еще какая-нибудь банда готовит «манифестацию».
Особенно распоясываются анархисты в тыловых районах страны, на фронтах их осаживают коммунисты. От вновь прибывших летчиков мы узнаем о попытке анархистов арестовать эскадрилью Серова. Только мужество, решительность самого Анатолия избавили эскадрилью от крупных неприятностей.
Слухи об этой наглой провокации анархистов доходят к нам не сразу — серовцы в это время стоят далеко от нас. Они в Каталонии, на одном из приморских аэродромов. Послали их туда на несколько дней — прикрыть с воздуха разгрузку республиканского парохода, прибывшего из Советского Союза.
Каталония — не Мадрид, влияние компартии там не так заметно. Анархисты решили, что их действия могут остаться безнаказанными.
Однажды, когда, вернувшись с задания, самолеты заруливали на стоянки, к машинам молча подошли люди в штатском. Пиджаки, куртки, гимнастерки, вооружение такое же разнообразное. И главное — ни у одного из этих подозрительных молодчиков не видно красной ленточки на груди или звездочки на головном уборе.
В этот момент Серов направлялся к своему самолету, намереваясь вылететь на разведку. Двое охранников преградили ему путь.
— Где ваш командир? Почему не вижу коменданта аэродрома? — спросил Анатолий, еле сдерживая готовый прорваться гнев.
Охранники молчали. Серов шагнул к самолету, но в то же мгновение охранники взялись за оружие.
— Мне нужно немедленно вылететь! — повысив голос, требовательно сказал Анатолий.
— Но эспосибле (невозможно), — ответил один из непрошеных стражей.
— Как это «но эспосибле»? — взорвался Серов. — Вы кто такие — коммунисты или фашисты?
— Анархисты, — последовал короткий ответ.
— Ах, вот оно что! — усмехнулся Анатолий. — Значит, «соратнички». Ну ладно, после разберемся, а сейчас мне надо лететь!
Прежде чем охранники успели что-нибудь сделать, Анатолий вскочил в кабину самолета. Мотор заработал. Четыре Пулемета разом дали несколько очередей. Серов, как обычно, всего-навсего проверял готовность оружия к бою. Но пулеметные очереди произвели на присутствующих весьма отрезвляющее действие. Охранники отскочили от самолетов. Серов пошел на взлёт.
Пока Анатолий находился в воздухе, на аэродром примчался комендант, он же начальник охраны. Еще вчера старательный, вежливый, предупредительный, он, выскочив из машины, набросился с руганью на команду, не сумевшую удержать Серова, и приказал сейчас же снять колеса со всех самолетов. В чем дело? Что произошло? Якушин потребовал от коменданта объяснений. Вместо ответа комендант, усмехаясь, заявил, что здесь не Центральный фронт, а Каталония и командует воздушными силами каталонский командующий. Якушин возразил, что у республиканской Испании единое командование, которому и следует подчиняться. Комендант, прищурившись, процедил:
— Анархисты борются против Франко самостоятельно, без помощи коммунистов!
Так вот в чем дело: провокация, предательство! И как раз в такой момент, когда эскадрилья очутилась вдали от своих товарищей, оторвана от своего непосредственного начальства, когда с Мадридом нет никакой связи.
— Потрудитесь, сеньоры, выполнить волю каталонского командования, — жестко звучит голос коменданта, — прошу садиться в автобус!
Летчики оглядываются: охранников уйма — видимо, мобилизованы все местные силы анархистов. Через полчаса летчиков привозят в гостиницу. У входа встает усиленный вооруженный наряд. Серовцам запрещено выходить даже на улицу. Эскадрилья фактически арестована.
На свободе один Серов. Он торопится, возвращаясь с задания: предчувствует неладное. Беспокойство увеличивается, когда Анатолий заруливает на стоянку: ни одного знакомого лица (где летчики?), самолеты стоят на колодках, колеса лежат под крыльями (это что такое?).
Не выказывая волнения, Анатолий нарочито спокойно вышел из кабины. Посмотрел на соседний самолет, медленно подошел к нему. Залез под крыло и не торопясь надел колеса. Затем вышиб одну колодку, другую.
Стоявший охранник разинул от неожиданности рот. Серов подошел к обомлевшему от удивления часовому и, подставив кулак к его носу, раздельно проговорил:
— Попробуй, гад, снять еще раз колеса!
Сказано это было по-русски, но охранник, по-видимому, прекрасно понял смысл фразы, подкрепленной весьма недвусмысленным жестом, и поспешно закивал головой.
Серов поднял колодки, зашвырнул их подальше и зашагал к гостинице. Он прошел мимо патрулей твердо, не обращая на них внимания. Открыл дверь в комнату, где находились летчики.
— Ну что?
Летчики бросились к Анатолию, обступили его и наперебой стали рассказывать о происшедшем. Серов слушал молча.
— Мне думается, Толя, что нас арестовали, — заметил Якушин.
Эти слова окончательно вывели Серова из себя. Хлопнув дверью, он выбежал из комнаты, пронесся мимо патрулей. Как раз напротив гостиницы находился гараж, ворота его были открыты. Перебежав через улицу, Анатолий вскочил в голубой «понтиак», машина рванула с места и, оставляя за собой клубы пыли, устремилась по дороге.
Все это произошло молниеносно и неожиданно. Оторопевший начальник охраны, беспомощно суетясь, вылил поток брани на своих подчиненных, потребовал от шоферов машину, чтобы догнать Серова. Те перемигнулись.
— Сеньор комендант, — пряча улыбку, заявил один из них, — в гараже была только одна исправная машина — ваша. Ее угнал русский командир.
Решительность Анатолия спасла эскадрилью. Он отсутствовал только четыре часа. За это время он успел добраться до Барселоны, поднять там шум, добиться категорического распоряжения штаба каталонского командования немедленно освободить летчиков, создать им условия для нормальной летной работы. Затем сразу же вернулся обратно. Вместе с Серовым прибыли представители штаба. Они энергично принялись за дело — быстро разоружили часть охраны, заменив ее надежными солдатами. Комендант был арестован.
Обо всем этом мы узнали, когда серовцы уже вновь свободно летали в испанском небе. Могли бы узнать раньше, если бы было время слушать радио. В день ареста серовцев радиостанция Саламанки передала в эфир фамилии всех летчиков его эскадрильи. Комендант работал оперативно.
Точка, тире, точка… Из телеграфного аппарата медленно выползает белая лента. Очередное приказание, что же еще может быть! Но телеграфист неожиданно круто поворачивается в мою сторону.
— Что там? — спрашиваю его.
— «Командиру эскадрильи Смирнову, — читает телеграфист. — Вашей эскадрилье сегодня же вылететь в район прежнего базирования. Командование эскадрильей возлагаем на Бутрыма. Вам надлежит остаться с эскадрильей испанских летчиков вплоть до особого распоряжения. Ждите телефонного разговора с командующим…»
Что бы это могло значить? Бегу к Бутрыму.
— Сегодня же вылетать? — спрашивает он меня.
— Ну, конечно!
— А ты остаешься?
— Ясно, остаюсь.
— Ничего не понимаю! — пожимает плечами Бутрым. — Может быть, их доучить надо, а всю нашу эскадрилью нецелесообразно держать в тылу?
— Может быть.
С нетерпением жду звонка. Проходит час. Наконец-то!
— Вас просят к телефону!
Слышу знакомый голос командующего истребительной группой Евгения Птухина:
— Я вызвал вас, товарищ Смирнов, чтобы поговорить с вами об одном важном деле. Прежде всего, командование благодарит ваших летчиков, которые помогли нам подготовить новую республиканскую эскадрилью. Это значительное подкрепление — и знаете, куда мы думаем направить его? В Астурию.
Петр Бутрым
— Понимаю. В Астурии, говорят, тяжело?
— Очень. Особенно в воздухе. Сейчас мы имеем там только две республиканские эскадрильи, и то неполного состава. Вот уже несколько месяцев они ведут изнурительную, неравную борьбу, так как в численном отношении противник превосходит их чуть ли не в десять раз. Вы должны им помочь. Мы хотим назначить вас командиром новой эскадрильи испанских летчиков. Той самой, которую вы обучали.
Выхожу из аппаратной в некотором смятении. Возле самолета стоит Клавдий.
— Камарада Бутрым просил меня передать вам еще раз привет и пожелания скорейшей встречи.
— Как! Они уже улетели?
— Но вы же сами их торопили! Какой-нибудь час назад вы сами прощались с ними!
Верно, верно…
— А мы скоро отправимся вслед за ними?
— Мы отправимся в Астурию, — отвечаю я.
— И вы? — живо спрашивает Клавдий.
— Да. Я назначен командиром вашей эскадрильи.
Мгновение Клавдий смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
— Компаньерос! Компаньерос! — кричит он. — Скорее ко мне! Вы слышали новость?
Прыжок через территорию врага
Друзья улетели в Мадрид, я остался. Снова во весь рост встают новые задачи, новые дела. Когда к ним еще только приступаешь, они всегда кажутся очень сложными и трудными. Сумею ли я хорошо управлять эскадрильей, состоящей только из испанцев? Найду ли я с ними тот общий язык, когда люди понимают друг друга с полуслова, с одного взгляда? Сможем ли мы, небольшая группа истребителей, к тому же молодых летчиков, успешно противостоять опытному и количественно сильному врагу? Что если нас расколют в первых же боях?
Никто не в силах ответить на эти вопросы. А в этих вопросах не только будущее, но и настоящее. Уже сейчас они волнуют меня, и уже сейчас я должен что-то сделать, чтобы целиком, начисто, исключить то самое худшее, что может грозить нам при первой же встрече с фашистами. Нужно еще подучить молодых летчиков, нужно еще раз проверить их настроение, испытать силу их духа.
Но мы скованы узкими рамками времени, вылетать надо по возможности скорее. Кроме того, уже ближайшая задача, стоящая перед эскадрильей, требует особого внимания. Нам нужно перелететь на северное побережье Испании. А это не так просто.
— Мне кажется, — сказал Евгений Саввич, — что лучше всего вам подняться с аэродрома Алкала. Оттуда до Сантандера по прямой наименьшее расстояние.
Я посмотрел на карту: вот так наименьшее расстояние!
— Да, — сказал Птухин, перехватив мой недоуменный взгляд, — расстояние, конечно, солидное. Но оно действительно наименьшее. С других аэродромов вы вообще не достигнете Сантандера. С Алкала же, если будете идти строго по прямой, долетите.
Птухин еще раз положил на карту линейку, и я вместе с ним мысленно разметил маршрут от Алкала до Сантандера. Прямо под обрезом линейки оказался Бургос — столица мятежников, главная ставка генерала Франко. Лететь над Бургосом, который наверняка охраняется не одной фашистской эскадрильей?
— Ничего, долетите, — сказал Евгений Саввич и вздохнул. — Ну, что касается Бургоса, то мой совет — ни в коем случае не ввязывайтесь в бой. И не только над Бургосом — на всем маршруте. Если в пути не будет задержек, горючего у вас хватит как раз для того, чтобы дойти до Сантандера. Но помните: если не будет задержек!
Этот разговор не выходит у меня из памяти. В свободное время достаю карту и вновь (хотя уже знаю маршрут наизусть) изучаю ее. Да, сомнений не остается, придется расходовать горючее очень экономно. До Сантандера от Алкала — триста сорок километров. А что если фашисты все-таки вынудят нас вступить в бой? И как избежать возможного боя?
Ответ один: лететь на большой, на предельной высоте. Только высота в какой-то мере может гарантировать от встречи с противником. Во всяком случае, если враг даже заметит появление нашей эскадрильи, он не успеет нагнать нас.
Ну, а что будет, если фашисты поступят умнее, не станут гнаться за нами, а просто предупредят следующий аэродром: встречайте, мол, республиканцев на такой-то высоте.
Попробуйте ответить на этот вопрос! А ведь это вопрос жизни или смерти, победы или поражения.
Будущее покажет, как придется действовать. А пока необходимо проверить выносливость испанцев, смогут ли они перенести трудности высотного полета.
Скрывать от испанцев я не хочу ничего. Хуже всего рисовать боевую работу розовыми красками. Мужественные люди любят и ценят откровенность. Летчики воспринимают приказ сдержанно: ни возгласов удивления, ни тени замешательства. Выслушав меня, Клавдий еще раз наклоняется над картой, спокойно перекидывает кашне через плечо и говорит:
— Мы постараемся все сделать, что нужно для успеха.
Ну что ж, в воздух! Набираем высоту. Тысяча метров, две, три… Свежо, руки слегка синеют от холода. Четыре тысячи… Дышится еще легко, но по всему телу разливается предательская слабость. Пять тысяч… Вдыхаю воздух глубокими глотками. Подняться еще? Еще на тысячу! Смотрю по сторонам. Все летчики отлично держатся в строю. Ни одного отстающего.
И я уверенно направляюсь к Мадриду, к аэродрому Алкала. Смотрю на Клавдия — он летит рядом со мной: побледнел от напряжения, торопливо, жадно глотает разреженный воздух. У меня, более опытного летчика, и то усталость уже сковывает тело, появилась сонливость. Хочется закрыть глаза, а еще больше — ринуться вниз, поближе к теплой, милой земле.
Но я разрешаю это себе и своим новым товарищам, только когда мы уже различаем у горизонта, на фоне коричневой цепи Гвадаррамских гор, россыпь мадридских зданий.
Приземляемся организованно. Навстречу нам бегут летчики, авиамеханики.
— Откуда ты привел нам такую подмогу? — весело кричит мне Панас.
— Из Валенсии.
— Ну, теперь мы короли!
Мне остается лишь улыбнуться.
Ночью нам не спится. Бутрым лежит с открытыми глазами, молчит. Панас то и дело курит. Только Волощенко хочется спать, и он с удовольствием заснул бы, но ведь никто не спит!
Странные у меня друзья. Хорошие товарищи! Но не любят лишних успокоительных слов даже тогда, когда они, может быть, и нужны. Молчат, изредка кто-нибудь сделает замечание о моем предстоящем полете, и одно это лучше любых слов говорит, что думают они сейчас о нашей совместной боевой жизни, о предстоящей разлуке.
Сижу за столом, пишу письмо на Родину: из Сантандера его не пошлешь, север отрезан от центральной части Испании.
— При первой возможности передай письмо почтальону, — говорю я Панасу.
Рано утром уже все готово к вылету. Еще раз напоминаю испанцам порядок перелета. Спрашиваю их, все ли здоровы, нет ли у кого каких-либо сомнений или желания остаться здесь.
Неожиданно из строя делает шаг вперед Клавдий.
— Что вы хотите сказать, Клавдий? — спрашиваю я удивленно.
— Несколько слов, товарищ командир.
Он встряхивает кудрявой головой:
— Я говорю от лица всех летчиков эскадрильи. Среди нас четверо из Астурии. Мы летим защищать свой родной край и заверяем вас, товарищ командир, что никакая сила не заставит нас дрогнуть на поле боя. Мы знаем, что в боях за свободу испанского народа погиб ваш любимый друг и командир Алехандро Минаев. Мы будем такими же честными и смелыми воинами, как Алехандро! Будем!
— Ну что ж, по самолетам! — говорю я и иду к своей машине.
До вылета — несколько минут. Возле самолета стоит Хуан, ждет так же, как всегда, держа наготове парашют.
— Камарада Борес, — вдруг тихо и настойчиво говорит Хуан, — я все приготовил… чтобы лететь вместе с вами.
Уже вчера весь день он ходил за мной по пятам и уговаривал взять его с собой.
— Дорогой Хуан! — с мольбой в голосе отвечаю я. — Но ведь ты же прекрасно знаешь, что каждый лишний килограмм — это расход лишнего горючего. А перелет трудный, ты знаешь, что в этом самолете конструктор не предусмотрел второй кабины для пассажира. Как же я заберу тебя с собой?
— Очень просто! — восклицает механик. — Я помещусь в том месте, куда мы обычно укладываем самолетные чехлы.
Не знаю почему, но я сразу же теряю всякую решительность. Если бы Хуан настаивал, я бы, наверно, ни за что не сдался. Но он просит меня как товарищ товарища.
— Но ведь чехлы ты укладываешь в фюзеляж — это место совсем не приспособлено для второго человека.
Хуан угадывает, что я уже, в сущности, согласился.
— Мне много места не потребуется, камарада Борес. Разрешите, я покажу вам.
— Ну, быстрее!
Хуан мигом пролезает в фюзеляж самолета и усаживается на аккумулятор, установленный сзади сиденья летчика.
— Сколько в тебе весу, Хуан?
— Пустяки! — ликует механик. — Каких-нибудь двадцать — тридцать килограммов!
Громкий хохот покрывает этот ответ.
— Он даже в весе недооценивает себя! — смеется Бутрым.
— Возьми его с собой, — уговаривает меня Панас. — Он к тебе привык, и ты к нему. Легче будет! А до Сантандера дотянете. Горючего хватит.
— Ладно, Хуан, неси свой инструмент, чемодан.
— Все уже здесь, камарада Борес!
Ну что ж, надо прощаться.
— Давай руку, Петр! Увидимся?
— Уверен! — коротко отвечает Бутрым и крепко, до хруста, жмет руку. — Нам помирать рановато.
Последний раз взмахиваю рукой из кабины. Самолет плавно бежит по аэродрому и через несколько секунд отрывается от земли. Прекрасно! Добрая примета: вес Хуана совсем не оказал влияния на летные качества машины. Она так же, как и прежде, набирает высоту и безукоризненно слушается рулей управления. Рядом со мной, умело пристроившись, летят мои новые боевые друзья.
Я беру курс строго на север. Прямо перед нами летит лидирующий самолет СБ. С левого борта за сиреневой дымкой виднеется Мадрид. Горы впереди вздымаются сплошной стеной все выше и выше. У противоположного подножия гор начинается территория, захваченная фашистами. Надо набирать высоту.
И снова повторяется то, что уже было при перелете к Мадриду. Вначале в кабину проникает холод: остается теплой только ручка, с помощью которой управляешь машиной. Потом становится все труднее и труднее дышать. Пьешь воздух глубокими глотками. Стрелка прибора высоты еще заметно дрожит, неуклонно поднимается от одной цифры к другой. Вот она уже легла на цифру 5300. Когда и куда утекла вся энергия, как это выдуло из здорового человека всю бодрость? Не хочется делать ни одного движения. Апатия. Полное равнодушие ко всему. Даже простой поворот головы требует напряжения, труда. А ведь нужно и дальше набирать высоту. Быть как можно выше — первое и единственно условие успеха. Холодно дьявольски. Мороз, а мы в легкой летней одежде.
Пересекаем гряду гор Сьерра-де-Гвадаррама. С большой высоты она кажется совсем незначительной. Ориентируясь по карте (впрочем, маршрут я выучил наизусть), часто смотрю вперед. Вот железная дорога! Значит, идем правильно. Минуем город Аранда-де-Дуэро. Пока в воздухе чисто, посмотрим, что будет через восемьдесят километров, когда подойдем к Бургосу.
И вот вдали показывается город. Бургос! Мы подходим к нему на высоте семи тысяч метров. Ставка главного командования франкистских войск уже предупреждена о появлении республиканских самолетов. Выше эскадрильи нет ни одной вражеской машины, зато внизу творится что-то невероятное. Черные шапки разрывов зенитных снарядов устилают огромное пространство. Видимо, фашисты палят из всех стволов, но тщетно — снаряды рвутся намного ниже нашей эскадрильи. Болтаются внизу и самолеты. Их не менее сорока.
Карабкаясь вверх в бессильной злобе, они ведут бесполезный огонь по нашим машинам. Маловато, маловато высотенки наскребли! А теперь уже поздно.
От сознания, что первый этап пройден удачно, вновь появляются и бодрость и сила. Как говорят спортсмены, открылось второе дыхание. Смотрю на своих товарищей. Они так близко пристроились к моему самолету, что я свободно различаю лица некоторых из них. Испанцы бледны, осунулись. Ничего! Это только результат кислородного голодания. Скоро начнем снижаться — оживут!
Убедившись в бесполезности преследования, фашистские самолеты отстали.
Теперь благоприятный исход нашего полета зависит уже от скорости. Необходимо дойти до места посадки раньше, чем франкисты сумеют организовать вторичную встречу. Используя большую высоту, которую эскадрилья набрала на первой половине маршрута, мы значительно увеличиваем скорость за счет снижения. Погода стоит ясная, безоблачная. Впереди лежащая местность просматривается на несколько десятков километров. Напряженно вглядываемся в даль. Хочется скорее увидеть Кантабрийские горы — это уже север Испании.
Но гор не видно. Куда ни глянь — коричневая, слегка холмистая земля, кое-где отмеченная желтеющей зеленью рощ.
Но идем все же правильно: только что прошли железную дорогу, связывающую Бильбао с городом Рейноса. Скоро должны подойти к Кантабрийским горам. И вот минут через десять далеко-далеко впереди начинает проступать темная полоса. Над светлой линией горизонта еле заметно вырисовывается зубчатый гребень.
Снижаемся. Пять тысяч метров. Чудесная высота! Почему она показалась вначале такой тяжелой? Дышать стало гораздо легче, в занемевшие мускулы вливается свежесть, сила, пронизывающий холод сменяется приятной теплотой. Невольно хочется еще увеличить скорость, кажется, что время тянется слишком долго.
Но надо терпеть. До гор вроде рукой подать, но в действительности расстояние до них еще большое. И если мы преждевременно потеряем высоту, то это сможет весьма отрицательно сказаться при возможной встрече с противником.
Проходит еще несколько минут, и от зубчатого темного контура начинают отделяться скалистые вершины, покрытые снегом. Наступает решающий момент. Тревожит одна мысль: успели фашисты предупредить свою авиацию о перелете республиканской эскадрильи или нет?
Успели. Над горными вершинами показались маленькие точки. Самолеты! Фашисты ждут нас. Обойти их стороной не позволяет запас горючего, который подходит к концу. Остается единственное — не дожидаясь нападения, самим решительно и организованно ударить по врагу, внести в его строй замешательство и, воспользовавшись этим, оторваться от противника.
Плотнее сжимаемся и готовимся к атаке. Эскадрилья на огромной скорости, со снижением приближается к неизвестным самолетам. Но что это такое? Фашисты не одни, похоже, что они ведут бой. Ко всеобщей радости замечаем республиканские самолеты. Их мало, фашистов во много раз больше. Ни те ни другие не замечают приближения нашей эскадрильи. Значит, Бургос запоздал, не успел предупредить фашистское командование на севере о перелете республиканцев. Отлично! Ну как не воспользоваться таким моментом!
Итак, еще не достигнув своей базы, начнем боевые действия! Даю сигнал начала атаки. И разом из всех пулеметов хлынул мощный огонь. Ошеломленные внезапным нападением, фашисты бросились в разные стороны. Мы атакуем с ходу на большой скорости, с таким расчетом, чтобы после атаки, не меняя курса, можно было продолжать полет в направлении аэродрома. Атака с ходу удается. По-моему, фашисты даже не поняли, что произошло. В течение нескольких минут небо очищено от противника. Республиканцы благодарно качают нам крыльями. Мы отвечаем им тем же и начинаем переваливать через горный хребет. Еще несколько минут — и мы будем у себя «дома», в Сантандере. Вот уже горы позади, впереди море — необъятное, приветливо сияющее под солнцем. На самом берегу — Сантандер, а немного южнее порта, у подножия Кантабрийских гор, — аэродром.
Смотрю на этот аэродром и холодею. Всего-навсего узкая полоска ровной земли. Чтобы благополучно посадить самолет, требуется большое летное искусство. Справятся ли молодые летчики с такой сложной задачей?
Решаю садиться последним. Из-за тесноты на таком аэродроме последнему приземлиться наиболее тяжело. Но у меня все-таки есть опыт.
Даю сигнал Клавдию: «Покажи пример!» Он приземляется точно и, пробежав все поле, останавливается у его границы. Вслед за ним поочередно садятся другие машины. Вот уже последний самолет на земле. Облегченно вздыхаю и сам снижаюсь. Остались только капли горючего.
Все! Прыжок через вражескую территорию совершен.
Железные люди
«Моряку, плывущему к Валенсии, не нужен компас, — с шутливой гордостью говорят испанцы, — он найдет ее по запаху цветов». Очень многие города и села Испании напоминают в этом смысле Валенсию: с весны и до поздней осени бесчисленные инжировые, гранатовые, персиковые, лимонные сады, великолепные клумбы цветов источают стойкое благоухание. Не случайно Испания по вывозу фруктов занимает первое место в мире. В Валенсии, в нескольких километрах от порта, мы однажды заметили, что кромка берега за одно утро почему-то пожелтела: когда подошли поближе, увидели тысячи мандаринов и апельсинов, прибитых к песку. Мандарины были целые, неиспорченные, — они очутились в море при погрузке, вывалились из треснувших ящиков.
На севере Испании все по-иному. Здесь суровый климат, который не вынести неженкам — персикам и мандаринам. Только яблоки приживаются в здешних местах. И если ботанической эмблемой Испании могла бы служить оливковая ветвь, то для Астурии, например, пришлось бы сделать исключение — здесь оливковые деревья растут, точнее, прозябают лишь в парках. Зато пейзаж Астурии немыслим без бронзовых прямоствольных сосен и темно-зеленых пиний.
Под стать этой простой, лишенной всякой декоративности природе — люди Астурии. Баски так же не похожи на испанцев, как, скажем, чехи или даже норвежцы. У них иные вековые традиции, свое наречие, иные обычаи. В них нет южной пылкости, они умеют глубоко прятать чувства. «Баски не плачут», — гласит их древняя мужественная поговорка. Ее можно было бы продолжить: «Баски попусту не смеются». Вызвать улыбку баска нелегко. То же самое можно сказать об испанцах и других северных провинций.
Это мужественный, трудолюбивый народ. Природа никогда сама не одаряла его своими щедротами, он привык каждое ее благо брать с боя. В Астурии много рудников, промышленных предприятий, главным образом, металлургических. Рабочий класс — основной костяк населения. И это тоже факт огромного значения. Влияние компартии здесь велико, как нигде в Испании, кроме, быть может, одного Мадрида — штаба и цитадели республики.
Не случайно франкисты питают особую ненависть к Астурии и ее народу. Так же как на Мадрид, они двинули на северные города Испании Бильбао и Сантандер свои лучшие, отборные дивизии. Они зверски уничтожили Гернику — национальную святыню, древний центр баскской культуры. Они ведут здесь самую настоящую тотальную войну, подвергая жестоким бомбардировкам не только города, но и небольшие горные деревушки.
Но Астурия не сдается. Отрезанная от остальной республиканской территории, фактически блокированная и с моря, она уступает врагу каждый метр земли только ценой большой крови.
«Прежде чем мы станем рабами, реки, темные от крови, окрасят море в красный цвет!» — поют баски. Поют протяжно, но в мелодии слышится четкий, железный ритм.
Здесь воюют с врагами мужчины и женщины, юноши и старики. Это я понял в первый же день пребывания в Сантандере.
Вскоре после того как мы приземлились на аэродроме, в городе завыли сирены. Вдалеке показались фашистские бомбардировщики. Вылететь им навстречу мы не могли — бензобаки были пустые.
Как нам рассказывали потом, фашисты «пощадили» город, не сбросив на него ни одной бомбы. Они держали курс прямо на наш аэродром.
Грохот рвущихся бомб сотрясает землю так сильно, что кажется, крепкие своды убежища, куда пришлось нам уйти, не выдержат и рухнут. И вдруг сразу наступает гробовая тишина.
По узкому, извилистому проходу, ведущему к выходу, мы устремляемся наверх. Черный дым, смешанный с пылью, застилает весь аэродром. Один самолет горит; к счастью, это старая машина, давно вышедшая из строя.
Но следует ожидать повторного налета. Так оно и выходит. Не успевает рассеяться смрад от первых бомб, как появляется вторая волна немецких бомбардировщиков.
И на этот раз нам не удается подняться в воздух. Летчики помогают механикам как можно быстрее подготовить машины к вылету. Но не успевают. Правда, некоторые самолеты уже заправлены горючим, а зарядные ящики заполнены боеприпасами, но взлететь мы не рискуем — на узкой полосе аэродрома много воронок от бомб. Приходится вновь укрываться, на этот раз — в маленьких окопчиках, вырытых неподалеку от стоянок.
И опять грохот разрывов, пронзительный свист осколков. Обиднее всего лежать, сознавая, что ты не в силах оказать врагу хоть какое-нибудь противодействие.
Вновь с тревогой смотрим на свои самолеты. Одну машину сдвинуло с места воздушной волной, в некоторых самолетах пробоины от осколков. Но все это чепуха, один-два часа работы для механиков.
Хуже обстоит дело с летным полем. Мы оглядываем его в полной растерянности. Глубокие воронки на всей площадке. Ведь теперь мы не можем ни взлетать, ни садиться. Припечатаны к земле.
— Нужно немедленно начать работу, — говорю я.
— Придется работать ночью, — замечает Клавдий.
— Может быть, всю ночь, — добавляет кто-то.
В тоне, которым произносятся эти слова, слышны нотки неуверенности: успеем ли мы одни быстро ликвидировать последствия налета? Но делать нечего. Сбрасываем с себя куртки, беремся за лопаты. Грунт тяжелый, каменистый, лопаты то и дело скрежещут о камни. Не до разговоров, не до курения. Кто-то уже снимает рубаху.
Проходит час, а мы, ни разу не присаживаясь, с грехом пополам засыпали всего лишь две воронки, да и то не самые глубокие. Летчики падают духом, у меня опускаются руки. Нет, одним нам не справиться! Неожиданно замечаем на противоположной стороне аэродрома группу людей. Что они делают? Кажется, работают лопатами. Оборачиваемся — со стороны стоянки к нам направляются несколько женщин, за ними бегут ребятишки, у женщин в руках лопаты, мотыги.
Они подходят и низко кланяются.
— Мы слышали, у вас аэродром не в порядке…
Ребята держат в руках корзиночки с бутылками молока, с хлебом. Пришли не на час. А в воротах аэродрома показывается еще одна группа.
— Сантандер идет к нам на помощь! — радостно кричит кто-то из механиков.
— Мы не из Сантандера, — возражает белый как лунь старик. — Мы из соседней деревни. Это вот они, — указывает он на женщин, — должно быть, городские.
Не тратя лишних слов, деловито осмотрев поле, крестьяне из соседней деревни и женщины из города идут к воронкам, и вот лопаты уже вгрызаются в землю. А за поворотом дороги, проходящей возле аэродрома, видна еще одна группа людей с огромными фруктовыми корзинами.
Скоро во всех концах поля звенят лопаты, кирки. Женщины накладывают землю во фруктовые корзины и подносят их к воронкам. Откуда-то появились носилки, пришли еще люди.
К вечеру добрая половина поля восстановлена. Теперь мы и сами закончим дело! Но никто не уходит. Женщины расстилают одеяльца и укладывают ребят спать. Старики присаживаются перекурить.
Подхожу к одному из них:
— Вы, должно быть, устали? Работа тяжелая.
Он попыхивает трубкой и коротко отвечает:
— Не привыкать.
Сгущаются сумерки. Уже почти неразличимы фигуры работающих. Но по голосам, которые доносятся с разных сторон, можно понять, что темп работы не ослабевает.
Глубокой ночью ко мне подходят две женщины и тот же самый белый как, лунь старик.
— Кажется, все! — говорит он довольным голосом и по-хозяйски добавляет: — Теперь надо бы осмотреть поле.
Я уговариваю его идти домой — мы сами обследуем аэродром, а если что не доделано, сами доделаем. Старик возражает:
— Идемте вместе.
Зажигаю электрический фонарик, и мы не спеша обходим аэродром. А когда возвращаемся к стоянке, я с удивлением замечаю, что все ждут нашего прихода.
— Как? — слышится, только один вопрос.
— Как? Замечательно! Словно и не было бомбежки, вот как!
Мы сердечно пожимаем руки нашим помощникам, провожаем их. И они уходят в ночь, неторопливо, молча, только изредка перебрасываясь скупыми словами. Железные люди!
С этого дня жители Сантандера становятся нашими верными помощниками. Когда через два дня аэродром был вновь разбомблен, я уже не сомневался: помощь будет! И действительно, вскоре на дороге показались женщины, старики, подростки.
Они приходят к нам каждый раз, когда нужна помощь. Мы уже многих из них знаем в лицо. Но каждый раз с ними приходят все новые и новые. Суровые люди, они стесняются выставлять напоказ свои чувства к нам.
Как-то в перерыве между полетами я ложусь под крылом самолета. Рядом — парашют. Тяну его за лямки, чтобы положить под голову. Из-под парашюта выкатываются несколько крупных яблок.
— Откуда здесь яблоки? — спрашиваю Хуана.
— Яблоки? — переспрашивает Хуан. — Их принес тот старик, что тогда, ночью, ходил с вами по аэродрому. Принес и сказал: «Передайте летчику этого самолета».
После очередной бомбежки я всматриваюсь в лица работающих на аэродроме, ищу старика. Вижу — направляется к моему самолету. Идет согнувшись, в одной руке заступ, в другой — корзинка. Подходит, опускает на землю корзинку, покрытую сверху чистым полотенцем, и, опершись обеими руками на тяжелый заступ, спрашивает:
— Где летчик этой машины?
— Не узнаете? — отвечаю ему.
Старик щурится, внимательно смотрит на меня и протягивает руку:
— Нет, теперь узнаю.
— Отдохните немного, — говорю старику, подвигая раскладной стул.
— Спасибо, сынок, спасибо! Старость пришла, сил меньше стало, пожалуй, и отдохну.
— Вам нужно было бы сидеть дома, — говорю я ему. — Отработали свой век.
— Дома? — качает он головой. — Не то время теперь, чтобы дома сидеть. — И внезапно спрашивает меня: — Почему вы так плохо говорите по-испански? Вы русский?
— Да, русский.
Старик еще пристальнее всматривается в мое лицо.
— Откуда же вы приехали — из России или из другой страны?
— Из Советского Союза.
По лицу его скользит улыбка.
— Это хорошо. Это очень хорошо, — повторяет он и, почти не повышая голоса, будто слова относятся не ко мне, а к кому-то другому, тихо произносит: — Спасибо вашему народу и вам спасибо, молодой человек. Нам тяжело живется сейчас. Спасибо!
Он достает из корзины несколько яблок и смущенно протягивает их мне.
— Больше нечем угостить вас. Все, что у меня есть, это несколько деревьев.
Я благодарю его. Он утирает потное лицо большим синим платком и, совсем смутившись, собирается уходить.
— Куда же вы торопитесь? Отдохните как следует!
— Пойду, пойду. Нужно угостить и других летчиков. Да и работать нужно.
— Я лучше позову всех летчиков сюда. У нас есть время, пока готовят самолеты.
Старик соглашается. И вновь тяжело опускается на стул.
Через несколько минут все в сборе. В старческих глазах гостя загорается живой огонек. Ему приятно смотреть на молодых, здоровых, жизнерадостных людей. Волнуясь, он дрожащей рукой достает из корзины яблоки:
— Берите! Спасибо вам, сынки!
Корзина пуста. Старик с сожалением смотрит на ее дно, кладет туда полотенце и раскланивается.
— Куда вы, падре? Посидите.
Весь день я вижу его на аэродроме. Он быстро устает, часто садится отдыхать и сокрушенно покачивает головой: жаль, что молодости не вернешь!
Люди мужают в борьбе
Нас мало, нас очень мало — три эскадрильи на всю Астурию. У противника несколько авиационных соединений. На каждого из нас в воздушных боях приходится по три, а то и по пять вражеских самолетов.
Каждая боевая машина, каждый летчик здесь — величайшая ценность. Мы это знаем и стараемся выжать все, что возможно, из нашей техники. Но уже в первые дни теряем одного пилота. Произошло это нелепо, обидно. Всему виной — горячность, безудержный юношеский темперамент.
Фашисты бомбили наш аэродром. Самый молодой из летчиков не стерпел, выскочил из укрытия и бросился к ближайшему самолету. «Вернись! — кричали мы ему. — Вернись!» — но все это потонуло в грохоте рвущихся бомб. Не оглядываясь, он добежал до машины, прыгнул на крыло и готов был уже сесть в кабину, но вдруг замер и упал на землю. Осколок сразил его наповал.
Эта первая жертва вновь пробудила во мне прежние опасения. Смогут ли молодые летчики сохранять самообладание в тяжелой, сложной обстановке? Перелет через территорию врага меня несколько успокоил, но теперь моя уверенность вновь поколебалась.
Присматриваюсь к летчикам. Они тяжело переживают смерть товарища. Клавдий ходит темнее тучи, забыл и стихи и книжки. Первый раз я вижу у него папиросу; по-моему, он не курил до этого.
Вечером молча, по одному, мы собираемся у вырытой могилы. Вперед выходит Клавдий. Медленно, словно не узнавая никого вокруг, обводит нас взором. Смотрим на лицо погибшего — на нем так и застыл отпечаток безудержной ярости. Клавдий вздрагивает и внезапно загорается.
— Камарадас! — говорит он громко, отчетливо. — Камарадас! — повторяет еще громче, призывнее. — Вспомните, с какой энергией он учился вместе с нами! Сколько надежд таилось в его душе, душе республиканца! Каждый час учебы приближал его к осуществлению заветной мечты — стать в ряды борцов за республику, за свободу народа. Сколько прошло дней и ночей в упорном труде, для того чтобы познать сложное искусство летного дела! И все это для того, чтобы бессмысленно погибнуть от осколков фашистской бомбы… — В голосе Клавдия горечь и обида. — Нет, камарадас, не для этого мы учились, — твердо продолжает он. — Пусть эта тяжелая утрата будет всегда напоминать нам о главном: необходимо жить для того, чтобы победить в нашей борьбе. Будем стойкими! Всегда будем помнить советы наших русских товарищей.
Раздается сухой треск выстрелов. Так мы прощаемся со своим товарищем. Его смерть для нас большой урок. Урок выдержки, настоящего мужества, которое не имеет ничего общего с неосторожным взрывом чувств, пусть даже самых благородных.
Утром у многих испанцев под глазами синие круги: не выспались. Встречают меня молча, сдержанными улыбками. Взрывается ракета. Летчики бегут к своим самолетам. Я поднимаюсь в кабину последним, приглядываясь к каждому из них. Нервных, лихорадочных движений не заметил.
Взлетаем и недалеко от Сантандера встречаем группу фашистских бомбардировщиков, идущих в сопровождении истребителей.
Я навсегда запомнил этот бой, в сущности первый в районе Сантандера. Трудно описать, с каким упорством и беззаветной храбростью сражались молодые испанские летчики.
Самолеты противника настойчиво пытались прорваться к городу. Мы преградили им путь. От наших ударов два вражеских бомбардировщика рухнули в провалы горных ущелий. Чувство гордости за испанских летчиков наполнило мое сердце. Молодцы! Сбылось то, о чем они мечтали и к чему упорно готовились.
Мы благополучно все до единого возвращаемся на аэродром. Приятно ласкают ухо звуки сирен, оповещающие жителей о том, что опасность миновала.
Я вижу — Клавдий выскакивает из машины и горячо обнимает своего товарища:
— Ты слышишь эти гудки? Они поют о нашей победе. Может быть, мы спасли многих людей от гибели.
— Слышу! Слышу! — отвечает ему летчик.
Первая замечательная победа! Наконец-то мы задержали врага на подступах к Сантандеру!
Но главное, что меня радует, — это даже не самый боевой успех, а то, чем он обеспечен. Впервые я почувствовал, что молодые летчики стремятся к взаимодействию, заботятся о взаимовыручке, о дружных совместных действиях. Порой во время боя я забывал, что сражаюсь вместе с новыми товарищами. Казалось, что вот ту машину ведет Панас, а рядом со мной летит не Клавдий, а Бутрым.
Итак, летчики начинают понимать цену выдержки, осмотрительности, самообладания. Конечно, еще возможны рецидивы слепой ярости, внезапной вспыльчивости в бою: война — не учебный полигон, а характер, старые привычки в один день не переломишь. Но начало положено, не теоретически, а практически, в боевой обстановке, летчики увидели силу слаженных, расчетливых действий.
Однако неотвратимо надвигается новая опасность. Все чаще и чаще я думаю о перенапряжении сил. Оно порой не по плечу и опытным воздушным бойцам. Франко рассчитывает, что блокированная со всех сторон северная группировка республиканских войск не сможет долго продержаться. Вот почему фашисты изматывают войска и население ежедневными бомбардировками с воздуха. И вполне понятно, почему фашистское командование с таким остервенением бросает стаи своих истребителей против нашей эскадрильи. Мы им путаем все карты.
Почти каждый вылет сопровождается ожесточенными боями. Не одолев нас в первых воздушных схватках, фашисты вновь принимаются бомбить наш аэродром. Они стараются прилетать как раз в те минуты, когда мы заправляем машины горючим и боеприпасами Рассчитать время посадки наших самолетов — не слишком сложная задача.
В результате наш боевой день проходит так. С рассвета улетаем на задание и обычно через несколько минут встречаемся с противником. Возвратившись, сразу же начинаем торопить механиков: «Скорее заправляйте машину!» Уже с первых дней мы усвоили правило: прилетел — не вылезай из кабины; может быть, механик еще не успеет закончить заправку бензобака, как уже придется вновь подниматься в воздух. Нередко мы взлетаем с неполными бензобаками и зарядными ящиками.
Осенние дни сравнительно коротки: это уже не те летние дни под Мадридом, когда заря спешила догнать закат. Но я подсчитываю число боевых вылетов и вижу, что мы, в общей сложности, находимся в воздухе столько же времени, что и летом. В среднем четыре — пять вылетов в день. Если учесть, что летчики лишь изредка получают возможность вылезти из кабины и поразмяться, что с утра до вечера они находятся в машинах, в полусогнутом положении, что обедать нам приходится урывками, на ходу, то станет ясно, как достается каждому из нас.
От многочасового сидения в кабине некоторые стали сутулиться. Плохо спят, несмотря на усталость, ворочаются, бормочут во сне, что-то выкрикивают.
Не легче и механикам. Они дежурят на аэродроме с начала до конца полетов. Но ведь редко выдается день, когда мы возвращаемся целехонькими. Наоборот, каждый день в машинах пробоины, то одно повреждение, то другое. Ремонт приходится делать ночью.
Напряжение страшное. Вечером, когда я возвращаюсь с аэродрома, в голове одна мысль: только бы дотянуть до койки! С тревогой я думаю: вытерпим ли мы нечеловеческую перегрузку, не сдадут ли нервы?
Тот, кто воевал, знает, как вдохновляет человека победа, сколько новых сил и возможностей открывает он в себе, если добился успеха. Нам удается иногда за один день сбить несколько вражеских самолетов. Это бывает в самые нелегкие дни. Но летчики словно преображаются. Вечером Клавдий достает свою заветную тетрадку и при свете электрического фонарика пишет стихи.
Победа — вот лучшее средство восстанавливать силы. С радостью я чувствую, как, несмотря на тяжелые условия, молодые летчики с каждым днем все успешнее овладевают искусством побеждать врага. Это заметно не только в воздухе, но и на земле.
Однажды утром я прохожу по стоянке и вижу, как один из летчиков вместе с механиком старательно замазывает краской огромного коричневого тигра, нарисованного на фюзеляже. Примета зрелости! Попробовали бы вы месяц назад сказать, что все эти тигры, орлы, коршуны на фюзеляжах — чепуха, несерьезное молодечество, так же как бесчисленные амулеты в кабинах — старомодное суеверие! Даже Клавдий и тот постоянно возил в своей кабине разноцветную фигурку клоуна. Правда, он отшучивался:
— Это мой второй пилот. Он мне рассказывает, куда нужно лететь.
Теперь поняли: врага не испугаешь разинутой пастью тигра, и в бою не спасет амулет. Не спас же амулет Мигуэля, хотя у него был амулет из амулетов — браслет, свитый из волос любимой девушки. Не спас амулет и Педро…
Двух летчиков потеряли мы. Двух способных летчиков. Мы сполна отплатили за гибель товарищей. В моей записной книжечке против каждой фамилии летчика стоят палочки. Каждая палочка — сбитый вражеский самолет. Больше всех сбил Клавдий — шесть фашистских истребителей.
Иногда мы низко пролетаем над передовой, и я вижу, как солдаты в окопах поднимают винтовки, приветствуя нас. В эти моменты белый шарф Клавдия развевается, как вымпел.
Своеобразно выразили свои чувства к нам и наши собратья по оружию. Один из дней выдался пасмурным, дождливым. Летчики впервые за долгое время отдыхали. Я поехал навестить наших соседей — летчиков республиканской эскадрильи, расположенной от нас километрах в сорока.
Они в этот день тоже не могли летать. Застал их всех в общежитии за довольно странным занятием: летчики сидели вокруг барабана испещренного различными именами, и, читая эти имена, вспоминали, когда, где и при каких обстоятельствах они появились.
Меня тотчас усадили возле барабана и засыпали вопросами. Но мне не давал покоя барабан.
— Что это такое? — наконец спросил я.
— На этом барабане в свое время расписались наши лучшие друзья, — ответили мне. — И вот когда у нас есть свободное время, мы вспоминаем о них.
Вечером я уезжал. Уже сел в машину, как вдруг раздался крик:
— Камарада! Как же вы могли забыть!
Меня вытащили из машины. Кто-то спросил:
— Вы не знаете, какие почерки у ваших летчиков?
Я рассмеялся. Нет, я еще не настолько изучил их, чтобы знать почерк каждого. Испанцы задумались, и вдруг кого-то осенила мысль:
— Пусть вслед за камарада Боресом каждый из нас распишется за одного из летчиков его эскадрильи.
— Но вы же не знаете их, незнакомы с ними!
— Мы не раз видели их в воздухе, — ответили мне. — Мы знаем, что так воевать могут только настоящие солдаты республики. А это наши лучшие друзья.
Изобретение Хуана
Я держу на ладони четыре смятых кусочка свинца. Угоди они в мой самолет вчера — мне бы несдобровать. А сегодня я ощутил лишь дробный глухой стук за спиной и в бою не придал ему особого значения.
Хуан очень доволен:
— Хорошо, что мы придумали эту спинку!
— Не мы придумали, а ты, Хуан! — говорю я механику.
Золотой, чудесный парень! И скромник, каких свет не видал. Поменьше говорить и побольше делать — вот жизненное правило Хуана.
В тот день, когда мы прилетели в Сантандер, я лишь под вечер смог поговорить с ним.
— Знаешь, Хуан! Сразу попали из огня да в полымя. И я не успел поинтересоваться, как ты себя чувствуешь после полета.
Хуан удивленно приподнял брови:
— Спасибо, камарада Борес! Чувствую себя хорошо. Правда, в полете немного замерз, но когда услышал, что вы стреляете, забыл о холоде.
— Не страшно было? — улыбнулся я.
— Нет, что вы! Я все думал, что хотя мое тело — лишний балласт для самолета, но зато, в случае чего, оно могло бы послужить защитой для вас сзади. Это меня успокаивало.
Хуан говорил искренне. Я знал это, но возмутился и резко сказал ему:
— Не говори глупостей, Хуан!
— Какие глупости, камарада Борес! Говорю вам, я всю дорогу думал о том, что сзади летчик совершенно не защищен, и сейчас об этом все время думаю. — И тихо добавил: — Надо что-то сделать. Так дальше нельзя воевать.
Я не придал значения этим словам. Что можно придумать? Броню за сиденьем летчика? Но ведь это дело конструкторов: уж кто-кто, а они-то знают, что в бою смерть всегда подкарауливает летчика сзади. Видимо, конструкция самолета не позволяет устроить броневую защиту за спиной пилота. Броня утяжеляет вес самолета, снижает его летно-тактические данные. Ну, а что касается того, можно так дальше воевать или нельзя, то сама жизнь показывает: можно. Можно, если хорошо усвоишь одно правило: «Не подставляй в бою спину, а иди на врага грудью». Правда, правило правилом, а бой боем, и у человека не сто глаз. Но что поделаешь!
Не оценил я слов Хуана и скоро забыл о них так же, как и о вопросе, который он мне задал тем же вечером:
— Скажите, камарада Борес, как вела себя машина в воздухе, когда мы летели сюда?
— Отлично, — коротко ответил я.
— Очень хорошо, — задумчиво произнес Хуан и расплылся в улыбке. — Прекрасно!
Гибель Гарсиа, молодого испанского летчика, окончательно утвердила Хуана в его решении.
Произошло это во время одного из налетов бомбардировщиков, когда франкисты приближались к аэродрому. Наша эскадрилья успела взлететь. Заметив это, фашисты тотчас же начали сбрасывать бомбы на окрестные населенные пункты. В прах разлетелось несколько домов мирных жителей, вспыхнули пожары. Мы врезались в строй фашистов. Воздушный бой завязался над самым аэродромом. Наши атаки вскоре увенчались успехом. Два бомбардировщика упали на окраине Сантандера. Но тут же на горизонте показалась большая группа немецких истребителей. В плотном строю они шли к месту боя.
Мы понимали, что нам придется нелегко, но каждый из нас с еще большей силой понимал и чувствовал, что сейчас с улиц Сантандера на нас смотрят отцы и матери, трудовой народ, который справедливо осудит своих сыновей, если они дрогнут в бою.
Мы пошли в лобовую атаку. Нас было значительно меньше, чем фашистов. Повсюду мелькали крылья с черными крестами. Но испанцы сражались самоотверженно. Буквально в течение нескольких минут немцы потеряли еще два самолета. Но и «мессерам» удалось сбить одного республиканца. Он упал на окраине аэродрома, словно и в смерти своей не желая расставаться с родным гнездом. Видимо, почувствовав, что придется дорого заплатить за гибель нашего летчика, фашисты начали поспешно уходить.
Мы приземлились. Еще теплилась слабая надежда: может быть, Гарсиа жив? Может быть, он только ранен?
Нет, Гарсиа был убит в воздухе, несколько пуль поразили его сзади.
— В спину? — переспросил меня Хуан.
— Да.
— Камарада Борес, так больше продолжаться не может, я не могу спокойно смотреть на это!
Впервые я видел Хуана очень взволнованным.
— Разрешите мне на несколько часов уехать в город, а ваш самолет обслужит другой механик.
Я удивился, но тут же дал согласие: Хуан никогда не отлучался без крайней необходимости.
…Наступали сумерки. Полетов больше не предвиделось. Я уже было направился вместе с летчиками к автобусу, чтобы ехать к себе в общежитие, как вдруг на летное поле вкатил маленький грузовичок. Машина круто затормозила перед нами, и с нее спрыгнул Хуан. За ним степенно перелез через борт пожилой незнакомый человек.
— Камарада Борес! — подбегает ко мне возбужденный механик. — Я привез рабочего с судоремонтных верфей, и вот посмотрите, что еще мы привезли. Это листовая сталь. Настоящая сталь! — И он показывает стальную плиту причудливой формы. — Камарада Борес! Мы вырезали из стали такой кусок, который будет закрывать сзади спину и голову летчика. Весит он всего девятнадцать килограммов. Вот! — И Хуан торжественно поднимает над головой плиту. — Камарада Борес! — Сталь со звоном падает на землю. — Я в три раза тяжелее, чем эта плита…
— А ну-ка, принесите винтовку и несколько бронебойных патронов, — прошу одного из авиамехаников.
Об отъезде в общежитие все забыли. Шофер автобуса, сутуловатый нескладный парень, вылез из кабины и так же заинтересованно, как все, смотрит на то, что происходит. Мы ставим плиту возле большого камня. Я заряжаю винтовку и отхожу на сто метров. Выпускаю всю обойму. Тотчас же винтовка в сторону — и мы бежим к плите. Ни одна пуля не прошла навылет. Сделав лишь вмятины, все пять пуль, сплющенные, лежали на земле. Здорово! Первую минуту все стоят как зачарованные, не отрывая глаз от чудесной плиты.
— Давайте-ка попробуем ударить ближе.
Стреляю снова, и еще быстрее мы бежим к плите.
— Нет, ничего нет! Смотрите! — ликует Хуан.
И правда — ни одного отверстия. Ну и здорово! И в тот же момент Хуан и рабочий, поднятые сильными молодыми руками, взлетают вверх.
— Ура Хуану! — кричит кто-то, и все летчики и механики, шофер восторженно подхватывают «ура», качая чуть-чуть перепуганного, но счастливо улыбающегося Хуана.
— Теперь один вопрос: когда вы сможете нарезать плиты для всех самолетов? — спрашиваю я рабочего.
— О! — восклицает рабочий. — Завтра же!
И вот я держу на ладони четыре бесформенных кусочка свинца и не могу оторвать от них глаз. Сколько жизней сбережет для республики простое изобретение Хуана!
Вот и он стоит, худощавый, щуплый, как подросток, в замасленном старом комбинезоне, и ковыряется в моторе. Пожалуй, уже забыл наш разговор. Может быть, новые заботы одолевают его. «Спинка — дело прошлое, чего вспоминать о спинке, — думает он, наверное. — Вот мотор почему-то начал барахлить. О моторе стоит поразмыслить».
Я не хочу подходить ближе — он не любит, когда ему мешают во время работы.
Вновь и вновь мои мысли возвращаются к бронированной спинке. Пройдут годы — и каждый боевой самолет обрастет броневым прикрытием сзади. И будет это прикрытие прочнее, надежнее, чем стальная плита, грубо вырезанная автогеном на Сантандерской судоверфи. Но этот первый броневой заслон я не забуду никогда, и не только потому, что он спас мне жизнь, а потому, что его изобрел Хуан. Изобрел не ради славы или почета, а ради любви к людям, к делу свободы.
Наш юный друг
О Франциско следует рассказать особо — это наш новый друг. Если бы у нас, как в соседней эскадрилье, был барабан, имя Франциско обязательно красовалось бы на очень видном и почетном месте этого инструмента.
Познакомились мы с Франциско случайно. Впрочем, не так уж случайно. Будь мы более наблюдательны или менее заняты боевой работой, мы, наверно, раньше бы заметили пожилую женщину и мальчугана лет десяти, занятого каким-то своим, очень серьезным делом. Они уже не один день проводили с утра до вечера возле нашего аэродрома.
Увидел я их утром, перед очередным полетом. Женщина сидела на придорожном камне, вязала. Мальчуган, худенький, бледный, что-то мастерил из обрывков проволоки. Глядя на них, я подумал, что женщина, пожалуй, устала после дороги и вот решила присесть, отдохнуть. Зря только она расположилась возле аэродрома: беспокойное место, каждую минуту здесь можно ожидать налета фашистских самолетов.
Лицо женщины мне почему-то показалось знакомым. Как будто и мальчика я где-то видел. Я уже собирался подойти к ним, сказать, что сидеть возле аэродрома опасно, но увидел подбегающего ко мне телефониста:
— Вас срочно зовут к аппарату!
Бегу. Командование приказало немедленно вылетать к перевалу — соседи ведут там тяжелый бой. Быстро взлетели и направились в указанный район.
В бою я, конечно, не вспомнил о женщине и мальчике, но, возвращаясь на аэродром, подумал о них: наверное, уже ушли. Перед посадкой всматриваюсь — сидят на том же самом месте. Может быть, и вчера они там сидели — именно поэтому они и показались мне знакомыми.
Вылезаю из кабины, и в этот момент из-за гор неожиданно выскакивает звено вражеских бомбардировщиков. Вижу — женщина нагнулась к мальчику и что-то говорит ему, указывая в сторону бомбоубежища.
Вот-вот должны посыпаться бомбы. Что есть силы кричу женщине, машу руками — зову их к укрытию. Женщина увидела меня, но осталась на прежнем месте, а мальчуган стремглав ринулся к убежищу.
«Не успеет», — подумал я и бросился ему навстречу. Подхватываю мальчугана на руки и поворачиваю назад, но уже поздно. Пронзительный свист падающих бомб заставляет меня лечь тут же на землю. Грохот сотрясает все вокруг. Мальчуган дрожит, жмется ко мне; стараюсь его успокоить, глажу по голове.
Как и прежде, фашисты сбросили свой груз с ходу, не задерживаясь над аэродромом. Бомбы упали бестолково, не причинив нам никакого вреда.
После грохота наступает тишина, а перепуганный мальчуган никак не может открыть крепко зажмуренные глаза. Наконец он решается открыть их, растерянно смотрит на меня, не узнает. Потом спрашивает:
— Где мама?
Смотрю в ту сторону, где осталась женщина. Она стоит возле того же самого камня.
— Вон твоя мама, идем к ней. — И, взяв мальчика за руку, направляюсь к женщине.
Она делает навстречу нам несколько усталых шагов и останавливается — ждет. Еще издали смотрю на нее — печальная, чуть ссутулившаяся фигура, старенькое, мешковатое платье. Подхожу ближе — лицо моложавое, но серебристая седина уже густо пробивает черные волосы.
Мальчик вырывает свою руку из моей и бросается к матери, в ее объятия. Она схватывает его на лету, приподнимает, целует, шепчет какие-то понятные только ей и ему слова. Она не улыбается, не смеется — отвыкла. Лишь большие черные глаза ее горят радостно, а по щекам скатываются слезы.
Я спрашиваю ее, почему она сидит с сыном возле аэродрома — ведь это же опасное место.
— Опасное? — переспрашивает она и кивает головой. — Да, я знаю, здесь очень опасно. Но мне сказали, что на аэродроме есть такое убежище, которое не пробьет никакая бомба. Поэтому я и хожу сюда — я хочу спасти своего ребенка. Я живу здесь, поблизости, сеньор. Бомбы падают вокруг, и кажется — от них нигде нет спасения. Сын — самое дорогое мое сокровище. И последнее. О муже и старшем сыне я уже давно ничего не знаю, боюсь, что их нет в живых, — они первыми ушли на фронт, защищать республику.
— А на что вы живете? — спрашиваю ее.
— Вяжу. Заработок грошовый, но двоим нам много не нужно.
Улыбается, гладит сына. В памяти снова всплывает Картахена, где я впервые увидел несчастных матерей. Друг за другом шли они по дороге с детьми на руках, уходили из родных, насиженных мест с одной мыслью — найти спасение для своих детей.
Задумался я, что ли, или просто с моего лица сошла улыбка, только женщина вдруг посмотрела на меня, и в глазах ее мелькнул испуг:
— А вы не сердитесь? Вы разрешите мне приходить сюда?
— Конечно. Непременно приходите.
Я успокаиваю ее, объясняю, что во время налета слишком рискованно ей самой оставаться на открытом месте.
— Лучше всего, — говорю я, — если вы будете приводить своего мальчика каждое утро на аэродром, а к вечеру брать его домой. Не беспокойтесь, мы его сбережем, а у вас будет время по-настоящему работать.
Женщина горячо благодарит, низко кланяется. Мальчуган, по-видимому, того и ждал — запрыгал, захлопал в ладоши. Так началось наше знакомство.
А сейчас это уже не знакомство, а настоящая крепкая дружба. Чуть свет Франциско на аэродроме. Теперь он не стесняется, когда ему дарят сладости. Он, правда, отвык от них и прежде чем съесть перекладывает конфету из кармана в карман, долго ее рассматривает: ему жалко сразу расстаться с ней. Когда взлетает ракета — сигнал на вылет, Франциско отбегает в сторону от самолетов и долго стоит, машет нам рукой, пока все машины не скроются вдали. А когда мы возвращаемся, он вскачь несется навстречу нам. Он уже успел сосчитать, что вернулись все машины, и радуется бурно, подпрыгивая на одной ноге, выкрикивая какие-то воинственные слова.
А иногда Франциско не видно целыми часами. Значит, сидит в уголке и что-нибудь мастерит. Хуан дал ему тонкой проволоки и кое-что из инструментов. У Франциско ловкие руки и светлая голова, он любознателен и не по-детски настойчив.
Неожиданно в нем обнаруживаются незаурядные способности. Вечером он попросил у Хуана несколько кусочков алюминия, мягкой контровой проволоки. Клавдий рассмеялся:
— Не думаешь ли ты, Франциско, помогать нашим механикам?
— Нет, — серьезно ответил Франциско, — я хочу сделать маленький самолет.
На другой день Франциско не пришел на аэродром, не появился он и на второе утро. Каково же было общее изумление, когда очень рано на третий день Франциско появился, держа обеими руками модель самолета.
— Вот, сделал! — сказал он и поставил свою модель на ящик, чтобы все могли ее лучше разглядеть.
Мы ахнули: это была маленькая модель истребителя.
— Смотрите, да тут убирающиеся шасси! — воскликнул кто-то.
— А цилиндры-то, цилиндры — как настоящие!
Кое-кто усомнился: мог ли мальчик сделать такую модель?
— Ты сам сделал этот самолетик? — спросили Франциско летчики.
— А кто же мне сделал его? — ответил юный конструктор. — У меня дома много и других машин. Только они хуже. Раньше я не видел близко настоящих самолетов, и они у меня получались плохие.
Наши сомнения быстро рассеялись: вторую модель Франциско сделал не дома, а на аэродроме. Хуан пытался ему помогать — Франциско решительно запротестовал. Модель получилась еще изящнее.
— Мальчика нужно учить, — говорили мы матери Франциско.
Она и радуется за сына и печалится за него.
— В Сантандере закрыты все школы. Я каждый день молю бога, чтобы все вы остались живы и здоровы, чтобы вы победили. Тогда и мой Франциско, может быть, станет настоящим человеком.
А однажды она подошла ко мне и спросила:
— Это верно, что многих испанских детей эвакуируют в Советский Союз?
Я ответил утвердительно и добавил, что направляют в нашу страну детей-сирот.
— Только сирот? — переспросила она.
— Да, насколько я знаю, сирот.
Мне показалось, что она огорчилась. Я удивился: неужели она, мать, может на долгие годы расстаться со своим сыном? И прямо спросил ее об этом.
— Нет, нет! — заволновалась она. — Я никогда не отпущу от себя Франциско! Я только подумала, как бы ему хорошо было в вашей стране!
Мы очень привязались к мальчику, и он отвечает нам тем же. Больше всех ему нравится Хуан: он ходит за ним как тень. Хуан раздобыл несколько простеньких книжек и, если выдается свободный час, учит Франциско грамоте. Даже когда у механика много работы, он нет-нет да оторвется от нее и посмотрит, чем занят сейчас Франциско.
— Наш большой маленький друг, — говорит он о мальчике.
Мне и самому иногда кажется, что случись что-нибудь с Франциско, переполошится вся эскадрилья. Недаром летчики часто сердятся:
— Франциско! Куда ты прибежал? Иди играй поближе к бомбоубежищу.
Бомбежек Франциско боится по-прежнему. А кто их не боится?
Забегая вперед, скажу, что вскоре я покинул Сантандер. Улетел я оттуда ночью и, конечно, не попрощался ни с Франциско, ни с его матерью. Я так и не знаю, что с ними сталось потом.
Но и теперь, через много лет, когда я встречаю в печати заметки или очерки о выросших в Советском Союзе испанских детях, я всегда вспоминаю Франциско. И хотя я знаю, как мало вероятно, чтобы он оказался в нашей стране, я все равно с волнением пробегаю статью: не попадется ли мне вдруг и его имя?
Нет, этого пока еще не случилось. Но всякий раз мне живо представляются суровые горы Астурии, костры в темных ущельях и у костров спокойные фигуры партизан. Может быть, среди них и был Франциско?
Кем ты стал, наш большой маленький друг?
Тяжелое задание
Ночью по палатке мелкой дробью постукивал дождь, под одеяло ползла липкая сырость. К утру стихло, но небо оставалось затянутым провисшими от влаги тучами. Рассвет начинался нехотя. Нелетная погода.
Дольше обычного я лежал на койке — делать-то нечего. И вдруг задребезжал телефонный звонок.
— Слушаю вас.
Из штаба Северного фронта сообщали, что за перевалом фашистские бомбардировщики усиленно бомбят республиканские позиции, расположенные в одном из горных проходов.
— Неужели за перевалом хорошая погода?
— Да. Ведь здесь в каждой долине своя погода.
Спрашивают: можем ли мы вылететь на помощь?
— Помощь очень нужна, франкисты решили любой ценой завладеть этим проходом, чтобы вывести через него свои войска к Бискайскому заливу, к городам Кихону и Сантандеру.
Одно мгновение я колеблюсь. Сказать, что мы не можем? Ведь мы действительно едва ли сможем вылететь. Но ведь нас ждут! Ведь сотни солдат — астурийских горняков, наверное, не знают, что над нашим аэродромом висит облачная пелена. Видят над собой ясное небо и в нем фашистов и думают: «А где же наши? Что же наши?»
— Мы вылетим, — отвечаю я.
Выхожу из палатки, и меня невольно берет оторопь. Резкий, порывистый ветер. Полотнища палаток приподнялись и готовы оторваться от кольев. Со стороны моря тянутся и тянутся темные тучи. Все небо наглухо закрыто ими, а они продолжают клубиться в высоте, опускаясь все ниже и ниже. М-да, погодка… Пробивать облачность вблизи высоких гор немыслимо. Что же делать?
Стою в раздумье и невольно вспоминаю Серова. Анатолий, наверное, нашел бы выход. Серов! А что если попробовать осуществить его идею — он ее не раз высказывал и, может быть, уже применял. Идея дерзкая, смелая: пробивать облачность не так, как это мы делали обычно, — порознь, а в плотном строю, крыло к крылу. «Понимаете, что это значит? — говорил Анатолий, защищая эту идею. — Это значит, что командир во время полета ни на минуту не выпустит из своих рук управление подразделением. Раз! Это значит, что эскадрилья наверняка не потеряет ориентировки в слепом полете, если, конечно, у нее толковый командир. Ну, а командиры должны быть толковыми. Два! И это значит, что самолеты выйдут из облачности не поодиночке, а все вместе и смогут ударить по врагу со всей силой, крепко сжатым кулаком! Три! Вы понимаете, что это значит?!»
Понимаю, все понимаю, Толя. Помню, как ты вместе с Михаилом Якушиным даже демонстрировал нам пробивание облачности строем. Но ведь это ты и Якушин, люди, обладающие редкостным мастерством! Недаром же о Михаиле говорят, что он ходит с тобой так, словно держится рукой за твою плоскость. А что если по неопытности мои летчики в тумане, в «молоке», столкнутся друг с другом?
Но почему я так плохо думаю об испанских летчиках? Пролетели же мы через всю территорию мятежников на большой высоте без кислородных приборов. Показали же испанцы в боях незаурядное летное искусство. Почему же они непременно столкнутся в воздухе, если строем войдут в облачность? Чепуха! Нужно и можно рискнуть. Главное — нужно. Тогда мы действительно по-настоящему дадим жару фашистам. И, в конце концов, только одному мне, командиру, придется вести слепой полет, а остальные будут ориентироваться в пространстве по крыльям впереди летящего самолета. Для всех летчиков полет не будет слепым. Ну, а для того, чтобы убавить риск, можно будет пробивать облачность не всей эскадрильей сразу.
Решено! Быстро собираю летчиков. Клавдий бросает на меня вопрошающий взгляд. Некоторые с досадой посматривают в сторону Кантабрийских гор, до половины окутанных тучами.
Рассказываю о задании командующего.
— Задание действительно тяжелое. Будем выполнять его так. Слушайте внимательнее, и у кого будут замечания, прошу их высказать. После взлета мы пойдем не в горы, а в сторону моря, километрах в десяти от берега попробуем пробить облака и выйти выше их, на чистый простор. Всей эскадрильей сделать это едва ли удастся, поэтому я сначала попытаюсь провести половину эскадрильи, оставлю ее над облаками, а затем вернусь за остальными.
Летчики плотнее обступают меня.
— Одно следует твердо запомнить и выполнить, — продолжаю я. — Перед тем как войти в облака, сомкнитесь крыло в крыло и все свое внимание уделяйте впереди идущему самолету. После выполнения задания, на обратном пути, пробивать облачность вниз каждый будет самостоятельно, выдерживая направление полета только к берегу. Ясно?
Раздаются голоса:
— Крыло в крыло?
— Значит, всей эскадрильей выйдем в район боя!
— Это здорово!
— Ну что ж, если ни у кого нет сомнений, — по самолетам! Желаю всем успеха! Быстрее собирайтесь.
Взлетаем и берем курс к морю. Потом нам рассказывали, что жители Сантандера чрезвычайно удивились, увидев, что республиканские истребители впервые почему-то уходят в сторону, противоположную фронту. Пошли толки: не покидает ли авиация Сантандер? Сомнения несколько рассеялись, когда я с первой группой истребителей вошел в облака, временно оставив вторую группу над морем. Загадочный маневр остался, конечно, непонятным, но зато несколько успокоил жителей: уж если бы самолеты уходили, так сразу все. В это время мы уже пробивали облака. Словно привязанные один к другому, самолеты шли тесным, плотным строем. Я понимал, что успех дела зависит сейчас только от ведущего.
Нервы напряжены до предела. Кажется, что мы уже давно идем в «молоке». Где же край этой толщи облаков?
И вдруг в кабину брызнули яркие лучи солнца. Я невольно зажмурился. Потом, щурясь, посмотрел вниз. Под самолетами расстилалось необозримое, слегка холмистое облачное поле. И среди этих белых холмов поднимались острые вершины Кантабрийских гор, покрытые искрящимся снегом.
Но время, время! Сейчас не до любования природой. Оставляю группу и снова скрываюсь в облаках.
Через несколько минут тем же путем провожу и остальные самолеты. Самое тяжелое осталось позади. Теперь к району боя!
Обе группы сливаются в одну. Ориентируясь по отдельным горным вершинам, направляемся к району, указанному командующим. Летчики отлично держатся в строю. Постепенно облачная пелена, прикрывающая землю, истончается, и кое-где уже видна земля. Наконец вдали показывается край облачного поля. Удивительное дело — дальше ни облачка.
Не изменяя боевого порядка, мы стремительно приближаемся к месту боя, появляемся как раз в тот момент, когда вторая волна фашистских бомбардировщиков готовится сбросить бомбы. Немцы, видимо, всерьез решили, что появление республиканских самолетов из-за неблагоприятной погоды совершенно исключено. Оглядываю воздушное пространство и не вижу ни одного вражеского истребителя.
Ну что ж, легче будет вести бой с бомбардировщиками. Даю сигнал «приготовиться к атаке», и только в этот момент фашисты замечают нас. Поздно! Они не успевают принять контрмер, мы раскалываем их строй, и в первую же минуту один бомбардировщик, объятый пламенем, падает вниз.
Фашисты дрогнули. Беспорядочно сбрасывая бомбы (кажется, на своих, совсем хорошо!), они удирают. Мы их преследуем, но недолго. Из-за хребта показываются истребители с черными крестами.
Одно-два мгновения, всегда полных огромного напряжения. Мы сближаемся. Успеваю лишь быстро сосчитать гитлеровцев: много, очень много. Но что это такое: справа — еще целая эскадрилья?! Сколько же их, сволочей, здесь, на севере?
Звучит сухой треск первых очередей. Не обороняться, а нападать, иначе сразу же сомнут, — вот правило, которого мы постоянно придерживаемся в таких неравных боях.
Клавдий — испанский летчик.
Испанцы сражаются отчаянно. Нам удается крепко держать инициативу в своих руках. Один за другим валятся на землю три немецких истребителя. Вспыхнул и один республиканский самолет. Кто это, кто?
Драться парами, не позволять противнику расколоть пару — это наше второе правило. Рядом со мной дерется Клавдий. Молодец Клавдий! Отбиваясь от немцев, он старается помочь и мне, наносит удар за ударом. Фашисты почему-то с особым остервенением бросаются сегодня на испанцев. Неужели им удастся оттянуть Клавдия в сторону?
Немцы наваливаются на нас кучей. Клавдий делает все что может. Но что можно сделать, когда противник бьет и снизу, и сверху, и сзади, и спереди!
И вот я теряю Клавдия из виду. Четыре «мессера» непрерывно атакуют меня с разных сторон. Стараюсь бить в упор по немецкому самолету, на борту которого нарисован удав с разинутой пастью. Истребитель валится вниз. Успеваю развернуться навстречу другому, нажимаю на гашетки, но пулеметы молчат. Патроны кончились. Конец?
И вдруг сухой треск раздается совсем близко — сзади. Мотор делает несколько неровных рывков, и винт останавливается. Леденящая мысль заставляет на мгновение оцепенеть: «Неужели действительно конец?»
Внизу — облака. Земли опять не видно. Скрыться в облаках? Но как скрыться, если мотор не работает? Где я приземлюсь? Здесь же кругом горы, горы, горы! Невольно тянусь к парашютному кольцу и тотчас же отдергиваю руку. Ветер дует в сторону противника: выброситься с парашютом — неминуемо попасть в плен. Но искра надежды не угасает в сознании. Что делать? Только одно — идти в облака, планировать в сторону Сантандера, а там уже что будет.
Решительно илу вниз, стараюсь направить самолет к республиканской территории. Жутко. Мотор молчит, слышу, как за кабиной свистит встречный поток ветра.
Фашисты не успевают повторить своей атаки. Белая масса облаков смыкается над моей головой. Самолет быстро теряет высоту и с нарастающей скоростью устремляется в бездну. Напрягаю зрение, стараясь пронзить взором глухую облачную пелену и хоть за что-нибудь уцепиться взглядом. И вдруг впереди мелькнуло какое-то темное пятно, и разом все кончилось…
Очнулся от страшного озноба, пробиравшего до костей. В голове невероятный шум, что-то теплое и липкое клокочет в горле. С трудом приподнимаю тяжелые, словно оловянные веки и в первое мгновение не могу понять: вижу или не вижу? Нет, вижу: это непроницаемый белый туман окружил меня. Руки упираются во что-то холодное и мокрое. Трудно дышать. Кашляю, выплевываю черный сгусток крови. Сразу становится легче. Быстро проясняется сознание. Резко, отчетливо вспоминаю все, что произошло. Спас меня глубокий рыхлый снег, местами лежавший на вершинах гор. Я врезался как раз в такое снежное поле.
Жив! Теперь нужно собрать все силы, всю энергию, чтобы сохранить жизнь. Пробую ориентироваться. Море, Сантандер, аэродром, наверное, не так далеко — там, внизу, подо мной. Надо быстрее уползать со снежного поля. На мне легкая шелковая майка и летние брюки, они уже насквозь промокли от тающего снега. Выбираюсь из-под обломков самолета и на ощупь ползу по снегу вниз. Ползу, потому что чувствую: на ноги мне сейчас не подняться — мало сил, упаду. Оглядываюсь — на снегу алеют пятна крови.
Но вот снег остается позади, озноб начинает почему-то пробирать еще сильнее. Больно, очень больно лежать на камнях. Как ни поворачивайся, все равно плохо. Но ползти надо, иначе погибну.
Стараюсь не останавливаться. Не знаю, сколько времени продолжается этот мучительный спуск: может быть, час, два, а может, и пять. Чувствую лишь, что становится теплее, туман разреживается. Граница облаков близка — не за тем ли большим камнем?
И вот — неужели?! — передо мной открывается слегка затуманенная даль. Синее море и где-то внизу, далеко-далеко, смутные очертания Сантандера.
Величайшая, ни разу не испытанная доселе радость охватывает меня. Я пробую встать, но изнеможение валит снова на землю, на теплую землю. Очень хочется спать. Не помню, как вновь приходит забытье…
По-видимому, прошло еще несколько часов. Грубые толчки в бок заставили меня открыть глаза. Гляжу — надо мной три человека в крестьянской одежде. Лица суровые, выпытывающие. Кто я? У одного крестьянина в руках большой камень, у другого — увесистая дубина. Собравшись с силами, прошу, чтобы мне помогли спуститься вниз. Услышав ломаный испанский язык, крестьяне молча переглядываются.
— Ну, конечно, немецкий летчик! — презрительно сплевывает один из них.
— Пришибить его на месте — и все! — добавляет другой.
— Я республиканец!
— Э-э, нас не проведешь! — усмехается пожилой крестьянин и режет, глядя мне прямо в глаза: — Республиканцы так не говорят!
С ужасом чувствую, как силы вновь оставляют меня. Кричу, но губы не шевелятся:
— Я русский, вон там, внизу, мой аэродром!
И снова мрак, пустота…
Крепкое вино обожгло горло. По всему телу разлилась приятная теплота. В третий раз вернулось сознание. Чистенькая, выбеленная мелом комнатка. Женщина в белом халате стоит у моей кровати и держит в руках ложку и небольшую бутылочку. Осматриваюсь. Ничего не могу понять. Где я?
— На своем аэродроме, — улыбается женщина. — Только лежите, пожалуйста, вам сейчас необходим полный покой.
— На своем аэродроме? Но как я сюда попал?
— Лежите тихо, молчите. Вас принесли сюда крестьяне из соседней деревни. Они нашли вас в горах.
Значит, те трое крестьян все-таки поверили, помогли?!
— Какой вы беспокойный человек, камарада! Ведь я сказала, что принесли вас сюда крестьяне. Дайте я поправлю подушку. Принесли и страшно испугались, когда узнали, что вы действительно республиканский летчик да еще командир эскадрильи. Успокойтесь! Возбуждение опять отнимет у вас силы. Они сказали, что придут завтра навестить вас и попросить прощения.
— Прощения? Ведь они спасли меня!
— Боже мой! Я уйду… Я вам запрещаю разговаривать. Ведь все так ясно: они вас приняли за немца. Они узнали, что вы русский, лишь после того, как вы снова потеряли сознание. Нашли в вашем кармане удостоверение и прочитали его. Хватит, хватит разговаривать! Я ухожу.
Женщина решительно направляется к двери, но прежде чем она доходит до нее, в коридоре раздается нерешительное шарканье чьих-то шагов.
— Нельзя, нельзя! — говорит она, открывая дверь.
А я вижу своих добрых ребят. Они стоят, боясь переступить порог.
— Пустите их, — говорю я. — Пустите.
Женщина вздыхает и покорно опускается на табуретку возле двери. Я бы на ее месте тоже не смог отказать. Хуан входит в комнату на цыпочках. Летчики стараются сохранить серьезность., но это им не очень удается.
— Как вы чувствуете себя? — спрашивает Клавдий.
— Кости как будто целы, а остальное все заживет. Вы лучше скажите, чем кончился тот злополучный бой?
— Одного мы потеряли, товарищ командир, зато сбили пять фашистов, и ясно, что сорвали все их планы.
— Кого потеряли?
На минуту в комнате воцаряется тишина. Гардиа! Молчаливый юноша с порывистыми движениями.
— Ведь это Гардиа запевал нашу любимую песню «Широка страна моя родная?» — спрашиваю я.
— Да, он хорошо пел, — тихо говорит Клавдий. — Мы, товарищ командир, совсем было повесили головы, когда узнали, что и вы не вернулись. Мы решили еще раз слетать туда же, чтобы отомстить за вас и за Гардиа.
— Ну, если вы и впредь так же будете «вешать головы», то это совсем неплохо. А как вы прошли туда? Погода улучшилась?
— Нет, — качает головой Клавдий, — погода была такая же, но мы прошли проторенным путем — по тому же самому маршруту и точно тем же способом.
— Кто вел эскадрилью? Ты, Клавдий?
— Да, я, — отвечает он, не скрывая своей гордости.
Я крепко, насколько могу, пожимаю ему руку. Это рукопожатие обходится нам недешево. Женщина, молчавшая до этого момента, решительно заявляет, что она больше не допустит присутствия посторонних лиц. Она медсестра и знает лучше, что ей нужно делать. Целое сборище людей — и, видите ли, уже начались рукопожатия. Нет, нет, сию же минуту все должны уйти отсюда!
Она наступает на летчиков, и те вынуждены подчиниться.
На следующее утро в дверь осторожно постучали.
— Войдите!
Дверь скрипнула, и я увидел вначале большую кожаную бутыль, затем показался бородатый широкоплечий дядя. За ним стояли еще двое крестьян с корзинами. Все трое виновато улыбались. Они!
Все трое несмело вступают в комнату, оглядываются: не наследили ли? Не дойдя до кровати, бородач глуховато басит:
— Просим прощения, что приняли вас за немца. Вы нас, камарада, извините. И еще вот… Это мы вам вина принесли для поправки здоровья и фруктов. Что есть, вы не обижайтесь.
Лицо его расплывается в добрейшей улыбке.
— Легкий ты, парень, — говорит один из них. — Вдвоем было совсем легко тащить.
Они садятся возле кровати, и я с удовольствием слушаю рассказ бородача о том, как они нашли и выручили меня из беды, — рассказ долгий, подробный, с многочисленными отступлениями.
А потом рассказываю я — о Советском Союзе, о нашей жизни.
Прошло несколько дней, и я вышел на аэродром. На том месте, где обычно находилась моя машина, стоял новый самолет. На его хвостовой части ярко вырисовывалась цифра «3».
— Послушай, Хуан, ведь на нашем самолете стояла пятерка! Почему же теперь тройка?
— Старый номер несчастливый, — ответил Хуан. — Притом фашисты хорошо знают, что командир эскадрильи летал на самолете с номером пять. Вот я и решил изменить номер.
— И зря сделал! Нарисуй снова пятерку, да поярче, чтобы ее за километр было видно. Они думают, что им удалось сбить командира республиканской эскадрильи. А мы им покажем, что это не совсем так.
Хуан постоял, подумал и рассмеялся:
— Правильно, камарада Борес!
Через час на руле поворота вновь красовалась большая цифра «5» с прежней белой окантовкой. В тот же день я снова поднялся в воздух вместе со своими испанскими товарищами. Я не знал, что это был один из последних моих полетов.
В полночь над Сантандером появился самолет. Что за гость? Если вражеский бомбардировщик, то почему он идет один? Разведчик? Но что можно увидеть в такой кромешной тьме?
Мы высыпаем из палаток. На самолете горят бортовые огни. Каким-то чудом ориентируясь в пространстве, он идет в направлении нашего аэродрома.
— Транспортный самолет, — заметил кто-то.
Да, судя по гудению моторов, по бортовым огням, самолет транспортный. Медленно снижаясь, он делает круг над городом и идет на второй заход.
— Да что же мы стоим! Ведь он к нам прилетел!
Быстро разжигаем костры, расстилаем возле них посадочное «Т», большего мы сделать не можем. Других средств для обеспечения ночной посадки нет. Транспортник, приглушая мотор, идет на посадку.
Через несколько минут грузная машина приземлилась. В неимоверно тяжелых условиях летчик посадил ее мастерски. Бежим на звук невыключенных моторов. Самой машины не видно, вообще ни черта не видно — того и гляди наскочишь на впереди бегущего.
Навстречу нам очень медленно, почти на ощупь идет летчик.
— Мне нужен командир эскадрильи, — говорит он. Называет свое имя, показывает документы.
— Слушаю вас, — говорю я.
— Командование приказало мне сообщить вам устное распоряжение, — четко, по-военному докладывает летчик. — Вам надлежит передать эскадрилью своему заместителю Клавдию и сегодня же ночью на нашем самолете прибыть в Валенсию.
— Сегодня ночью? Но когда мы должны вылетать?
Летчик смотрит на часы:
— Через час. Не позже.
Я смотрю на своих друзей-испанцев.
— Камарада Борес! — трогает меня за рукав Клавдий.
Я знаю, о чем он думает, и сразу говорю ему:
— Ты уже не тот, что был месяц назад, ты уже не юнец. На днях эскадрилья уже воевала под твоим руководством и хорошо воевала! Так отбрось все сомнения!
Услышав имя Клавдия, командир транспортного самолета обращается к нему:
— Камарада Клавдий! Разрешите поздравить вас: командование присвоило вам звание капитана.
Клавдий в смятении. Капитан — большое и почетное звание в республиканской авиации, немногие из летчиков носят его.
— Я постараюсь оправдать новое звание! — взволнованно отвечает он на поздравление.
Час проносится как несколько минут. Мы с Хуаном еле успеваем сбегать за своими чемоданчиками, взять инструменты Хуана (он неразлучен с ними), поговорить на прощание с летчиками.
Трудно расставаться с товарищами. Особенно трудно, если прощаешься второпях: все время кажется, что забыл кому-то сказать очень важные слова.
Но командир экипажа торопит:
— Мы должны затемно вернуться в Валенсию. Ведь лететь придется над вражеской территорией…
Мы садимся в самолет. Дверца плотно захлопывается. Все! Прощай, Сантандер! Машина вздрагивает всем своим фюзеляжем и устремляется в ночную тьму. Я смотрю в окно — на земле ничего нельзя различить. Но я знаю, что все мои друзья молча стоят и прислушиваются к удаляющемуся гулу моторов.
Хуан сидит рядом, примолк. Наверное, тоже грустит.
— Ну как, Хуан, — хочу я ободрить его, — опять мы улетаем в новые края?
— Да, камарада Борес! К новым боям!
Возвращение
— Камарада Смирнов… — повторил мою фамилию Птухин и неожиданно распрямился, взяв руки по швам.
Я почувствовал необычную торжественность момента и невольно тоже вытянулся, еще не подозревая, что командир скажет дальше.
— …Поздравляю вас с большой наградой. Мы получили сообщение из Советского Союза. Родина отметила заслуги наших летчиков перед республиканской Испанией. Вы награждены орденом Красного Знамени.
Я взволнован неожиданным известием и не могу подобрать ответных слов. Родина! В памяти возникают Москва, наш знакомый аэродром. Мой учитель Губенко. Всплывают другие картины: всего несколько секунд, но отчетливо, ясно я вижу Красную площадь, Кремль, первомайскую демонстрацию, над которой мы пронеслись в полный солнечного света день.
— Спасибо за радостную весть! — волнуясь, отвечаю я на поздравление Евгения Саввича.
— Давайте подумаем о будущем, — говорит он. — На севере почти безнадежное положение…
Он произносит это с трудом. Только тут я замечаю, что у Птухина глубоко запавшие от бессонницы глаза, что за последний месяц он немного поседел.
— Безнадежное, — повторяет он, искоса, словно с опаской, взглядывая на верхний угол карты. — Да… Именно поэтому мы вас и вызвали.
Я начинаю догадываться, в чем дело.
— А летчики?
— Они прикроют отход партизан в горы. После этого снова совершат перелет через территорию врага. — Птухин задумывается на минуту, потом резко встряхивает головой, словно силясь отогнать дурные мысли. — Хватит об этом! Перейдем к делу. Отдохните дня два и принимайте свою прежнюю эскадрилью.
После всего, что я услышал, проявления радости не очень уместны, но как радостно было узнать, что скоро увидишь своих старых товарищей!
— Да, кстати, — говорит Птухин, досадливо потирая лоб, — чуть не забыл, поздравьте своих друзей — Петра Бутрыма и Николая Иванова. И они награждены орденами Красного Знамени.
Обуреваемый самыми восторженными чувствами, еду обратно на Валенсийский аэродром. Радуюсь, что увижу дорогих мне ребят, но как только подумаю о Клавдии, о только что покинутой эскадрилье, о ее нелегкой, многострадальной судьбе, невесело становится на душе.
Птухин дал распоряжение выделить мне на Валенсийском аэродроме самолет. Я говорю об этом Хуану, добавляя, что следовало бы получше осмотреть машину и побыстрее подготовить к полету: весь день впереди, и мы вполне можем встретить сегодняшний вечер в кругу друзей на аэродроме Ихар.
Засучив рукава, мы копаемся с Хуаном в машине, несколько раз опробуем мотор. По всем приметам мотор не должен барахлить. «Старик еще поработает!» — улыбается Хуан.
— Посмотрите, камарада Борес! — вдруг оборачивается ко мне Хуан, указывая на легковую машину. — По-моему, ищут нас.
На аэродроме мало людей. Машина останавливается — видимо, шофер спрашивает у одного из механиков, куда дальше ехать, — и потом направляется в нашу сторону.
— Постой, Хуан, эту машину я где-то видел.
— И мне она кажется знакомой.
Не успеваем сообразить, кто пожаловал к нам, как машина, взревев, устремляется к нашему самолету. Через минуту она круто тормозит, и из нее выскакивает Маноло. Живой, настоящий Маноло!
— Маноло! Откуда ты здесь? — кричим мы в один голос.
— О! Вы спрашиваете, откуда Маноло? Я летел как ветер, когда узнал, что вы прибыли с севера и снова возвращаетесь к нам. А узнал об этом из телеграммы, которую получили сегодня камарада Педро и камарада Панас. Они говорят: «Лети, Маноло, во весь дух!» И я помчался. Так быстро я еще никогда не ездил. За три с половиной часа от Ихара до Валенсии! Как вам это нравится?
Маноло вытирает пот с лица. Он развертывает дорожную карту и показывает то место, где базируется эскадрилья.
— А вот здесь Валенсия… Вы можете представить, что за три с половиной часа «фордик» доехал от Ихара до Валенсии?!
Я смотрю на карту, и у меня мелькает счастливая мысль: ведь точно такие же карты служат и для ориентировки в полете!
— Дай мне карту, Маноло, — говорю я ему. — Ты и на память проедешь, а мне эта местность незнакома. Буду ориентироваться по твоей карте, а то от моей остались одни только обрывки.
— Как? Я же приехал специально за вами, — огорчается Маноло. — Разве вы сейчас не поедете к нам?
— Вы с Хуаном заберите мои вещички и поезжайте, а я полечу. Ведь у вас, по-моему, лишних самолетов нет, вот я и прилечу на своем.
— Но ведь вам запрещено сейчас летать!
— А ты откуда знаешь? — удивляюсь я, хотя давно привык к тому, что Маноло всегда все на свете известно.
— Из той же телеграммы. В ней сообщалось не только о вашем прибытии, но еще было сказано, что вам не разрешается производить боевые вылеты до особого распоряжения. Вам надо немного отдохнуть.
Приходится лукавить.
— Ведь в телеграмме речь шла о боевых вылетах, — говорю я, — а в данном случае мне нужно просто перегнать свой самолет к месту базирования эскадрильи. Понимаешь, Маноло?
— Возможно, — соглашается Маноло.
Хуан тоже не спорит; пожалуй, ему хочется, чтобы я скорее увидел своих товарищей. Вытирая измазанные маслом руки, он докладывает, что машина готова к полету. Отлично! Желаю доброго пути Маноло и Хуану, советую им ехать потише, сажусь в кабину самолета — и в воздух!
Полет протекает спокойно. Минуя гряду гор, выхожу в долину реки Эбро. Вот уже и характерный изгиб русла. Вот белая лента дороги, идущей от Сарагосы. Но аэродрома не видно. Вообще ориентироваться трудно, повсюду монотонная серая местность, ровно и однообразно выжженная солнцем. Казалось бы, на таком голом ландшафте самолеты должны быть видны как на блюде, однако ничто вокруг не указывает на признаки аэродрома. Я уже начинаю жалеть, что не расспросил подробнее у Маноло о всех приметах места базирования эскадрильи, как вдруг у самой дороги появляется белая полоска дыма. Сигнальная дымовая шашка.
Теперь-то я вижу аэродром! Маноло совершенно точно указал на карте место его расположения. Правда, я с трудом различаю десяток самолетов, вернее, догадываюсь, что это самолеты, так как они укрыты квадратными пологами, искусно выкрашенными под общий тон местности. Молодцы ребята! Замаскировали отлично.
Снижаюсь, отчетливо вижу навес, сделанный из камыша, группу летчиков, стоящих в его тени. Подруливаю на подходящее для стоянки место и не торопясь вылезаю из кабины.
Никто не встречает меня, никто не бежит к самолету. Не ждут. Думают, наверное, что я приеду на другой день, вместе с Маноло. Ну, а к посадке чужого самолета уже привыкли относиться без особого интереса — не так уж редко по разным делам прилетают летчики из соседних эскадрилий. Что ж, в неожиданных встречах есть особая прелесть!
Освобождаюсь от парашюта. Почему-то дрожат руки. Иду к камышовому навесу, примеченному еще с воздуха, стараюсь шагать медленно, но волнение подхлестывает меня. Уже не иду, а бегу… Стоящие у навеса летчики замечают меня и вдруг все разом бросаются навстречу. Еще издалека Панас кричит:
— Борис! Дружище! Да ты никак и в самом деле живой?
Подбегает, целует.
— А мы по тебе хотели поминки справлять.
— И то хорошо! Значит, вспоминали?
— У нас прошел слух, что тебя сбили на севере и ты погиб в горах! — кричит Волощенко.
С разных сторон к нам подходят испанские летчики, механики. Приветственные слова раздаются со всех сторон.
— Что же мы стоим под солнцем! Пойдемте в ваши хоромы, — говорю я.
Подходим к камышовому навесу.
— Наше дневное обиталище и вместе с тем КП, — с видом заправского гида объясняет мне Волощенко.
Навес мне нравится. С него спускаются полотняные пологи, хорошо защищающие от солнца, ветра и пыли. Заходим внутрь — прохладно и даже уютно. Посередине стоит стол, накрытый скатертью, вокруг стола аккуратно расставлены плетеные кресла и стулья. В одном углу висит старый знакомый телефон, наш спутник во всех кочевках. А в другом… Что это такое? Откуда?
— Уже не узнаешь предметов культуры? — звучит довольный бас Бутрыма. — Могу напомнить, что это такое: обыкновенное пианино, и даже совсем неплохое.
— Но откуда оно? Где вы его раздобыли?
Волощенко показывает глазами на Бутрыма: «Спроси лучше его». Панас не без ехидства замечает:
— У меня от этого инструмента до сих пор плечи болят.
Рассказывают все сразу, перебивая друг друга. Увидели они этот инструмент в Бельчито, когда из городка выбили марокканцев. Летчики попали туда, чтобы провести рекогносцировку переднего края. Сделав дело, пошли посмотреть городок. Одни развалины. Щебень, пыль на тротуарчиках, смрад от неубранных трупов. Ни единой живой души. Уже собрались уезжать, как вдруг Бутрым увидел пианино. Замер на месте. Давно не играл, а как хорошо бы…
— Давайте достанем!
Летчики посмотрели на него как на сумасшедшего. Пианино чудом висело на обломках каких-то стропил на высоте третьего этажа.
С величайшим трудом, рискуя похоронить себя под развалинами, забрались они наверх и спустили пианино на веревках. Потом достали грузовик. И вот оно здесь!
— Целый день я работал на него как вол! — горячится Панас, указывая не то на Бутрыма, не то на пианино, потому что Петр уже сидит за инструментом.
И мы поем. Петр играет хорошо, с чувством. Поем русские песни. Под камышовый навес заглядывает повар.
— Обед готов! — провозглашает он.
Появляется вино, и мы всей семьей усаживаемся за стол. Я предлагаю тост за Бутрыма и Панаса.
— Поздравим их с орденами Красного Знамени!
Панас от волнения расплескивает бокал.
— Шутишь? — спрашивает он меня, но, видимо, сразу убеждается, что я вовсе не намерен шутить. — Борис! Дорогуша! Дай я тебя еще раз поцелую!
После обеда эскадрилья улетает на задание. Провожаю самолеты взглядом и, когда они скрываются из виду, замечаю ковыляющего ко мне старичка. Увидев меня, он вытягивается и рапортует о состоянии дел в команде охраны.
— Вы начальник этой команды? — спрашиваю его.
— Так точно! — отвечает он с гордостью.
Одеяние у старичка полувоенное, полугражданское — кожаная куртка, крепкие крестьянские башмаки. Руки жилистые, загрубевшие от работы.
— Что же у вас за команда? — спрашиваю я, присаживаясь на камень.
Начальник команды тоже садится, и сразу же становится ясно — крестьянин! Из всех уставных положений он знает — и то, пожалуй, понаслышке — только одно: перед начальством следует стоять «во фронт». Теперь он сидит, и лицо его лучится старческой добротой. Он смотрит на меня как на сына. Голос его звучит наставительно.
Он рассказывает, что команда охраны составлена из добровольцев — жителей Ихара и крестьян из окрестных деревень.
— Места у нас здесь не такие бойкие, как у Мадрида, — говорит он, — но о «пятой колонне» и до нас доходили вести.
Узнав, что на аэродром перебазировалась республиканская эскадрилья, жители решили обезопасить летчиков от диверсантов и шпионов. Команда организовалась быстро, желающих попасть в нее было немало. Вооружение у охраны, правда, неважное, главным образом, охотничьи ружья, но зато — начальник может поручиться — каждый боец команды умрет, но не сойдет с поста.
— А разве подразделение регулярной армии не охраняет аэродром? — спрашиваю я с некоторым удивлением.
— Как же, охраняет! Но сколько там солдат? Разве им углядеть за таким полем? А ведь вредный человек может с любой стороны подобраться к машинам.
Все ясно.
— Спасибо! — говорю я старичку. — Спасибо, падре!
Он снова вытягивается и, улыбаясь, просит:
— Вы навестите наши посты. Посмотрите, как мы охраняем аэродром. За сто метров ни один боец не подпустит. О! Мы службу знаем не хуже солдат.
Он уходит, стараясь держаться прямо, не горбясь.
Через два дня я снова вступил в строй. Активность фашистской авиации начала заметно усиливаться. Но бои пока не носят такого ожесточенного характера, как над Мадридом или на севере. Объясняется это, пожалуй, тем, что на Арагонском фронте, где мы сейчас действуем, преобладает итальянская авиация, а с нею легче драться, чем с немцами.
Основную нагрузку несет эскадрилья Серова. Во-первых, она ближе других располагается к тому участку фронта, где чаще всего появляются «фиаты» и «капрони». Во-вторых, итальянские истребители охотнее вступают в бой с «чатос», чем с нашими монопланами. От «чатос» в критическую минуту они могут без труда удрать, так как обладают большей скоростью на пикировании, а от наших самолетов им ускользнуть трудновато. Ясно, что на долю Серова, Якушина, Вальтера Короуза и других летчиков этой эскадрильи, слава о которой, кстати сказать, гремит по всей Испании, приходится больше боев, чем на нашу долю.
В первые дни после возвращения мне удалось мельком взглянуть на аэродром серовцев. И случай помог увидеть сразу всех знакомых. Физическая усталость давала себя знать. Только один Серов, ко всеобщему удивлению, становится все шире в плечах. Однако никто из них не сказал и слова об усталости: каждый летчик прекрасно понимал, что отдыхать — значит переложить на плечи столь же уставших товарищей свою часть общей боевой работы. Анатолий по-прежнему находил для каждого ободряющие слова и все крепче и крепче сколачивал свой коллектив.
Наша эскадрилья представлялась мне дружной, по-настоящему боевой семьей. Но у нас, правда, очень редко, а все же бывали случаи недисциплинированности. У Серова они исключались, казались просто невозможными, столь велик и непререкаем был его авторитет как командира.
Ничего не скажешь, хороша эскадрилья у Серова. Под стать командиру. В эти дни мы познакомились и быстро сдружились еще с одним серовцем — Евгением, или попросту Женей, Антоновым. Этого парня можно заметить и отличить в любой здешней компании. Чего стоит одна внешность: высокий, коренастый, ходит спокойно, немного вразвалочку, и уже в самой походке чувствуется сила, напористость. Лицо открытое, доброжелательные, с лукавинкой глаза, приятная, располагающая улыбка. Главное — редкая здесь белокурая с рыжинкой шевелюра.
Но внешность — это только внешность. У Жени и характер русский — скромный, неунывающий и по-настоящему мужественный. Присмотревшись к нему однажды, Михаил Якушин сказал:
— Если бы нашего Женю отвезти на Марс, то и там бы сразу сказали: «Ну, это русский!»
Антонов — человек живой. Он любит поплясать и пляшет не лихо, залихватски, а словно пава — подбоченившись, плавно, помахивая над головой платочком. Получается это у него очень смешно. Особенно веселятся испанцы.
С ними Женя сдружился. Он обучил их даже игре в «Акулину». Испанцы пытались научить его играть в покер, но Женя неожиданно предложил «Акулину». И научил. Представьте веселье, когда он первый раз повязал проигравшему платок, — «Акулина» тотчас же забила мудреный покер.
В эскадрилье Женя любимец такой же, как у нас Волощенко. Вокруг него всегда люди, шутки, смех. Любит он рассказывать о своем родном городке с милым, поэтичным названием Лебедянь. Рассказывает он с таким чувством, я бы сказал, даже со смаком, что все слушают его с завороженной улыбкой.
Слышишь:
— Эх, братцы! Что бы я хотел съесть из мировых гастрономических изделий? Хотите, скажу? Был бы я сейчас в Лебедяни, отрезал бы ломоть ржаного хлеба, к нему бы соленый огурчик, лучше малосольный, — и мне ничего не надо, никакая причуда современной гастрономии!
И все улыбаются; уж очень он «вкусно» говорит о хлебе и огурчике. И уже ходит по эскадрилье поговорка: «А вот у нас в Лебедяни!» И почти каждый вкладывает в эту поговорку и светлое, теплое чувство, и грусть по далекой родине: там ведь у каждого из нас осталась своя Лебедянь…
И другая поговорка пошла от Жени: «Что это за беда такая, надо проверить». Это — если возникла какая-то неожиданность. С этой «бедой» у Антонова приключилась однажды довольно сложная и занятная история. Здесь, на Каталонском фронте, за неимением достаточного количества самолетов серовцы вынуждены были составить особый график патрулирования вдоль берега моря. Летал обычно только один самолет, выполняя главным образом функции разведчика.
Пришла очередь летать Антонову, и он с шуточками отправился в полет, приговаривая: «Лечу на задание онной мощью». Минут через сорок над аэродромом, где базировались серовцы, появился незнакомый двухмоторный самолет с красными крестами на фюзеляже и крыльях. За ним следовал «чато». Истребитель кружился вокруг санитарного самолета, как шмель, понуждая свою жертву произвести посадку на аэродром.
Об а самолета приземлились один за другим. Побледневший от негодования Серов тотчас же напустился на Антонова:
— Что ты наделал? Кого ты приволок сюда?
Женя не смутился:
— Да вот какая-то беда летела вдоль берега к французской границе. Наверно, недисциплинированный летчик. Я ему показываю: «Следуй за мной», — а он вроде и не замечает моих сигналов. Пришлось пугнуть — дал перед его носом парочку очередей.
Серов даже покраснел:
— Да ты видел или нет красные кресты?
— А как же! У нас в Лебедяни скорая помощь тоже есть.
Серов взорвался:
— Брось ты свою Лебедянь! Из-за тебя хлопот теперь не оберешься!
— Почему? — все так же невозмутимо ответил Антонов. — Не волнуйся, Толя, мы сейчас поможем раненым, угостим их чем-нибудь, и пусть летят с богом!
Каково же было удивление летчиков, когда в самолете не оказалось ни одного раненого! Из него вышло несколько человек, совсем не похожих на военных. Они тотчас же загалдели по-английски, французски, грозя протестом за задержку самолета Международного Красного Креста.
Но тут уже изменил свое отношение к самолету сам Серов. Ничего себе «Красный Крест»! Теперь он уже не спешил с освобождением пленников; их отправили в штаб командования.
Что было с ними и кто они, серовцы так и не узнали. Но и давать объяснения за свои поступки им тоже не пришлось.
Евгений Антонов
Об этом мы и серовцы долго говорили. И кто-то вспомнил о другой «беде» Жени Антонова.
На одном из участков Сарагосского фронта ему удалось подловить крупного гуся. У Жени какое-то особое чутье, подсказывающее, куда следует нанести удар. Однажды, когда серовцы вели бой с большой группой итальянцев, Антонов сразу же заприметил самолет другой, малознакомой конструкции. Самолет этот в бой не вступал и держался под надежным прикрытием.
Именно туда и бросился Антонов. Это был отчаянный шаг. Но именно неожиданность и ошеломила врага. Самолеты прикрытия растерялись, и Антонов с ходу сбил противника. Летчик выбросился с парашютом.
Через некоторое время серовцам сообщили, что Антонов сбил не больше не меньше как командующего одной из итальянских истребительных групп.
— Молодец, Женя! — похлопал его по плечу Серов. — Как это ты смастерил такое дело?
— Да как тебе сказать, Толя, — улыбнулся Женя. — Вижу, какая-то беда летит…
Все тут же расхохотались.
Мы признаем первенство серовцев в боевых делах, видим, насколько им сейчас труднее, и стараемся всячески помогать своим соратникам. Когда нам удается вести бой вместе с серовцами, каждый чувствует огромное удовлетворение. Но, к сожалению, это случается теперь гораздо реже, чем в дни боев над Мадридом. Здесь приходится летать на разные участки растянутого фронта. Бывает так, что эскадрилья Серова ведет бой в районе Сарагосы, а мы в эти же минуты сражаемся где-нибудь возле Теруэля. Скверно то, что связь с главным аэродромом, на котором обычно находится командование, в основном телефонная, а такого рода связь не обеспечивает четкого управления авиацией. В результате случается так: наша эскадрилья получает распоряжение немедленно вылететь на подмогу Серову, и хотя на сбор и взлет мы тратим не более трех минут, все же и эта мобильность не помогает, эскадрилья прилетает к месту боя с большим опозданием.
Командование ответило нам определенно: радиооборудования нет и не будет. Но безвыходных положений не бывает. Мы настойчиво ищем и в конце концов находим новые реальные возможности взаимной выручки. Анатолий Серов первым применил воздушных связистов. Его примеру не замедлили последовать другие подразделения. И вот теперь нередко над нашим аэродромом неожиданно появляется самолет, который несколько раз покачивает крыльями. Это означает, что где-то поблизости идет воздушный бой и необходима помощь. Истребители немедленно взлетают и направляются вслед за воздушным делегатом. И теперь, как правило, нам удается подоспеть к району боя вовремя.
Однако этот прием чуть-чуть не подвел нас сегодня. Впрочем, мы ничего не проиграли…
В полдень над аэродромом появилась такая же, как у нас, машина — моноплан. Летчик снизился до бреющего полета, покачивая крыльями. Я тотчас же дал сигнальную ракету — приказание на общий вылет. Не более как через две минуты эскадрилья пристроилась к прилетевшему самолету. По опознавательным знакам я легко установил, что самолет принадлежит соседней испанской эскадрилье. Бой завязался недалеко от Ихара. На испанцев навалилось десятка два «фиатов». Мы подошли в самый разгар боя. В течение нескольких минут итальянцы потеряли три самолета и в панике бросились в разные стороны.
Мы возвратились на аэродром, но не успели зарулить на стоянку, как на горизонте опять появился «делегат». Он летел со стороны фронта прямо к аэродрому.
— «Чато!» — воскликнул Панас и бросился к своему самолету.
За ним чуть было не последовали и все остальные, но в этот момент Бутрым крикнул:
— Опомнитесь! Какой «чато?» Самый настоящий «фиат!»
— Действительно, итальянец, — пробормотал Панас, приглядываясь к самолету.
Все затихли и стали ожидать, что будет дальше. Панас, раздосадованный своей ошибкой, прибежал ко мне:
— Разреши, Борис, я его сшибу!
— Подожди минутку.
Тем временем «фиат» стал виражить над аэродромом на высоте семьсот-восемьсот метров. «Может быть, заблудился», — подумал я и попросил Бутрыма:
— А ну-ка, Петр, зажги дымовую шашку, дай ему разрешение на посадку. А ты, Панас, подготовься, если не сядет, догоняй, не дай уйти.
Петр ударил шашку капсюлем о каблук и бросил ее в сторону. И сразу стало ясно, что итальянец заблудился. Увидев сигнальный дым, он по всем правилам искусства, учитывая направление ветра, стал заходить на посадку. При этом он планировал как раз со стороны навеса, под которым мы стояли. Я почему-то невольно вспомнил детство: когда мы, мальчишки, гоняли голубей, бывало, с таким же нетерпением, как и сейчас, ждешь, когда какой-нибудь вислокрылый чужак сядет к тебе на пласку.
«Фиат» с шумом пролетел над самым навесом, так что нас обдало ветром и пылью. Вот он уже выравнивает, сейчас приземлится, но вдруг мотор взревел и самолет снова стал набирать высоту.
— Опознал наши самолеты! — крикнул Бутрым. — Уходит!
Панас кинулся к своей машине.
— Далеко не уйдет! Догоню!
Он быстро вскочил в кабину и, запустив мотор, уже приготовился взлететь, как вдруг «фиат» зачихал, винт остановился. Планируя, вражеский самолет приземлился в полутора километрах от аэродрома.
Не удалось в воздухе — удастся на земле! Панас выпрыгнул из самолета и побежал к легковой машине.
— Быстрей, Маноло, а то еще улизнет!
Маноло направил машину кратчайшим путем, через летное поле. Самолет сильно накренился: у него была поломана левая стойка шасси. Летчик торопливо копошился в кабине, стоя на плоскости. Увидев подъехавшую машину, он выпрямился в струнку и отдал Панасу честь. Затем как ни в чем не бывало спросил на ломаном испанском языке:
— Скажите, где я нахожусь?
— В Испании, — коротко ответил Панас.
— Это я знаю, но чья это территория?
— Наша, — ответил Панас.
— А вы кто?
— Республиканец!
Как рыба, выброшенная на берег, фашистский летчик начал лихорадочно глотать воздух, не в силах ничего сказать, и поднял руки.
— Опустите руки и садитесь в машину, — спокойно, приказал ему Панас.
Итальянец оказался зеленым юнцом. Его новый темно-коричневый комбинезон с мудреными застежками чист, словно вчера получен со склада. Летный шлем, перчатки и планшет тоже не носят никаких следов долгого употребления. Кажется, что этого молодчика только что обмундировали и выпустили в первый полет. Впрочем, это почти так и есть. Еще раз мы убеждаемся в том, что фашистская интервенция в Испании приобретает все больший и больший размах. Итальянское командование, так же как и немецкое, производит смены летного состава каждые два-три месяца. Цель ясная: фашисты готовятся к большой войне и стремятся обучить в боевой обстановке возможно больше летчиков. Испанию они цинично рассматривают как учебный полигон.
Однако вояки что-то плохо закаляются в Испании. Заметив у итальянца пистолет в кобуре, я упрекаю Панаса в неосторожности. Он с искренним удивлением смотрит на меня:
— Что ты, Борис! Ты посмотри на него — он трясется как осиновый лист, не может выговорить слова «мама», а если бы и вздумал вытаскивать пистолет, так я его одним щелчком уложил бы.
И в самом деле — откуда появиться закалке у этих молодцов, если воспитывают их идиотски: вдалбливают в голову одно правило: «Знай, что противник слаб и ничтожен, а ты могуч и непобедим». И вот плоды воспитания. До приезда в Испанию пленный слышал, что республиканские летчики бегут с поля боя при первой же встрече с итальянцами. Первый бой «героя» оказался последним.
— Когда начался воздушный бой, — говорит он, трусливо озираясь по сторонам, — я не знал, как выбраться из этого ада. Местность мне плохо знакома. Кончился бензин…
Нет, неинтересный тип! Решаем отправить его в авиационный штаб группы.
В эти же дни на аэродром прибыла врачебная комиссия, вызвавшая большой переполох в эскадрилье. На мой вопрос, чем вызван его приезд, старший врач авиационной группы товарищ Ратгауз ответил, что командование серьезно обеспокоено состоянием здоровья летчиков и приказало осмотреть весь летный состав. Те, кто особенно нуждается в отдыхе, будут отправлены в санатории.
Врачи, не слушая возражений, тут же, на аэродроме, под навесом, расставили свои хитрые приборы и предложили пациентам раздеться до пояса.
Не успели мы исполнить их просьбу, как зазвенел телефонный звонок. Не закончив разговор, я потянулся за шлемом. Петр взял ракетницу, и я утвердительно кивнул ему головой. В воздух взвилась ракета. Все бросились к самолетам. Через три минуты мы в компактном строю удалились от аэродрома по направлению к фронту. Врачебная комиссия осталась без пациентов.
К великому огорчению врачей, в этот день нам пришлось вылетать пять раз. Эскадрилья штурмовала марокканские части, которые укрепились на окраинах Бельчите, вела воздушный бой над Ихаром, вылетала на помощь Серову. Никелированные медицинские приборы тускло поблескивали под навесом. Врачи терпеливо сидели возле них.
Но на другой день погода испортилась, и комиссия поработала вволю. Как командир эскадрильи я спросил вечером у Ратгауза о результатах медицинского осмотра.
— Нервы серьезно пошаливают у всех без исключения, — ответил он. — Очень серьезно! Отдых необходим всем. Абсолютно всем! Разумеется, временно.
И, спокойно оглядев меня профессиональным взглядом врача, спросил неожиданно:
— Сколько вы сделали боевых вылетов?
— У нас у каждого почти по двести с лишним вылетов.
— С какого времени?
— С конца мая.
— Да-а, — протянул врач, — такую нагрузку нельзя назвать двойной или даже тройной. Боюсь, что некоторые из вас скоро станут быстро уставать в воздушных боях.
И снова смотрит на меня, но уже не как врач — с удивлением. Комиссия уезжает. Когда машина скрывается за поворотом, Панас спрашивает:
— Ну, что председатель сказал о наших внутренностях?
— Ничего особенного, — отвечаю я. — «Молодцы, говорит, ребята, все здоровы».
Но от какого-то неприятного предчувствия сосет у меня под ложечкой. Ох, не зря навестила нас эта комиссия!
Сокрушительный удар
Близится осень, а с ней — нелетная погода. Видимо, это беспокоит фашистов. За лето им не удалось и в малой степени подорвать боеспособность республиканской авиации. Рассчитывать же на решающий успех осенью им совсем трудно.
Авантюризм, явная переоценка своих сил и принижение возможностей республиканцев, а короче говоря — спесь, зазнайство весьма характерны в поведении фашистов. Война ничему не учит их. Сколько раз они пытались одним ударом покончить с республикой, с ее армией и авиацией. Не вышло! Но все равно продолжают без оглядки верить во всесокрушающую силу одного «блиц-удара».
Вот опять поползли слухи об очередной их затее. И не только слухи… Наша воздушная разведка и наблюдательные пункты точно установили, что противник спешно сосредоточивает свою авиацию на прифронтовых аэродромах западнее Сарагосы. С какой целью? Догадаться не так уж трудно: ясно, что готовят массированный удар по нашим позициям, а скорее всего — по нашим аэродромам. Это подтверждают и пленные летчики, сбитые в последних боях. Все они в один голос показывают, что фашистское командование серьезно обеспокоено своими потерями в воздухе и действительно намерено в ближайшие дни нанести сильный удар по республиканским авиабазам. «Последний удар», — говорят они, вкладывая в эти слова вполне определенный смысл.
Ну что ж, пусть будет еще один «последний»! Посмотрим. Ведь республиканское командование зорко следит за намерениями фашистов. Не сомневаюсь, что оно выработает план, который позволит разрушить замыслы врага. К этому времени советником по авиации был назначен Е. С. Птухин, а его предшественника отозвали в Советский Союз.
И вот раздается телефонный звонок. Товарищ Птухин вызывает на главный аэродром всех командиров истребительных эскадрилий. Срочно!
Маноло везет меня, не задерживаясь. Выхожу из автомобиля и сразу попадаю в объятия Анатолия. Он, как всегда, приехал раньше всех: наверно, раньше нас и о совещании узнал. Он нетерпелив, каждую новость стремится узнать скорее, и это не простое любопытство, а желание быстро включиться в новое дело и двинуть его вперед.
— Не знаешь ли, зачем нас вызвали? — спрашиваю Анатолия.
— Не знаю, — пожимает он плечами, щурится, — но думаю, что предстоит интересное дельце.
И мельком бросает взор на часы: скорее бы начинали!
— А может быть, всего лишь очередное совещание по вопросам боевой работы? — говорю я, хотя сам не очень верю в такое предположение.
— Нет! — коротко отвечает Серов. — Тут что-то другое. Иначе не вызвали бы так срочно и в такое время.
Ждать приходится недолго. Вскоре нас приглашает Евгений Саввич. Он подробно рассказывает об обстановке на фронте, о соотношении авиационных сил, которое складывается явно не в пользу республиканцев. Собственно говоря, все это мы хорошо знаем. Видимо, чувствуя это, командующий неожиданно прерывает плавное течение своей речи и тяжело опускает кулак на расстеленную на столе карту.
— Вот! Вот что нужно сделать — произвести налет на их аэродром Гарапинильос. На этом аэродроме, по предварительным данным, сосредоточено более шестидесяти вражеских самолетов. Мы не можем ждать, когда они поднимутся и ударят по нашим республиканским базам. Не имеем права ждать!
«Правильно! Но почему же пригласили на совещание одних истребителей? — думаю я. — Почему здесь нет ни одного командира бомбардировочной эскадрильи? Ведь речь-то, видимо, пойдет о том, чтоб осуществить удар по вражескому аэродрому?»
— Во время последних полетов над Сарагосой и в районе ее, — продолжает Птухин, словно угадав мою мысль, — наша бомбардировочная авиация встречала большие группы истребителей противника и сплошную завесу зенитного огня. Естественно, что мы имели в этих полетах потери. Как избежать их при налете на Гарапинильос? Мы подумали, посоветовались и решили: во избежание излишних потерь провести налет на Гарапинильос без участия бомбардировщиков. Силами одних истребителей.
Серов порывается что-то сказать, взволнованно потирает руки. Мы изумлены и еще не можем осознать всю сложность, а точнее говоря, необычность задачи. Ведь еще нигде, никогда истребители не применялись для штурмовки аэродромов без взаимодействия с бомбардировщиками. У нас нет пушек, нет бомб. Одни пулеметы. Можно ли только пулеметным огнем уничтожить боевую технику, размещенную на земле, и уничтожить не один, не два самолета, а по крайней мере десяток? Иначе налет не даст желаемого результата. Но задача заманчивая, очень заманчивая.
Птухин выслушивает наше мнение. Все мы принципиально согласны с решением командования, но когда приступаем к разработке плана действий, сразу же видим, что многое для нас неясно, и волей-неволей ограничиваемся недомолвками. И нас вновь удивляет Анатолий: он выступает с глубоко и всесторонне продуманным планом, словно размышлял о предстоящей операции давно и упорно. У Серова тонкое тактическое чутье, ясное предвидение и умение заранее взвесить и рассчитать все шансы, на успех.
Птухин соглашается с планом Анатолия.
— Возьмем его за основу, — говорит он, давая свои указания, поправки к плану.
И заканчивает совещание:
— Что ж, товарищи командиры, за дело! Я думаю, налет мы не будем откладывать. Давайте совершим его сегодня. Под вечер. Правда, времени на подготовку маловато. Но зато в наших руках будет такой важный козырь, как внезапность. Желаю успеха! — напутствует он каждого командира.
Мы выходим из штаба, прибавляя шаг. Скорее на аэродром! Опять Маноло мчит меня без задержки. Ворчит:
— Беспокойные пассажиры. Нет чтобы остановиться возле киоска с фруктовой водой. Считают каждую минуту…
Он любит поворчать, когда знает, что спутник занят делом и его трудно вызвать на разговор. Это ворчанье — особая форма разговора с самим собой. В такие минуты Маноло никогда не задает вопросов.
Приезжаю и сразу же созываю всех летчиков. Рассказываю им о задании командования.
— Основная задача — уничтожение фашистских самолетов на аэродроме — возложена на Анатолия Серова, его группа будет состоять из двадцати самолетов «чатос»-И-пятнадцать. Наша эскадрилья будет непосредственно прикрывать серовскую группу, а эскадрильи Александра Гусева, Григория Плещенко и Деводченко будут эшелонироваться выше нас. Командование всей объединенной группой возложено на Ивана Еременко. Таким образом, вражеский аэродром будет блокирован с воздуха со всех сторон. Серов просил передать вам, что если завяжется воздушный бой с самолетами противника, чтобы вы особенно не увлекались, главное, старайтесь не допускать врагов к штурмующим «чатос».
Отпускаю летчиков. Вместе с механиками они проверяют самолеты, готовятся к полету. Я работаю вместе с Хуаном. Увлекшись, не замечаю, как на горизонте появляется большое грозовое облако.
— Камарада Борес, — вдруг говорит Хуан, — смотрите!
Закрыв полнеба, иссиня-темная туча быстро наплывает на аэродром. Словно дозорные, впереди нее бегут тревожные рваные хлопья облаков. Заметно усиливается ветер.
— Что будем делать? — спрашивает, подбегая ко мне, Панас.
— Приказа никто не отменял. Передай всем летчикам, чтобы сидели в кабинах.
Не успеваю сесть в кабину, как на плоскость самолета с шорохом падают первые дождевые капли. Представляю, какие молнии мечет сейчас Анатолий.
— Камарада Смирнов! Камарада Борес! Вас к телефону! — кричит издали Маноло.
Наверно, звонит Анатолий. Конечно, он. Издали доносится знакомый, слегка глуховатый голос:
— Понимаешь, чертовщина какая. Ну кто думал, а? В общем, до завтра. А завтра — ровно в пять ноль-ноль.
Ночью долго не можем заснуть. Предстоящая операция все сильнее и сильнее завладевает нашими мыслями.
— Представляю себе, какая свалка будет завтра над этим Гарапинильосом! — говорит Панас, пуская кольцами папиросный дым.
— А как ты думаешь, Борис, зениток много у них на аэродроме? — ни с того ни с сего приподымается с кровати Бутрым.
— Да-а, интересно… — замечает вдруг Волощенко, и каждому ясно, что все в эту минуту думают о том, что ждет серовцев и всех остальных завтра.
Засыпаем поздно, но в пять утра все уже на своих местах. До рассвета минут сорок. После дождя воздух свеж и чист. На востоке занимается заря, еще синеватая, холодная.
Сидя в кабинах, ждем сигнала. Ждем с нетерпением. Вижу, как Панас ерзает в своей кабине. Бутрым сидит, подперев рукой щеку. Минуты тянутся томительно, даже быстрая секундная стрелка на часах движется почему-то вяло. Время — пять сорок две.
И вдруг, заставляя вздрогнуть, взрывается сигнальная ракета. Разом загудели все двенадцать моторов. С разных сторон аэродрома блеснули огоньки вспышек. Светящиеся нити трассирующих пуль пронизали предрассветный сумрак — это летчики проверяют оружие перед взлетом.
Поднимаемся в воздух и идем к реке Эбро. Один из ее изгибов выбрали ориентиром для сбора всех эскадрилий. Летим минут пять-семь. Земля покрыта легкой дымкой. Предметы видны сквозь нее, как через кисею. Приходим точно в установленное время. Над серебряной лентой реки уже кружатся самолеты.
Ниже всех в плотном строю «чатос», возглавляемые Анатолием Серовым. Вот он берет курс на цель. В кильватере за «чатос», с небольшим превышением, следует наша эскадрилья. Маршрут выбран кратчайший, но все равно рассвет обгоняет нас. Уже хорошо просматривается впереди лежащая местность.
Фронт позади, и тотчас же Анатолий увеличивает скорость. Быстрее вперед! Мы же рассчитываем на внезапность действий! Каждая потерянная минута может дорого обойтись нам.
Через десять-двенадцать минут показывается аэродром противника Гарапинильос! Он ясно выделяется прямоугольным светлым пятном на общем рыжеватом фоне местности. Вдали, за аэродромом, неясно различимо нагромождение городских зданий — Сарагоса.
До цели не больше пяти километров. «Чатос» быстро перестраиваются в пеленг. Выполнение всей задачи рассчитано на три-четыре минуты, позволяющие произвести две-три атаки. Мы летим вслед за «чатос», но значительно выше их. Меня больше всего волнует сейчас одно: успеют ли истребители противника взлететь с соседних аэродромов? Успеет ли подняться хоть часть самолетов с Гарапинильоса?
Куда там! Я смотрю на Гарапинильос и не верю своим глазам. Картина совершенно небывалая в боевых условиях: по всему аэродрому в виде буквы «П» расставлено, как по ниточке, не менее шестидесяти самолетов. Фашисты потеряли всякое чувство осторожности. Это уже не беспечность или зазнайство, это просто ротозейство. Хорошо! За уроком дело не станет.
Строго держась за своим ведущим, «чатос» выскакивают к аэродрому с бреющего полета, молниеносно набрав горкой метров двести высоты. Первым бросается в атаку Анатолий Серов, и почти тотчас же на земле вспыхивает один из «фиатов». Почин сделан! Вслед за Анатолием открывают огонь Антонов, Короуз — вся группа. Через минуту один за другим над аэродромом встают восемь дымных, огненных факелов. С оглушительным грохотом взрываются бомбы, подвешенные на фашистских самолетах, и в щепки разносят рядом стоящие машины. Сильный ветер разносит огонь по всему аэродрому.
Анатолию и этого мало — он производит третью, четвертую атаку… Летчики вошли в азарт и пикируют буквально до двадцати метров, в упор расстреливая вражеские самолеты. В клубах дыма ясно различимы две полосы горящих самолетов, окаймляющие аэродром двумя жаркими высокими стенами огня.
Едкий запах дыма, гари доходит до нас. Мы по-прежнему кружимся на «втором этаже», но, глядя на то, что происходит на земле, так хочется тоже ринуться вниз! Тем более что истребители противника не появляются — видимо, их основная масса сосредоточена на этом аэродроме. Вначале по «чатос» вели огонь два зенитных пулемета, но нам не пришлось заняться и ими — кто-то из летчиков Серова быстро приглушил их.
Однако приказ есть приказ, и мы продолжаем прикрывать действия серовцев. Картина сверху потрясающая. Горят самолеты, взрываются бомбы на бомбардировщиках. Огромные клубы дыма беснуются по всему аэродрому. Кое-где от самолетов уже остались только докрасна раскаленные бесформенные каркасы. И смешно — беспрерывно бьют сарагосские зенитки, ведут ураганный, но бесполезный огонь. Целое облако разрывов висит между городом и аэродромом. Ни один из снарядов не достигает своей цели.
Атаки серовцев ослабевают. Видимо, боеприпасы подошли к концу. Серов подает сигнал сбора и ведет истребителей уже другим маршрутом на свои базы, а Иван Еременко подхватывает все самолеты И-16 и ведет нас на новую цель. Недалеко от пылающего аэродрома вдоль шоссе растянулась автоколонна. Цель не запланированная, но инициатива Ивана Еременко самая подходящая. Теперь горят десятки, автомашин. Очень разумно получилось!
Еременко дает сигнал, и мы держим путь на свои аэродромы. Я несколько раз оборачиваюсь — взрывы на летном поле продолжаются. Пылает весь аэродром. Едва ли с таким чудовищным пожаром справятся технический персонал и охрана авиабазы франкистов.
Возвращаемся домой. Летчики выпрыгивают из машин и спешат рассказать о случившемся механикам. Ни одна бомбардировка не давала подобного результата. Блестящая победа, и заслуженная победа! Атаки серовцев были великолепны.
Перебивая друг друга, рассказываем о налете тем, кто его не видел. Вдруг кто-то замечает:
— Смотрите! Что это такое?
Вдали вырастает огромное черное облако дыма, медленно плывущее от линии фронта к морю.
— Это фашистские самолеты перебазируются в неведомые края! — смеется Хуан, и эту шутку покрывает дружный смех.
Весть о победе мигом облетела аэродром. От столовой к самолетам бегут девушки-официантки, радостно поздравляют летчиков. Волощенко растерян — его зацеловали. В разговорах приближается обеденное время, но никто не хочет уходить со стоянки, даже повар.
Тем более что вдали показывается «чато». Наверное, Серов!
«Чато» приземляется.
— Здорово, орелики! — кричит Анатолий, приглушив мотор.
Спрыгивает на землю, и тотчас его окружает тесное людское кольцо. Со всех сторон перекрестный огонь вопросов.
— Подождите, подождите, ребятки, давайте по порядку, — отбивается Анатолий. — Прежде всего, спасибо вам за хорошее прикрытие. Куда ни гляну, везде вижу свои монопланчики. Чудно! Спокойно на душе! Я сейчас летал докладывать командованию о результатах, — продолжает Серов. — Очень довольны нашей работой. Объявлена благодарность всем эскадрильям.
— Кстати, скажи, пожалуйста, Анатолий, — деловито спрашивает Бутрым, — чем это вы стреляли, не спичками ли? Что ни атака, то новые самолеты горят!
— Эх, Петр! Ты лучше спроси, чем я завтра стрелять буду.
— Патронов мало, что ли?
— Не в том дело, патронов-то много, да не тех, что надо. Я вчера приказал механикам зарядить самолеты одними зажигательными. Собрали все, что было. Сейчас на аэродроме остались только простые да бронебойные.
На мгновение Серов задумывается, и мы понимаем его. Положение с боеприпасами у республиканцев становится все хуже. Республика прочно заблокирована и с суши и с моря.
— Ладно! — встряхивает головой Анатолий. — Они потеряли больше, чем мы. Боеприпасы — это еще не самолеты!
И, улыбнувшись, расставляет руки:
— Ну, пока, орелики! Полечу к своим. Время идет, а мы еще хотим подлетнуть сегодня ночью.
— Да подожди, Анатолий! Успеешь! — уговаривает его Бутрым.
— Нет, нет, ребята, дело ждет…
Круг разрывается. Две-три минуты — и Анатолий снова в воздухе.
— Ну вот, — сердится Панас на Бутрыма, — напомнил ему о боеприпасах!
— Как будто он без меня забыл! Плохо ты знаешь Толю! Он еще прежде, чем израсходовать боеприпасы, начал думать о том, где достать новый запас.
Что верно, то верно, Серов умеет не только воевать, но и готовиться к бою.
Через несколько дней пленные летчики показали: «На аэродроме Гарапинильос уничтожено сорок самолетов. Большая часть оставшихся выведена из строя и требует длительного ремонта. В бессильной ярости фашистское командование обрушилось на охрану и зенитчиков, которые разбежались во время штурмовых действий республиканских самолетов. На следующий день после налета двадцать солдат были выстроены вдоль линии сгоревших самолетов и расстреляны на месте».
Впервые в истории истребительной авиации республиканские летчики во главе с русским командиром применили свое оружие как мощное средство не только в воздушных боях, но и для уничтожения вражеских самолетов на их базах.
Республиканцы высоко оценили успех серовцев. Через несколько дней до нас дошел слух: испанское командование обратилось к Советскому правительству с ходатайством о присвоении Анатолию звания Героя Советского Союза.
— Это правда, Анатолий? — звоним мы Серову.
— Не знаю. Не загадывайте вперед.
Выстоял
Мне хочется рассказать еще об одном человеке из эскадрильи Серова.
Помню холодное серое утро. Под шум осеннего дождя неторопливо течет наша беседа. Говорим о событиях последних дней, но так как события эти не бог весть какие, то и разговор не клеится. Все обычно, известно. Но вот я слышу что-то интересное:
— А у Серова-то новичок объявился. Степанов Женя. Ничего, говорят, парень…
Кто такой Степанов, никто не может вспомнить, хотя летчики народ дружный и пространство для них не помеха; бывает, что дальневосточникам какой-нибудь летчик из Москвы или Ленинграда так хорошо знаком, словно он служит вместе с ними в соседней эскадрилье.
Нет, никто из нас не знает Степанова, и разговор, который только что мог завязаться, тут же гаснет. Может быть, я так никогда и не вспомнил бы эту случайную беседу, если бы спустя несколько лет не встретил Степанова и не узнал, что с ним произошло.
Как и мы, Степанов добился разрешения отправиться в Испанию. Это случилось уже три месяца спустя после нашего приезда сюда. А надо сказать, что на море эти месяцы для республиканской Испании были не из легких. Фашистский флот, авиация отрезали морские пути к берегам Испании. Степанову пришлось добираться к заветной цели иным, более сложным путем. С большим трудом попал он во Францию. До Испании вроде бы уже рукой подать. Вот они, Пиренеи! Но как перейти через границу?
Эта задача оказалась не из простых, хотя многие французы сочувствовали республиканцам, помогали интеровцам. К счастью, в это доброе дело включились и некоторые летчики, имевшие собственные самолеты. Рискуя многим, они перебрасывали добровольцев в Испанию, «Ждите своего часа», — сказали Евгению.
Поселившись в маленькой гостинице, он стал терпеливо ждать. Потянулись дни, будто недели. Но вот однажды его предупредили:
— Завтра утром сядьте за угловой столик в ресторане Тулузского аэропорта.
Степанов не спал почти всю ночь. Наконец-то приближается решающая минута. Или он будет завтра в Испании, или всем мечтам конец. Мало ли что может случиться, перелет через границу — дело не шуточное! Скорее бы уж!
Утром он занял указанный столик, заказал завтрак. Через полчаса один за другим к нему подсели двое мужчин и три женщины. Веселые, нарядные. Обычные пассажиры. Женщины смеялись, то и дело поправляя свои прически, мужчины ухаживали за дамами, не обращая внимания на Евгения.
Вяло жуя завтрак, Степанов наблюдал и за своими соседями и за тем, что вообще происходило вокруг. Ровный, глуховатый шум, позвякивание вилок, обычная публика. Все как и должно быть в ресторане.
Но вот к Степанову подошел незнакомый человек и тихо сказал:
— Идемте за мной. Покажу самолет. У трапа вас встретят.
Сказал так, словно давно знал Евгения. Вдвоем они вышли из ресторана. Незнакомец показал глазами на стоявший в отдалении самолет: «Он!» Но возле самолета маячил полицейский. Недоумевая, Степанов пожал плечами. Незнакомец понятливо усмехнулся:
— Не обращайте внимания, идите.
В это время из ресторана вышли и соседи Евгения по столу, шумные, веселые, как бы слегка подвыпившие. Вся компания, а вместе с ней и Степанов, двинулась к самолету. Полицейский, увидев подзагулявших пассажиров, равнодушно скользнул по ним взглядом и отвернулся.
Сели в самолет, и сразу же, не теряя мгновения, летчик включил, моторы. И вот самолет уже в воздухе, под крылом — Тулуза, впереди отроги Пиренеев, Испания!
С пассажиров словно слетела беспечность. Сосредоточенные взгляды, сдержанные движения. К Евгению обратились мужчины. Доверительно улыбаясь (мол, свои, не пугайся), они забросали его вопросами:
— Камарада русо?
— В Испанию?
— В Интербригаду?
А в это время женщины безжалостно расправлялись с косметикой — стирали губную помаду, снимали наклеенные ресницы, свертывали в аккуратные пучки волосы.
Из кабины вышел летчик. Он поздоровался со всеми. С трудом подбирая русские слова, сказал Евгению:
— Здравствуй, русский летчик!
И тут же добавил:
— Через час будем на республиканской земле.
Так Степанов попал в Испанию. Его спросили:
— На чем хотите летать?
Степанов ответил:
— Направьте меня в эскадрилью Серова.
Он уже немало наслышался об этой замечательной летной семье.
Серов встретил новичка тепло, просто. Вызвал Евгения Антонова:
— Вот, Женя, даю тебе два дня. Тренируй новенького с утра до вечера. Но только смотри не увлекайся, работайте над своим аэродромом. — И погрозил: — Чтобы дальше — ни-ни!
Степанову не терпелось в настоящий бой, а тут снова тренировки. Однако скоро он огорчился уже совсем по иной причине. Антонов уже на следующий день просто «загонял» новичка: как ни старался Степанов, глядь, а Антонов опять висит над хвостом его самолета. А на земле твердит Степанову:
— Дави сок из машины. Жми!
На помощь Степанову пришел Михаил Якушин.
— Летай, Женя, с фиолетовыми искорками, тогда обязательно антоновский пыл потушишь.
— С какими фиолетовыми искорками? — удивился Степанов.
— С самыми обыкновенными! Ты же истребитель. Вспомни-ка: чем энергичнее выводишь машину из пикирования, тем больше перегрузка. Вот и в бою так же. Иногда на какое-то мгновение в глазах появляются фиолетовые звездочки. Значит, организм испытывает предельную перегрузку. Но тут же звездочки пропадают, и тогда перед тобой вырисовывается другой предмет — хвост самолета противника. Вот так! Понял.
Евгений Степанов.
На другой день Степанов вел «бой» на пределе своих сил. Выводя машину из пикирования, он так резко потянул на себя ручку управления, что в глазах действительно потемнело и впереди запрыгали те самые звездочки. А через долю секунды он уже имел неоспоримое преимущество над Антоновым.
Прошел еще один день, и Серов сказал:
— Теперь, друг, пора и в бой.
Боевой путь Степанова до поры до времени был обычным. За короткое время он стал настоящим серовцем. А это значило многое!
В штурме аэродрома Гарапинильос Степанов участвовал в составе ударной группы. Это он первым перенес огонь своих пулеметов на вражеские ангары, один из которых был набит самолетами. В результате двух атак Степанова и Антонова ангар сгорел дотла.
Однажды дежурному звену пришлось ночью вылететь по тревоге: с острова Майорка на Барселону шла вражеская группа бомбардировщиков. Летчики дежурного звена разошлись разными курсами на самостоятельный поиск противника. Полет был действительно полностью самостоятельным: ведь летали тогда без радиооборудования. Степанову удалось обнаружить группу из девяти трехмоторных бомбардировщиков «Савой-81». Он смело атаковал их и сбил один самолет. Тот рухнул на окраине Барселоны. Экипаж дежурного катера береговой охраны утверждал также, что видел огненные вспышки в море. По-видимому, Степанову удалось сбить и второй самолет. Правда, на месте предполагаемого падения другого бомбардировщика на поверхности воды обломков самолета не обнаружили, заметили лишь масляные пятна, но так или иначе это была немалая удача. Казалось, военное счастье сопутствует молодому летчику.
Однако на войне как на войне. И со Степановым случилось самое страшное…
Часто в воздухе, совсем близко от его самолета, рвались зенитные снаряды, оставляя в небе черные шапки дыма. Летчик привык видеть их каждый день и уже словно не замечал. Но вот — это было уже после нашего отъезда на Родину — 17 января 1938 года в бою над Теруэльским участком фронта самолет Степанова будто швырнуло в сторону. На какое-то мгновение летчик потерял сознание, а когда пришел в себя, то понял: самолет неуправляем и с огромной скоростью стремится к земле. Оставалась только одна надежда — парашют. Шелковый купол развернулся, но и парашют был сильно поврежден. Несколько оборванных стропов хлестало по воздуху, точно длинные кнуты. Купол плыл не ровно, а как-то боком. Скорость снижения была значительно большей, чем нормальная. Удар о землю. Что-то хрустнуло в правой ноге, и летчик потерял сознание.
Он пришел в себя, услышав оклик: «Рохо!» («Красный!»). И все сразу стало ясно: приземлился на территории франкистов. Степанов попытался вскочить, но тут же ударом по голове его свалили на землю. Его били прикладами, ногами, били зверски.
Плен! Это самое страшное, что может случиться с солдатом на войне. Что может быть мучительнее бессилия перед врагом, тревожнее полной неизвестности: что будет с тобой через час, завтра, послезавтра? И наступит ли это послезавтра? Каким бы ожесточенным ни был бой, но в бою ты хозяин своей судьбы, ты свободен, и все зависит от тебя. А в плену…
Через некоторое время возле Степанова появились фотокорреспонденты, а может быть, просто офицеры с фотоаппаратами, и началась пропагандистская комедия. Несколько человек подхватили обессиленного летчика под руки, зажали его пальцами белый платок и подняли его руки вверх. Степанов старался опустить руки, но его держали крепко. «Что скажут мои товарищи, если увидят этот снимок? Что скажут испанцы?»— лихорадочно думал Степанов.
Потом его бросили в сарай, на сухие, колючие ветви. В голове стучали тревожные мысли: «Как теперь ты оправдаешься перед товарищами? Что ты им скажешь? И почему так долго не ведут на допрос? Только бы не выдать ни одной мелочи, которая могла бы хоть в какой-то мере быть интересной для врага». Нет, он ничего не скажет им! Ничего!
Начались допросы. Что о них рассказывать? Это были такие же бесчеловечные допросы, какие множество раз описывались. Как правило, уговоры и посулы чередовались с побоями и пытками.
Летчика отправили в глубь франкистской территории. Привезли в какое-то небольшое пуэбло — населенный пункт. Втолкнули в казарму. Степанов сел на нары. И тут произошло то, о чем спустя много лет Степанов не мог вспоминать без волнения. Его обступили франкистские солдаты. Они с интересом приглядывались к летчику. Кто-то дружески похлопал его по плечу: «Рус пилот»; кто-то принес старые ботинки; кто-то налил в глиняную кружку вина; кто-то сунул ему в руки пачку сигарет и зажигалку. Теплое участие этих простых, обманутых франкистами людей согрело душу пленника.
Но вот снова вернулись конвойные. Через час Степанова переправили в тюрьму. Похожа она была на мрачный средневековый монастырь. Камера — нечто вроде каменного мешка с узкой щелью вместо окна. Ни койки, ни стула, лишь на полу сырой, грязный тюфяк.
Двадцать дней летчика посещал лишь тюремщик, приносивший раз в сутки чашку чечевичной похлебки и бутылку воды. Степанову ничего не оставалось делать, как мучительно и тревожно думать о своем будущем. Было еще одно занятие — читать надписи на стенах. Летчик, правда, с трудом — не так уж хорошо знал испанский язык — разбирался в них. Он и сам нацарапал на стене гвоздем: «Здесь был республиканский летчик Эву Хеньо» (под таким именем Степанов числился в республиканской армии).
Но вот его вывели из камеры, надели наручники, повезли в Сарагосу. Там был штаб немецкого командования. Пленного передали немецкому офицеру. Тот сразу же заявил, что испанцы не умеют допрашивать, а у него есть свой, испытанный метод. Этот метод летчик сразу оценил, когда увидел на столе перед офицером пистолет и резиновую дубинку.
— Что ж, — усмехнулся фашист, — будешь по-прежнему утверждать, что ты доброволец и что прибыл в Испанию по собственному желанию, а не насильно?
— Да, буду утверждать.
— А эта фотография с белым платком? Ведь она тебя уличает.
— Она сфабрикована, и вы знаете это.
Подобные разговоры в разных вариантах продолжались изо дня в день. Степанов твердо стоял на своем: он не даст ложных показаний. Пусть фашисты его убьют, но они не сломят его!
Сарагосские палачи оказались бессильными перед мужественным русским человеком. Измученного, обессиленного летчика опять (в который уже раз!) посадили в закрытую машину. Куда-то теперь повезут?
Сарагосский вокзал. Летчика вывели из машины в наручниках и кандалах. Он с трудом передвигался, гремя тяжелой сталью. Его тотчас же обступили испанцы. Они не побоялись и конвоиров. Женщины протягивали летчику молоко, фрукты, мужчины — сигареты. Толпа вокруг него росла. Но что это? Неужели ему послышалось? Нет, он отчетливо разобрал слова, прозвучавшие в толпе: «Вива ля република!»
И уже совсем смелой была выходка какого-то паренька, который залез на спинку деревянного диванчика в вокзальном зале и, дотянувшись до висевшего на стене портрета Франко, перевернул его вниз головой. Причем, делая это, он оглядывался на русского летчика, стараясь, чтобы тот видел все.
Охранники, расталкивая людей, поспешили увести пленного. Ночью его посадили в поезд. Поместили в общем вагоне, на полу. Конвоиры, видно, уставшие за день, начали дремать. Один из них положил ноги на плечи летчика: боялся, очевидно, что тот попытается бежать. Да разве в кандалах убежишь!
Пожилая женщина, сидевшая напротив, осуждающе смотрела на охранника, потом встала, подошла к Степанову, нагнулась и столкнула с его плеч ноги конвоира. Охранник спросонья обругал ее, она не осталась в долгу, произнеся уничтожающее «Viro» («Осел!»).
Поезд прибыл в Саламанку. Здесь находилась известная в Испании тюрьма. Опять камера. Только теперь со Степановым поселили еще пять человек. Более двух месяцев прожили заключенные вместе. Крепко сдружился Степанов с этими мужественными, честными людьми. Особенно нравился ему девятнадцатилетний паренек, очень сдержанный и рассудительный. Его расстреляли. Накануне расстрела он сообщил о себе всего несколько слов: его кличка — Энрике, он руководитель коммунистической молодежи Саламанки. Вот и все.
Через пять-шесть дней после расстрела Энрике Степанова повели на допрос. Опять появился переводчик. Снова пощечины, истерические выкрики: «Русо рохо!» («Русский красный!»). И в конечном итоге:
— Вы будете расстреляны.
— Дело ваше, — пожал плечами летчик.
Его посадили в камеру смертников, а через пять дней вывели утром на расстрел! Поставили лицом к стене. Последовала команда:
— Заряжай!
Степанов ждал команды «огонь». Но вместо нее раздалось:
— Отставить! Расстреляем завтра.
На следующий день все повторилось сначала. Опять вывели на расстрел, опять команда: «Заряжай!» — и опять вместо залпа крик офицера:
— Прекратить! Начальство едет. Вечером успеете выполнить приказ.
В третий раз Степанова вывели во двор ночью и опять вернули в камеру. На этом инсценировка кончилась.
Но в камере смертников его оставили. Режим здесь был необычайно жестким. Как-то раз Степанов встал на табуретку и попытался заглянуть в окно. Тут же раздался выстрел. Пуля щелкнула, ударив о косяк.
Тюремщики издевались над ним, как могли. Однажды они выдумали отвратительный трюк. Надели на летчика наручники, вывели днем в положенное время не в уборную, а прямо во двор и с хохотом предложили:
— Начинай!
Видимо, они рассчитывали, что беспомощность летчика вызовет смех заключенных, которые могли наблюдать эту сцену из окон камер.
Но вышло по-другому: из окон тюрьмы послышались возмущенные выкрики, на головы стражников полетели тапочки, ботинки — все, что попадалось под руку заключенным.
Это были трудные дни. Кормили ужасно. Начали, например, давать похлебку с червями. Несколько камер по инициативе Степанова приняли решение объявить голодовку. Заключенные легли на нары и не поднимались. Пили только воду, но не ту, которую приносили в камеру, — эта оставалась нетронутой, как и похлебка, — а из унитаза, о чем тюремщики не догадывались.
И выиграли голодовку. На шестой день в камеры принесли картофельный суп. К этому времени Степанова знали уже все заключенные. Даже уголовники, не интересовавшиеся политикой, приветствовали его по-республикански: «Салуд, камарада!».
Заключенные искали случая поговорить с русским летчиком. Любопытно, что все они — а здесь были люди самых разных убеждений — твердо считали, что русский может дать правильный ответ на любой политический вопрос. На прогулках его сразу окружали обитатели других камер. Они делились с ним всем, что им передавали в тюрьму родственники. Здесь же Степанов узнавал новости о событиях на фронте.
Однажды заключенные сообщили Степанову, что в газете проскользнула заметка, в которой говорилось, что в тюрьме содержится советский летчик, считающийся ценным заложником.
Спустя несколько дней Степанов получил более важные сведения: ведутся переговоры относительно его обмена на немецкого летчика. Говорили даже, что республиканцы могут дать за Степанова трех немцев (это было действительно так, из-за чего и произошла задержка обмена: уж очень франкистов заинтриговала такая высокая цена выкупа за Степанова).
И вот настал день обмена. Маленький городок на французской границе — Сан-Шан де Люз. Степанов по-прежнему в наручниках, но обращаются с ним уже вежливее. Страшным, невероятным кошмаром кажется ему уходящее прошлое. А впрочем, оно еще не ушло, оно еще здесь, в этих проклятых наручниках, в этом щеголеватом, наглом франкистском офицере. Оно еще здесь и долго еще будет напоминать о себе. Того, что было, не забыть!
Степанов смотрит на франкистов, и в душе его поднимается такая ненависть, что он еле сдерживает себя.
«Вернуться, только бы вернуться скорее в эскадрилью! — думает он. — Я рассчитаюсь с ними за все, за все! За себя, за девятнадцатилетнего Энрике, за слезы и кровь испанского народа…»
Сабадель, Сабадель…
В последних числах октября наша эскадрилья перебазировалась на аэродром вблизи небольшого городка Сабадель, у самого подножия живописных гор. Отсюда мы летаем на прикрытие портов Барселоны и Таррагоны — фашисты часто пытаются производить налеты на них с острова Майорка.
Мы разместились в маленькой гостинице из пяти-шести комнат, занимающих весь второй этаж. Внизу — столовая. Прикрытый сверху позолоченными осенью кронами деревьев, Сабадель пришелся нам по душе. За какие-нибудь полчаса его можно обойти кругом. На улицах всегда тихо. По утрам хозяйки подметают мостовые метлами из олеандровых веток. За оградами — чистые желтеющие палисадники с синими, пунцовыми, оранжевыми цветами на клумбах.
Первый раз за все время пребывания в Испании мы оказались в тылу, хотя и продолжаем выполнять боевую работу. Но по сравнению с фронтом это настоящий отдых. На каждого летчика приходится не более одного вылета в два дня. Поэтому мы придерживаемся здесь такого правила: два звена дежурят на аэродроме, а третье располагает собой по собственному усмотрению.
Свободного времени теперь у нас уйма. И мы с наслаждением гуляем по городу, знакомимся с нравами и бытом испанцев. Здесь сохранились в неприкосновенности не только довоенные, но и более давние обычаи.
Вот наступает доминго — воскресенье. Доминго в Испании — святая святых: этот день должен быть до последней минуты отдан отдыху, работать в воскресенье просто неприлично. Война, конечно, внесла в этот обычай существенные коррективы, но в основном только на фронте. Правда, и на фронте воскресные дни не отличались особым боевым напряжением: войска тоже в какой-то мере отдыхали, иногда наступало даже почти полное затишье — изредка лишь прозвучат отдельные выстрелы. Но, во всяком случае, в боевой обстановке воскресные традиции существенно нарушены.
Зато в Сабаделе эти традиции остаются нерушимыми. Ранним утром над городом поднимаются бесчисленные синие дымки: хозяйки готовят кушанье на целый день. К полудню по крайней мере половина жителей высыпает на улицы. В палисадниках томно воркуют гитары. Девушки, обнявшись, ходят из конца в конец улицы, напевая песенки, — это нечто вроде репетиции. По-настоящему, во весь голос, они запоют вечером, при звездах. К вечеру в доме трудно найти даже стариков. Молодые гуляют по улицам, те, что постарше, сидят в садиках — пьют вино, лакомятся фруктами. И во всех концах города звенят старинные романсы и новые песенки, льются сладчайшие серенады. Тихий Сабадель превращается в филармонию.
Хорошо! Но не совсем… Пусть кто-нибудь попробует приехать в Сабадель в воскресенье. В гостинице не найти ни администратора, ни служанок, на всех без исключения магазинах, ларьках вы увидите опущенные жалюзи. Даже чистильщики обуви предпочитают в этот день гулять, а не чистить ботинки. Впрочем, с голоду здесь не умрешь. Народ в Сабаделе радушный. С продовольствием туговато, как и везде, но для гостя поставят на стол последнее. Нельзя и пытаться отказываться: обидятся не на шутку. Гостеприимство сабадельцев мы оценили в первые же дни пребывания в городе.
Прошло всего три-четыре дня после нашего прибытия, а горожане уже специально поджидают нас вечером у подъезда гостиницы, чтобы потолковать о Советском Союзе, о котором они слышали больше небылиц, чем правды. Побеседовать с человеком из Советского Союза для них огромное удовольствие. Они слушают, не прерывая. Часто видишь, как во время беседы человек набьет трубку табаком, но заслушается и забудет закурить. Не меньше, чем испанцев, эти разговоры волнуют и нас.
Великое, всеобъемлющее чувство — любовь к Родине. Сама тоска по ней окрыляет человека, вливает в него силу и бодрость. Неразговорчивый Бутрым часами говорит испанцам о Советском Союзе, и сухощавое лицо его молодеет, покрывается румянцем. Любовь к Родине — чувство, понятное и близкое каждому трудовому человеку. Испанцы расспрашивают и слушают нас не только из любопытства. Они мечтают о такой же родине, какая есть у нас.
В течение нескольких дней жители узнали имена всех летчиков. Идешь по улице, а из инжирного садика несется:
— Камарада Борес! Зайдите!
Ответишь:
— Некогда, ждут дела.
Понимающе кивнут головой, и велел прозвучит:
— Аста ла виста! (До свидания!)
А в доминго — хоть и не показывайся на улице. Окружат еще у подъезда гостиницы, поведут в свой садик, усадят за стол и ни за что не отпустят, пока не отпробуешь всех фруктовых богатств Сабаделя.
Наибольшую любовь испанцев снискал Волощенко. Он кумир Сабаделя. Идти с Волощенко по улице — мука. Трещат, открываясь, тростниковые жалюзи:
— Добрый день, камарада Волощенко!
А на противоположной стороне перегнулась через изгородь девушка:
— К нам, к нам заходите! Забыли!
И надо отдать должное Волощенко — каким-то чудом он умудряется поговорить со всеми, никого не обидев. Сейчас, беседуя с испанцами, он соблюдает иную, чем прежде, языковую пропорцию: на десять испанских слов у него приходится два-три русских, не больше. И так как к этим словам добавляются еще выразительная жестикуляция и мимика, то нетрудно убедиться, что собеседники понимают его прекрасно. А если знать, что Волощенко смеется так заразительно и непосредственно, что может рассмешить самого унылого меланхолика на свете, то окончательно станет ясным, какой чудесный человек русский летчик.
В воскресенье Волощенко исчезает из гостиницы ранним утром и возвращается, когда замирают последние песни. В доминго его можно увидеть на каменной скамеечке возле какого-нибудь домика, где он вместе с девушками щелкает орехи, или за палисадником, где, уминая за обе щеки яблоки, он рассказывает им какую-нибудь смешную историю.
Сабадель, Сабадель… Самые светлые, самые лучшие воспоминания об Испании были бы связаны именно с тобой, если бы не трагический нелепый случай, если бы не свежая могила, которую оставили мы на твоем маленьком кладбище.
Несчастье всегда обрушивается на летчиков внезапно. Прекрасно начался тот день. Накануне вечером я договорился с Панасом, что утром мы махнем за город, осмотрим руины старинного замка, построенного много веков назад. Маноло выяснил, что туда можно проехать на машине. Чуть свет мы поднялись, пожелали Волощенко и Бутрыму счастливого дежурства на аэродроме и двинулись в путь.
Дорога оказалась мало удобной для езды, но зато удивительно живописной. Чем выше мы поднимались в горы, тем шире открывались перед нами картины дикой, почти не тронутой человеком природы. Огромные каменные глыбы причудливой формы порой нависали над самой дорогой. Ветвистые деревья, держась оголенными корнями за края отвесных обрывов, казалось, вот-вот упадут вниз. Минут через сорок мы выехали на небольшое плато. К нашему удивлению, здесь прилепились к скалам несколько глинобитных хижин.
— Может, зайдем, попросим воды? Пить что-то хочется, — предложил Панас.
Маноло остановил машину у крайнего домика. За забором, сложенным из камней, старик не торопясь разбивал мотыгой комья земли. Он не заметил нас или просто не обратил внимания на приезжих. Маноло открыл калитку и, войдя во дворик, попросил воды. Старик, ни слова не говоря, прислонил мотыгу к дереву и не спеша направился в дом. Через некоторое время он вышел, держа в руках глиняный кувшин и такую же глиняную шершавую кружку. Внимательно, из-под нависших бровей, осмотрел нас. Что заинтересовало его? Скорее всего, чужая речь: мы переговаривались с Панасом по-русски.
— Кто эти люди? — спросил он, приблизившись к Маноло.
— Русские летчики, — ответил тот.
Старик еще пристальнее посмотрел на нас и неожиданно опрокинул кувшин, разом вылив всю воду на землю. Маноло растерялся.
— Зачем, отец, ты вылил воду? — закричал он.
— У меня нет для русских воды, — выпрямляясь, сказал старик, и в его голосе зазвучали торжественные нотки. — У меня есть для них только виноградное вино! — Положив сухую руку на плечо Панаса, он пригласил: — Зайдите ко мне!
Мы начали было отказываться, благодарить за приглашение, но старик и слышать ничего не хотел.
— Нет, нет, не отказывайте старому человеку! Мне нельзя отказывать. Мне немного осталось жить, и, может, я больше никогда не увижу русских.
Хозяин вытер чистой тряпкой скамейку, усадил нас за стол, стоявший под оливковыми деревьями, и принес из погребка в том же самом кувшине холодного виноградного вина и чашку моченых маслин.
— Куда едете? — спросил он, присев рядом.
Мы объяснили ему.
— Туда вам сейчас не попасть, — покачал головой старик. — На днях случился обвал, всю дорогу засыпало, а пешком идти далеко. Лучше отдохните у меня и поезжайте обратно.
Панас обрадовался: конечно, останемся, что хорошего в развалинах какого-то замка!
Разговорились. Старик жил один. Сыновья ушли на фронт, а старуха недавно умерла.
— Трудно, падре, одному? — спросил Панас.
Старик усмехнулся:
— Мне не трудно, мне скоро на покой, это вот вам трудно, молодым, у вас вся жизнь впереди.
И вздохнул.
— Мы к лишениям привыкли. Вот они, все на виду! — И он широко развел руками.
Мы недоуменно посмотрели по сторонам: о чем он говорит?
— Не понимаете? Молоды еще, вот и не понимаете, — с отеческой снисходительностью сказал старик. — Посмотрите-ка, сынки, на этот клочок земли. Из него мой отец, я и мои сыновья вынули столько камня, что его хватило сложить вот этот домик и эту стену вокруг. А камень все растет и растет из-под земли. Нет, и внукам нашим не перетаскать его. Сколько бы ты его ни выбирал, еще больше останется. Да-а, много слез и пота впитала эта земля, а дает она самую малость, только чтобы не умереть от голода.
Мы смотрим на старика, на его нищее поле, и в памяти невольно всплывают десятки рассказов о многострадальной судьбе испанских крестьян. Пожалуй, нигде в Европе нет таких живучих пережитков феодализма, как в Испании. Однажды нам довелось прочитать в газете «Эль-соль» о том, как в Мадрид из провинции Логроньо пришли ходоки с просьбой снять с них какой-то налог. Тридцать крестьянских семейств деревни Соляр каждый год уплачивали этот налог натурой — пшеницей, вином, домашней птицей. Получала этот налог местная кулацко-помещичья комиссия и распределяла между своими членами: одному — пшеничку, второму — курочек, третьему — вино. Министерство земледелия заинтересовалось: что за налог? И выяснилось: в 800 году (в восьмисотом!) вестготский король дон Рамиро де Леон дал землю нескольким крестьянам, обязав их одновременно быть стражами против мавров. Королевские стражи! Титул, честь! За эту «честь» крестьяне должны были ежегодно выплачивать королю оброк натурой. Прошло больше тысячелетия — сгнили многие десятки королей, а потомки королевских стражей продолжали из года в год вносить налог. Один этот факт громче любых словесных доказательств вопиет о феодальных нравах в современной Испании. Недаром республика — надежда испанского крестьянина, она открывает перед ним новые горизонты.
Старик отхлебнул вина, замолчал. Мы все смотрели на клочок земли, огороженный каменной изгородью. И без того крохотный, участок еще и разделен — часть его занята кукурузой, часть отведена под виноградник, да еще растет несколько оливковых деревьев, под которыми мы сидим.
Беседуя, мы забыли о времени. Спохватились, когда солнце уже стояло в зените. А мы обещали вернуться к обеду домой. Прощаемся со стариком. Он долго жмет нам руки, словно не хочет расставаться.
Спустившись в Сабадель, мы сразу заметили, что размеренная, спокойная жизнь городка чем-то нарушена. Люди собирались на улицах группами, тревожно беседовали. Подъехали к гостинице. Навстречу нам выбежала хозяйка:
— Камарада Борес! У вас на аэродроме несчастье. Самолет разбился, и, кажется, камарада Волощенко…
Женщина закрыла лицо руками и заплакала. Мчимся на аэродром. Панас сидит согнувшись, смотрит в одну точку. Издали замечаем толпу людей у стоянки. Летчики молча расступаются, увидев нас.
На траве — изуродованное тело Волощенко, покрытое самолетным чехлом.
— Час назад, — медленно говорит Бутрым, — над аэродромом появился фашист. Разведчик. Волощенко увидел его первым и сразу решил взлететь. По-видимому, наблюдал только за разведчиком и, понимаешь, не заметил впереди вон то дерево. Вот и все…
Я смотрю туда, куда показывает Петр, и вижу рядом с разбитым самолетом расщепленное, как от удара молнии, дерево, разбросанные сучья. Дикий, нелепый случай…
И вот мы хороним Волощенко. Несем гроб на руках до самого кладбища. За гробом движется огромное для Сабаделя шествие. Все жители провожают в последний путь своего любимца — камарада Волощенко. За гробом идут девушки с венками из живых цветов. За ними пожилые люди, замыкают шествие старики. Женщины одеты в траур, многие тихо плачут.
Кладбище еле вмещает всех пришедших проститься с русским летчиком — собралось не менее трех тысяч сабадельцев. Наступают последние минуты прощания. Вперед выходит председатель городского самоуправления.
— Я не был лично знаком с храбрым летчиком камарада Волощенко, — говорит он. — И я горько сожалею сейчас об этом. Только замечательной души человек может привлечь к себе любовь всего города. Я вижу здесь и старых и молодых, я вижу детей и глубоких стариков. Мир твоему праху, русский герой. Сабадель будет всегда помнить тебя…
Председатель хочет еще что-то сказать, но горько покачивает головой и отходит. В толпе слышатся рыдания. Испанцы задвигают гроб в каменную нишу, и в этот момент над кладбищем вихрем проносится звено истребителей.
Сабадель, Сабадель… Как же это случилось?! Двое уже никогда не вернутся на Родину. Горько задумавшись, я смотрю на новенькую мраморную дощечку, прикрепленную к стене, и вдруг замечаю в руке ключ. Ключ от гроба. Кто и когда вручил его мне? Не помню.
В Реусе
Через несколько дней мы получили приказание перебазироваться на аэродром Реус, еще ближе к морю. На фронте наступило затишье, вызванное осенней непогодой, непрерывными дождями. Но возле моря фашистская авиация, преимущественно бомбардировочная, продолжала действовать активно.
Узнав, что мы покидаем Сабадель, председатель городского самоуправления от имени горожан попросил меня разрешить им прийти на аэродром, чтобы проводить летчиков. Мы крепко сдружились с сабадельцами, и если бы они пришли на проводы без всякого разрешения, мы были бы только рады.
Ранним утром к аэродрому потянулась вереница горожан. Люди несли громадные букеты осенних цветов, а некоторые — красные флаги. Все оделись так, как одеваются только в доминго. А день был будничный. Народ со всех сторон обступил стоянку самолетов. Каждый хотел пожать нам на прощание руку.
Эскадрилья взлетела и сделала прощальный круг. В последний раз прошли мы над местом, где похоронен Волощенко, и развернулись в сторону моря.
И вот мы в Реусе. Несем береговую охрану, встречаем республиканские корабли, ведем разведку. Вместе с нами на аэродроме базируется эскадрилья бомбардировщиков, укомплектованная советскими и испанскими экипажами и советскими самолетами СБ. Командует ею наш советский летчик-доброволец Александр Сенаторов. Мы впервые располагаемся по соседству с бомбардировщиками и, надо сказать, сначала относимся к ним с некоторым гонорком. Истребители всегда считают свой род оружия выше всех других видов авиации. Однако этот гонорок у нас довольно скоро улетучивается. Мы подчас сидим у своих самолетов без дела, скучаем, а бомбардировщики летают без прикрытия истребителей, подвешивают бомбы и улетают на задание, возвращаются, вновь забирают боеприпасы и вновь скрываются вдали. «Боевой конвейер», — говорят они о своей работе.
Иногда мы видим, как к только что приземлившимся самолетам подъезжает санитарный автомобиль, забирает раненых. Бомбардировщики действуют самоотверженно: по нескольку раз в день без прикрытия пересекают они морские воды и бомбят вражеские базы на острове Майорка. Фашистские истребители частенько встречают их на подходе к Майорке, но обычно не могут преградить им путь: бомбардировщики смело принимают бой и прорываются к цели. Нередко после возвращения с задания мы слышим, как Сенаторов по телефону докладывает в штаб: бомбы сброшены точно, сбито столько-то истребителей.
Мы чувствуем себя в большом долгу перед бомбардировщиками, так как не можем на своих самолетах сопровождать их на дальние расстояния.
— Черт возьми! — досадует кто-нибудь из нас. — Вот кому достается! Летают день и ночь, отражают десятки атак — и все сами, никто им не помогает.
— Вот тебе и бомбардировщики! — говорит Бутрым. — А то «истребители — короли воздуха»! Хотел бы я видеть нас на их месте! Пожалуй, не каждый бы справился с такой работой.
Короче говоря, профессиональную спесь с нас как рукой сняло. Мы быстро сдружились с бомбардировщиками — и сдружились крепко. Особенно с Сенаторовым.
Александр Сенаторов.
Уже внешний вид Сенаторова вызывает уважение, симпатию. Плотный, среднего роста, он необычайно спокоен. Спокоен на старте, когда одна за другой машины уходят в воздух. Только слегка прищурится и изредка протянет: «М-да…» Видимо, что-то заметил: не так самолет взлетел или запоздал пристроиться к группе. Потом скажет летчику о его ошибке — скажет ровным голосом, не спеша, но так, что тот навсегда запомнит каждое слово Сенаторова. Спокоен он и в воздухе. О его мужестве, хладнокровии и выдержке среди летчиков ходит немало рассказов.
«Наш Серов», — с гордостью говорят о нем летчики его эскадрильи. И действительно, он чем-то напоминает Серова, хотя Анатолий, конечно, темпераментнее, порывистее. Эти черты характера запрятаны в Сенаторове где-то глубоко — о них можно лишь вдруг догадаться по мгновенной ослепительной улыбке, которая внезапно озарит его лицо и тотчас же пропадет, сменится обычным спокойствием, или по короткой, неотразимо точной фразе, которой он разрешит долгий спор летчиков, перечеркнет чьи-то сомнения, отбросит чьи-нибудь путаные размышления.
Заметнее всего сближает Сенаторова с Серовым мастерство, дух новаторства, вечные поиски нового. В своем деле Сенаторов такой же непревзойденный мастер, как Анатолий в своем. Он знает всю Испанию и часто ориентируется без всяких карт, по памяти, потому что облетел страну вдоль и поперек по нескольку раз. Это он впервые в Испании начал совершать полеты на дальние расстояния, отказавшись тем самым от прикрытия истребителей. У Сенаторова немало побед в воздушных боях. Он первый в Испании разработал новые боевые порядки бомбардировщиков, позволяющие одинаково успешно обороняться и нападать. Он в совершенстве владеет штурманским искусством и на труднейшие задания водит летчиков сам. Это прирожденный летчик-бомбардировщик, и мне трудно представить себе его истребителем или, скажем, разведчиком, так же как Серова нельзя представить себе никем другим — только истребителем. О сенаторовской эскадрилье знает вся республиканская Испания. Попасть в эту эскадрилью мечтает каждый летчик-бомбардировщик.
Силой командирского авторитета Сенаторов сколотил действительно изумительное по своей боеспособности подразделение. Даже в воздухе его эскадрилью легко отличить от других: она идет обычно плотно, крыло к крылу, словно единая рука управляет летчиками. Красиво ходят сенаторовцы, внушительно!
Мы рады каждой встрече со своим новым товарищем, соотечественником. Правда, встречи эти бывают нечастыми и мимолетными. Увидишь его — шагает по аэродрому, направляется к машине.
— Привет, Саша! Кого сегодня собираетесь «угощать» на Майорке?
Остановится. Улыбнется, пригладит волосы и неторопливо скажет:
— До Майорки надеемся еще истребителей попотчевать.
И идет дальше, чуть покачиваясь. Кажется, ничто на свете не может нарушить точный, как расписание поездов, вылет бомбардировщиков на задание. Они и с погодой не хотят считаться. Но погода чем дальше, тем становится хуже и хуже. В конце концов она заставляет «приземлиться» Даже сенаторовцев.
Вот еще со вчерашнего вечера начался дождь — и льет, льет, бесконечно нудный, вялый. Утро серое, мутное. В углах комнат копошится сумрак. Погода явно нелетная — над морем низко ползут косматые тяжелые тучи. Нет, сегодня и бомбардировщикам не выбраться в воздух.
В полдень к нам стучится Сенаторов. Входит сердитый. Не здороваясь, спрашивает (в голосе беспокойство):
— Как думаете, надолго зарядил этот дождь?
— Осенью тебе и метеоролог не даст точного ответа. А скорее всего надолго, — говорит Панас.
Сенаторов морщится. Неожиданно говорит:
— И в Куйбышеве сейчас, наверно, сеется такой же мелкий дождичек. На Волге ни одной паршивой лодчонки не увидишь.
В Куйбышеве? Почему он вспомнил мой родной город?
— Да я же твою Волгу и Самару не хуже тебя знаю, не одну пару башмаков стоптал на булыжных улицах приволжских городов, — отвечает на мой вопрос Сенаторов.
— Значит, земляки! — радуюсь я.
— Ну как тебе сказать… В одной церкви, может, и не крещенные, а уж волжские припевки мне тоже родные.
Ярче ночного костра вспыхнули в нашей памяти крутые откосы Жигулей, тихие ставропольские заводи и плесы, подернутые утренней дымкой.
Таким возбужденным я еще не видел Сенаторова. Он взволнован воспоминаниями. Ему не сидится на месте — вскакивает, ходит по комнате, снова садится и вдруг тихо запевает: «Эх, Са-ма-ра го-ро-док…» Я подтягиваю.
Теперь нам особенно хочется вместе пойти на одно задание. Но ничего не выходит. Несколько раз мы усаживаемся за карту, вновь и вновь измеряем расстояние до Майорки — нет. Не удастся! Слишком велико расстояние для истребителей: долететь долетим, а обратно не дотянем.
— Жаль, — вздыхает Сенаторов. — А вам было бы хорошо встретиться с их стрекулистами (так он называет истребителей, прикрывающих Майорку). Не сильны они. Покрутят хвостами вокруг нас, повертятся, а как одного сшибешь, остальные уже начинают держаться в почтительном отдалении. Зенитный огонь нас больше беспокоит.
Конечно, жаль — и еще как! Тем более что на днях одному из звеньев нашей эскадрильи представился прекрасный случай продемонстрировать свое мастерство перед друзьями-бомбардировщиками, а мы не только не использовали до конца редкую возможность, но еще и изрядно оконфузились. История и смешная и поучительная. Панас готов рвать на себе волосы.
Получилось так. Звено Панаса патрулировало вдоль берега моря, поблизости от аэродрома. Фашистов особо привлекали огромные резервуары с горючим, находившиеся неподалеку от нас, в Таррагонском порту. Вражеские летчики давно подбирались к лакомому кусочку, но мы неизменно отгоняли их. На этот раз три итальянских гидросамолета решили воспользоваться облачностью, им удалось подойти довольно близко к нашему берегу. Вынырнув из-за облаков километрах в десяти от цели, вражеские самолеты увеличили скорость, но как раз в этот момент Панас заметил их. Быстро выйдя наперерез противнику, истребители молниеносно атаковали его. Не выдержав натиска, бомбардировщики уже стали было разворачиваться обратно, но в это время атака Панаса увенчалась успехом — один гидросамолет загорелся и упал в море. Два других начали быстро снижаться. Истребители продолжали атаковать их. Не прошло и минуты, как второй бомбардировщик тяжело плюхнулся на воду. Наши самолеты сразу же перенесли свой огонь на последнего фашиста. Тот долго не раздумывал и тоже не замедлил сесть. Моторы остановились. Бомбардировщики грузно покачивались на морской зыби, а вокруг них плавали обломки третьего, сгоревшего самолета.
Полюбовавшись этой замечательной картиной, Панас тотчас же поспешил доложить о своей крупной победе. Потный, раскрасневшийся, он подбежал ко мне и одним духом выпалил:
— Сбили три итальянских «капрони». Они все там, километрах в десяти от порта. Один сгорел, а два сидят рядышком, подбитые.
— Вот это истребители! Завидую! — сказал стоявший рядом со мной Сенаторов.
Я засиял: и мы, мол, не лыком шиты! Понимаете сами, сбить звеном три такие «коровы» — это не часто бывает! О происшедшем немедленно сообщили в порт. Два дежурных катера с вооруженными людьми на борту направились в море, к указанному месту.
Панаса окружили летчики-бомбардировщики. Волнуясь, он уже успел красочно, на руках, показать, как происходил бой, когда к нему подошел Петр Бутрым и строго, без улыбки, сказал:
— Панас! Только что звонили из порта, передали, что катера нашли только обгоревшие обломки одного сбитого самолета. И больше ничего.
Летчики замерли от неожиданности. Панас возмущенно запротестовал:
— Не может этого быть! Два самолета сели с остановленными моторами тут же, рядом, где упал горящий.
— Утонуть-то не могли? — спросил Панаса один из летчиков-бомбардировщиков.
— Конечно, нет! — ответил тот. — Они плавают как пузыри.
И только один Саша Сенаторов улыбался и улыбался хитро, поглядывая молча то на одного, то на другого летчика. Эта улыбка доконала Панаса.
— Чего ты улыбаешься? — взбеленился он. — Я на твоем месте давно бы кого-нибудь послал на разведку в море. Может быть, их ветром угнало!
Сенаторов молча, все с той же улыбкой облизнул палец и поднял его вверх:
— Да? А ветерок-то с моря на сушу.
И неожиданно для всех сказал:
—. Твои бомбардировщики, Панас, сейчас, наверное, к Майорке подлетают.
— Как это так — подлетают?! — воскликнул окончательно сбитый с толку Панас.
— А так, очень просто. Вы их крепко прижимали сверху, не давали им уйти в облака, одного сбили — что же им оставалось делать? Они и решили попробовать последнее средство: выключили моторы и имитировали вынужденную посадку. Сели, вроде подбитые. А вы, простаки, поверили. Вот и вся загадка.
Панас с отчаянием схватился за голову, не в силах выговорить ни слова. Каким же надо быть дураком, чтобы выпустить живьем два самолета!
Сейчас к Панасу боязно подступиться: злой, не может себе простить промаха. Бомбардировщики его утешают, как тяжелобольного.
— С кем не бывает, — говорят они ему. — Вот у нас произошел такой случай…
Что-то много рассказывают они этих «случаев»: наверное, уже выдумывают, чтобы успокоить боевого товарища. Я сочувствую своему другу.
В одном из боев над Мадридом мне удалось основательно зажать «мессершмитта». Он не мог уйти от меня: у него сильно дымил мотор и, очевидно, уже кончились боеприпасы. А через несколько секунд меня неожиданно атаковали три «фиата», и мне пришлось уже самому отбиваться.
Но по-настоящему я понял всю силу клокотавшей в душе Панаса крутой бойцовской злости значительно позднее, когда сам испытал ее. Это случилось в период Великой Отечественной войны.
Продвигаясь от Будапешта к Вене, мы приземлились на аэродроме Веспрем. Немецко-фашистские войска откатывались все дальше и дальше на запад. Истребительная группа немцев, располагавшаяся в Веспреме, удрала самым поспешным образом. Даже цистерны с бензином остались в сохранности.
В авиационном городке, в квартире, которую занимал командир немецкой истребительной группы, по данным нашей разведки, полковник, на столе стоял еще теплый электрический кофейник. На радиоприемнике лежала небольшая книжка. С первой страницы на меня смотрело самодовольно улыбающееся лицо полковника. Я обратил внимание на фотографии, развешанные на стене. Он самый! Автор книжки и командир истребительной группы был одним лицом.
Заинтересованный этим обстоятельством, я начал перелистывать книгу. Что такое? Чуть ли не на каждой странице я вижу слова «Испания», «Мадрид». Я не знал немецкого языка. На помощь мне пришел один из офицеров штаба дивизии. Прочитав предисловие автора, он изумленно воскликнул:
— Товарищ командир! Да ведь это ваш старый знакомый! Это же записки о войне в Испании!
И неожиданно с удивительной ясностью я вспомнил тот неудачный бой над Мадридом, когда моя беспечность позволила уйти «мессершмитту». Может быть, полковник, автор записок, был тем самым летчиком, который благополучно выбрался тогда из гибельного положения? Что если это в самом деле он? Кого я выпустил? Матерого хищника, который причинил немало страданий не только испанцам, но и людям многих стран Европы и нашей Родины.
Когда я думаю об этом, во мне всякий раз поднимается злость на самого себя. Та самая злость, которая мучила когда-то Панаса.
Американский «подарок»
Глубокая осень. Летное поле, зеленое в июне, пожелтевшее в августе, теперь отливает старческой сединой утренних заморозков. Кажется нескончаемой пора дождей. Низкое небо, бесконечная череда разбухших от влаги туч, цепляющихся за каждую мало-мальски приличную гору.
Нелетная погода раздражает и злит, как вынужденная посадка. Правда, положение на фронте более или менее стабилизировалось. Однако неопровержимые факты свидетельствуют, что фашисты готовят новое наступление — пополняют свои армии свежими итальянскими и марокканскими дивизиями, обновляют вооружение только что вышедшими с немецких заводов пушками, танками, бронемашинами.
Республиканская армия страдает не только от недостатка оружия, но и от недостатка обмундирования. Уже не только ночью, но и днем холодно. Не все солдаты обеспечены шинелями и вынуждены кутаться в скопах в домашние одеяла.
Словно в насмешку, американские благотворители прислали нам, летчикам, новенькие авиационные костюмы. Выглядят они щегольски, блестят за километр множеством никелированных застежек, но носить их неудобно из-за обилия застежек, да и холодно в них.
— Костюмчики-то подбиты рыбьим мехом, — усмехаются летчики и предпочитают надевать свои старые кожаные куртки.
Жалкие, издевательские подачки. «Помощь» американцев не вызывала ничего, кроме разочарования. Горького разочарования, потому что в то время у многих еще теплилась надежда, что западные демократии не позволят фашистам потопить в крови Испанскую республику, помогут народу в его справедливой борьбе. Дипломатическая возня в Лондонском комитете по невмешательству, медлительность «демократических» правительств тогда казались еще многим дурной игрой тупых политиканов, а не преднамеренно предательской политикой империалистов и их лакеев, лицемерствующих врагов испанского народа, душителей свободы, где бы она ни заявляла о себе.
Время сорвало все маски, и сейчас я не могу отделить некоторые воспоминания об Испании от событий последующих лет. Видимо, не без причины дорогие и холодные куртки «на рыбьем меху» ассоциируются у меня с американскими самолетами «томагауками» и английскими «харрикейнами».
Нет, не без причины. Посудите сами. 1942 год. Гитлеровцы у стен Сталинграда. Все честные люди мира требуют от англо-американских союзников: откройте второй фронт, помогите русским в их тяжелой, кровопролитной борьбе! Словно стремясь заглушить эти призывы, печать западных держав трубит о помощи, которую они оказывают Советскому Союзу. О помощи «благородной», «бескорыстной», «щедрой». Щедрой? Бескорыстной? Благородной?
Вместе с группой наших летчиков я приезжаю в Архангельск — встречать транспорты, идущие из Англии с самолетами. Транспорты запаздывают, но что ж поделаешь, время военное, не всегда можно уложиться в график рейса. Мы терпеливы, хотя, по правде сказать, очень хочется поскорее увидеть обещанные нам заморские машины. Говорят, они вполне соответствуют современным требованиям.
— О! «Харрикейн»! «Томагаук»! — восклицает английский вице-маршал авиации мистер Кольер, прибывший с первым транспортом. — Это замечательные машины! Лучшее, что есть в Англии и Америке. Вы в этом скоро убедитесь.
«Чем скорее, тем лучше», — думаем мы. Огромные ящики с частями машин мы быстро перевезли из порта на один из близлежащих аэродромов. Задача предстояла сложная: в полевых условиях, без стационарного оборудования, нужно было возможно быстрее собрать самолеты и испытать их в воздухе. Однако специально прибывшая на помощь нам английская техническая команда не спешила. Один денек задержалась в Архангельске, другой — бродила по аэродрому, уныло твердя, что летное поле никуда не годится, погода паршивая и что вообще начинать работу в таких условиях нельзя, надо построить сборочные мастерские.
Мастерские? Что ж! Мы засучиваем рукава и приступаем к круглосуточной работе — строим эти самые мастерские. Англичане нам помогают после завтрака, с десяти часов утра до двенадцати. Затем у них двухчасовой обеденный перерыв, после чего они работают до шести вечера. Ладно, и то дело!
Наконец мастерские готовы. Пора бы начинать сборку машин.
— В какой срок нам удастся собрать первую партию самолетов? — спрашиваю я мистера Кольера.
— Я думаю, господин полковник, — лениво отвечает он, — что каждую неделю вы будете выпускать в воздух одну-две машины.
В неделю по самолету? Ну нет, такие черепашьи темпы — самое настоящее преступление! Я смотрю на Кольера — по его лицу бродит тусклая усмешка. «Да не издевается ли он?»
— Господин вице-маршал, — говорю ему, стараясь сдержать возмущение, — приезжайте завтра к вечеру — будете присутствовать на первом облете.
— Шутите? — не то настороженно, не то с прежней издевкой спрашивает Кольер. — О! Русские любят шутить.
Нет, мы не шутим, не до этого нам сейчас! Судя по поведению англичан и их главного шефа мистера Кольера, нам придется собирать машины одним. И мы будем собирать! Норма англичан — один-два самолета в неделю — нас никак не устраивает.
Вице-маршал явился на аэродром не к вечеру следующего дня, а в полдень. Как раз в тот момент, когда первый «томагаук» был вывезен на взлетную дорожку. Видимо, сей сюрприз пришелся вице-маршалу не по душе. Подойдя к английскому инженеру, он резко спросил его:
— Как это случилось?
Не знаю, почему мистер Кольер допустил оплошность, — то ли он рассчитывал, что никто из нас не знает английского языка, то ли волнение помешало ему вообще что-либо взвешивать, — но мы стали свидетелями чрезвычайно любопытного разговора. При этом особенно примечательными были даже не слова мистера Кольера, а раздраженная интонация, с которой он произносил их.
— Они не хотели дожидаться подъемных механизмов, — развел руками инженер в ответ на вопрос шефа. — Это сумасшедшие люди. Они на руках подняли фюзеляж, подвели под него крыло, водрузили самолет вот на эти козлы и по нашим чертежам начали монтаж.
— Но вы говорили русским, что так нельзя собирать самолеты? Кроме того, вы обязаны были сказать, что не можете нести ответственность за качество такой сборки.
— Все это мы говорили, но они упрямые люди. Они отвечают, что соберут самолеты сами.
— Сами? Но американские летчики откажутся облетывать эти машины, вы так им и заявите! — покраснел мистер Кольер.
— Я и об этом им говорил. Они отвечают: «Облетаем сами».
— Ого! Так, может быть, они думают вообще обойтись без нашей помощи?
— Похоже на то, — растерянно пожал плечами инженер.
Недовольный мистер Кольер направился к двум американским летчикам, прибывшим для облета машин, и о чем-то долго беседовал с ними. В результате один из летчиков нехотя взял парашют и направился к самолету. Минут двадцать американец гонял мотор на всех режимах, видимо, пытаясь найти хоть малейшую недоделку — благовидный предлог для того, чтобы отложить полет. Ничего не мог обнаружить — все смонтированные агрегаты и приборы работали нормально. Волей-неволей летчик поднялся в воздух и показал, на что способна машина. Этого момента мы ждали с нетерпением: мы хорошо запомнили слова вице-маршала: «Лучшее, что есть в Америке и Англии». И здесь нам пришлось особенно разочароваться: «томагаук» обладал паршивой скоростью и еще худшей маневренностью.
Кольер стоял, не глядя на нас. Обман, наглый обман! И на этот раз неисправимый: большего, чем дает машина, из нее не выжмешь. Но, может быть, американец совершил полет формально, по обязанности, может быть, машина лучше?
— Разрешите взлететь, товарищ командир, — обратился ко мне летчик Храмов.
Я разрешил. Пусть проверит машину в воздухе: по крайней мере, не останется никаких сомнений. Увидев, что Храмов надевает парашют, американский летчик и Кольер подошли к нам.
— Господин Храмов собирается в полет?
— Да.
— Но ведь «томагаук» — самолет строгий, его надо хорошо изучить, прежде чем пойти в воздух! — взволновался американец. — Я обучил несколько десятков английских летчиков, и практика показала, что из трех-четырех пилотов один обязательно ломал самолет.
— Не волнуйтесь, Храмов уже знает эту машину.
— Во всяком случае, я не могу поручиться за благополучный исход этого полета, — почти угрожающе заявил американец.
Храмов усмехнулся:
— Не беспокойтесь, господин Льюис. Я думаю, что этот полет не будет моим последним полетом.
Через несколько минут присутствовавшие на аэродроме стали свидетелями блестящего по своей виртуозности высшего пилотажа. Мистер Кольер неоднократно бросал вопросительные взгляды на американских летчиков. У них был, скажем прямо, вид оторопелый. Как выяснилось впоследствии, Храмов выполнил ряд фигур, которые американцы не решались выполнять на «томагауке».
Чем дольше продолжался полет, тем горше становилось у нас на душе: мастерство Храмова не только не стушевывало недостатков машины, а еще яснее обнаруживало их.
Напротив, мистер Кольер светлел. Как только Храмов приземлился, Кольер и Льюис одновременно задали ему один и тот же вопрос:
— Ну, теперь вы убедились, что это за прекрасный самолет?
Прежде чем ответить, Храмов отвернулся в сторону.
— У русских есть пословица, господа, — неохотно процедил он, — «Дареному коню в зубы не смотрят». А если этот «конь» продан за деньги, то на сей счет мы говорим: «Всякий цыган свою кобылу хвалит».
Мистер Кольер оглушительно расхохотался:
— Я же всегда говорил, что русские любят пошутить!
Злой, мрачный, Храмов в упор посмотрел на вице-маршала:
— Признаться, мне не до шуток, мистер Кольер. Этот истребитель полностью соответствует своему названию «томагаук». В воздухе это действительно настоящий топор.
От неожиданности Льюис чуть не проглотил свою резиновую жвачку. Кольер замигал, не находя ответа. Стоявшие рядом английские техники, поняв смысл сказанного, рассмеялись, но предупредительный взгляд вице-маршала тотчас же заставил их прикусить язык.
Вот она, «помощь» союзников! Нет, от чистого сердца так не помогают! С негодованием думал я тогда о неискренности и нарочитых комплиментах Кольера и тех, кто за ним стоял, кто руководил его действиями (не такие уж они глупые люди, чтобы не понимать, что прислали нам дерьмо!), и в моей памяти вновь воскресла Испания: осень, сырые, холодные ветры, бойцы, кутающиеся в домашние одеяла — и на складе «подарок» от американцев: украшенные никелем куртки, чудовищно дорогие и издевательски ненужные.
Темными ночами в прифронтовых городах бесчинствует «пятая колонна». Народ пытается схватить ее за горло, но ему не всегда это удается. Ползут слухи — нелепые, противоречивые, провокационные. Смысл их один — республика подрублена под корень, дальнейшая борьба безнадежна.
Армия отметает эти слухи. Народ не верит им. А они льются, льются — то медоточивые, то напоенные змеиным ядом.
Обидно сидеть на аэродроме без дела. А мы вынуждены сидеть, сидеть и буквально ждать у моря погоды (из окон нашего общежития видно море — оно стало свинцовым, потеряло свою летнюю синеву). Тем более обидно, что приближается наш большой праздник — двадцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции.
Вечерами мы допоздна разговариваем о том, как у нас на Родине сейчас готовятся к великому юбилею, вспоминаем праздники прошлых лет. Некоторые из нас не раз участвовали в воздушных парадах над Красной площадью, бывали и в Кремле, на приемах участников парада. С какой радостью пролетели бы мы над кипучей, расцвеченной флагами и транспарантами Красной площадью и послали бы привет любимой, дорогой Москве…
Чем ближе праздник, тем все чаще и чаще наши мысли возвращаются к Родине. И Родина по-праздничному щедро напоминает нам о себе. Неожиданно раздается звонок. Говорят из штаба группы, просят прислать человека получить подарки, присланные из Советского Союза. Нашей радости нет конца. Испанцы бросаются в разные стороны искать пропавшего куда-то Маноло.
— Скорее, Маноло, быстрей отправляйся за подарками! Понимаешь — из Советского Союза!
И вот Маноло приезжает на небольшой грузовой машине, доверху нагруженной объемистыми ящиками. Сперва решаем, что подарки будем вскрывать в день праздника, но через пять минут любопытство берет верх. Панас осторожно распаковывает свою посылку и начинает перебирать свертки. Ахает от удовольствия: лучшие сорта копченой колбасы, баночки с зернистой икрой, балыки и шпроты. Панас вынимает один сверток за другим. Лицо у него озабоченное: главного он еще не увидел.
— Неужели они забыли… — бубнит он себе под нос. — Ура! — вдруг кричит на всю комнату. — Не забыли! — И вытаскивает со дна ящика бутылку «особой московской» с белой головкой. — Ну, братцы, — ликует он, — праздник есть чем встретить!
Продуктов действительно такое изобилие, что одной посылки хватило бы на всю эскадрилью. Отправляем все посылки в распоряжение повара. Тот изучает каждый сверток в отдельности и, все более и более изумляясь, не выдерживает напора чувств и прибегает к нам.
— За всю свою жизнь не видел ничего подобного! — восторгается он. — Я устрою вам такой стол, какого не бывало у самих королей. Вот посмотрите! Эти банки с икрой в Испании на вес золота. А это… А это… Ведь это мечта!
Панас перебивает его:
— Ну что ты нам, старина, лекцию читаешь!
— Камарада Панас, — не унимается повар, — я утверждаю, что это чудо гастрономии!
— Ладно, ладно, — смеется Панас, — в этом товаре ты потом разберешься, а главное чудо — вот! — И он подносит повару бутылку водки. — В каждом ящике по одной такой, береги каждую из них как зеницу ока!
— О! Несомненно! — подмигивает повар. — Я много слышал о русской водке, но еще никогда не пробовал ее.
— Не хочешь ли ты этим сказать, — смеется Панас, — чтобы я сейчас же налил тебе стопку?
— Нет, нет, камарада Панас! Я думаю, что вы не забудете меня в день праздника.
— Кого-кого, а тебя забыть невозможно. Ты каждый день готовишь такие вкусные блюда!
— И все из одной картошки! Учтите!
Праздник выдался на славу! Не знаю, какой ветер дул в предпраздничную ночь, но это был очень добрый и благосклонный к нам ветер. За ночь он угнал в неведомые края всю армаду туч, давно гостившую над нашим аэродромом. Просыпаемся — и не верим своим глазам.
— Други! Да ведь летная погода!
Замечательно! Быстро собираемся — и к машинам. Звонят из штаба, поздравляют с праздником, дают боевое задание.
День проходит с большим подъемом. Сенаторовцы беспрерывно гудят в воздухе — сегодня фашистам на Майорке не поздоровится! Мы в свою очередь тоже довольно успешно работаем. Еще утром над Таррагоной нам удается сбить один итальянский самолет.
Наши часы показывают сегодня московское время — мы перевели их накануне. В перерывах между полетами смотрим на циферблаты и живо представляем себе все, что сейчас происходит в нашей столице. Да, пожалуй, уже проходят танки. Сейчас над Историческим музеем появится флагманский корабль. Интересно, кто открывает сегодня воздушный парад?
— О! Демонстрация идет полным ходом. Петр! Хочешь попасть сейчас на Красную площадь?
— Не дразни. Не маленький, — отмахивается Бутрым.
В четвертом часу дня разгорается спор: окончилась демонстрация или нет? В шесть часов московского времени мы уже гуляем на улице Горького, отдыхаем на Тверском бульваре и затем идем дальше, к площади Маяковского. Бутрым возражает, ему почему-то не нравится маршрут, и мы не спеша возвращаемся на Манежную площадь. Там в сиянии огней кипит народное гулянье. Мы вливаемся в гигантскую толпу людей, поем вместе с ними песни. Панас собирается даже плясать — сегодня у него неожиданно обнаруживается такой талант.
День проходит великолепно. Наш праздник отмечает и Испания. Над Таррагоной мы видим красные флаги, республиканские суда в портах расцвечены флажками всех цветов. На улицах царит оживление. Испания радуется вместе с нами и гордится великими победами нашей страны.
Солнце опускается за горизонт. Спешим к себе в общежитие. Гладим костюмы, до блеска полируем ботинки, примеряем галстуки. В нижнем этаже здания, в большом зале, повар и три официанта суетятся у стола, заканчивая последние приготовления. Панас стремглав спускается туда и отдает распоряжение разлить водку заранее по одинаковым бокалам.
Приведя себя в полный «банкетный» вид, мы спускаемся вниз. Все летчики и механики в сборе, все выглядят по-праздничному. Маноло расхаживает в новом костюме, который мы ему недавно подарили. Повар приглашает всех за стол. Стол действительно «королевский». Чего только не намудрил повар!
— Я сегодня держал экзамен! — говорит он.
Поднимаю бокал, доверху налитый прозрачной русской водкой. Все встают.
— Выпьем за нашу любимую Родину! Ура! — провозглашаю я.
— Ура! Вива Русиа! — подхватывают испанцы.
Снова — и в последний раз! — над Мадридом
Вскоре после праздника меня срочно вызвали в штаб и приказали немедленно перебазироваться в Мадрид, на знакомый аэродром Барахас. Жаль было расставаться с сенаторовцами, мы с ними сдружились. Но и Мадрид хотелось вновь увидеть.
Наши сборы недолги. Через полчаса Панас уже тащит к Маноло свой чемодан, потертый от времени и многих передряг. Нашему бравому шоферу придется добираться до столицы на своей машине.
— Итак, Маноло, на старые места! Признаться, я с удовольствием еще раз посмотрю Мадрид и полетаю над ним.
— О! А я увижу своих родных! — восклицает Маноло, укладывая вещи. — Своих знакомых!
О нашем перебазировании узнают сенаторовцы. Собираются на стоянке. Сенаторов озабоченно спрашивает меня:
— Чем объяснить, Борис, что вас опять отправляют на Центральный фронт? Ведь там пока относительно тихо.
— Говорят, что сейчас в Мадриде базируются всего две республиканские эскадрильи истребителей. Для Мадрида это маловато: и до Гвадалахарского фронта рукой подать, а на этом фронте схватки с фашистами в воздухе происходят почти ежедневно.
— Понятно, — вздохнул Сенаторов и протянул мне руку. — Ну что же, ни пуха ни пера вам, братцы!
Прощаемся со всей эскадрильей бомбардировщиков. Я уже сижу в самолете, когда Сенаторов подбегает к машине и, сложив ладони рупором, кричит:
— А все-таки в Самару-то поедем!
— Обязательно поедем, Саша! — кричу я ему в ответ, запуская мотор.
Летчики, авиамеханики, бойцы охраны машут нам руками: «Счастливого пути!»
Мы в воздухе. Реус отодвигается назад. Проходит минут сорок, и вдали уже виден Мадрид. Над городом нависли хмурые тучи. Осень преобразила знакомый ландшафт. Горы наполовину покрыты снегом. Там, где курчавилась зелень бульваров, тянутся темные полоски облетевших деревьев.
Вот и знакомый прямоугольник летного поля, окаймленный с востока серой лентой реки. С волнением смотрю я на Барахас — в памяти воскресают минувшие события. Как много здесь было пережито в первые дни воздушных боев! Именно здесь, на этом аэродроме, мы впервые познали и радость побед над врагом и горечь неудач. В небе Мадрида мы получили боевую закалку, приобрели опыт, который позволяет нам теперь с уверенностью смотреть в свое будущее.
Я приземляюсь и ставлю самолет на то место, где раньше стояла машина Александра Минаева. Остальные летчики заруливают на свои прежние места.
Освободившись от парашютов, сходимся в круг, закуриваем сигареты. Машинально достаю записную книжечку и делаю пометку: «Снова над Мадридом».
— Над Мадридом? — замечает Бутрым. — Но ведь мы только пролетели над городом. Боев-то еще не было.
— Будут, и еще какие! — возражает Панас. — Над Мадридом никогда не бывает «прохладно».
Предсказания сбываются уже на другой день. Пулеметные стволы накаляются с утра и не остывают до вечера. Мы вылетаем то на Гвадалахарский фронт, то ведем бои в районе Мадрида. Степень боевого напряжения та же, что была летом. Только дни стали значительно короче, и у нас появляется свободное время. В остальном все напоминает недавнюю жизнь. Поселяемся мы в том же Бельяс Артэс, в центре Мадрида. В комнатах все осталось по-старому. Висит даже фотография девушки, которую Александр Минаев когда-то вырезал из журнала и приколол над своей кроватью. Опустел только бассейн: холодно, не до купания. И нет старичка швейцара с его трогательными «уна, дос, трес…» Говорят, уехал в деревню, на покой.
Мадрид выглядит суровее прежнего. Каждый месяц войны откладывал на облике города свой отпечаток. Улицы опустели. Большинство магазинов закрыто. По дорогам беспрерывно проходят воинские части. Днем и ночью дежурят усиленные патрули. Три-четыре оставшихся во всем городе кинотеатра работают один-два раза в неделю.
По старой памяти мы как-то забрели в знакомое кафе «Алкала». Хозяин, увидев нас, рассыпался в комплиментах — еще бы, кроме нас, в холодном кафе не было никого.
— А где ваш квартет? Помните, был летом. Хорошо играли, особенно скрипач, — спросил Бутрым.
Хозяин вздохнул:
— Разбежались. Такое время…
Посидели немного, выпили по рюмочке коньяку и с удовольствием вернулись в общежитие. Там есть шахматы, шашки и даже целая стопка потрепанных книг на русском языке. Откуда мы их достали? Их раздобыл вездесущий, всезнающий Маноло. Надо иметь действительно огромный круг знакомых, чтобы разыскать в Мадриде не только произведения Щедрина, Толстого, но и непонятно как попавшие сюда журналы «Нива».
Вечером наши комнаты похожи на читальню. Но читать приходится не каждый день. Иногда мы так устаем, что только бы дойти до кровати — и спать, спать, спать…
Силенка у нас еще есть. Уже в первые три дня мы сбили три фашистских самолета. По одному на день — не так плохо. За это же время мы выполнили несколько разведывательных заданий. Правда, один из полетов чуть не окончился для нас трагически.
Эскадрилье предстояла сложная задача: произвести одновременно разведку нескольких дорог в тылу противника на Гвадалахарском фронте. Мы решили вначале лететь всей эскадрильей, а затем разойтись по разным направлениям. Благополучно дошли до развилки трех дорог в двадцати километрах за линией фронта и уже чуть было не разошлись по своим маршрутам, как вдруг один из летчиков резко развернулся. Десять «мессершмиттов» шли на нас в атаку.
Силы почти равные, это хорошо. Мы принимаем бой. Фашистские истребители рассчитывали на внезапность своей атаки. Теперь они растерялись, не сумели найти новый план боя и начали отходить в глубь своей территории.
Кажется, все нормально, можно продолжать полет. Но что это? Самолет Панаса снижается? Я лечу вслед за ним, подхожу к нему почти вплотную и вижу, что правая плоскость его самолета во всю ширину распорота вражеской пулей. Не глядя по сторонам, весь устремившись вперед, Панас настойчиво тянет к линии фронта. Распоротая плоскость уже вздулась, с ужасом я замечаю, как от крыла начинают отделяться куски верхнего покрытия: отлетел один кусок фанеры, другой, третий…
— Тяни, Панас! Тяни, дорогой! — кричу я, будто он может услышать меня.
Он тянет, тянет, вкладывая в управление машиной все свои силы, все свое умение, воюя за каждую сотню метров.
Половина крыла уже оголена и похожа на решетчатый скелет. Вот-вот самолет потеряет устойчивость и перейдет в бесформенное падение. Инстинктивно вся эскадрилья прижимается к нему плотнее: если бы можно было, как на земле, подхватить падающего человека, уберечь его, защитить!
Еще один кусок фанеры отрывается от плоскости.
— Спеши, Панас, не медли! — кричу я что есть мочи и в это же мгновение вижу, как он хватается рукой за край кабины и, пересиливая сопротивление встречного потока, ложится грудью на борт. Самолет резко накреняется, и в тот же момент Панас соскальзывает в бездну.
Где-то далеко внизу появляется белое пятнышко — купол распустившегося парашюта. Я даю сигнал Петру, чтобы он вел эскадрилью, а сам устремляюсь вниз. Парашют, распластавшись, лежит на земле. Панас с пистолетом в руке пробирается между огромных камней в сторону своей территории. Вокруг ни души. Увидев мой самолет, Панас, протестуя, машет рукой: «Уходи! Будешь кружиться надо мной — дашь противнику знать о моем местонахождении». Сообразив это, я сразу же улетаю вслед за эскадрильей.
Солнце уже заходило за горы, когда мы произвели посадку. Механик Панаса бегал от одного летчика к другому, спрашивая одно и то же:
— Скажите, он жив? Он не разбился? Вы видели его живым?
Маноло даже попросил разрешения поехать на тот участок фронта, где приземлился Панас, и разузнать все, что можно. Его поддержали:
— Езды туда не более трех часов. Пусть едет!
С Маноло отправился механик Панаса. И вот проходит три, шесть, восемь часов, а Маноло не подает никаких сигналов. Наступает утро. У всех один вопрос:
— Маноло не вернулся?
Часто смотрим на дорогу. И потому вначале не обращаем никакого внимания на показавшийся вдали самолет. Но самолет приближается к нам. Вот он уже с оглушительным ревом проносится над аэродромом. Ликуя, восторженно делает одну восходящую «бочку» за другой.
— Панас! Панас! — раздаются крики.
Самолет приземляется, и из него действительно вылезает Иванов.
— Что за чудо! — удивляются летчики. — Ты что, волшебник, что ли?
Панас рассказывает: минут через двадцать после приземления он встретил — республиканских солдат. Те тотчас же провели его к командиру, который выделил для летчика машину. Панас отправился на наш аэродром. Но по дороге вздремнул, а шофер спутал адрес и привез его на аэродром к нашим соседям. На счастье, у соседей оказались два резервных самолета. Панас спокойно переночевал, а полчаса назад вылетел к нам.
— Вот и все. Просто и хорошо! — заключает Панас.
Этот случай долго служит предметом оживленных разговоров, пока его не заслоняет другой, не менее острый эпизод, героем которого явилась уже вся эскадрилья.
Произошло это в один из декабрьских дней. Рано утром мы получили приказ штурмовать наземные войска противника. Быстро пересекли линию фронта. Подходя к цели, заметили справа и слева две группы немецких истребителей. Оглянувшись назад, я увидел вдали еще одну большую группу «фиатов».
Создалось весьма невыгодное положение. Принять бой почти немыслимо: это значит — наверняка будут потери. Но и уйти некуда.
Единственный выход — ударить по «фиатам». Эти, пожалуй, не выдержат. Разворачиваюсь навстречу итальянцам. Покачиваю крыльями. Поняв сигнал, летчики смыкаются в плотный строй. В этот момент ведущий «фиатов» в свою очередь покачал крыльями своим самолетам. Ого! Не собираются ли они идти в лобовую атаку? Ну что ж, тогда исход дела решат не пулеметы, а нервы. У кого они окажутся крепче, тот и выиграет.
И вот с огромной скоростью на одной высоте, лоб в лоб, самолеты начинают стремительно сближаться. Кто кого? Остается уже метров восемьсот. «Фиаты» не выдерживают, открывают огонь. Рановато! Мы пока не стреляем. Бить — так бить точнее!
Одна-две секунды — и настал наш черед. Одновременно хлынул огонь из всех пулеметов. Ведущий «фиат» вздыбился кверху, остальные брызнули во все стороны.
Кольцо разорвано. Смотрю по сторонам — немцы далеко и, кажется, не видят нас.
Вечером я записываю в блокнотик дату боя, помечаю: «Психическая атака» и задумываюсь: «Психическая атака… Противнику она стоила самолета. Мы возвратились на аэродром без потерь, но лишь только схлынуло возбуждение, вызванное боем, многие почувствовали страшную, гнетущую усталость. Нервы сдают…»
— Что они зачастили к нам? — недоумевает Панас. — За какие-нибудь три месяца целые три комиссии! Боюсь, нет ли здесь какого-нибудь подвоха.
Каждый приезд медицинской комиссии меня повергает в тревогу. Ахи и вздохи врачей относительно нашего здоровья становятся все откровеннее. У Панаса все чаще и чаще пошаливают нервы, Бутрым подозрительно кашляет, у меня после Сантандера побаливает грудь. Наши друзья-испанцы тоже выглядят отнюдь не здоровяками. Но ведь идет война, не на курорты же нас посылать, когда нужно воевать, воевать и воевать!
Однако кто их знает, что они думают, эти врачи. В последнее их посещение, осматривая меня, председатель комиссии, главный врач Ратгауз, сокрушенно покачал головой и как бы невзначай заметил:
— На днях мы были в летной школе, как раз после выпуска летчиков. Вот, я вам скажу, где здоровяки. Молодежь!
Как будто мы уже старики! Провожая врачей, я спросил председателя комиссии:
— Неужели нам запретят летать?
— Нет, нет, что вы! — запротестовал он. — Вы еще будете долго летать. Но всем вам необходимо отдохнуть, и отдохнуть основательно, а не так, как вы отдыхаете сейчас, урывками.
Прошло три дня, как комиссия покинула эскадрилью. Начинаем успокаиваться. И вдруг звонок — вызывают в аппаратную. Связист медленно читает распоряжение:
«Смирнову вылететь по готовности на КП. Птухин».
Тороплюсь. Лечу в Валенсию. Чувствую, что опять какое-то важное решение ждет нашу эскадрилью. На КП мне пришлось немного обождать. Советник был занят, а когда освободился, дружески спросил, как наши дела, и смотрел на меня так, будто я знаю, о чем пойдет речь.
Не люблю я эту отвлеченную фразу «как ваши дела?» Всегда за нею следует неожиданный поворот в разговоре.
— О наших боевых делах вы знаете, — отвечаю я.
— Я спрашиваю о другом. Как вы себя чувствуете? Как здоровье других летчиков?
— Здоровье нормальное. Чувствуем себя хорошо.
— Так и знал! — смеется Птухин. — Хоть бы один летчик признался, что чувствует себя неважно! — Командующий открывает ящик стола и достает мелко исписанный лист бумаги. — М-да… А между тем — читайте-ка!
Он передает мне акт медицинской комиссии. Внимание мое сразу же привлекают слова, подчеркнутые красным карандашом: «…Абсолютно необходим продолжительный отдых с прохождением соответствующего курса лечения… Иначе в ближайшее время многие летчики могут оказаться не способными к полетам ввиду крайнего физического и нервного истощения».
— Да, но…
— Никаких «но»! — внушительно прерывает меня Евгений Саввич. — Летная школа в Алкасарес выпустила новый, большой отряд испанских летчиков. Они заменят вас. Иначе и вы не сможете отдохнуть, и молодые летчики останутся не у дел. Сами знаете, машин у нас мало.
Я возражаю; как всякий пытающийся доказать недоказуемое, стараюсь быть изворотливым в своих доводах:
— Молодые летчики не обладают боевым опытом, целесообразнее было бы влить их в наш состав.
— На всех у вас не хватит машин, — просто отводит этот довод Птухин.
— Но мы не настолько устали!
— Вы уже знакомы с актом комиссии. По-моему, этот акт объективен.
Евгений Саввич смотрит на меня пристально и, мне кажется, с огорчением.
— Помните, — тихо говорит он, — мы не можем допустить, чтобы вы раньше времени вышли из строя. Вы еще понадобитесь.
Прошло несколько дней. По-прежнему с утра до вечера мы летали на боевые задания. О разговоре с советником я, конечно, рассказал своим друзьям. Так как я рассказывал в той же последовательности, в какой происходил разговор, то реакция слушателей менялась так же, как и моя: вначале негодование, возмущение, уверения в полном здоровье, затем постепенное согласие.
И вот наступает памятный день — двадцатое декабря. Утром меня вызывают к телеграфному аппарату. Волнуясь, смотрю на узкую белую ленту, испещренную точками и тире. Она медленно ползет из-под валика. Я тороплю телеграфиста:
— Читай!
И он читает:
— «Перегнать самолеты для сдачи. Посадка — Валенсия».
Отвечаю коротко:
— Понял, выполняю.
Кладу телеграфную ленту в карман и выхожу на аэродром. В последний раз поднимаю ракетницу и даю сигнал на вылет. Летчики врассыпную бросаются к своим самолетам. Усаживаюсь в кабину, обращаюсь к механику:
— Хуан! Передай инженеру — после вылета немедленно перебазировать все имущество на Валенсийский аэродром. Мы произведем посадку там. А ты, Маноло, позаботься забрать из общежития все личные вещи летчиков. И приезжайте скорее!
В последний раз мы над Мадридом. Проносимся низко, над самыми крышами, и разворачиваемся на Валенсию.
Я чувствую, что летчики недоумевают. Ведь я им не объяснил цели полета. Они думают, что это очередной боевой вылет, и не понимают, почему я держу курс на десять градусов восточнее, чем обычно, когда мы летали на Гвадалахарский участок фронта. Панас пристраивается ко мне и старается показать, что на Гвадалахару нужно лететь немного левее. Я улыбаюсь в ответ, отрицательно покачиваю головой и показываю рукой — идти прямо. Через несколько минут всем стало ясно, что мы летим не на фронт, а в тыл.
После посадки ко мне подбегает взбудораженный Панас:
— В чем дело, Борис? Почему мы прилетели сюда? Неужели пришло распоряжение?
— Да. Нам приказано сдать самолеты.
И вот наступил час расставания. Механики приехали на автомашинах ночью и, не ложась спать, принялись чистить, подкрашивать наши машины. Мы заблаговременно съездили в город, накупили механикам подарков. Кто знает, как сложатся обстоятельства.
Передаю подарок Хуану, он берет его машинально.
— Я многим тебе обязан, Хуан, — говорю ему. — И прежде всего тем, что сейчас живой и невредимый.
— О! Камарада Борес! Как я рад за вас! Вы увидите свою Родину — Советский Союз!
Из-за поворота дороги показывается автобус — едет наша смена. Мы идем навстречу молодым летчикам. Высовываясь из машины, они приветствуют нас: «Салуд, камарадас!». Объятия, поцелуи, возгласы. Что же это — прощание или встреча?
И то и другое. Минут пять назад я видел, как Бутрым и высокий испанец улыбались, похлопывая друг друга по плечу, а сейчас уже разговаривают серьезно, загрустили.
Панас стоит возле своего самолета и нежно гладит его рукой, словно живое существо. Рядом с ним — молчаливый, задумчивый испанец. Механик Панаса, потупясь, смотрит куда-то в сторону.
Если хотите хорошо расстаться — не затягивайте расставания.
— Товарищи! — говорю я. — Пора ехать.
— Подожди минутку, Борис, — просит меня Панас.
Он вытаскивает карандаш и смущенно выводит на борту самолета свое имя. Улыбнувшись, испанский летчик немного ниже вписывает «Хосе» и заключает оба имени в кружок.
Париж — Самара
С той минуты как мы передали свои самолеты испанским летчикам и остались, как говорят, безлошадными, небо стало для нас вдруг каким-то далеким, недосягаемым, а ведь только еще вчера наша жизнь, мысли, все действия были подчинены ему, земля, казалось, была местом отдыха.
Отъезд товарищей из Испании всегда происходил неожиданно, словно по тревоге. Уезжали, как правило, небольшими группами. Сложность переезда границы из сражающейся Испании во Францию требовала от наших товарищей (кто этим занимался) тщательной подготовки, соблюдения осторожности.
Мы знали, вернее, догадывались, что до отъезда остались считанные дни, а когда именно, этого никто из нас сказать не мог. Мои товарищи по эскадрилье уже уложили вещи, привели себя в надлежащий вид и ждали дальнейшего распоряжения.
Шли последние дни декабря. Новый, 1938 год мы встретили с хорошим настроением в предчувствии скорой встречи с родными и близкими, а утром третьего января меня вызвал к телефону товарищ Птухин и сказал:
— Сегодня вечером в шесть приезжайте ко мне, захватите личные вещи.
— А как же остальные товарищи? — спросил я.
— Успокойте их, они отправятся вслед за вами.
День стоял пасмурный, сыпала снежная крупа, дорога обледенела. Маноло вел наш старенький, видевший виды «фордик» как-то особенно осторожно. Молчали. Я понимал его, да и как не понять!
Мы стали настоящими боевыми друзьями, а от расставания никуда не денешься. Хотелось сказать другу самые хорошие слова, а их почему-то стало трудно подбирать, и вместо слов я вынул блокнот, написал крупными буквами свой российский адрес и отдал листок Маноло:
— Пиши обязательно! А еще лучше — приезжай сам.
Маноло кивнул в ответ, перебросил руку с руля на мое плечо и задумчиво сказал:
— Был камарада Борес в Испании, оставил свой след и с чистой совестью поехал домой. Хорошо, очень хорошо!
— А иначе и быть не могло, — заметил я.
— Почему не могло? — возразил Маноло. — Многие не уедут. Те, кто лежит в нашей земле, станут ее частицей на века.
Да, Маноло был прав. Война и смерть — родные сестры, трудно вырваться из их цепких объятий. В багажнике машины рядом с моими вещами стоит небольшой чемоданчик Саши Минаева. По всем фронтам Испании я возил его с собой, теперь везу домой, на Родину.
На окраине города Лерида располагался штаб советника по авиации Птухина Евгения Саввича, здесь же находился и Агальцов Филипп Александрович — заместитель советника по политической части. Они встретили меня очень приветливо, по-братски, даже заметили, что я немного похудел, но Евгений Саввич решил успокоить меня, сказав, что в воздушных боях мне осталось участвовать недолго, и то от случая к случаю — во сне. Мы с Агальцовым рассмеялись, а Птухин показал письмо одного нашего товарища, который вернулся на Родину раньше и оттуда писал:
«Мыслями живу все еще в Испании, а ночами иногда продолжаю воевать с фашистами то над Мадридом, то над Гвадалахарой».
Евгений Саввич сообщил, что с минуты на минуту приедут мои попутчики, выпьем посошок — и в добрый путь.
— Да вот и они!
У парадного входа особняка остановилась машина. Первым шагнул на крыльцо Александр Сенаторов, за ним Владимир Шевченко и Иван Душкин, все из прославленной группы бомбардировщиков СБ, которой командовал Сенаторов. Видимо, никто из них не знал, что вместе с ними еду я, и Сенаторов с присущим ему юмором спросил:
— Неужели на трех бомбардировщиков такое мощное сопровождение из истребителей?
В той же шутливой форме Агальцов ответил:
— На границе сейчас сложная обстановка, и поэтому мы подбираем группы отъезжающих по принципу соответствия друг другу.
Сели за стол. Разговор сразу зашел о Родине. Евгений Саввич и Филипп Александрович искренне радовались за нас. Мы чувствовали, что они тоже живут в эти минуты нашими мыслями. Родина есть Родина, и никто из нас не в силах скрыть свое волнение, когда речь идет о возвращении домой после трудных испытаний в жизни.
В обстановке, когда уже пора прощаться, куда-то исчезают нужные слова. Обращаясь ко мне, Птухин, конечно, хотел сказать самое приятное:
— Приедешь в свою бригаду, а тут тебе и путевка семейная в Крым или на Кавказ, а сколько радостей!
— Нет, нет, Евгений Саввич! Я не в санаторий, я сразу домой, в Самару, на Волгу.
Птухин задумчиво посмотрел куда-то в пространство и, хлопнув меня по плечу, воскликнул:
— Правильно! Туда, где родился, где прошла юность и началась настоящая жизнь, надо заглянуть в первую очередь.
Агальцов посоветовал быть всегда готовым в пути к любым неожиданностям:
— Не считайте, что вами пройдены все опасности, до тех пор, пока не пересечете последнюю границу капиталистического государства. Вот тогда можете вздохнуть полной грудью.
От Лериды наш путь лежал по шоссе в горной местности с головокружительным серпантинным профилем и разницей по высоте от ста до двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Ехать нужно было через провинциальные города Манреса и Жерона.
Мы встречали на пути все явления погоды, какие могла придумать природа: дождь, снег, туман, обледеница. Не было только солнца, потому что ехали ночью. Я думал, что у Маноло этот маршрут был самым трудным в жизни, и сказал ему об этом — он только улыбнулся.
За двадцать километров до пограничного французского местечка Сербер, в пункте Фигерас, в мою машину села молодая женщина, поздоровалась, села как хозяйка, не спрашивая разрешения, не интересуясь, куда мы едем. Маноло кивнул мне головой, дескать, так надо. И только когда я проявил, не помню чем, свое неудовольствие, она сказала:
— Слушайте внимательно, Борес!
Я насторожился. Что за ерунда! Меня так называли испанцы, у них было другое ударение в произношении моего имени.
— Товарищ Смирнов, не волнуйтесь! Я просто назвала вас так, как называли все здесь.
— Зовите как угодно, была бы только польза. Итак, слушаю вас.
— Через несколько минут мы будем на железнодорожной станции Сербер, — пояснила моя спутница. — До отправки поезда все время соблюдайте этикет вежливости, ухаживайте за мной, делайте вид, что внимательно слушаете меня, по возможности реагируйте на мои жесты, а перед отходом поезда поцелуйте в щеку.
Все стало ясно. Эта маленькая инсценировка требовалась по ходу дела.
— А мои друзья? — поинтересовался я.
— Не беспокойтесь, они будут идти в пяти шагах сзади нас, поедут в том же вагоне.
Я в ответ кивнул головой, а сам подумал: «Им, конечно, хорошо, они только наблюдатели, а что я буду делать, когда начнется этот водевиль?»
Машина остановилась. Сопровождающая вполголоса сказала:
— Маноло и другой шофер останутся здесь, им дальше нельзя.
Я понял, что пора выходить. Мы обнялись с Маноло, не выходя из машины, потом я выскочил и открыл заднюю дверцу. Выходим на перрон. Я держу незнакомку под руку и не узнаю ее: она брызжет весельем, все время меняя интонацию, то громко, то полушепотом что-то болтает на французском языке, кокетливо щекочет меня по лицу маленьким букетиком гвоздик, а я так до сих пор и не знаю: впопад или нет кивал головой, улыбался и даже один раз громко засмеялся и обнял ее.
Остановились у входа в вагон. Подошли мои друзья, и спутница мгновенно перебросила свой мостик внимания на них. Французскую речь они восприняли как должное, а Сенаторов пытался даже что-то ответить. (И когда она успела включить их в эту историю, просто удивительно!)
Раздался второй звонок. Спутница смотрит на нас совсем уже не так, как веселая парижанка, а внимательно, с доброй скромной улыбкой человека, на котором лежит большая ответственность за нашу судьбу на определенном участке пути нашей жизни. Экспресс Сербер — Париж вздрогнул и, набирая скорость, ринулся в ночную тьму.
В Париж мы прибыли в полдень. Нас встретил один человек, который и стал нашим наставником в дни пребывания в Париже. До сих пор с благодарностью вспоминаю о нем. Он помогал нам ориентироваться в сложной незнакомой обстановке, советовал, как правильно поступить в том или ином случае. Этот же человек заботился о конспирации, о подготовке необходимых нам документов, о других подобных вещах.
В первый же день пребывания в Париже нас ожидал сюрприз. Поселили всех в одной из лучших гостиниц и сказали:
— Отдыхайте, домой поедете не раньше чем через две недели.
Всего можно было ожидать, но такая задержка в пути нас ошеломила. И какая в этом необходимость? А необходимость была. Пересечение нескольких границ капиталистических стран требовало тщательной подготовки безопасного проезда каждого советского человека, а отношение к Советскому Союзу со стороны европейских государств было далеко не добрососедским. Чего стоила только одна панская Польша Пилсудского, там любой случай могли использовать против каждого из нас с одной целью — учинить провокацию.
Фронтовая жизнь в Испании приучила меня и друзей ко многим лишениям и выработала определенные привычки, от которых не сразу отвыкнешь. Даже пуховые постели и тишина гостиницы не смогли изменить установившийся режим.
Вставали мы чуть свет и мучились от безделья до тех пор, пока не выходили на улицу.
В ранние часы я любил бродить по набережной Сены, когда еще не было городской сутолоки и только рабочие развозили на тележках овощи и фрукты, а владельцы кочующих «кафе», примостившись под каким-нибудь навесом, раздували угли в жаровне, чтобы успеть поджарить каштаны и вскипятить кофе для тех, кто торопился на работу. Иногда, наблюдая за мелкими суденышками, снующими вдоль реки, вспоминал Волгу. Глядя на Сену, воспетую знаменитыми поэтами и прозаиками, я мысленно видел самарскую набережную, не гранитную, не скульптурную, а лабазную, с причалами, баржами и плотами, но удивительно самобытную и родную. Вспоминался даже многолетний мальчишеский маршрут к Волге вниз по аллеям Струковского сада к лодочному причалу, где сторожем работал бывший солдат времен первой мировой войны. Дядя Ваня был без ноги, ходил на деревяшке, и мы, мальчишки, чем могли, помогали ему, а он покровительствовал нам.
В первые дни пребывания в столице Франции мы все вчетвером с утра до вечера ездили по достопримечательным местам Парижа. Затруднений из-за незнания французского языка у нас не было. К концу тридцатых годов белоэмиграция была вынуждена довольствоваться самыми низкооплачиваемыми видами работ — такими, как таксист, официант, продавец, гид и т. д. Короче говоря, русская речь в Париже употреблялась везде. Трудность появилась другая. Мы не могли понять, почему на нас косо смотрели везде, где нам приходилось расплачиваться. Так продолжалось несколько дней, пока наконец заботившийся о нас человек, схватившись за голову, не объяснил нам, что во Франции, и тем более в Париже, надо давать чаевые.
— Это святой из святых законов! — сказал этот товарищ.
Ну откуда мы могли это знать! В Испании, например, за мелкие покупки с нас вообще не хотели брать денег, узнав, что мы русские летчики, а на Родине чаевые в те времена считались злейшим пережитком капитализма. Как сейчас помню, один из парней нашего лесопильного завода оставил в пивном зале в Струковском саду всю двухнедельную получку, и не то чтобы он пропил ее, а просто раздавал во хмелю деньги нэпмановским официантам на чай, уподобившись самарскому купчику. Об этом узнал директор завода Коровин и предложил нам разобрать случай на комсомольской ячейке. Дело чуть было не дошло до исключения.
С каждым днем Париж все больше удивлял нас своей красотой и шедеврами искусства мирового значения. Но наряду с этим мы видели и другое, чего не могли скрыть бульвары, особенно в районе Пегаль, который неспроста называли «ночным Парижем». Однако все накопившиеся впечатления не снижали нарастающего желания побыстрее уехать. Чтобы сократить время до отъезда, мы путешествовали по Парижу даже пешком. В такие дни просто изучали витрины бесчисленных магазинов. Эта форма рекламы достигла здесь полного совершенства. Меня поражала цепкость этих витрин. Казалось, что они прямо-таки хватают прохожих за шиворот и влекут внутрь магазинов. Оформители витрин не останавливались ни перед чем, даже перед законами, относящимися к рекламе. Однажды я увидел очень искусно выполненный манекен, рекламирующий дамское белье, но когда подошел ближе, то покраснел до ушей. Манекеном оказалась живая девушка…
Ничего не скажешь! Убедительный пример капиталистического отношения к достоинству человека.
Унылые и усталые мы возвращались с прогулки к себе в гостиницу. На Елисейских полях творилась невероятная толчея. Мы уже давно шли молча, видимо, каждый из нас был занят своими мыслями, как вдруг Саша Сенаторов воскликнул:
— Хватит этой постылой иностранщины, посмотрим свою, советскую картину!
И спустя много лет, когда мне случалось проходить в Куйбышеве мимо памятника Чапаеву, я невольно вспоминал тот случай на Елисейских полях.
Возглас Сенаторова был настолько решительным и утверждающим, что остановились не только мы, но даже несколько прохожих. Перед нами висела реклама кинофильма «Чапаев».
Невзирая на усталость, мы немедленно устремились на поиск того кинотеатра, в котором должен демонстрироваться фильм. И вот неудача — все билеты проданы. Однако самый предприимчивый в коммерческих вопросах Владимир Шевченко находит выход. Наш товарищ использовал одну черту, присущую капитализму. За трехкратную спекулятивную цену Шевченко приобрел шестиместную ложу. Дорого, но что поделаешь!
До начала сеанса оставалось три часа, мы не спеша направились в небольшой ресторан эмигранта Корнилова. Узнав, что за столом сидит компания русских, хозяин ресторана самолично вышел приветствовать нас как самых дорогих гостей, а когда мы ответили, что все из Москвы, работаем в советском павильоне международной парижской выставки и пришли сюда покушать по-русски, хозяин растрогался чуть не до слез. Пока мы с жадностью уписывали квашеную капусту с клюквой, брусникой и мочеными антоновскими яблоками, хозяин, сто раз извиняясь, расспрашивал о Москве:
— Боже мой, боже мой! Как приятно вас слушать. Сегодня у меня настоящий праздник. Хотя мой ресторан часто посещают соотечественники, но разве они русские? Эмигранты — особая нация, на сборищах они клянут Россию-матушку на чем свет стоит, а ночами плачут в подушку от жгучей тоски по Родине.
Действительно, чего только не плели по адресу Советского Союза в парижских эмигрантских газетах.
В ожидании второго блюда я взял со столика «Последние новости». Ее редактор господин Милюков не стеснялся в печатании злобных измышлений. Чего стоила только одна фраза из статьи, «оценивающей положение в Москве». Вот эта фраза: «Сегодня с утра начались бои между Красной Армией и частями ГПУ у кремлевской стены, что идет по набережной».
Мы уже расплачивались, а хозяин все еще говорил об особенностях жизни русских в Париже, однако не забыл посочувствовать судьбе своего брата генерала Корнилова, который, по словам хозяина, бесславно погиб в России, воюя против Советской власти.
Ложа оказалась очень удобной, изолированной от смежных. На нас заметно обратили внимание, видимо, ложа наша была одной из самых дорогих.
Кругом слышалась русская речь вперемежку с французской. Начался фильм. Зрители с огромным вниманием следили за ходом событий. И вот на экране появились каппелевцы, они шли ровными шеренгами под градом пуль. Психическая атака! Зал дрогнул от бурных аплодисментов и восторженных возгласов. Но все изменилось, когда с правого фланга появилась конница, на переднем плане экрана — летящий на коне в крылатой бурке Чапаев. Свист, топот, площадная брань вместо оваций. В экран полетели какие-то предметы, кто-то выстрелил из пистолета, раздался вопль испугавшейся женщины.
Демонстрация фильма прекратилась. Сомнений не было, в зале присутствовало много эмигрантов, в прошлом офицеров белых армий, а может быть, даже и каппелевцев.
Если бы эти подонки знали, что в зале присутствуют четверо советских людей, что трое из них Герои Советского Союза, что мы едем из Испании, где сражается батальон имени Чапаева, наверное, они не выпустили бы так просто нас из зрительного зала.
Несмотря на непогоду и на то, что не удалось досмотреть фильм, настроение у нас было хорошее. Мы понимали, что истерия бывших беляков — удел каждого, кто изменяет Родине и своему народу.
В этот же вечер в гостинице нас ждала самая желанная новость: через два дня едем домой. И опять предупреждение о том, что в дороге всякое может быть, и опять держу паспорт на чужое, нерусское имя. Как давно хочется быть самим собой! А тут надо запомнить новое имя, чтобы даже ночью сквозь сон мог произнести его. Одно успокаивало: едем опять все вместе, в одном вагоне, без сопровождающего.
Наш маршрут: Париж — Австрия — Германия — Польша — Москва. Провожатый посоветовал нам взять с собой что-нибудь поесть, чтобы не толкаться лишний раз в ресторанах и не быть в поле зрения любопытных. И это нам было понятно: ведь в те годы в загранкомандировки ездило очень мало советских людей, и если наш человек где-то появлялся за рубежом своей страны, то на нем сосредоточивалось пристальное внимание. Мы в свою очередь тоже внимательно изучали соседей, едущих в нашем вагоне.
Наши наблюдения в одном случае оказались правильными. Это подтвердилось в Варшаве.
Сенаторов и я размещались в двухместном купе, а в смежном ехала очень приятная женщина средних лет. Она ничем не проявляла интереса к нам, но мы заметили, что именно к ней и к нам очень любезно относился проводник вагона. Женщина не вышла ни в Австрии, ни в Германии, она редко выходила из купе, а мы не решались заговорить с ней по-русски. Так доехали до Польши.
В Варшаве поезд стоял долго, и мы решили пообедать в ресторане, но это оказалось сложнее, чем в Париже. Официант явно прикинулся не понимающим русского языка. Когда Сенаторов вынул блокнот, нарисовал поросенка и отчеркнул ему заднюю ногу, официант холодно улыбнулся и пожал плечами.
Шевченко не выдержал:
— Врет, понимает, но не хочет обслуживать.
И вдруг из-за столика, стоявшего неподалеку, поднялась дама, ехавшая с нами, подошла и на чистом русском обратилась к нам:
— Господа! Позвольте, я помогу вам.
От неожиданности мы растерялись, мы даже не заметили, когда она вошла в ресторан. На французском языке дама объяснила официанту, что мы хотим, и, улыбнувшись, ушла за свой столик.
За обедом мы не вымолвили ни единого слова, наверное, каждый вспоминал, что говорил в вагоне от Парижа до Варшавы, и была ли дама в это время поблизости от нас.
Когда поезд тронулся, дамы в вагоне уже не было. Рано утром проводник постучал в купе, я открыл дверь.
Проводник почти шепотом сказал:
— Ваша дама просила передать, что будет жесткий таможенный досмотр.
У меня было несколько испанских фотографий. Теперь стало ясно, что держать при себе их нельзя. С болью в сердце я разорвал их на мелкие кусочки и развеял по ветру.
Через час после предупреждения проводника в вагон вошел польский офицер в сопровождении патруля пограничной службы. Они не церемонились. Когда очередь дошла до меня, офицер грубо вырвал из моих рук бумажник, достал мой паспорт и, глядя в глаза, спросил и имя и фамилию. Я четко ответил.
Вдруг пальцы офицера что-то нащупали в бумажнике. Оказывается, за подкладку случайно попала испанская монета — пять песет. Офицер извлек монету и, держа ее перед моим носом, задал вопрос:
— Откуда едете?
— Из Парижа, — ответил я.
— Там франки, а это песеты, — отчеканил офицер.
— Я коллекционер.
Офицер швырнул монету в бумажник и потребовал, чтобы я вышел из вагона для какого-то уточнения. Я не двинулся с места, и в этот момент Сенаторов, Душкин и Шевченко встали между мной и офицером. Сенаторов спокойно заявил:
— Господин офицер! Мы товарища не оставим, если потребуется, сойдем все вместе.
На этом инцидент был закончен. Поезд пересек последнюю границу.
В Москве я долго не задерживался. Самой счастливой минутой было приглашение в Кремль. Михаил Иванович Калинин вручил мне орден Красного Знамени и орден Ленина. От награжденных слово благодарности предоставили мне. Я очень волновался и вместо обычного выступления рассказал о том, как в 1926 году никчемный парнишка из Самары написал Михаилу Ивановичу письмо с просьбой помочь получить работу. И я получил ответ от Всесоюзного старосты, хороший ответ, и устроился на работу. Когда закончил свой рассказ, Михаил Иванович подошел ко мне, расцеловал и пожелал дальнейших успехов.
Получив двухмесячный отпуск и семейную путевку в санаторий, прежде всего направился в Куйбышев.
И снова за окном вагона расстилаются поля и перелески, занесенные российскими снегами, мелькают знакомые названия станций и полустанков на землях рязанских, пензенских, сызранских, и наконец мой родной город.
Выхожу из вокзала. Все так, как было, только на привокзальной площади вырос огромный многоэтажный дом. Я все время ускорял шаг и уже не шел, а почти бежал. Вот и последний поворот с Рабочей на Садовую. От самого угла увидел свой забор и покосившиеся ворота, выкрашенные мною суриком еще много лет назад.
В тот вечер мы долго говорили с матерью, вспоминая трудные годы нашей жизни, пили чай из самовара с моими любимыми пирожками с картошкой. В маленькой комнатке, где прошли годы детства и юности, было по-прежнему уютно. В голландке потрескивали горящие дрова, а небольшое оконце мороз разрисовал замысловатыми узорами.
Утром решил посетить свой лесопильный завод. Шел старым, нахоженным путем.
С каким-то особенно торжественным чувством вступил на территорию завода в надежде увидеть кого-то из прежних рабочих, но на пути встречались незнакомые лица. Когда подошел ближе к первой раме[3], увидел широкоплечую сутулую фигуру. «Да ведь это дядя Степан», — подумал я.
Он стоял ко мне спиной, подготавливая к распилу очередное бревно.
— Здравствуй, дядя Степан! — крикнул я громко, чтобы мой голос дошел через шипящий звук пил.
Старик обернулся и несколько секунд безучастно смотрел на меня, а потом улыбнулся, снял рукавицы и неуверенно крикнул:
— Неужто Борька?
— Так точно, дядя Степан!
— Да ты откуда взялся?
— Приехал в отпуск.
— Ну и дела, ну и дела! В каком же ты чине ходишь, слыхал, будто в летчиках?
— Я и есть летчик, а звание — майор.
— Ну и дела, ну и дела! — покачал головой старик и, сказав своему помощнику, чтобы тот посмотрел за рамой, крикнул:
— Пойдем, в тепле поговорим!
В теплушке дед Степан рассказал, что директор завода товарищ Коровин ушел года три назад на партийную работу, что ходят слухи о скором закрытии завода, всю набережную будут расчищать, чтобы построить новую, красивую. По секрету рассказал и о том, что давно уже закрыли все шинки, приходится ходить на гору в магазин.
Забыл, значит, дед Степан те времена, когда мы, комсомольцы лесозавода, входившие в самарскую дружину «красной кавалерии», упорно боролись с шинкарями, расплодившимися в годы нэпа, и окончательно разделались с ними.
Когда все новости были рассказаны, я попросил у деда Степана разрешения пропустить несколько бревен через раму, вспомнить свою прежнюю профессию.
— Что же, если не забыл, валяй, только сними шинельку, а то как бы полы не запутались в роликах. Вот возьми спецовку моего сменщика.
Я снял шинель и взял брезентовую куртку.
— А ну, погоди, — вдруг остановил меня дед Степан, — это никак ордена? Да ты что же мне раньше не сказал? Ну и дела! Вот такой наш эскадронный в восемнадцатом получил, а это, видно, орден Ленина?
Я кивнул головой.
— Когда же ты успел?
— Я тоже воевал, дядя Степан.
— Уж не в гражданскую ли? — съязвил дед.
— Нет, вот только что с войны. В Испании воевал.
— Это где ж такое?
— Далеко, дядя Степан, за тридевять земель.
— Эка куда тебя нечистая носила!
Мы вышли из теплушки. Я взял цапку[4] и уверенно вправил первое бревно в ролики. Пилы врезались в древесину и выбросили маленькие фонтанчики опилок.
— Молодец, Борька! — крикнул дядя Степан. — Посмотрел бы на тебя твой покойный дед Иван Смирнов… Ведь это он установил эти рамы. Только он и мог управиться со шведскими машинами. Лучшего слесаря во всей Самарской губернии не сыскать было." — Дядя Степан помолчал немного и опять крикнул — В каком году с завода ушел-то?
— В двадцать девятом, добровольцем в авиацию, — ответил я.
— Значит, восемь годов прошло, как рукавицы снял. Ну и дела!
На следующий день в Куйбышев, как и уговаривались, приехал Саша Сенаторов. Выходим на улицу. Белыми мухами кружатся вокруг электрических фонарей снежинки. На одном коньке с гиканьем проносится мимо нас мальчишка. Возле соседнего подъезда никак не могут расстаться влюбленные.
— Хорошо! — говорит Саша, вдыхая полной грудью свежий волжский воздух. — Хорошо!
Несколько минут идем молча. Забирает морозец. Скрипит-поскрипывает снег под ногами. Очень хорошо!
— Вот и встретились… — произносит Саша.
И мы вспоминаем подробности наших первых встреч, вспоминаем Испанию, ее людей, бои за республику.
— Где они сейчас, наши друзья-испанцы? — спрашивает Сенаторов и сам отвечает: — Должно быть, сейчас летят на боевое задание, а может быть, только еще готовятся к полету. Не сомневаюсь в этом.
Воодушевляясь, Саша рассказывает о своем штурмане, о своем механике, о летчиках, об их беспредельной преданности республике, об их мужестве и честности. Я слушаю этот рассказ, и в памяти оживают образы моих друзей. Скромный, благородный Хуан… Веселый, общительный Маноло… Решительный, вдохновенный Клавдий. Далеко мы сейчас друг от друга, очень далеко! Но мы будем ждать хорошей весточки от наших боевых друзей.
Я говорю об этом Сенаторову. Он горячо соглашается со мной.
— Да! Да! — говорит. — Они еще дадут о себе знать. Мы еще услышим о них.
Неожиданно он останавливается. Мы долго молчим. Одни и те же чувства владеют нами, и тут не нужны слова. Потом мы снова идем. И вдруг Саша спрашивает:
— А где она, Испания, в какой стороне? Я что-то плохо ориентируюсь.
Мы вышли к городскому парку. Впереди набережная, и за ней белая лента Волги.
— По-моему, в той стороне, — говорю я и показываю за Волгу.
— Да, точно, — озирается Сенаторов. — Узнаю места, — тихо говорит он и смотрит в далекую темную даль.
Я верю — он видит Испанию. И я ее вижу.
Да, Испанская республика пала, пала под ударом значительно превосходящих сил. И немалую роль в этом сыграло предательство западных держав, покинувших в беде молодую республику. Фашистам удалось добиться своего. Народ отступил, но не сдался. И эта сила народного гнева, отбивавшая в течение двух с лишним лет натиск врага, впервые показала, что фашизм рано или поздно будет уничтожен. Конечно, он принес много горя и разрушений. Но народный гнев сильнее его.
Мне дорога Испания и тем, что именно там впервые я узнал, что такое боевое воинское братство — интернациональная дружба бойцов, объединенных одной великой и благородной целью. Эти дружеские узы нерасторжимы.
Я был всегда уверен, что многие мои боевые товарищи все эти годы видели и видят Испанию тем внутренним взором, помнят о ней той памятью сердца, которая с годами не тускнеет и не угасает. Я всегда думал о моих рассеянных по свету знакомых и незнакомых друзьях, товарищах по оружию и, конечно, даже и не мечтал с ними встретиться. Ну где и как это может случиться, когда с друзьями, живущими в Москве, и то иногда годами не встречаешься! Где уж тут увидеть товарищей из дальних стран!
Но на этот раз я ошибся, и еще как! Неожиданно мне позвонили и попросили зайти по важному делу. Шел, разумеется, нисколько не думая об Испании: уже больше четверти века мыслями я не расстаюсь с Испанией, однако дела мои, не только важные, но и повседневные, все-таки никак не были связаны с ней.
И вдруг предложение:
— В середине апреля в Италии состоится встреча ветеранов войны в Испании — бойцов интербригад. Нам кажется, вам стоило бы туда поехать…
Я почувствовал, как у меня забилось сердце. Неужели сбывается то, о чем я, кажется, и помышлять не мог?
Сбывается! Наш воздушный лайнер пересекает одну государственную границу за другой. Под нами уже Италия, только что стюардесса объявила: «Через сорок две минуты Рим», — а я все еще в мыслях о предстоящей встрече, о своих старых друзьях. Как они выглядят сейчас? О чем думают? О чем будут говорить?
Я думал об этом всю ночь. Не спалось. В распахнутое окно моего гостиничного номера врывался непрерывный металлический скрежет — это рабочие ремонтировали трамвайную линию. Но не спалось по другой причине. Я испытывал даже некое чувство благодарности к этим рабочим. Я понимал, что не они именно обеспечили проведение антифашистской конференции в своей стране. Но то, что тут не обошлось без участия рабочего класса, замечательной, сильной и влиятельной Коммунистической партии Италии, — в этом едва ли можно было сомневаться. Ясно же, что не правительство Фанфани позаботилось о ветеранах боев в Испании…
В этом легко было убедиться утром, когда мы вошли во дворец, предоставленный интербригадовцам для встречи. Запущенный, сто лет не мытый и не чищенный. Но он словно бы ожил и помолодел, когда в него вошли съехавшиеся из двадцати восьми стран седоголовые бойцы. Седоголовые, постаревшие, но поистине юные душой!
В зале заседаний и в прилегающих к нему помещениях шумные встречи, объятия. До заседания еще не меньше часа, а уже все собрались.
И вот один за другим поднимаются на трибуну интеровцы. Нет, они ничего не забыли, они все помнят. Помнят тебя, Мадрид! Помнят тебя, Сарагоса! Астурия, слышишь? И тебя помнят! Помнят и один за другим зовут на испанскую землю свободу. И мне в их речах слышится незамолкший грохот боев, а когда раздаются бурные рукоплескания, то кажется, что в зал врывается испанский ветер — жаркий ветер боев, ветер сражений.
Поднимаюсь на трибуну и я. Рядом со мной встает итальянский коммунист Герарди. Он переводит мое выступление. Мы только что с ним познакомились. Волнуюсь я. Волнуется Герарди. Зал долго и шумно аплодирует, и я отлично понимаю, что эти аплодисменты относятся не ко мне лично. Если бы эти аплодисменты сейчас услышали в моей стране, в моем Советском Союзе! Это аплодируют моему народу, который в трудные годы не оставил в беде республиканскую Испанию.
В перерыве ко мне подходит испанка. Она называет себя Тереса. Я понимаю, что это партийная кличка. Она просит меня сказать что-нибудь на пленку.
— Мы передадим ваши слова по радио нашим патриотам в Испании.
— Откуда передадите? — удивленно спрашиваю я. — Из Рима?
Тереса многозначительно улыбается; догадываюсь, что вопрос мой неуместен. И зачем спрашивать? Борьба продолжается. Именно в эти дни вся мировая пресса сообщает о том, что в Астурии, в Каталонии, в Мадриде и Валенсии поднялась новая волна забастовок. Я верю, что многие мои испанские боевые товарищи там, в колоннах бастующих, и, волнуясь, передаю им слова привета по радио.
Кончается конференция. Мы едем в Геную. Целым поездом. Генуя — итальянский город-герой, отличившийся в годы второй мировой войны. Здесь свято хранят гарибальдийские и партизанские традиции.
За окном вагона морось, серенький, пасмурный денек. Кто-то разочарованно говорит, что в плохую погоду генуэзцы не любят проводить массовые встречи. Может быть, и так…
Нет, все оказалось не так. Нас встретили с необыкновенным воодушевлением. Тысячи людей собрались под моросящим дождичком на одной из площадей, и тут начался волнующий митинг. Когда мы появились, вся площадь взметнула вверх крепко сжатые кулаки. Ораторов встречали и провожали громовым скандированием лозунгов против фашизма, против режима Франко. А когда митинг закончился, все построились в колонны и с транспарантами и боевыми песнями времен войны в Испании двинулись по главной улице города. Я шел во втором ряду, мы крепко держались за руки, и я не мог не вспомнить ту демонстрацию в Мадриде, когда, так же крепко взявшись за руки, впереди колонны шла мужественная компартия Испании.
— Посмотрите назад! — кричит кто-то из нашего ряда.
Я оборачиваюсь. Улица поднимается вверх, нам, передним, она хорошо видна. Полицейские власти разрешили демонстрантам занять только одну ее сторону, чтобы, так сказать, не нарушался порядок. Но генуэзцы установили свой порядок. Запружена вся улица. Полно людей на балконах. Отовсюду несутся приветствия.
Такой была эта встреча, о которой я мечтал долгими годами. Волнующей. Одухотворенной благородными чувствами и мыслями. И грозной. Кто-кто, а фашистские молодчики это отлично почувствовали, оскалили зубы. Я приведу скупые факты, они сами говорят за себя.
В ночь на тринадцатое апреля 1962 года, накануне открытия конференции ветеранов в Риме, в зал заседания проникли «неизвестные», подожгли трибуну и знамя республиканской Испании.
Четырнадцатого апреля перед дворцом собралась орава фашиствующих юнцов и пыталась спровоцировать столкновение с делегатами при выходе из дворца. В тот же день рано утром в районе дворца улицы были усеяны листовками, в которых всячески поносились коммунисты. Листовки заканчивались фразой: «Да здравствует Испания Франко!»
Пятнадцатого апреля в Генуе мы увидели на рейде испанский корабль.
Нисколько не сомневаюсь, что на этом корабле были привезены франкистские листовки и, конечно, с этого корабля передавалась радиоинформация о митинге и демонстрации в ставку Франко. После нашей демонстрации фашистские элементы пытались устроить свое шествие, но оно позорно провалилось. Генуэзцы просто разогнали этих «демонстрантов» за каких-нибудь десять минут.
Фашизм сопротивляется. Но дует, дует испанский ветер! И этот ветер сметет ненавистный трухлявый режим Франко. С этой верой мы, воевавшие в Испании, ехали на встречу в Италию. И эта вера в нас только окрепла.
Я верю, что сбудется еще одна моя мечта: я увижу Испанию свободной. Я еще пройду по твоим улицам, Мадрид!
Часть II В гобийских степях
Через вал Чингисхана
До начала совещания оставалось всего несколько минут, а в зале заседаний Наркомата обороны все еще стоял гул разговоров. Многие из нас давно не виделись друг с другом, и за это время почти у всех на гимнастерках появились боевые ордена.
Многих из съехавшихся в Москву я знал раньше — одних по совместной службе в авиационных частях, других по событиям в Испании, где пришлось вместе сражаться против фашизма. Обычно при такой встрече разговор забирался в самые дебри авиационной техники и высшего пилотажа. Но на сей раз всех нас волновало другое: что нам скажет нарком обороны?
Шел тревожный 1939 год. На Западе только что кончилась война в Испании, фашистская угроза нависла над всей Европой. На Востоке японские империалисты, заняв Маньчжурию, продвигались в южные и центральные провинции Китая.
Мы ждали наркома обороны и терялись в догадках: почему на совещание вызваны только авиаторы, и к тому же по персональному отбору, из самых разных мест.
Климент Ефремович начал без лишних слов, без свойственных ему в других случаях добродушных шуток:
— Мы собрали вас сегодня, товарищи летчики, в связи с важными событиями. Одиннадцатого мая японо-маньчжурские пограничные части нарушили государственную границу дружественной нам Монгольской Народной Республики…
Все наши предварительные предположения были очень далеки от сказанного. Но достаточно было этих нескольких слов, чтобы понять дальнейший ход совещания. Коротко пояснив общую обстановку в районе озера Буир-Нур, Ворошилов уделил главное внимание действиям авиации противника. Двадцать восьмого мая японские самолеты неожиданно атаковали два аэродрома, расположенные в глубоком тылу, и в течение примерно десяти минут уничтожили часть стоявших там самолетов.
Лишь одна эскадрилья все-таки успела подняться в воздух. Она и вступила в бой с самураями. Ворошилов подчеркнул, что в результате первого воздушного боя только двое из этих летчиков вернулись на свою базу, остальные были сбиты. А японские летчики в этом бою, наоборот, не потеряли ни одного своего самолета.
Почувствовав себя хозяевами монгольского неба, самураи стали беспрепятственно расстреливать мирных скотоводов.
Ворошилов уточнил еще некоторые подробности и закончил обращением к нам:
— Вот, дорогие товарищи, потому-то мы и вызвали вас, уже имеющих опыт боев в Испании и в Китае. Товарищ Сталин уверен, что вместе с другими летчиками вы сумеете добиться коренного перелома в воздушной обстановке в Монголии.
И вот держим курс на восток. Наш маршрут: Москва — Свердловск — Омск — Красноярск — Иркутск — Чита — аэродром назначения. Летим на трех транспортных самолетах — сорок восемь бывалых летчиков и опытных инженеров во главе с заместителем командующего Военно-Воздушными Силами Красной Армии комкором Смушкевичем. Среди нас — человек десять Героев Советского Союза. Пилотирование трех самолетов «Дуглас», как особо важное в то время задание, было поручено известнейшим в стране летчикам — мастерам вождения тяжелых самолетов Александру Голованову, Виктору Грачеву и Михаилу Нюхтикову.
Есть в Забайкалье одна железнодорожная станция. На карте ее трудно найти, да и на земле она ничем не примечательна: небольшая разгрузочная платформа, в конце которой будка — дежурный по станции да телеграфист. В километре от будки поселок, а в двух километрах от поселка — аэродром. Туда мы и летели.
Вторые сутки уже подходили к концу, а нам еще лететь и лететь. Нет хуже для летчика быть пассажиром в длительном полете. Больше всего надоедала болтанка, особенно в районе Байкала, там зверски швыряло. Порой консоли «Дугласа» изгибались, точно журавлиные крылья, и казалось — вот-вот наша машина развалится на куски, а мы посыплемся вниз, как горох из консервной банки.
На третьи сутки наш «Дуглас» приземлился на конечной точке маршрута. Здесь, на аэродроме, мы увидели много самолетов. Кто-то сказал, что они предназначены для нас. Солнце уже клонилось к закату, и нам дали возможность отдохнуть. Солдатская койка с соломенным тюфяком казалась верхом блаженства.
Самолеты, сосредоточенные здесь и предназначенные для нас, требовали тщательного осмотра и облета. Мы торопились поскорей закончить эту работу. Нас с нетерпением ждали в Монголии и наши уже воевавшие там земляки, и монголы, понимавшие, как необходима им сейчас поддержка со стороны Советского Союза.
Наконец все готово. Последняя ночь на родной земле. С рассветом — в полет в неведомые монгольские дали.
Нам предстояло пролететь четыреста километров до промежуточного аэродрома. Расстояние довольно большое для наших самолетов И-16, но сложность полета заключалась не в этом. Самым трудным была ориентировка. На полетных картах, по ту сторону государственной границы, ничего не значилось, за исключением нескольких цифровых обозначений и двух мало характерных ориентиров, один из которых впоследствии оказался, по сути дела, условным. Лететь с такой картой — дело рискованное, но выход был найден: комкор Смушкевич назначил майора Грачева лидировать всю группу истребителей. Пока мы готовили самолеты к перелету, Грачев успел на своем «Дугласе» сделать несколько рейсов по монгольской трассе, перебрасывая на конечные точки технический состав и необходимые грузы.
Сигнальная ракета оповестила, что вылет разрешен. Вся группа потянулась за лидером. Далеко позади остались лесные массивы Забайкалья. Перед нами до самого горизонта простиралась однообразная степь с многочисленными пологими сопками, похожими сверху на огромные застывшие волны.
Первый ориентир, отмеченный на карте, — вал Чингисхана. Я всматриваюсь в степь, но пока ничего не вижу. В моем воображении этот древний памятник кочевников представлялся чем-то вроде высокой насыпи, разделяющей всю степь на две части. По расчету времени этот вал Чингисхана уже где-то близко. На карте он обозначен пунктирной линией, идущей с северо-востока на юго-запад. Я вновь и вновь пытаюсь отыскать его на земле и наконец с трудом различаю еле заметную складку на местности. Целые века дождей и песчаных бурь сровняли вал Чингисхана, оставив лишь поросшую бурьяном небольшую гряду. Оказывается, мы зря поминали лихом тех топографов, которые составляли наши карты, — на них действительно нечего было наносить.
За валом Чингисхана продолжалась все та же однообразная картина: ни кустика, ни дерева, не за что уцепиться взглядом.
Ведущий группы Герой Советского Союза полковник Лакеев подвел всех нас почти вплотную к лидирующему «Дугласу». И надо признаться, мы шли за Виктором Грачевым точно малые цыплята, боящиеся отстать от своей клушки.
Вот вдали появилась светлая полоска — река Керулен. Она на несколько минут оживила мертвый пейзаж. Но у реки свое русло, свой путь. Вскоре она осталась в стороне и влилась в маревый горизонт.
Время приближалось к посадке. Впереди по курсу показался населенный пункт. Мимо такого в плохую погоду пролетишь, не заметив, а это, оказывается, монгольский город. Во всем этом городе было тогда всего с десяток приземистых стандартных жилых бараков, юрты, стоявшие кучками в разных местах, и поодаль несколько загонов для скота.
Аэродром совсем недалеко от города. Нас встретили монгольские и советские авиаторы, летчики и техники. Сюда же прибыли и представители из столицы Монгольской Народной Республики Улан-Батора. Вокруг Ивана Лакеева — сразу целая толкучка! Герой Советского Союза Николай Герасимов растянул мехи своего баяна, того самого, который уже вымотал из нас душу в пути от Москвы до Забайкалья. Кругом чувствуется праздничное настроение.
Каждому из нашей московской группы хотелось познакомиться с монгольскими товарищами. Мне повезло. Здороваюсь с монголом, и сразу оказывается, что он хорошо говорит по-русски. Спрашиваю о размерах аэродрома.
Монгол ответил не сразу, некоторое время что-то соображал, затем, указав на юг, произнес:
— Туда километров триста, а в эту сторону еще больше! А там, за горизонтом, начинаются сопки.
Заметив, что я недоверчиво оглядываюсь кругом, монгол рассмеялся:
— Да, да, товарищ! Здесь вы можете где угодно взлетать и где хотите приземляться.
— Вы летчик? — спросил я.
— К сожалению, — нет. Хотел, но не позволило здоровье, пришлось ограничиться специальностью техника.
— А русский где изучали?
— В Советском Союзе, в авиационном училище, — ответил техник.
Сомнений не могло быть — мой собеседник, конечно, хорошо знал свою Монголию. Однако в моем сознании как-то не укладывалась эта фантастическая возможность производить взлеты и посадки в любом месте за пределами аэродрома!
Мне хотелось задать еще несколько вопросов, но монгол прервал меня:
— Смотрите!
К аэродрому приближалось на большой скорости несколько легковых машин.
Приехавший побеседовать с советскими летчиками маршал Чойбалсан говорил с нами очень просто и откровенно, не скрывая трудностей. Глубоко озабоченный судьбой своего народа, он делился с нами своими мыслями и предположениями.
По мнению маршала, инцидент на монгольско-маньчжурской границе был не просто провокацией местного значения. Японские милитаристы хотели положить этими действиями начало захвату не только Монголии, но и некоторых районов Сибири.
В конце беседы мы попросили товарища Чойбалсана заезжать и в будущем к нам, на наши фронтовые аэродромы. Он улыбнулся и ответил:
— В бою будем всегда вместе.
Пустыня Гоби
Комкор Смушкевич напомнил нам о порядке дальнейшего перебазирования и еще раз подчеркнул сложность ориентировки.
Во второй половине дня вернулся Виктор Грачев. Он успел сделать рейс на конечную точку нашего маршрута и высадил там передовую техническую группу для приема самолетов. Грачев торопил нас:
— А ну, ребята, кончайте загорать, к заходу солнца должны быть на месте, а ваши «козявки» наверно еще не заправлены бензином-Козявками Виктор называл самолеты И-16, которые в сравнении с его «Дугласом» и бомбардировщиками ТБ-3 казались игрушечными.
Во время последнего перекура Грачев с присущим ему юмором поддразнивал нас своими рассказами о тех местах, куда нам предстояло лететь.
— С одной стороны — голые зубчатые отроги Хингана, с другой — пустыня, в которой к полудню разливаются голубые реки и вырастают высоченные пальмы…
Мой дружок Александр Николаев не выдержал и перебил Грачева:
— Брось, Витя, загибать, какие тут реки и пальмы!
— Сам видел! Правда, и реки и все прочее — не настоящее, так сказать, миражные явления. Но ведь иногда и во сне увидишь такое, от чего потом весь день улыбаешься! А уж насчет пустыни, так это действительно точно, — уже серьезно закончил Грачев. — На сотню километров вокруг ни одного деревца, ни одной живой души.
Он посмотрел на часы и заторопился:
— Пора, пора. Держитесь ко мне поближе да не забудьте перед вылетом снять с гашеток предохранители.
В те дни мы по-настоящему поняли всю сложность и ответственность тех заданий, которые выполнял майор Грачев. Ему часто приходилось летать в одиночку, почти всегда без сопровождения истребителей, и он приспособился к этим условиям. Летал довольно рискованно, но при этом продуманно и обоснованно, на бреющем полете, низко над степью.
Вести предельно загруженный транспортный самолет почти все время у самой земли — нелегко, однако смелость в сочетании с мастерством позволяли Грачеву под носом у самураев перебрасывать технический состав авиационных подразделений в любое время суток, всюду, куда требовалось.
Однажды я спросил Грачева, какая необходимость заставляет его летать так низко, чуть ли не сшибать винтами одуванчики. Он ответил просто:
— Видишь ли, я часто перевожу людей и всегда помню, что мне доверены их жизни, вот и приходится летать бреющим. Во-первых, с высоты трудно заметить мой хорошо закамуфлированный самолет, а во-вторых, помнишь, как одному летчику мать советовала: «летай, сынок, потише и пониже».
Грачев не мог жить без шутки, шутил в любых условиях. Он был не только отличным летчиком. Его педагогический талант вывел на воздушную дорогу многих пилотов, впоследствии сражавшихся с фашизмом. Еще до нашего знакомства с ним я слышал о нем в Испании от молодых испанских летчиков. Рассказывая о советских инструкторах, которые обучали их летному делу, испанцы особенно часто вспоминали о веселом русском летчике Викторе Грачеве.
На втором этапе перелета чувствуем себя более уверенно — успели присмотреться к степи. Чем дальше уходим в глубь Монголии, тем чаще осматриваем небо. Здесь совсем недавно побывали японцы, так что надо быть вдвойне начеку.
Еще опыт боев в Испании приучил нас быть осмотрительными на всем протяжении полета. Вот кто-то из группы покачал с крыла на крыло, давая сигнал «Внимание, внимание!». Пальцы нащупывают пулеметные гашетки, глаза ищут в воздухе чужие самолеты. Но нет, это не противник, а всего лишь распластанные трехметровые крылья беркутов. Беркуты совсем не боятся самолетов, даже пытаются приблизиться к ним.
Орлы и дальше попадались нам на маршруте. И всякий раз кто-нибудь из нас на большом расстоянии путал их с самолетом.
На этом отрезке пути значилось два ориентира, тот и другой показаны на карте как населенные пункты. Перед вылетом Грачев обещал дать сигнал при подходе к первому ориентиру. Так он и сделал, но впереди расстилалась все та же степь. А где же населенный пункт?
С четырехсотметровой высоты можно различить любую тропку; надо быть слепым, чтобы не увидеть ориентир, когда тебе указывают на него. Мой левый ведомый Леонид Орлов перевесил голову через борт кабины и в таком положении оставался несколько секунд. Справа летел Александр Николаев. Он подстроился ко мне вплотную, несколько раз ткнул вниз пальцем, а затем стал рисовать в воздухе геометрические фигуры, эти жесты обозначали: «Смотри, на земле — следы».
Да, вот они. На пожухлой траве виднелись правильные окружности и квадраты — следы юрт и загонов скота. Здесь был первый наш ориентир, но, оказывается, скотоводы уже сменили место стойбища, а на карте населенный пункт та к и остался.
Зато второй ориентир — Тамцак-Булак мы заметили еще издалека. Ряды юрт, палатки и несколько глинобитных бараков производили впечатление большого поселка. Теперь, по этому ориентиру, мы могли уже определить пункт нашего базирования.
Виктор Грачев подал сигнал на посадку. Оглядевшись, я невольно вспомнил недавний разговор со своим собеседником. Под крылом самолета раскинулся тот самый фантастический аэродром, условные границы которого были очерчены линией горизонта. Единственными предметами аэродромного оборудования оказались два белых полотнища, лежавших на земле в виде буквы Т. На такую необжитую базу прямо-таки не хотелось садиться, но что поделаешь — пустыня есть пустыня! Стало быть, мы станем первыми авиационными поселенцами здешних мест!
Такой простор, что, казалось бы, садись с закрытыми глазами, ничто не мешает, а посадка, наоборот, затянулась. В непривычной обстановке некоторые умудрились приземлиться с большим перелетом или недолетом до положенного места. Прежние привычки в построении расчетного маневра перед посадкой здесь оказались неприемлемыми. Пространственная ориентировка между небом и совершенно голой степью требовала от летчиков абсолютной точности в управлении самолетом, и случилось так, что даже самые опытные с непривычки допускали ошибки и, уходя на второй круг, увлекали за собой других. Техники, встречавшие нас после посадки, сердились. Один из них, глядя на очередной самолет, приземлившийся далеко в стороне, развел руками от удивления и крикнул:
— И откуда только взялись эти новорожденные! Их еще учить летать надо. А они воевать прилетели!
Стараясь загладить свою вину, летчики дружно помогали техническому составу. Нас уже предупредили, что у здешней пустыни свои причуды — иногда неожиданно возникают ураганы, способные опрокинуть любой самолет.
Мы торопились, изо всех сил налегали на ломы. Крепежные шпоры с трудом входили в грунт, похожий на засохший цемент.
Уже совсем стемнело, когда нас привезли в небольшой, только что установленный лагерь. Монголы постарались сделать все, что было в их силах, чтобы создать нам условия для нормального отдыха. В новых юртах лежали камышовые циновки и постельное белье, под решетчатыми сводами уютно мигали фонари «летучая мышь». Мы с любопытством разглядывали наши новые жилища, похожие на огромные половецкие шлемы. Юрты удобные и теплые, сделаны из прочных реек и кошмы. Над каждой юртой маленький флажок — своего рода флюгер.
Усталость дает себя знать, тянет в постель, а мысли мешают. Хочу заставить себя уснуть, но ничего не получается, остается только выйти покурить. Над степью непроницаемая завеса. Ни одного огонька и фантастическая тишина, до звона в ушах. Лишь мерцающие звезды свидетельствуют о существующем где-то кругом пространстве. Стараюсь не думать о войне и о том, как сложится в дальнейшем моя судьба. Пробую восстановить до мелочей все, чем жил несколько дней назад в Москве. Там, дома, было много забот, а теперь они все вдруг исчезли, будто и не имели никакого значения в жизни. Как развернутся события, которые заставили всех нас прилететь в Монголию? В памяти, хочешь не хочешь, оживает та первая фронтовая ночь в Мадриде, совсем не похожая на эту здесь…
Вспоминая прошлое, я сначала даже не заметил закутанную в простыню фигуру. Александру Николаеву тоже не спалось. Несколько минут мы сидели рядом молча. Саша взял мой окурок и задымил.
Он совсем недавно вернулся из Китая, сражался там добровольцем против японских захватчиков. Предстоящие бои с японцами здесь, в Монголии, для него только продолжение первых встреч с ними. Понятно, что мне хотелось поговорить с ним на эту тему, хотя и был уже поздний час.
— Правда, что они напористые?
— Кто?
— Японцы.
Саша ответил, что японцы очень настойчивые, бой ведут фанатично и если останешься с ним один на один, тут уж либо ты в ящик, либо он.
Оценка, которую давал Николаев японцам, совпадала с мнением моего друга и учителя Антона Алексеевича Губенко. Прилетев из Китая после многих боев, за которые он получил звание Героя Советского Союза, он еще до событий на Халхин-Голе говорил мне о японцах, что они умеют вести воздушный бой и в бою не только настойчивы, но и бесстрашны, а если учесть еще их отличную технику пилотирования, то надо признать, что они крепкий орешек.
В то время я не придавал словам Губенко особого значения, а теперь был готов говорить обо всем этом с Николаевым хоть до утра. Но Саша предложил укладываться: на войне не угадаешь, что будет завтра, а поэтому самое лучшее — беречь силы с вечера!
Мне показалось, будто я только что прикоснулся к подушке — а нас уже будят! Кто-то заглянул в юрту:
— Пора вставать, товарищи! Два часа!
На востоке чуть заметно серела предрассветная полоска. Степь еще спала, только наши голоса нарушали тишину и удивительно быстро тонули в пространстве.
Дежурный сказал, что завтрак привезут к самолетам. Мы почти на ощупь штурмовали автомашину, стараясь занять места поудобнее. В какую сторону поедем, где аэродром — разобраться трудно, еще совсем темно. Машина тронулась и, не набирая скорости, двигалась вперед, медленно отворачивая то налево, то направо, точно что-то нащупывая лучами фар.
— Стой! — вдруг подал команду комиссар штабной группы и обратился к шоферу: — Вы знаете, куда ехать?
— Разумеется, знаю, только дорога не наезжена, легко заблудиться.
— Как же вы собираетесь везти нас?
— По проводам, — последовал ответ.
Мы с удивлением переглянулись. Такого метода вождения автомашин никто из нас не знал. Сидевший рядом со мной Павел Коробков шепнул мне:
— Наверное, хватил стаканчик спозаранку, вот и мудрит.
Но водитель пояснил все по порядку. Оказывается, он приспособился ночью там, где не заметна колея, ориентироваться в пути по полевым телефонным проводам, подвешенным на шестах. Фары нашли шестовку, и наш грузовик, набирая скорость, покатил вдоль нее по степи, как по шоссе. Неожиданно в машине раздался аккорд на баяне. Нигде и никогда не унывающий Николай Герасимов пел чистым тенором:
Ночка темна, я боюся, Проводи меня, Маруся…Вслед за этой песенкой зазвучала другая, ее подхватили все и пели до тех пор, пока лучи фар не уперлись в силуэт самолета.
Техники прибыли раньше нас. Подготовка материальной части к полетам была закончена, осталось опробовать моторы. Судя по времени, техники в эту ночь почти не спали.
Рассветало. Вот-вот выглянет солнце. В эти часы и в мирное время пора взлетать, но задания нам пока нет. Над аэродромом трепещут жаворонки. Говорят, их тут чуть не тридцать разных пород. Забавная пташка! Повиснет в воздухе, точно на ниточке, отсвистит свою трель, метнется в сторону и опять словно прилипнет в какой-то невидимой точке.
Залюбовавшись монгольскими соловьями, мы не заметили, как на аэродром с бреющего полета выскочил наш двухмоторный бомбардировщик СБ. Самолет сел и подрулил к нашим стоянкам. Из кабины с большим трудом выбрался комкор Яков Владимирович Смушкевич. Он сел на крыло, осторожно съехал с него и, опираясь на толстую трость, заковылял к нам навстречу. Переломы ног в давней аварии с трудом позволяли ему передвигаться по земле, но летал он отлично.
Смушкевич пользовался большим уважением у всего летно-технического состава. Комкор не боялся предоставлять своим подчиненным широкую инициативу в решении даже сложных вопросов.
Мы усадили Смушкевича на патронный ящик.
— Ну, как устроились? — спросил он, улыбаясь, глядя на наш командный пункт, который обозначала телега с бочкой воды, накрытой брезентом. Под телегой стоял телефон, от него тянулись провода до того пункта, где расположился штаб авиации.
— Ждем, товарищ комкор! — разом ответило несколько голосов.
— Время терпит, — сказал Смушкевич. — Чтобы хорошо подготовиться, надо еще многое сделать.
Он уточнил наше служебное положение. Все прибывшие с ним из Москвы должны стать боевым ядром в будущих операциях, а пока нам надлежало заняться учебными полетами. Одновременно с нами в Монгольскую Народную Республику прибыли авиачасти из разных округов Советского Союза, в первую очередь из Забайкалья. Многие эскадрильи укомплектованы кадрами второго и третьего года службы. Нам, участникам боев в Испании и Китае, предстоит как можно быстрей передать свой боевой опыт молодым летчикам, а затем рассредоточиться по разным авиачастям для укрепления их боеспособности.
Смушкевич торопился. Ему надо было побывать еще на многих аэродромах. Нам он уделил всего пятнадцать минут.
Прежде чем начать тренировочные полеты, нам предстояло ознакомиться с районом базирования и с государственной границей между Монголией и Маньчжурией.
Полеты для ознакомления с местностью обычно представляют собой нечто вроде авиапрогулок, не требующих выполнения каких-либо других заданий, кроме утверждения в памяти летчика наиболее характерных ориентиров.
Однако на этот раз нам пришлось захватить с собой чистые листы бумаги. Наши полетные карты оказались слишком бедны топографическими данными. Нам необходимо было сделать в них собственные дополнительные пометки.
Высота полета — тысяча метров. Воздух прозрачен. Видимость отличная, но что же наносить на схему?
В районе аэродрома, если так можно назвать место, куда мы произвели посадку, пусто, даже автомашины специального назначения, закамуфлированные под цвет степного покрова, исчезли из поля зрения, словно провалились сквозь землю. Далеко-далеко на северо-востоке — россыпь солончаковых болот. Заглянули и туда. Сотни солончаков представляли собой настоящий лабиринт, болота овальные и круглые — все похожи одно на другое.
Совсем иначе выглядел район предстоящих действий. Нам повезло, мы могли спокойно изучать сейчас этот участок. Японских самолетов в воздухе не было; здесь царило затишье.
Удивительной, непривычной показалась мне природа этих далеких от моей родной Волги мест. От левого берега реки Халхин-Гол в глубь Монгольской Народной Республики на сотни километров идут степи. Они начинаются сразу же за небольшой прибрежной возвышенностью Хамар-Даба. А по правому берегу Халхин-Гола громоздятся сопки и песчаные барханы с темными глубокими увалами между ними. Местами зеленеют пойменные низины. От Хамар-Дабы Халхин-Гол течет строго на север, а через пятнадцать-двадцать километров полого поворачивает на запад и разветвленной дельтой впадает в озеро Буир-Нур.
Мы для первого раза неплохо справились со своей топографической задачей и нанесли на планшеты дополнительные ориентиры. Теперь, по крайней мере, хоть часть пустыни стала для нас более зримой и знакомой.
После посадки разговор не клеился. Первым заговорил Александр Николаевич и сказал вслух то, о чем все мы думали молча;
— Ну, как? Подходящее местечко выбрали самураи для начала?
— Куда уж лучше, — согласился Павел Коробков. — Самый удобный уголок — чертям свадьбу справлять! Вся их стратегия как на ладони — хотят с этих гор через речку прыгнуть, а дальше полным ходом на колесах через Монголию и до наших границ!
Заключение Коробкова никто не собирался оспаривать. Нам всем тоже казалось, что японцы готовятся к глубокому рейду. После своего провала в Приморье, у озера Хасан, они теперь нашли такое место, куда войскам Красной Армии было трудней всего передислоцироваться. Этот степной край Монголии был и самой глухой частью страны и самой отдаленной от ее жизненных центров. Нам рассказывали о случаях, когда автомашины в пути к здешним пограничным заставам блуждали по нескольку суток, потеряв ориентировку.
Беспримерный бой
Положение советских воинских частей, шедших сейчас на помощь к монгольским пограничникам, осложнялось растянутостью коммуникационных линий. До ближайшей нашей железнодорожной станции было около семисот километров. А японо-маньчжурские войска с успехом могли использовать Хайларскую ветку железной дороги, почти вплотную подходившую с их стороны к месту назревавших событий.
Несмотря на свой первый успех при налете на один из наших аэродромов, японская авиация после 28 мая вдруг резко свернула свою активность. До самой середины июня мы не наблюдали групповых полетов противника. Летали одиночки разведчики, да и они предпочитали пересекать границу только на больших высотах и не особенно углублялись на монгольскую территорию. Мы не исключали возможность, что японцы знают о прибытии нашего авиационного пополнения и в свою очередь подтягивают силы. Однако затишье и на земле и в воздухе нас не успокаивало. Наоборот, мы знали, что монголо-советское командование располагает сведениями о дальнейшем накапливании сил противника в пограничной зоне.
Александр Степанов, Леонид Орлов и Борис Смирнов. Халхин-Гол, 1938 год.
Закончив рекогносцировку местности, мы приступили к тренировочным полетам. С утра до вечера над аэродромами стоял гул моторов. Мы старались приблизить учебные воздушные бои к тем, настоящим, которые могут вспыхнуть над Халхин-Голом. Молодые летчики один за другим сходились с нами в поединках, и с каждым днем эта фронтовая учеба приносила все лучшие результаты. Мы уже начинали чувствовать на себе, как крепнет воля к победе у наших подопечных. Иногда молодые летчики так наседали на нас, что нам самим приходилось полностью выкладываться, чтобы парализовать их стремительный натиск.
Среди опытных летчиков особенно неутомимыми учителями стали Григорий Кравченко, Иван Лакеев, Николаев, Викторов, Павел Коробков. Они ухитрялись проводить до захода солнца по пятнадцати и даже больше учебных боев.
Лакеев, заметив тех, кто чаще других делает посадку для короткого отдыха, шутливо подстегивал:
— Сокращай перекур, братцы ленинградцы! Репетируй, репетируй!
Мы еще ни разу не летали на боевое задание, а наша одежда стала похожа на дубленую кожу. Ох уж эта пустыня Гоби! Ее палящее дыхание может за одни сутки осушить целое озеро. Только недавно начался июнь, а по раскаленной земле уже ползут змейки глубоких трещин.
Сведения о противнике на аэродромы привозил штабной офицер майор Прянишников. Он знакомил нас с обстановкой на границе, давал точные обозначения расположения войск, знакомил с разведданными.
Почти весь июнь в пограничной полосе прошел относительно спокойно, лишь отдельные вылазки японцев заставляли монголо-советские войска держать оружие наготове.
Тем временем японские авиаторы, видимо, сумели убедить свое высокое начальство в том, что они сумеют взять верх над сосредоточившейся в Монголии советской авиацией. У японских летчиков был козырь: их первые, майские безнаказанные налеты на монгольские аэродромы. Да и численность японцев сильно возросла: ко второй половине июня они уже сосредоточили на своих аэродромах вблизи границы около трехсот самолетов.
Двадцать третьего июня на японских авиабазах началась спешная подготовка. Особое оживление царило на аэродроме Дархан-Ула. В центре внимания была базировавшаяся на этой точке эскадра истребителей. Именно она в мае уничтожила на монгольских аэродромах несколько наших самолетов, а в первом воздушном бою сбила еще восемь, не потеряв ни одного своего. Прибывшее на Дархан-Улу японское авиационное начальство, собрав летчиков, заявило, что им самой судьбой предназначено теперь разгромить в Монголии советскую авиацию и проложить этим для японской империи путь к сибирским русским землям. Один из летчиков этой эскадры, оказавшись на следующий день в плену, рассказал все это в штабе монголо-советских войск.
Я не коснулся бы этого мелкого звена в цепи общих событий, но сам факт, что этот японский ас выбросился с парашютом из подбитого самолета на чужой территории, говорил о том, что и «дети солнца» хотят жить на земле.
Этот день начался для нас, как и все предыдущие. За час до рассвета дежурный по лагерю разбудил нас не по тревоге, — а, приоткрыв полог юрты, тихо произнес:
— Товарищи, пора…
Спать мы научились по-фронтовому — чутко, и вовсе не обязательно было кричать, чтобы разбудить людей. На подъем полагалось десять минут, но этого было достаточно: туалетом заниматься почти не приходилось, даже ополоснуться водой не всегда удавалось, ее нужно было экономить — до самой реки ни одного колодца. Воду привозили в автоцистернах раз в неделю. Мы узнавали об этом, когда в столовой вдруг начинался аврал по сбору пустой тары.
Солнце еще не успело перекатить через гряду Большого Хингана, а авиатехники уже доложили о готовности самолетов. В полдень ртутный столбик поднялся к сорока градусам. Сделали перерыв в полетах. Всех потянуло к телеге с бочкой воды, и тут возник спор, стоит ли продолжать тренировку. Большинство считало, что теперь все летчики подготовлены хорошо, только один Николай Викторов настаивал на своем:
— Лучше летать, чем здесь, на земле, сало топить.
— А зачем зря крутить мельницу, если все уже хорошо ведут бой, а некоторые и нам могут всыпать! — возразил Коробков.
Викторов выглянул из-под телеги, где он пристроился в тени, посмотрел на нас уничтожающим взглядом и, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Тогда, раз они уже все превзошли, пусть теперь сами вас, недорослей, учат! А мне моим ребятам еще кое-что надо показать, поняли?
Слово «недоросли» зацепило Николаева.
— Да пойми ты, буйвол, с тобой летчики летать отказываются, говорят, что ты своими немыслимыми перегрузками сделаешь их калеками на всю жизнь.
Я решил внести ясность и прекратить бесполезный спор: мы выполняем приказ и сами отменить его не можем, самое лучшее позвонить комкору Смушкевичу.
— Звони, звони, — снова раздалось из-под телеги. — Ты от своих подчиненных не знаешь, куда деваться. Я видел, как один прижал тебя вчера!
Эти слова задели меня, и я уже хотел вызвать Викторова на учебную воздушную дуэль, но в это время запищал зуммер.
— «Ленинград» слушает, — лениво ответил в трубку Викторов, но вдруг сосредоточился и, прикрыв ладонью ухо, несколько раз повторил: — Есть!
А потом его точно выбросило из-под телеги:
— Давай ракету, наших бьют!
Самолеты разом устремились на взлет, и летчики уже в воздухе быстро разобрались по своим местам в строю.
Отрадно было смотреть, как отлично справилась со взлетом по тревоге наша молодежь, которую мы только что тренировали.
Вперед вышел Николай Викторов, показывая направление полета. Я взглянул на карту и компас. Мы летели курсом на озеро Буир-Нур.
Перед встречей с противником, казалось бы, все мысли должны быть сосредоточены на будущем, на том, что вот-вот придется собрать нервы в комок и встретиться с глазу на глаз со смертью, которая обязательно будет рядом и которая обязательно кого-то настигнет. Но странное дело! Мне, наоборот, вдруг вспомнилось прошлое — Испания, Мадрид и тот первый бой, который так и остался в памяти весь до мельчайших подробностей, как никакой другой после него. Я смотрел на голубое небо, туда, где горизонт сливался с контурами еле видимых гор, и мне казалось, что это не отроги Большого Хингана, а Сьерра-де-Гвадаррама и что со мною рядом летят мои боевые испанские товарищи. Давно ли все это было? Всего год назад…
Летим уже восемь минут, внимательно наблюдая за передней полусферой пространства. Немного в стороне от озера Буир-Нур замечаем в воздухе перемещающиеся точки, с каждой минутой они увеличиваются. Над пунктом Монголрыбы творилось что-то невероятное: не меньше сотни самолетов сплелись в один клубок, опоясанный пулеметными трассами. Было трудно понять в этой тесноте, на чьей стороне перевес.
Наши авиационные подразделения, располагавшиеся на ближайших к границе аэродромах, сражались уже минут пятнадцать. Их боевым ядром были летчики из нашей московской группы.
Японцы все наращивали силы. В воздухе становилось все больше и больше самолетов. Я подал команду «приготовиться к бою». Коробков, Николаев, Герасимов разомкнули свои звенья, и в тот же миг рядом с нами появились самолеты противника.
Японцы охотно принимали бой на ближних дистанциях, их это устраивало. Мы заметили, что японские самолеты обладали хорошей маневренностью, а летчики — отличной техникой пилотирования. Возникали моменты, когда плотность боя становилась предельно возможной. В такие минуты возникала двойная опасность: атаки производились почти в упор, и не исключалась возможность случайных столкновений в воздухе. Я заметил, как один из японцев, метнувшись в сторону от моей атаки, чуть было не врезался в другую машину. В самой гуще боя чей-то летчик беспомощно повис на лямках под куполом парашюта; потом, вслед за ним, еще трое. Сбитые самолеты на некоторое время замедляли темп воздушного боя. Они падали, разваливаясь на куски, волоча за собой траурные шлейфы дыма, заставляя на своем последнем пути расступаться всех остальных.
Во время атаки я несколько раз взглянул на землю. Там, далеко внизу, кострами догорали обломки самолетов. Казалось, этому воздушному побоищу не будет конца, но вот наступил момент, когда и у тех и у других стали кончаться и горючее и боеприпасы, и армада дерущихся самолетов начала таять на глазах. В воздухе остались только мелкие группы и одиночки, успевшие вновь заправиться горючим на своих базах и вернуться к месту боя.
На свою базу мы возвращались все вместе, в компактном строю. Даже молодые, впервые обстрелянные летчики не потеряли ведущих.
Один только Николай Викторов летел в стороне от группы, не отвечая на сигналы. Надо было узнать, в чем дело. Из-за отсутствия радиооборудования общаться между собой в полете приходилось наподобие глухонемых, с помощью жестов, и, разумеется, это было возможно только на близком расстоянии. Пришлось мне самому подстроиться к Викторову.
С первого же взгляда на его самолет все стало ясно. На правом крыле зияла сквозная дыра внушительных размеров, а по фюзеляжу прошлась пулеметная очередь. Николай не проявлял ни малейшего беспокойства, но летел осторожно, избегая лишних разворотов, и, видимо, был готов в любую минуту к вынужденной посадке.
А тут еще неожиданность: Николай Герасимов вдруг резко развернулся обратно, приказав своим ведомым следовать прежним курсом. Я оглянулся. Сзади и выше нас, километрах в двух вслед за нами летел японский истребитель. Заметив отделившегося от строя Герасимова, японец мгновенно изменил курс и повернул обратно, к себе. Преследовать его было бессмысленно — не догнать! Японское командование действовало хитро и даже нахально. Этот «хвост» наверняка не участвовал в бою, а имел специальное задание — увязаться за одной из наших групп и проследить место ее базирования.
До аэродрома дотянули на последних каплях горючего, некоторые самолеты даже не дорулили до стоянок. Викторов приземлился первым, и через несколько минут мы уже осматривали его самолет, подсчитывая пробоины.
Николай безмятежно лежал под крылом машины, доедая соленый огурец, припрятанный на всякий случай еще со вчерашнего ужина, и не обращая на нас ни малейшего внимания.
На вопрос, как это случилось, Викторов ответил:
— Приходите на экскурсию часиком позже, а сейчас мне будет некогда — технику надо помочь!
С утра на аэродром обещали привезти воду. Но когда мы вылетали, ее еще не было. Как только самолеты разрулили по стоянкам, летчики бросились на штурм водовозной телеги.
У бочки шел стихийный разбор только что проведенного воздушного боя.
Вечером этого же дня все летчики-истребители из московской группы, принимавшие участие в воздушном бою, встретились в том пункте, где размещался штаб авиации. Комкор Смушкевич вызвал нас, чтобы дать дальнейшие указания, относящиеся к боевой работе, и обменяться мнениями о первом крупном воздушном бое. Смушкевич хотел послушать каждого из нас, но на всех не хватило времени, пришлось ограничиться пятью или шестью выступлениями. Однако и они позволяли сделать правильные выводы.
Общее мнение сводилось к тому, что предстоящие бои будут еще более ожесточенными. Легкой победы ожидать нельзя. Вдобавок и по разведданным известно, что переброшенные сюда японские авиационные соединения подобраны специально. Воздушный бой только подтвердил эти данные. Штаб Квантунской армии позаботился о том, чтобы группа войск генерала Камцубары была укомплектована лучшей авиационной техникой и летным составом, уже имевшим боевой опыт в операциях по захвату Китая.
Мои прежние предположения, что воздушные бои в Монголии будут примерно такие же, как и в Испании, рассеялись в прах. Оказалось, что здесь все по-другому: другие условия и другой противник. Японские летчики пилотировали значительно техничнее итальянских и гораздо напористее немцев. Это было ясно сразу. О тактике судить было пока трудно. Нашу первую встречу с противником, пожалуй, можно было сравнить с кулачным боем на русской масленице, когда сходились стенка на стенку целыми околицами.
Японские самолеты И-96 имели небольшой вес, обладали хорошим вертикальным и горизонтальным маневром, были оборудованы кислородной и радиоаппаратурой и вооружены двумя пулеметами системы «виккерс». Самолет представлял собой цельнометаллическую конструкцию с тонким дюралюминиевым гофрированным покрытием. При необходимости полета на дальние расстояния самолет мог быть оснащен двумя дополнительными бензобаками, которые сбрасывались в полете после израсходования горючего.
После совещания никто не торопился уезжать на свои аэродромы. Многие не видались друг с другом с тех пор, как разбрелись по Монголии. Хотелось поговорить по душам. На совещании у начальства иногда всего и не скажешь, а в кругу друзей все можно. В этот вечер не обошлось и без серьезного упрека по адресу одного из опытных летчиков нашей группы, который без серьезных причин раньше всех вышел из боя. Такой поступок расценивался у нас как подлость. Комкор Смушкевич об этом случае так и не узнал, но виновник понял, что ожидает его, если он вздумает еще раз вильнуть хвостом.
Ко мне подошли Григорий Кравченко и Виктор Рахов. С обоими я был знаком еще с 1933 года по совместной службе в Московском военном округе. После возвращения из Испании мне часто приходилось летать с Раховым в составе краснокрылой пилотажной пятерки, которая была создана Анатолием Серовым и демонстрировала групповой высший пилотаж в дни авиационных праздников в Тушине и на парадах над Красной площадью в Москве.
Григорий иногда не прочь был подчеркнуть в разговоре присущую ему храбрость и презрение к опасности. Но это получалось у него как-то между прочим, без принижения достоинства других товарищей. Летчики, хорошо знавшие Кравченко, обычно прощали ему некоторую нескромность характера за его действительно беззаветную храбрость, проявленную им в боях с японцами в Китае.
Виктор Рахов летал не хуже Кравченко, а может быть, и лучше, но держался скромнее. До монгольских событий ему не довелось принимать участие в боях ни в Испании, ни в Китае. Это, по-моему, обычно и удерживало его от высказывания собственных взглядов в спорах, возникавших иногда в кругу «испанцев» или «китайцев».
Кравченко протянул мне раскрытый портсигар и, прищурив свои всегда немного смеющиеся глаза, спросил:
— В бою был?
Я кивнул головой.
— Сбил?
— Нет.
Григорий удивленно поднял брови:
— А вот Виктор одного смахнул!
Но мне показалось, что дело не в Рахове, а просто Григорию захотелось напомнить о том решающем моменте боя, когда несколько наших летчиков во главе с ним, Лакеевым и Раховым удачно разметали ведущую группу японских самолетов.
Я взял папиросу и сказал Григорию, что для меня этот бой был первым знакомством с японскими летчиками, да и сбить было не так-то просто в такой карусели.
Григорий хлопнул меня по плечу:
— Ничего, Боря, не тужи, было бы хорошее начало, а твои от тебя не уйдут!
Над городом уже давно была ночь, а мы все никак не могли разойтись. Рахов уже давно перевел разговор на мирные темы, расспрашивал у недавно прилетевших из Советского Союза товарищей, как там на Родине, какие новые картины идут в московских кинотеатрах.
Да, Москва… Далеко она от нас. Наши близкие и родные еще не получили от нас писем, да и вряд ли кто из нас напишет о том, что произошло сегодня. Пройдет еще много дней, пока они там узнают о погибших в сегодняшнем бою.
Шоферы торопят, сигналят. Пора ехать. Полуторки двинулись в разные стороны. С каждым днем, прожитым в Монголии, мы убеждались в том, что пустыня не так уж мертва, как это представлялось нам прежде. Лучи фар то тут то там выхватывали из темноты ее ночных обитателей. Вот в освещенной полосе появился силуэт огромного орла-стервятника. Пернатый великан сидел, словно каменное изваяние, и только подпустив машину почти вплотную, взмахнул черными крыльями. Иногда в темноте вдруг, как фонарики, вспыхивали зеленые огоньки — это светились глаза дикой кошки, похожей на рысь, но только немного поменьше и с кривыми короткими лапами.
В столовой нас поджидали летчики соседней эскадрильи, которой командовал капитан Жердев. Стол на этот раз выглядел по-праздничному. Откуда-то нашлось несколько бутылок портвейна, дымилась приправленная зеленью жареная баранина. Появился даже электрический свет от движка. Комиссар жердевской эскадрильи Александр Матвеев провозгласил тост за дальнейшие успехи и за боевую дружбу.
Только утром на следующий день стал известен результат воздушного боя. Со стороны монголо-советских войск в нем участвовало девяносто пять самолетов-истребителей. Японцы ввели в бой сто двадцать машин. А такого количества сбитых за один бой самолетов история воздушных сражений еще не знала — сорок три самолета. Из них двенадцать наших, остальные японские.
Фронтовые будни
Встреча с противником изменила наш лагерный быт. Казалось бы, на аэродроме не произошло никаких изменений, но люди стали гораздо собраннее и внимательнее. Техники, оружейники, прибористы словно прилипли к самолетам, чувствуя всю глубину ответственности за боеготовность каждой машины. Глядя на их работу, я невольно вспомнил слова одного из наших техников: «Вы летаете, сражаетесь с врагом, а мы что, мы только готовим вам материальную часть…»
«Только готовим!» Удивительно трудолюбивый и скромный народ техники! Их огрубевшие руки с отшлифованными мозолями не знают усталости. Летом техники задыхаются от зноя, от жара раскаленных моторов, а зимой их пальцы примерзают к металлу. О них редко пишут в газетах, фотокорреспонденты всегда снуют вокруг летчиков, которым достаются все пенки почета и славы.
Технический персонал различных специальностей частенько в среде летчиков объединялся одним названием «технари». Но горе тому летчику, который не пользовался у «технарей» авторитетом. Если так, то, значит, он имел какой-то серьезный изъян. Однажды я случайно услышал, как техник, обращаясь к другому, давал оценку своему командиру экипажа.
— Вон мой лопух идет на посадку. Сейчас подвесит машину выше крыши и плюхнет, а потом проверяй целый час все узлы шасси!
Но чего только не сделает техник для своего летчика, если он отлично летает!
Техник Николая Викторова закрашивал на самолете последнюю пробоину, когда мы с Коробковым подошли к их стоянке. И уж, конечно, техник не обвинял Викторова за то, что самураи издырявили ему машину, наоборот, на все лады хвалил его и даже приводил в пример другим.
Коробков посмотрел на заплаты и сказал Викторову:
— Опять как новенькая! Но все же ответь, пожалуйста, зачем полез туда, где никого наших не было?
— Затем и полез, чтобы пустоту заполнить.
— Брось оригинальничать, лучше бы держался ближе к нам.
— А вы где были? — спросил Викторов.
— Чай с баранками пили, на тебя смотрели, как ты барахтался в самой гуще японских самолетов! — отрезал тоже пришедший вместе с нами Александр Николаев.
Викторов не ответил. Он понимал, конечно, что дело не в пробоинах и не в упреках. В бою всякое бывает. Его беспокоило другое: вполне ли доверяют ему товарищи? Поэтому он и бросился в первом же бою в самое пекло, желая очистить себя от прошлой дурной славы.
Кто не знал Викторова, тот и представить себе не мог, как это он совсем недавно откалывал такие номера, что поверить трудно! Но многие из нас знали всю его подноготную. В 1936 году капитан Викторов был командиром авиационного истребительного отряда в одном из южных гарнизонов. Мастер в летном искусстве, он готовил замечательных летчиков-истребителей. Многие из них впоследствии прославились и в Испании и в Великой Отечественной войне. Прямой и добрый характер этого человека сочетался с железной волей и выдержкой в воздухе, и если б не спиртное, он не знал бы беды, а беда шла навстречу с каждой рюмкой.
Однажды, засучив рукава, вышел на арену цирка, изъявив желание бороться с дрессированным медведем, а в один из воскресных дней предложил выйти из трамвая всем пассажирам и вагоновожатому и сам взялся управлять вагоном. Дело кончилось демобилизацией Викторова из рядов Красной Армии. Расстаться с авиацией он не мог — в ней была вся его жизнь. Он бросил пить, устроился работать в Центральный аэроклуб, летал на спортивных самолетах, но это лишь усиливало его тоску по настоящим полетам, да и положение вне армии было для Викторова непривычным и даже нестерпимым.
В конце 1937 года из Испании вернулось несколько летчиков, служивших раньше вместе с Викторовым в одной авиабригаде. Друзья решили просить командование о восстановлении «штрафника» в армии. И вот с помощью Анатолия Серова и Михаила Якушина Викторов снова надел военную форму незадолго до начала событий в Монголии.
Мы больше не стали напоминать ему о пробоинах, да и к чему? Кто знает, может, в очередном бою кто-то из нас окажется в еще худшем положении.
Лежим в теневом эллипсе под крылом самолета Викторова. Жутко палит солнце. Ночью брызнул маленький дождичек, а к полудню на аэродроме разлилось миражное озеро. Самолеты, стоявшие на противоположной стороне, превратились в причудливые корабли, глядя на голубую гладь «воды», хотелось раздеться и всем телом ощутить прохладу.
Откуда-то донесся звук летящего самолета. Гул моторов нарастал. «Дуглас» появился не сверху, а словно утка, из камышей. Так водить тяжелый самолет умел только Виктор Грачев. Встреча с ним всегда была для нас радостью. Он прилетал с новостями, у него часто бывали свежие газеты и журналы, а в бортовом шкафчике хранились небольшие запасы репчатого лука, огурцов, помидоров, копченой колбасы… Мы восхищались хозяйственными способностями Грачева и вечно были у него в долгу.
Спешим войти в распахнутую дверь самолета — и отступаем! Из фюзеляжа угрожающе торчат два спаренных пулеметных ствола. Виктор стоит подбоченившись, весело улыбаясь. Заметив наше замешательство, предлагает:
— Не обращайте внимания, заходите!
Внутри фюзеляжа еще один пулемет у круглого бортового окна-. Мы удивлены. Грачев — летчик опытный, у него можно поучиться, и вдруг такой конфуз! Куда исчезла его тактическая грамотность? Вниз и вверх вести огонь из окна невозможно, а если учесть, что для стрельбы на параллельных курсах в самолете ему пришлось бы открыть еще и бортовую дверь, получается совсем чепуха!
Кто-то из нас намекнул на бесполезность этих огневых точек. Грачев только махнул рукой:
— Лечу вчера с Мехлисом, и вдруг он спрашивает меня, часто ли мне приходится перевозить людей. Докладываю как есть. Выслушал и приказал больше не летать, пока не поставлю пулеметы. Пытался ему объяснить, что это же «Дуглас»! А он в ответ: «А мне хоть Фербенкс! Завтра же доложить о выполнении». Вот какая ситуация, — закончил Грачев.
Летчики в гостях у маршала Чойбалсана.
— А как же дальше? — спросили мы.
— Затем и прилетел, чтобы с вами посоветоваться. Попрошу помочь инженеров Карева и Прачека, они не только пулеметы — трехдюймовку воткнут, если потребуется!
Определить места, где следовало установить пулеметные точки, дело нетрудное. Мы посоветовали и потребовали магарыч — по огурцу и помидору на брата.
Не успели проводить «Дуглас», как появились еще гости. К нашему аэродрому стремительно приближались три легковые машины. Приехал Чойбалсан в сопровождении начальника штаба авиационной группы комбрига Устинова.
Товарищ Чойбалсан подробно расспрашивал нас о том, как прошел бой, интересовался японской авиационной техникой и тем, пойдут ли, по нашему мнению, японские летчики на расширение воздушных операций. Чойбалсан, конечно, понимал, что наше мнение не может быть достаточно определенным после первого же боя, но все же очень внимательно слушал нас. Откуда ему были так хорошо известны японские повадки, я не знаю, но, уезжая, он сказал на прощанье:
— Будьте осторожны в бою. Японцы — коварный враг, хитрость всегда была их сильным оружием.
Нам нравился товарищ Чойбалсан. Он был прост при встречах, не любил лишних церемоний, любил пошутить, и мы не стеснялись его.
Когда машины уже выехали за пределы аэродрома, Александр Николаев обнаружил под нашей телегой два ящика с папиросами и с шоколадом. Мы вернулись к своим самолетам. Часами лежать под крылом, все время в ожидании, очень нудно. Попросили разрешения на вылет вдоль границы — хотим получше привыкнуть к местности.
Разрешение получили, но при условии сохранения боеготовности на аэродроме, поэтому в воздух улетаем по одному звену, соблюдая очередность, все остальные продолжают дежурство в готовности номер один.
С высоты тысячи метров хорошо видна каждая складка местности. Небо чистое. Противника нет. Можно спокойно уделить внимание изучению пограничной полосы. Летим вдоль Халхин-Гола, не пересекая границу. По ту сторону глубокие увалы, барханы со скудной зеленью, похожие на верблюжьи горбы, их песчаные скаты на освещенных сторонах приобретают оттенок потускневшей меди. По ярко-зеленой низине вьется узкая речка Хайластын-Гол, приток Халхин-Гола. По старому заболоченному руслу когда-то шла большая вода. Хайластын-Гол делит район действий пополам и препятствует маневру механизированных войск. Монголо-советские части разделены этой речкой как бы на две самостоятельные группировки.
Подлетаем к озеру Буир-Нур. Огромное водное пространство кажется мертвым — ни одного катера, ни одной лодчонки. Бесконечно тянутся отлогие пустынные берега. Узкая желтая полоска прибрежного песка да изредка чахлая поросль кустарника — вот и все убранство, которым оделила природа это великое монгольское озеро, царство водоплавающих пернатых.
Возвращаясь на аэродром, я решил пролететь бреющим полетом над лабиринтом солончаковых болот и посмотреть, есть ли там что живое. Справа и слева от меня летели Александр Николаев и Леонид Орлов. У нас на Родине бреющий полет применялся только в учебных целях в специально отведенных зонах, при строгом соблюдении безопасности. Здесь же можно было летать где угодно, на самой минимальной высоте, лишь бы не зацепить за землю.
Но опасность стерегла нас у самой кромки первого же болота. Перед самолетом вдруг выросла живая стена. Тысячи уток, гусей и других пернатых поднялись, напуганные шумом моторов. Столкновение с такой массой крупных птиц грозило верной катастрофой, мы еле успели выхватить самолеты вверх, а птицы все поднимались и поднимались, передавая тревогу от болота к болоту. «Вот тебе и степное раздолье, без фабричных труб, колоколен и мельниц!» — подумал я, мысленно ругая себя за допущенную вольность, которая могла стать причиной гибели кого-то из нас.
Проскочив солончаковые болота, мы увидели довольно большой массив, поросший хорошей зеленой травой, и на нем стадо животных. Любопытство снова перевело нас на бреющий полет. На сей раз это ничем не угрожало. Дикие козы встрепенулись и с огромной скоростью понеслись в сторону гор Большого Хингана. Достаточно было нескольких пулеметных очередей, и мы стали бы обладателями невиданных охотничьих трофеев, но ни у кого из нас не поднялась рука на такое варварство.
На аэродроме нас ждал майор Прянишников. В штабе его считали исполнительным офицером, а мы — хорошим товарищем. В Испании он летал штурманом, а здесь, в Монголии, ему по ходу событий пришлось стать заместителем начальника штаба авиационной группы на командном пункте. Ему поручались ответственные задания, в том числе держать нас в курсе всех изменений, которые происходили на переднем крае, и сообщать нам новые данные об авиации противника. Прянишников развернул карту и показал новые аэродромы японцев. Судя по их расположению, можно было догадаться, что японцы готовят у себя вторую линию авиационного базирования. В пятнадцати километрах от Джинджин-Сумэ на карте у Прянишникова особая пометка. По предварительным данным, японцами якобы намечено перебазировать сюда несколько новых эскадрилий, прошедших тренировку в имперской школе высшего пилотажа и воздушной стрельбы.
Эта новость нас насторожила. До событий в Монголии, в дни теоретической учебы у себя на Родине, нам приходилось знакомиться со структурой военно-воздушных сил капиталистических стран, в том числе и с японской авиацией. В имперской школе высшего пилотажа и воздушной стрельбы японцами применялся своеобразный метод обучения, летчики-истребители производили там тренировочные стрельбы не по конусу, который буксировался другим самолетом, а по шарам «пилот». Многие из нас считали этот метод обучения весьма эффективным, он давал инициативу в построении воздушного маневра перед атакой, а также способствовал приобретению навыков при поиске воздушной цели.
Итак, не исключалась возможность, что японское командование решило усилить свою авиацию инструкторами и выпускниками высшего класса летной подготовки. Над Халхин-Голом можно было ожидать появления этих асов.
Прянишников торопился на другой аэродром. Выслушав наши соображения, он обещал доложить их Смушкевичу и полковнику Гусеву, который к этому времени вступил в командование авиационной группой на Халхин-Голе.
И опять делать нечего. Самолеты готовы к вылету, осмотрен каждый винтик. Ждем. Читаем старые газеты и журналы. Приказано прекратить все полеты, даже в районе аэродрома в учебных целях. Ничего не поделаешь, надо экономить горючее!
Так начался и следующий день, двадцать четвертое июня. В четыре утра опробовали моторы и до семи сидели и ждали. А в семь началось!..
Загадочная гибель
Севернее горы Хамар-Дабы, в районе пункта Дунгур-Обо, эскадрилья из полка Григория Кравченко перехватила группу японских самолетов, перелетевших границу. Но это было только завязкой очередного воздушного сражения. Вслед за первой эскадрильей Кравченко поднял остальные, а затем туда вылетел весь полк майора Забалуева. Японцы пытались с нескольких сторон прорваться к нашим аэродромам, но везде встречали заслоны.
Границу перелетело около семидесяти самолетов противника — небольшие группы двухмоторных бомбардировщиков под сильным прикрытием истребителей.
На этот раз я заметил, как японские летчики старались начинать свои атаки со стороны солнца, стремясь остаться невидимыми в его ослепительных лучах. Однако этот маневр для нас был не новым. После первых же атак Николай Герасимов, Коробков, Николаев и Викторов со своими ведомыми так закрутили японцев, что дальше горы Хамар-Дабы им так и не удалось прорваться. А когда к нам на помощь пришли эскадрилья Жердева и летчики Забалуева, японцам стало и вовсе тяжело.
В этот момент я заметил, как один из наших летчиков, зажав самурая, погнал его к земле. В крутом пикировании оба устремились вниз. Я был уверен, что у японца безвыходное положение. Самолеты исчезли из моего поля зрения, а еще через минуту ярко-красное пламя, обрамленное черным дымом, обозначило место падения самолета. Я заметил это место недалеко от озера Самбурин-Цаган-Нур.
В этот день воздушные бои на подступах к нашим аэродромам продолжались около двух часов. Летчики преследовали разрозненные группы японцев почти что до самой маньчжуро-монгольской границы.
Противник опять понес большие потери. По предварительным данным, только в районе между озером Буир-Нур и Тамцак-Булаком оказалось девятнадцать сбитых самолетов.
Я доложил в штаб, что наша эскадрилья сбила три самолета, мы придерживались традиции, на интернациональных началах родившейся у нас в Испании, — не вести счет персонально сбитым самолетам, а все победы считать общими.
Доложил я и об упавшем около озера самолете. После окончания полетов Смушкевич вызвал меня к себе в штаб. Приехал я в сумерках, в пути пришлось менять колесо на «эмке». У входа в штабную палатку меня встретил майор Прянишников и, взглянув на часы, укоризненно покачал головой:
— Только тебя и ждут, а ты все едешь! Можно было бы и без опоздания!
Я не стал объясняться и прошел в палатку. Судя по количеству присутствующих, началось какое-то небольшое совещание. Кроме Смушкевича здесь были начальник штаба авиагруппы на Халхин-Голе комбриг Устинов, полковники Александр Гусев и Григорий Кравченко, майоры Грицевец и Забалуев и полковой комиссар Чернышов.
Смушкевич пригласил меня к карте и, указав на точку рядом с озером Самбурин-Цаган-Нур, спросил:
— Здесь вы видели упавший самолет?
— Да, товарищ комкор.
Смушкевич тяжело поднялся из-за стола и, опираясь на трость, задумчиво сказал.
— Что-то мы недоделали в подготовке летчиков.
Из дальнейшей беседы стало все ясно. Взорвавшийся при падении самолет, который я видел утром, оказался не японским, а нашим, из полка майора Забалуева. Два таких же случая в этот же день были и в полку у Кравченко. Полковник Лакеев подтвердил с командного пункта, что один самолет И-16 врезался в землю недалеко от горы Баин-Цаган.
Все присутствующие пришли к единому мнению: некоторые наши летчики недостаточно уверенно пилотируют на малых высотах, однако при каких обстоятельствах они погибли, пока было не совсем ясно — это предстояло выяснить нам, опытным летчикам.
После обсуждения этого невеселого вопроса Смушкевич сообщил приятную новость: в первых числах июля к нам на станцию прибудет эшелон с первой партией новых самолетов И-153 конструкции Н. Н. Поликарпова. Прототипом новой машины был И-15, прошедший целый ряд модернизаций.
Смушкевич принял решение подобрать на новые самолеты самых опытных летчиков, которые могли бы за короткий срок освоить новые машины, и применить их в боевых условиях.
Перед вылетом в Монголию я работал в Главной летной инспекции ВВС Красной Армии. По долгу службы мне приходилось летать в качестве поверяющего с очень многими летчиками, и я знал, кто как летает. Учитывая это, Смушкевич пригласил меня участвовать в составлении предварительного списка летчиков для освоения новых самолетов.
На обратном пути на свой аэродром я вздремнул и проснулся от резкого торможения «эмки». Шофер чертыхался, удивляясь, откуда перед машиной вдруг выросла огромная куча камней, наверху которой торчала палка с привязанной к ней красной тряпкой. Оказывается, включив только подфарники, он основательно сбился с пути, а может, и вздремнул за рулем, да и как не вздремнуть, когда спать приходилось не больше четырех часов в сутки.
В юрте меня поджидали друзья, даже захватили из столовой кусок баранины и мою порцию портвейна. Стоял густой дым — глядя на ночь выгоняли из юрт комаров. Меня торопили рассказать, о чем шла речь на совещании. Узнав о получении новых самолетов, ребята повеселели. Я догадался, о чем они думают, потому что и сам думал об этом: станция снабжения не так уж далеко от Читы, может быть, удастся побывать там, посмотреть, как живут мирные люди.
Когда зашел разговор о гибели наших летчиков при странных обстоятельствах, Павел Коробков сказал:
— Нечего на ночь глядя голову ломать, завтра в бою все выясним.
Но на следующий день с утра пришлось разобраться с другим вопросом. Прежде чем заняться подготовкой экипажей к вылетам, я по привычке окинул взглядом аэродром и прилегающую местность. Все было будто по-прежнему — никаких изменений, и вдруг на противоположной стороне аэродрома за стоянками самолетов появилось что-то новое, похожее на темное пятно.
Оказалось, что в непосредственной близости от границ нашего базирования мирно пасется табун На одной из лошадей виднелась фигура всадника. Надо было срочно принять меры, чтобы табун перегнали в другое место, взлетать в ту сторону и производить посадку оказалось бы опасно, а приказ вылетать на задание мог последовать в любую минуту.
Мое приближение на «эмке» к табуну не произвело на погонщика никакого впечатления, даже сигнальные гудки остались без ответных действий. Пришлось выйти из машины и приступить к переговорам. К моему удивлению, в седле сидела девушка — прямая, стройная, как стебель тростника. Из-под голубой косынки, завязанной на монгольский манер, выбивались косы, а на загорелом до темной бронзы лице поблескивали черные настороженные глаза. Ее тонкую талию перехватывал широкий шелковый пояс. В руке она держала что-то вроде хлыста с короткой рукояткой.
Мою русскую речь девушка слушала, видимо, с большим вниманием, но, не понимая ее, оставалась безучастной к просьбам. Как обычно в таких случаях, в помощь словам пришлось применить жесты.
Помнится, тогда у меня была самая доброжелательная улыбка и никаких задних мыслей. Я подошел к девушке вплотную, похлопал ее по бедру и показал ей в сторону аэродрома, думая, что она поймет мое требование в прямом смысле — угнать лошадей, но в тот же миг почувствовал удар вдоль спины такой силы, от которого на мгновение даже зажмурился, а когда открыл глаза, табун, вздымая копытами пыль, вихрем летел по степи.
Хорошо, что в тот день был только один мой вылет на фронт. До вечера я пролежал под крылом самолета, осторожно переворачиваясь то на левый, то на правый бок, со злостью вспоминая разную болтовню тех, кто еще раньше служил в Монголии и плел разные небылицы о том, будто взаимоотношения между мужчиной и женщиной строятся в Монголии проще, чем у нас. Потом, значительно позже, в беседе с монгольскими офицерами в нашем штабе я рассказал эту историю. Уточнив у меня дату, место и еще несколько деталей злополучной встречи, монголы вдруг дружно рассмеялись. Оказывается, та девушка, по всем приметам, была дочерью одного из командиров подразделения монгольской кавалерийской дивизии. Как раз в это время она гнала табун лошадей на пополнение боевых частей фронта.
С двадцать четвертого по двадцать восьмое июня на земле все еще было сравнительно тихо, но в воздухе шли беспрерывные ожесточенные бои. Нам приходилось ежедневно по три, по четыре раза вылетать на отражение японских налетов. Замысел японцев был ясен — нас хотели подавить на собственных аэродромах. Но странное дело, противник каждый раз нес большие потери, не достигая при этом цели, и все-таки не отказывался от принятой им тактики. Невольно возникала мысль, что японское авиационное командование упрямо действовало по шаблону, явно не в свою пользу, пренебрегая условиями, сложившимися на территории Монгольской Народной Республики.
Комкор Смушкевич отлично понял, что прилегающие к фронтовой полосе обширные степи надо использовать для максимального рассредоточения самолетов так, чтобы вблизи линии фронта не оставить никаких крупных целей для японской бомбардировочной авиации.
У противника оставалась одна возможность: действовать по точечным целям. Но даже при условии одновременного налета на несколько наших полевых точек японцев почти сразу же накрывали сверху наши истребители, успевшие взлететь с соседних точек.
Чтобы легче было представить всю сложность действий с воздуха по нашим аэродромам, приведу несколько данных: вдоль реки Халхин-Гол на сто сорок километров по фронту и до ста десяти километров в глубину мы имели двадцать восемь действующих аэродромных точек и четырнадцать запасных. На каждой действующей точке размещалось в среднем не более пятнадцати самолетов, причем самолеты стояли один от другого не ближе ста метров и могли взлетать по тревоге одновременно в разных направлениях.
Настойчивые попытки японцев нанести нашей авиации удар на аэродромах, как видно, объяснялись тем, что как раз в эти дни японское командование заканчивало сосредоточение крупных сил в непосредственной близости от государственной границы, в районе озера Яньху, готовясь к вторжению в Монголию, на этот раз уже в больших масштабах.
После совещания у Смушкевича мои друзья и я искали случая сойтись в бою с одним из тех самураев, которые так ловко маневрируют на малых высотах. Очередная «свалка» произошла над устьем речки Хайластын-Гол. Японцы облепили нашу эскадрилью со всех сторон. Надо было продержаться две-три минуты, и придет помощь. Начиналось всегда с малого, а потом клубок воздушного боя нарастал точно снежный ком. Возможность перевести дух нам дала эскадрилья Жердева, которую на сей раз привел комиссар Александр Матвеев. Его звено с ходу накрепко зажало двух японцев. Что было потом, мне проследить не удалось, но Матвеев, начав атаку, обычно заканчивал ее успешно.
Мне тоже подвернулся удобный случай: ниже метров на сто оказался самолет с большими оранжевыми кругами на крыльях, но, хотя преимущество было на моей стороне, атаковать его не пришлось. Прямо на меня, как говорят, в лоб, шел другой японец. Мы разошлись, не открывая огня. В таких случаях для повторной атаки применим только один маневр — разворот на сто восемьдесят градусов с минимальной затратой времени и максимальным набором высоты. По моим расчетам, японец должен был выполнить именно этот маневр — кто из нас лучше его выполнит, тот и победит.
Однако все произошло по-другому. Я еще не закончил разворота, а рядом с моим крылом протянулись пулеметные трассы противника (их было хорошо видно, каждая трассирующая японская пуля оставляла тонкий дымный след). В первое мгновенье я подумал, что за хвостом моего самолета еще один японец, но, оглянувшись, увидел нечто необычное: японский самолет, с которым мне пришлось разойтись на встречных курсах, «лежал на спине» и вел по мне огонь из положения вверх колесами. Все стало ясно. Японец пилотировал отлично. Он выполнил полупетлю и рассчитывал на свой точный прицельный огонь, но в результате потерял и скорость и высоту. И все-таки надо признать, что рисковал он обоснованно: если б он взял чуть-чуть левее, его пули могли поразить мой самолет.
Неудача поставила японца в невыгодное положение. Теперь ему надо было как-то оторваться от меня, и он решил перевести самолет в отвесное пикирование с полными оборотами мотора. Я продолжал преследовать его. Скорость приближалась к максимально допустимой, еще быстрее приближалась земля. Ловить в прицел противника невозможно, все внимание поглощала земля. Секунда, две, три — пора! Уменьшаю угол пикирования и немного отворачиваю в сторону, чтобы не упустить из поля зрения вражеский самолет. Но японец все еще медлил с выходом из пикирования. Это было похоже на игру со смертью. И вдруг у самой земли он сумел выхватить машину и перевести ее в горизонтальный полет. Вот это номер! Если бы я продолжал преследование японца еще две или три секунды с тем же углом пикирования — быть бы мне в земле! Но теперь уже он не мог уйти от меня.
И две мои пулеметные очереди стали развязкой нашего поединка.
Теперь мне стало ясно, при каких обстоятельствах погибали наши молодые летчики. В порыве азарта, в погоне за врагом они забывали простую истину: у каждого самолета есть свой предел высоты вывода из пикирования, перешагнешь этот предел — и катастрофа неминуема.
Не только я, но и Коробков, Николаев и Герасимов столкнулись в этом бою с таким же маневром противника. Все наши наблюдения и выводы в тот же день были доведены до каждого молодого летчика.
Вечером в наш лагерь приехал с командного наблюдательного пункта полковник Иван Алексеевич Лакеев. Тяжелая миссия досталась ему в Монголии. Как только начались крупные воздушные бои, представителю авиации пришлось выехать на Хамар-Дабу, где находился КП наземных войск. Вряд ли кто из нас сам изъявил бы желание быть под боком у такого строгого командующего, как Жуков. Чего только стоило выдерживать вопросы многих наземных начальников рангом ниже Жукова: «Где наши самолеты, почему их нет в воздухе?»
А тем временем в небе ведут бои десятки самолетов, но их надо уметь видеть. Правда, у Лакеева была маленькая отдушина: его самолет стоял тут же, поблизости от КП, и он частенько ухитрялся в трудные моменты разговоров взлететь и принимать участие в воздушном бою.
Однако главной его заботой была координация действий авиационных групп в воздухе. При отсутствии радиостанций наведения выполнять эту задачу было чрезвычайно трудно. Взять хотя бы, к примеру, недавний случай, который принес опять же Лакееву и никому другому неожиданные и незаслуженные упреки. Кажется, в этот же вечер я спросил, что за шарик висел сегодня над территорией противника. Лакеев посмотрел на меня с удивлением и обратился ко всем летчикам:
— Вот полюбуйтесь на него! Шарик видел, а не поинтересовался, что же это такое. А меня комкор Жуков второй день спрашивает: «Почему до сих пор японская колбаса болтается в воздухе, почему ваши летчики не сожгут ее»?
Оказывается, японцам довольно точно удавалось корректировать огонь своей артиллерии с помощью аэростата минимального объема, а когда в воздухе появлялись наши самолеты, наблюдатели быстро опускали его вниз с помощью автолебедки и тщательно маскировали.
Лакеев сообщил, что меры уже приняты, к наблюдательному пункту у горы Хамар-Дабы подсажена дежурная эскадрилья, которая будет использована против появления воздушного противника. Кстати, на другой же день одним из этих самолетов японский аэростат был уничтожен.
Лакеев приехал к нам в лагерь провести разбор последних воздушных боев, проинструктировать нас, как будет применяться для связи сигнальное полотнище на горе Хамар-Дабе, и заодно выяснить, при каких обстоятельствах над нашей точкой молодой летчик Иван Красноюрченко подбил свой же бомбардировщик СБ.
«Чайки» атакуют…
На рассвете третьего июля дежурному по лагерю не пришлось будить нас. Ветер с Халхин-Гола уже ночью доносил глухое уханье взрывов. А с четырех часов утра в воздухе стоял беспрерывный гул моторов. Эскадрильи бомбардировщиков СБ одна за другой тянулись к границе. Истребители на всех точках получили приказ быть в готовности номер один.
Японо-маньчжурские войска начали наступление, форсировав реку в нескольких местах. Возвышенность Баин-Цаган стала местом жестокого побоища и была похожа с воздуха на огнедышащий вулкан. Горели десятки танков и броневиков, артиллерийские снаряды и авиабомбы вздымали фонтаны земли, тут же взрывались падающие самолеты. Казалось, что там, внизу, не осталось ни одной живой души. Сравнивая положение красноармейцев и цириков с нашим, я считал, что они могут позавидовать нам. Но бойцы, глядя на нас, летчиков, с земли, оказывается, были совсем другого мнения. Когда потом уже, после Баин-Цагана, я был на передовой и заговорил на эту тему с бойцами, один из красноармейцев, дымя огромной косушкой, завернутой из японской листовки, сказал:
— Пропади она пропадом ваша летчиская жизнь (так и сказал «летчиская»), мы к земле прижимаемся, а вам и прислониться не к чему — горите, падаете, вас и похоронить-то путем нельзя. Не соберешь — где рука, где нога, одно поминание!
Что ж, может, и верно. На войне каждый привык к своему делу.
Сражение за Баин-Цаган шло трое суток.
Большое мужество проявили в эти дни цирики Восьмой монгольской кавалерийской дивизии, наносившие глубокие рейдовые удары во фланг противника. Нам с воздуха довелось видеть их действия. Наши танкисты с огромным трудом преодолевали глубокие увалы и сыпучие песчаные скаты. Бомбардировщики СБ работали, как хорошо отлаженный конвейер. Контрнаступление монголо-советских войск закончилось разгромом японцев. Они оставили на Баин-Цагане всю боевую технику и вынуждены были отвести остатки своих солдат на исходные рубежи.
Шестого или седьмого июля я получил распоряжение из нашего штаба сдать самолеты И-16 в эскадрилью Жердева, принять в сводную группу еще несколько летчиков и подготовиться к отправке на станцию, куда прибыла первая партия — двадцать самолетов И-153. Командиром группы был назначен Герой Советского Союза Грицевец, а я его заместителем. Грицевец пока остался в Монголии, а всех нас майор Грачев погрузил на «Дуглас» и через два с половиной часа высадил на аэродроме.
За три дня пребывания на родной земле мне, Александру Николаеву и Леониду Орлову посчастливилось побыть несколько часов в городе Чите. Комиссар эскадрильи Жердева Матвеев дал нам список с перечнем всего, что нужно было купить для его летчиков. Когда я показал Грачеву этот «документ», Виктор усмехнулся и сказал:
— Да, братцы, задание тяжелое, но надо выполнить, без этого возвращаться домой нельзя. Придется вам заглянуть в Читу.
День выпал воскресный, вечером в городском парке играл духовой оркестр. Тенистые аллеи были заполнены отдыхающими людьми. На танцплощадке парочки мерно покачивались в ритме модного в то время танго «Утомленное солнце». Еще совсем недавно и мы так жили по воскресеньям. Наверно, поэтому, когда мы гуляли по читинскому парку, нам все так нравилось: нравилось, как танцуют, нравился духовой оркестр, даже интересно было смотреть, как мальчишки облизывают мороженое.
Несколько часов пребывания в Чите прошли как сон, а утром под крылом самолета снова плыли теперь уже знакомые степи, вал Чингисхана и серебристая река Керулен.
С нами в Монголию летел еще один товарищ, летчик-испытатель Алексей Давыдов. Он должен был облетать после сборки каждый самолет, но на это ушло бы слишком много времени. Мы сами облетали все машины и предложили испытателю вернуться в Москву. Но Давыдов категорически отказался, у него были свои планы, которые он пока что держал от нас в секрете.
Виктор Грачев привез на своем «Дугласе» заводскую техническую команду для оказания помощи при освоении новой материальной части, и это оказалось очень кстати. У самолетов И-153 нами был выявлен серьезный производственный дефект — нарушение синхронности работы пулеметов. Двое суток, днем и ночью, технический состав под руководством инженера Карева приводил в порядок систему управления пулеметами.
Наконец все было отлажено и можно было начать испытание новых самолетов уже в боевых условиях. Но неожиданно для нас комкор Смушкевич дал строгое указание — до особого распоряжения на самолетах И-153 государственную границу не пересекать. Мы почувствовали, что сам Смушкевич в душе не одобряет этого решения, но ничего не поделаешь — оно пришло из Москвы! Видимо, там беспокоились, как бы новый самолет не попал в руки японцев. Приказ есть приказ, но все-таки нам неприятно было находиться среди остальных летчиков в положении «привилегированных», тем более что после боев за Баин-Цаган наша авиация устремилась на подавление противника и сражалась над территорией Маньчжурии.
Когда комиссар Матвеев услышал, что мы пока будем летать только над территорией Монголии, он даже присвистнул от удивления:
— Вот оно что, а мы-то думали — дадим вместе с вами перцу…
Николаев прервал его:
— Ничего, комиссар, вы поджимайте в бою японцев в нашу сторону, и все будет в порядке.
Саша Матвеев со зла даже швырнул недокуренную папиросу:
— Я тебе кто — егерь или загонщик? Валяй со своей тактикой в лес, кабанов стрелять!
Только Сергей Грицевец, командир нашей группы, был спокоен и в самом накале беседы сказал:
— Ничего, ребята, не волнуйтесь, завтра в бою разберемся с этим вопросом.
После провала своего наступления у Баин-Цагана японцы пополнили потери и, перегруппировав части, решили отбросить монголо-советские войска с плацдарма на восточном берегу Халхин-Гола. Основная тяжесть боев пришлась на наш 149-й стрелковый полк, который закрепился на одной из безымянных сопок. Несколько дней бои шли в расположении этого полка. Бойцы удержали сопку, но потеряли своего командира. Майору Ремизову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а сопка эта и поныне носит его имя.
В эти дни состоялся наш первый вылет к линии фронта на самолетах И-153 («Чайка»). Машина была очень маневренной, с убирающимися шасси, высотный двухступенчатый мотор обеспечивал быстрый набор высоты, а четыре скорострельных пулемета ШКАС, стрелявших через воздушный винт, были мощным оружием.
Смушкевич дал разрешение на первый пробный вылет. Решено было вылететь не всей группой, а одной девяткой. Грицевец шел ведущим, я и Коробков пристроились к нему. Два других звена возглавили Николай Викторов и Александр Николаев, за ними летели: Орлов, Писанко, Смоляков и Акулов.
До линии фронта мы успели набрать три тысячи метров. На горе Хамар-Даба лежало белое стреловидное полотнище, указывавшее направление, где в воздухе был замечен противник. Грицевец развернул девятку по курсу вдоль границы. В районе озера Узур-Нур появилась группа японских самолетов И-97. Они заметили нас на большом расстоянии и сразу пошли на сближение.
Мы были уверены, что японцы приняли «Чайки» за самолеты И-15-бис, устаревшей конструкции, с которыми противник охотно вступал в бой и одерживал победы. Спутать эти самолеты в воздухе было немудрено. Тот и другой относились к типу бипланов, только у «Чайки» убирались шасси, но издали эту деталь трудно заметить.
Грицевец развернул эскадрилью назад, на монгольскую территорию. Мы недоумевали. Неужели он решил не принимать боя? Но, оказалось, это был ложный маневр, который только еще больше ввел в заблуждение противника. Когда между нами и японцами осталось не больше двух километров, Сергей подал команду «к бою». Первая атака произошла на встречных курсах. Только теперь японцы поняли, что произошла ошибка, но поздно! За несколько минут они потеряли четыре самолета и бросились наутек.
Вот тут-то нам стало страшно обидно — преследовать нельзя, под нами государственная граница! Виктор все-таки перемахнул ее, дал вдогонку несколько очередей, но опомнился, и быстро вернулся обратно.
Правда, преследование все-таки состоялось. Комиссар Матвеев успел вывести к озеру Узур-Нур два звена самолетов И-16 и погнался за японцами.
Спустя несколько дней японская газета «Иомиури», публикуя сводку событий у Халхин-Гола, отметила, что у «красных» появился новый тип истребителей. Нашу «Чайку» они назвали самолетом И-17. Информаторы из штаба Квантунской армии и на сей раз не обошлись без традиционной для них лжи: они сообщили, что доблестные японские летчики при первой же встрече сбили одиннадцать новых советских самолетов. Нас же было всего девять, и все мы вернулись на свой аэродром.
Впрочем, мы уже ничему не удивлялись. Приведу в связи с этим один факт, забежав на несколько недель вперед. В августовские дни, когда наша авиация бесспорно господствовала в воздухе, из одного воздушного боя не вернулся Григорий Кравченко. Из нашего штаба начались телефонные звонки по всем двадцати восьми аэродромным точкам с одним и тем же вопросом: не произвел ли посадку Кравченко? Но его нигде не было. Запросы шли и шли до позднего часа. Трудно было представить себе, что Григорий сбит в воздушном бою. Не хотелось верить в это и потому, что Кравченко имел большой боевой опыт, и потому, что он уже не раз выходил из самых трудных положений. 29 апреля 1938 года многие уже считали, что он погиб в воздушном бою в районе Ханькоу, а оказалось, что Григорий благополучно приземлился на своем подбитом самолете на маленьком песчаном островке на реке Янцзы. Хотелось верить, что и сейчас все обойдется благополучно.
Прошла ночь. Утром с переднего края противника заговорили громкоговорители: советский летчик Кравченко добровольно перелетел к японцам и призывает всех последовать его примеру! Передачи шли на чистом русском языке, видимо, их вели белогвардейцы. В полдень японские самолеты сбросили листовки, в которых снова говорилось о добровольном перелете Кравченко.
Мы, его близкие друзья, тяжело переживали потерю старого товарища, перебирали все варианты и каждый раз приходили к одному и тому же, наиболее вероятному выводу: видимо, Григорий был сбит, опознан японцами, а дальше все шло логично — противник, пользуясь методом ложной информации, пытается деморализовать красноармейцев на переднем крае.
Непонятным оставалось одно: как могло случиться, что никто не видел, где и при каких обстоятельствах сбит Кравченко. Только один летчик утверждал, что он видел, как Кравченко резко пошел в набор высоты, преследуя двухмоторный японский бомбардировщик, но это было над монгольской территорией.
На поиск один за другим вылетали самолеты-разведчики и каждый раз возвращались без результата. И вдруг на третьи сутки Прянишников сообщил по телефону:
— Вернулся!
На рассвете еле державшийся на ногах Кравченко кое-как добрел до одного из аэродромов. Оказывается, в день своего исчезновения он действительно увязался за японским двухмоторным разведчиком, почти нагнал его, но, израсходовав горючее, вынужден был произвести посадку далеко в степи.
Днем, в сорокадвухградусную жару под палящим солнцем и без капли воды, идти было невозможно, Кравченко отдыхал. Ночью наступала прохлада и он шел.
Осталось выяснить, каким же образом японцы узнали об исчезновении Кравченко. Очевидно, им где-то удалось подключиться к телефонным проводам, связывающим аэродромные точки со штабом. Никак иначе они не могли бы узнать, что Кравченко не вернулся на аэродром.
В последних числах июля на земле наступило затишье. Передний край обороны противника обозначался по южному краю Больших песков, по скатам высоты Зеленая и сопки Песчаная, затем пересекал речку Хайластын-Гол и уходил на север.
К этому времени японцы сосредоточили в районе боевых действий четыреста пятьдесят самолетов. Наш авиационный парк располагал не меньшим количеством боевых машин. Воздушные бои продолжались с неослабевающим напряжением.
Сергей Грицевец добился у командования разрешения принимать участие в боях на «Чайках» не только над монгольской территорией, но и за ее пределами. Новый самолет И-153 оказался неплохой машиной, особенно во взаимодействии с самолетами И-16. Грицевец сумел сплотить нашу летавшую на «Чайках» группу, как я уже говорил, состоящую из опытных бойцов. Старшие лейтенанты, капитаны и майоры летали в ней в качестве рядовых летчиков. И хотя каждый из них мог быть ведущим, никаких недоразумений не возникало. Всех объединяла давняя боевая дружба.
Грицевец всем нам очень нравился. Предельно откровенный, всегда с открытой душой, он умел поддержать и подбодрить любого человека в трудную для него минуту. Когда Николай Герасимов брал в руки баян, Грицевец любил ему подтягивать. Я иногда слышал, как он, лежа под крылом самолета, тихонько напевал «Гренаду» Светлова. Но пел ее на собственный мотив и в собственном варианте:
Гренада, Гренада, Гренада моя, Из дальнего края — монгольских степей Прими наш привет, Гренада моя…Отличительной чертой его характера была смелость, сочетавшаяся с мгновенной находчивостью. Всех нас без исключения поразил его беспримерный поступок, когда в одном из воздушных боев Грицевец под огнем приземлился у противника на прифронтовой полосе и чудом вывез оттуда спустившегося на парашюте командира полка майора Забалуева. Не буду касаться разных деталей этого случая, о нем в свое время много писали, но что побудило Сергея Грицевца пойти почти на верную гибель? Слава? Нет. Он имел ее. За подвиги в Испании он уже был удостоен звания Героя Советского Союза — самой высшей награды Родины. Принять благородное, но крайне рискованное решение побудила его боевая дружба, только она одна!
Как-то в перерыве между вылетами я услышал от него совершенно неожиданную оценку событий на Халхин-Голе. Он сказал, что эта война идет в очень благоприятных условиях и его как бойца вполне устраивает. Такое, на первый взгляд, странное рассуждение о войне озадачило меня, но Грицевец объяснил:
— А ты вспомни Испанию! Там рушились города, горели деревни, гибли дети и женщины, а здесь, в Монголии? Мирное население из зоны боев давно откочевало. Здесь гибнут только те, кто сражается на земле и в воздухе. Пусть уж будет лучше так!
Грицевец любил людей и делал для них все, что было в его силах. Не помню сейчас, кто мне это рассказывал. В Испании Сергей вынес из пылающего дома после бомбежки двух детей. А теперь здесь, в Монголии, выхватил из объятий смерти товарища. Кстати, в этом же воздушном бою участвовали многие летчики, не менее опытные и смелые, чем он, но из всех решился на этот подвиг именно Сергей Грицевец, не думая и не догадываясь, что станет за него первым в стране дважды Героем Советского Союза.
В тот раз, когда Сергей делился со мной своими мыслями о войне, к нам подошел летчик-испытатель Алексей Давыдов. Он с первого дня пребывания в Монголии все ходил за всеми нами по пятам с просьбой, чтобы ему разрешили летать на боевые задания. Шел на все уловки, обещал по возвращении из Монголии выставить всем нам шикарный ужин в Москве!
Наконец Грицевец добился разрешения. Но в первом же бою Давыдов чуть не стал жертвой японцев. Испытывать самолеты — это одно дело, а воевать — другое. Хорошо, что в критический момент рядом с ним оказались Викторов, Смоляков и Михаил Акулов. Они выручили Давыдова, а он с бесчисленным количеством пробоин, но с сияющей улыбкой летел обратно как победитель в нашем общем строю. А потом все пришло в норму. Алеша обтерся и стал отличным воздушным бойцом.
В первых числах августа несколько дней подряд стояла страшная жара, хорошо хоть в это время появились небольшие перерывы в бесконечных воздушных боях. Я уже говорил, что наша одежда от пота и солнца быстро пришла в негодность. Кое-кто пытался постирать гимнастерку в ближайшем болоте, но в этих солончаках даже мыло не мылилось. Резервное обмундирование и белье были только в полевом госпитале, и то в небольшом количестве. Мы попросили разрешения у Смушкевича для тех из нас, кто особенно обносился, временно надеть штатскую одежду. В городе, в небольшом магазинчике можно было купить рубашку и брюки. Смушкевич разрешил.
Сейчас многим, читающим эти строки, такие подробности покажутся почти невероятными, но в те дни столько всего нужно было фронту! И снаряды, и бомбы, и бензин, и смазочные материалы приходилось доставлять чуть не за тысячу километров. Тут уж не до запасного обмундирования!
И вот многие из нашей группы ходят в штатских рубашках. Комиссар Матвеев, глядя на это, начинал разговоры с нами не иначе как: «Товарищ аристократ, соблаговолите разрешить обратиться к вам?»
А через два дня на наш аэродром нагрянул сам начальник Политуправления Красной Армии товарищ Мехлис. Накануне мы отправили Грицевца в Читу, в госпиталь на консультацию. Докладывал Мехлису о боеготовности группы я, и в душе меня разбирал страх. Мне казалось, что в этот момент, глядя на мою внешность, Мехлис, наверное, думал: «Неужели пришел конец всей политработе в Красной Армии»?
Однако, разобравшись, в чем дело, Мехлис отдал распоряжение немедленно послать в Читу транспортный самолет за обмундированием и душевой установкой, и спустя несколько дней мы надели добротные красноармейские гимнастерки и брюки с наколенниками.
В последних числах июля советско-монгольские войска приступили к тщательной подготовке наступления, а на рассвете двадцатого августа более двухсот бомбардировщиков СБ начали методично обрабатывать передний край противника. Японские зенитные батареи были успешно подавлены нашей артиллерией. В повторном вылете бомбардировщиков приняли участие истребители, организовав плотное прикрытие. Часть СБ на сей раз бомбила не только войска противника, но и основные вражеские аэродромы. И все-таки японцам удалось поднять в воздух большую часть своих истребителей. Воздушные бои завязались одновременно в нескольких местах. Преимущество оказалось на нашей стороне, но непредвиденная опасность стерегла нас на собственных аэродромах.
Перед вылетом рано утром с Хингана потянул холодный влажный воздух. У земли появилась белесая дымка, а когда мы взлетели и взяли курс на Хамар-Дабу, я оглянулся и невольно вздрогнул. Вслед за нами шел огромный белый вал. Солнце мгновенно превратило влажный воздух в сплошной туман. В этот раз я вел на фронт две девятки «Чаек» и, пожалуй, первый раз в жизни думал не о том, как сложится бой, а о том, какие пространства будут прикрыты этим туманом и где нам придется садиться после возвращения с боевого задания. Наши бомбардировщики отбомбились и ушли на свои базы, а мы еще вынуждены были продолжать бой с японскими истребителями. Оставалось одно: быстрее оторваться и уходить на свою территорию. Это удалось сделать, но туман уже подходил к берегам Халхин-Гола. Мы взяли курс на свой аэродром. Ни впереди, ни слева, ни справа — ни одного открытого клочка земли. Кругом сплошное белое море до высоты двухсот метров.
Чего я только не передумал за эти страшные минуты. Ведущий отвечает за своих ведомых до самой посадки. В таком положении оказались не только мы на «Чайках». Домой возвращалось еще несколько десятков самолетов И-16, у которых аэродромы тоже были закрыты туманом.
До нашей посадочной точки оставалось, по расчету времени, несколько минут полета, а впереди — никаких проблесков. Надо садиться. Но как? В то время над проблемой слепой посадки ломали голову лучшие авиационные теоретики, но никто еще не мог разрешить эту задачу.
Даю команду разомкнуть строй самолетов по фронту и производить посадку прямо перед собой. С тяжелым предчувствием наблюдаю, как самолеты, уходя на посадку, один за другим тонут в тумане. Из головы не выходит мысль, что в эти минуты кому-то суждено погибнуть, разбившись о землю, так и не увидев ее.
Сбавляю сам обороты мотора, перевожу самолет на самый пологий угол планирования и ухожу в белую бездну. Верю: если увижу землю хотя бы в трех, четырех метрах от себя, сумею посадить самолет. Ужасно долго тянутся секунды. Земля! Короткое движение ручкой управления — и самолет приземлился. По лицу течет холодный пот.
Самолет остановился. Рулить некуда. Несколько минут я сидел без движения, не зная, что делать. Мотор работал на малых оборотах. Вдруг в тумане появились два желтых пятна. Оказалось, это зажженные фары. Кто-то подъехал на полуторке и окликнул:
— Кто в самолете?
Я ответил.
— Рулите, товарищ командир, за мной, вы в ста метрах от стоянки.
А через десять-пятнадцать минут туман как по волшебству исчез, ушел в направлении Халхин-Гола, и брызнули лучи солнца так, словно ничего и не было.
Все «Чайки», кроме одной, целые, стояли в разных местах в районе аэродрома. Даже не верилось глазам!
Не хватало одного самолета. Не вернулся летчик Михаил Акулов. Предположения были мрачные. Особенно переживал Николай Викторов. Он называл Акулова «землячок», потому что до Монголии служил вместе с ним в авиабригаде.
В течение нескольких часов по всем аэродромам трезвонили телефоны — искали нескольких летчиков. Уже через час стало известно, что в тумане разбились три летчика и произошло четыре аварии. На точках у бомбардировщиков тумана не было, но долететь до них истребители не могли, бомбардировщики базировались значительно дальше от линии фронта, а бензин был на исходе.
Прошло уже два часа после посадки. На наши телефонные звонки с других точек отвечали: «Акулова нет». И вдруг кто-то крикнул:
— «Чайка» летит!
Действительно, прямо на аэродром летел самолет. Наша «Чайка»! Миша Акулов сел и зарулил на свою стоянку.
Наряду с трагическими происшествиями в авиации бывают и анекдотические случаи, которые летчики потом вспоминают годами. Только что все переживали исчезновение товарища, разговоры шли почти «за упокой», но когда Миша Акулов рассказал, как все произошло, мы не могли удержаться от смеха.
Акулов пошел на вынужденную раньше нас. Приземлился благополучно, но в конце пробега одно колесо попало в нору тарбагана. Самолет встал на нос. Когда туман прошел, Акулов увидел в ста метрах от себя грузовик с монгольскими цириками. Они тоже остановились, потеряв в тумане ориентировку. Акулов объяснил цирикам жестами, что самолет надо поставить в нормальное положение. Это было сделано за несколько минут, но взлететь оказалось невозможно: консоли воздушного винта от соприкосновения с землей немного изогнулись.
В мирное время это происшествие повлекло бы за собой замену винта и тщательную проверку мотора, но, зная о том, что на аэродроме ждут и переживают, Акулов решил упростить процесс ремонта. В машине у цириков нашлась кувалда, с помощью ее Миша выпрямил консоли винта, взлетел и благополучно вернулся.
К вечеру того дня к нам прилетел Николай Герасимов. Некоторое время для пользы общего дела он был прикомандирован к полку майора Забалуева, все время находился там, передавал опыт молодым летчикам, а иногда заглядывал к нам. В нашей группе у него было много друзей. Вместе с Грицевцом, Коробковым, Смоляковым он сражался в Испании, там же стал Героем Советского Союза.
Моя большая дружба с Герасимовым началась после одного очень тяжелого воздушного боя, в котором нам пришлось быть вместе. Пожалуй, тот бой был самым необычным из всех в моей практике.
Первыми заметили противника мой однофамилец Андрей Смирнов и Смоляков, но в бой вступать было невыгодно, самураи имели небольшое преимущество в высоте. Мы готовились к отражению атаки, однако японцы не спешили с ней, а продолжали набирать высоту. То же самое пришлось делать нам. Так началось своеобразное соревнование, кто раньше займет исходное положение для начала атаки.
Наконец нам удалось поравняться с самураями. Шесть с половиной тысяч метров по прибору плюс семьсот метров превышения над уровнем моря — итого семь тысяч двести! На такой высоте до этого не было ни одного воздушного боя. Кислородное голодание уже несколько минут давало себя знать. Появилось легкое головокружение, от минусовой температуры застыло все тело, разряженность воздуха заметно ограничила маневренность самолета. Дальнейший подъем стал бессмысленным. Нельзя было терять ни одной лишней секунды.
Первая атака получилась удачной. Кому-то из наших удалось дать хорошую прицельную очередь. Японский самолет загорелся, летчик был вынужден воспользоваться парашютом, и тут же к его раскрытому куполу устремились два других самурая. Кажется, потерпевший был их командиром. Это обстоятельство сразу облегчило нашу задачу, к тому же Герасимов вскоре сбил еще одного, но сам вдруг стал проваливаться вниз. Меня это обеспокоило. Не тот человек Николай, чтобы без причин уходить из боя, а его «Чайка» продолжала спиралью терять высоту. Я поспешил пристроиться к нему вплотную. Герасимов сидел в кабине как-то неуклюже, его голова склонилась набок. Неужели ранен? Хотелось крикнуть, может быть, очнется, но разве услышит! И тут неожиданно пришла мысль: ведь выстрелы хорошо слышны даже при работающем моторе. Я подстроился еще ближе и дал длинную очередь из всех четырех пулеметов. Николай поднял голову и вывел самолет в нормальное положение.
Я смотрел на Герасимова, все еще не понимая, что произошло, и ждал, что он будет делать дальше. Николай осмотрелся кругом в надежде увидеть остальных товарищей, но возвращаться к месту боя не было смысла, мы потеряли слишком много высоты.
На пути к аэродрому в спокойной обстановке причина происшествия стала понемногу проясняться. Николай чувствовал себя бодро, даже улыбнулся. Просто сказалось кислородное голодание, в результате чего произошла временная потеря сознания.
Герасимов произвел посадку первым. Прислонившись к фюзеляжу самолета, он медленно расчесывал волосы, держа в другой руке маленькое зеркальце, а когда я подошел к нему, он, не глядя на меня, вдруг произнес слова, которые я не ожидал услышать:
— Что же, дружище, не помогал мне в трудные минуты?
— Что мог, то сделал, — ответил я, стараясь сдержать обиду.
Герасимов быстро оглянулся в мою сторону и протянул мне круглое зеркальце.
— Извини, пожалуйста, я обращался не к тебе, а к моему второму пилоту.
На обратной стороне зеркала была наклеена фотография улыбающегося мальчугана.
— Сын, — пояснил Герасимов. — В Испании и здесь летаем вместе.
Положив зеркало в нагрудный карман гимнастерки, Николай обнял меня и задумчиво сказал:
— Спасибо. Я услышал твои пулеметы…
Спустя много лет на встрече ветеранов-летчиков в Военно-воздушной академии ко мне подошел старший лейтенант. Он назвал меня по имени и отчеству и передал привет от своей матери. Я, конечно, не узнал в этом статном молодом летчике-испытателе того самого мальчугана, фотографию которого видел в Монголии. Николая Герасимова уже не было в живых, но его желание исполнилось: сын стал летать самостоятельно и, кажется, тоже не расставался в полетах с фотографией отца.
Домой с победой
Двадцать второго августа подвижные силы наших наземных войск прорвались в район озера Узур-Нур. При поддержке бомбардировщиков и истребителей танкисты с ходу атаковали японские склады с бензином и боеприпасами. К небу поднялись огромные столбы черного дыма.
Нашим успехам в Монголии сопутствовали хорошие вести с Родины. Я говорю — хорошие, потому что в то время нам, летчикам, трудно было разобраться в том, что заключенный двадцать третьего августа с Германией пакт о ненападении был всего лишь лицемерным ходом Гитлера. Однако уже в первых числах сентября фашистское нападение на Польшу поколебало у многих из нас уже возникшую было-веру в спокойное положение на наших западных границах. Невольно приходила мысль: может быть, между Германией и Японией существует тайный договор? Почему почти совпали и война, начатая немцами там, на Западе, и конфликт, затеянный японцами здесь, на Востоке?
Тем временем разработанный комкором Жуковым план разгрома японских оккупантов проводился в жизнь точно по календарю. Двадцать третьего августа советско-монгольские войска замкнули кольцо окружения, и начался разгром противника. Только за первые три дня нашего наступления японцы потеряли в воздушных боях семьдесят четыре самолета.
В эти дни в полку у Григория Кравченко пропал без вести летчик-испытатель, а здесь, на Халхин-Голе, — истребитель Алексей Филиппович Тамара. Погиб мой самый близкий товарищ Виктор Рахов.
С командного пункта на Хамар-Дабе увидели, как на небольшой высоте самолет И-16 перелетел Халхин-Гол и сразу пошел на вынужденную. Полковник Лакеев тут же поехал на «эмке» к самолету. В кабине И-16, в полубессознательном состоянии сидел тяжело раненный Рахов. Лакеев немедленно отправил его в госпиталь. Операция не помогла. Наутро Виктор Рахов скончался. Погиб он от случайной пули. Не было воздушного боя, не рвались зенитные снаряды, Рахов летел на малой высоте над противником, и вдруг всего лишь одна японская пуля, возможно, из солдатского карабина, пробила самолет снизу. Напрягая последние силы, Рахов все-таки сел, вырвал у смерти еще несколько часов. Думая о нем в те дни, я вспоминал городок, где мы три года вместе служили, вспоминал, как вместе участвовали в воздушных парадах над Красной площадью, сидели за одним столом в Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, на праздничных приемах. Виктор летал виртуозно. Однажды я предложил Анатолию Серову сделать полет всей нашей пятеркой, связав самолеты между собой тонкой бечевкой. Серов приказал раньше проверить этот вариант мне и Рахову вдвоем. И мы с Виктором выполнили этот полет, не порвав в воздухе шпагат, а потом такой же полет повторили всей пятеркой.
И вот на всем этом поставила точку одна случайная пуля…
К утру тридцать первого августа территория МНР была полностью очищена от японских оккупантов, но воздушные дуэли продолжались. Несмотря на полный разгром наземных войск генерала Комацубары, японцы не хотели признавать за нами господство в воздухе. В последних воздушных боях мы встретились с «камикадзе», летчиками-смертниками.
Я не могу подтвердить это какими-либо документами, но сам я уверен в этом, потому что не раз наблюдал атаки японцев, явно рассчитанные на столкновение самолетов в воздухе. И видел это не только я, но и многие мои товарищи. Мы стали осторожнее, а тех японцев, которые шли на таран, старались сбивать в первую очередь. И это нам удавалось.
В последних сентябрьских боях мы чуть не потеряли Александра Николаева. Вернувшись из боя, он садился последним, и вдруг там, где приземлялась его «Чайка», раздался скрежет железа и поднялось целое облако пыли. В нем на несколько секунд исчез самолет, а когда пыль рассеялась, мы увидели искореженную «Чайку», лежавшую вверх колесами. Когда мы подбежали к машине, Николаев, поцарапанный и весь в пыли, уже стоял на ногах, держась за помятый руль поворота. Все обошлось хорошо. Саша даже нашел в себе силы пошутить:
— У кого есть фотоаппарат? Щелкните на память о Монголии.
Причиной аварии оказалась перебитая пулеметной очередью стойка шасси.
Вскоре по предложению японцев начались переговоры о заключении мира. Командующий частями советских войск в МНР комкор Жуков пригласил человек двадцать летного состава из числа московской группы во главе со Смушкевичем к себе на командный пункт. На Хамар-Дабу мы приехали раньше намеченного времени, с расчетом посмотреть места сражений поблизости от нее. Самостоятельно бродить нам не разрешили — могли подорваться на минах, которые были повсюду. Шли за сопровождающим офицером. Я никогда не видел такой картины побоища — все время приходилось перешагивать через трупы. Особенно мне запомнился один убитый японский офицер, лежавший у выхода из норы, которую он вырыл себе в песчаном склоне сопки. Он лежал с зажатой в руке гранатой. Из верхнего кармана мундира на песок высыпались семейные фотографии. В песчаной стене его норы торчала масса конусообразных бумажных мундштуков от сигарет. Перед смертью офицер много курил.
Комкор Жуков пригласил нас в свой «кабинет» — довольно большое подземное помещение с надежным перекрытием. Георгий Константинович принял нас сердечно, угостил вкусными вещами и вином, не забыл поблагодарить за боевую работу, а под конец сообщил новость: всем присутствующим надлежало через два дня убыть в Москву.
Что бы это значило? Несмотря на поднятые японцами на земле белые флаги, вопреки всякой военной логике воздушные бои все еще продолжались, а нас вдруг в Москву? Раздумьям не было конца.
Может быть, наше правительство не верит в этот пакт, заключенный с фашистской Германией, может быть, опасность близка и нам нужно быть готовыми защищать свою страну там, на Западе? Ответ на все эти вопросы пришел гораздо позже — в сорок первом…
И снова в далекий путь на «Дугласах». В Улан-Баторе нас встретил Чойбалсан, и прямо на аэродроме вручил многим из нас ордена Красного Знамени Монгольской Народной Республики и подарки, а затем пригласил всех на обед.
Мы вылетели из Монголии в Москву двенадцатого сентября, а пятнадцатого японцы послали в налет на наши аэродромы сто двадцать истребителей. Это был их последний налет и последний воздушный бой, в котором самураи потеряли двадцать пять самолетов, а с нашей стороны погибло шесть летчиков.
В МНР спустя 30 лет. Тов. Цеденбал и Б. Смирнов.
Как раз в этот день наши «Дугласы» приземлились в Москве, на центральном аэродроме. И здесь, прямо на аэродроме, нам сказали, что на следующий день все прилетевшие должны явиться в Кремль.
Я думал, что там состоится совещание с участием наркома обороны, на котором подведут итоги авиационных действий на Халхин-Голе, а после этого все мы снова приступим к исполнению своих прежних служебных обязанностей. Однако вышло по-другому.
Сталин изъявил желание поговорить с несколькими из нас в своем кабинете. Смушкевич выделил из группы шесть или семь человек: Лакеева, Кравченко, Душкина, меня, Гусева и еще одного или двух, сейчас уже не помню кого.
Когда мы вошли в кабинет, Сталин поднялся из-за стола и, выйдя нам навстречу, поздоровался с каждым. Задав несколько вопросов о боях в Монголии и о нашем самочувствии, Сталин отдернул на стене штору, за которой висела огромная карта. Указав на дореволюционную границу России на западе, Сталин сказал, что Советское правительство приняло решение восстановить эти границы и каждому из нас придется принять участие в той операции по освобождению западных областей Белоруссии и Украины, которую в ближайшие дни надлежит выполнить частям Красной Армии.
Никто из нас в этот вечер не мог, конечно, предугадать, как сложатся события там, на польской границе, но мысль о том, что у нас при этом наступлении, может быть, даже начнется война с Германией, у меня, например, была. И не у меня одного. Мы потом делились друг с другом этими мыслями.
После беседы Сталин пригласил всех прибывших из Монголии на ужин в Кремлевский дворец, в Грановитую палату.
И когда я на следующий день улетал на запад, мне вспоминались последние слова, сказанные нам Сталиным у него в кабинете: «Прошу передать вашим матерям и женам мое извинение за то, что приходится посылать вас из огня да в полымя».
Примечания
1
Я сразу же буду называть в своих записках Иванова Панасом, хотя на самом деле он получил это прозвище позднее. Ниже будет рассказана история его нового имени.
(обратно)2
Амиго — друг.
(обратно)3
Рама — машина, распиливающая бревна.
(обратно)4
Цапка — инструмент для захвата бревна.
(обратно)

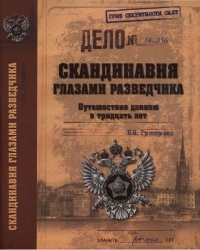
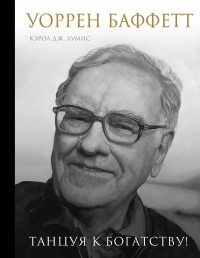

Комментарии к книге «От Мадрида до Халхин-Гола», Борис Александрович Смирнов
Всего 0 комментариев