Посвящается Ане и Никите
Я обыкновенная. Подвигов не совершала, громких титулов не имею. Собственно, моя обыкновенность была запрограммирована еще до рождения моей матерью — легендарной Наталией Сац, создательницей первого в мире театра для детей. В то время в дополнение к театру она организовала Школу эстетического воспитания для особо одаренных детей. Учились там в основном мальчишки, многие впридачу к гениальности обладали еще и несносными характерами. В какой-то момент юные гении со своими капризами и претензиями ей так надоели, что захотелось другого, прямо противоположного: девочку, причем самую обыкновенную. Такой я и получилась.
Однако люди, встретившиеся на жизненном пути, часто были неординарны, повороты судьбы резки и неожиданны. О самом ярком, высвеченном из прошлого прожектором памяти, мне и захотелось рассказать.
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
Мне 13 лет. Сегодня день моего рождения. Строго говоря, если следовать хронологии, это произошло 9 дней назад, 13 июня, но тогда не было денег, а старший брат Адька ушел со своим классом в какой-то поход, решили отметить знаменательное событие потом. И вот это потом наконец наступило.
Еще очень рано. В дачном поселке Отдых Казанского направления, где я провожу это лето, сонная тишина. Не поскрипывают отворяемые калитки, не брякают ведра возле колодца, у пристанционного Продмага, на крылечке которого я примостилась, не толпится народ.
Пусто и на платформе, только две собаки совершают традиционный ритуал обнюхивания, поочередно орошая столб с расписанием движения пригородных поездов. Ощущение тишины и покоя не нарушают бегущие мимо поезда: нескончаемые товарные, визжащие электрички...
Но вот мимо станции пролетает пассажирский поезд. Новенькие темно-зеленые вагоны, белоснежные, блестящие от крахмала занавески на окнах. Точно в такой вагон четыре года назад мы входили с братом, отправляясь на юг, к морю.
— А это правда, что вода в море такая соленая, что можно горло полоскать, если заболит? — спрашиваю провожающую нас бабушку.
— Нет уж, пожалуйста, пусть лучше не болит, — отвечает она, кладет мне на лоб руку, но смотрит не на меня — по сторонам, выискивая обещавшую прийти на вокзал маму.
— Вон она! — кричит первым заметивший ее Адька, и мы все трое смотрим, как она идет...
Она в чем-то голубом и желтом, вокзальная толпа расступается, образуя одной ей, яркой, стремительной, победной, предназначенную дорожку, и все громче слышится шепот узнавания, а какой-то парень уж подбежал к ней, прося автограф...
В то лето мама достала нам путевки в дом отдыха в Гаграх. Мы жили на втором этаже белоснежного коттеджа, а ласковое Черное море всем своим великолепием сверкало прямо под нашими окнами. Bnepвые мы жили одни без взрослых и впервые нам никто ничего не запрещал. Можно было сколько хочешь купаться и дочерна загорать, смотреть взрослые фильмы, объедаться черешней, росшей под окнами и носиться с гиканьем по дорожкам, изображая разбойников и дикарей. А однажды ночью, облачившись в казенные простыни и вставив огарок свечи в выдолбленную тыкву, мы предстали «привидениями» перед вышедшей полюбоваться лунным пейзажем старушкой-отдыхающей. Перепуганная чуть не до потери сознания, она пожаловалась на нас самому директору. Но, узнав о случившемся, директор громко расхохотался и тотчас стал рассказывать о проделках «этих сорванцов» отдыхающим и персоналу. Вообще у меня все время было ощущение, что мы просто осчастливили этот роскошный для избранных дом отдыха своим в нем пребыванием.
— Какая девочка... красавица... волосики, как пух, вся в мамочку свою распрекрасную. А мамочкин-то портрет опять в газете напечатали.
Конечно, я отлично понимала, что никакая я не красавица, что толстая сестра-xозяйка все врет, но ведь все равно приятно, когда тебя называют красавицей, даже если ты знаешь, что это ничем не прикрытая лесть. И всегдашнее подхалимство сестры-хозяйки добавляло еще какую-то каплю к моей счастливой жизни, уверенности в прочности и незыблемости этого счастья.
И вдруг однажды сестра-хозяйка не колыхнулась мне навстречу. Ее прозрачные глаза в студенистых веках были устремлены прямо на меня, но взгляд так холоден, что подумалось: она меня не узнала. Но тут сестра-хозяйка громко сказала дежурной:
—До чего распустили девчонку, опять полотенце измазала. Вот они какие дети у хваленых-то родителей, знаменитостей бывших...
Поведение сестры-хозяйки ошеломило. Особенно слово «бывших», которое явно относилось к моей маме...
***
«Жизнь — явление полосатое», — так назвала моя мама Наталия Ильинична Сац свою последнюю книгу. Черное и белое в ее жизни почти всегда сменялось внезапно, не затрудняясь оттенками и полутонами. Одна из самых трагических перемен наступила как раз в то время.
* * *
И все-таки в тот момент я не придала этому большого значения. Меня звало море. Оно в тот день было таким освежающим и прозрачным, такой маняще-нежной была морская вода, что, погрузившись в нее, я забыла обо всем и купалась до самого обеда.
В столовой официантка Вера, подавая борщ, сказала, что директор приказал нам с Адькой сразу после обеда идти к нему в контору. Меня как-то неприятно резануло это «приказал», да и Адриана, видно, тоже, потому что он пробурчал: «а директорский приказ нам совсем и не указ». Тем не менее после обеда мы тотчас отправились в контору. Не поднимая глаз, весь какой-то насупленный директор пробормотал, что есть причины, из-за которых мы должны сегодня же уехать, и протянул два билета на вечерний поезд.
— Какие причины? — опешил Адриан. — У нас путевки, еще 9 дней.
— Это все теперь недействительно. И по правилам, если хотите знать, дети без родителей у нас не могут жить, здесь не пионерский лагерь...
По мере того, как директор говорил, его голос менялся, теперь он звучал пронзительно и убежденно.
— Да, да, вы вон отдыхающую до смерти чуть не довели, хулиганы... Вас давно надо было выписать... — он почти вытолкнул нас из конторы.
Но все это было лишь прелюдией, прологом к тому, что произошло потом. На вокзале нас никто не встречал, да и не мог встречать, так как мы никому не сообщили о своем неожиданном возвращении. Звонить тоже почему-то не стали, входную дверь Адриан открыл своим ключом. Вошли и не узнали своей квартиры.
Большая дубовая вешалка ощерилась пиками гвоздей прямо на полу посреди коридора, словно ее одним махом вышибли из стены. Тут же рядом с ней валялся глупо улыбающийся Буратино, сжимая в деревянном кулачке волшебный золотой ключик, тот самый Буратино, которого маме подарили артисты в день премьеры «Золотого ключика» в ее, Центральном детском театре...
Двери всех трех комнат плотно закрыты. Адриан подошел было к маминой и даже взялся за ручку, но тут же отпрянул и прошептал: «Смотри!» Тонкая бечевка перекрывала дверную щель, на ней с двух сторон багровели сургучные нашлепки. Я сперва даже не поняла, что это такое и хотела отковырнуть кусочек сургуча, но Адька испуганно зашипел:
— Ты что! Это же печати! — и показал на выпуклые буквы «НКВД».
Такие же печати были и на двери в столовую и только на третьей, ведущей в детскую, их не было. Я ее толкнула — и она открылась...
Там, среди перевернутой мебели, разбросанной одежды (почему-то назойливо лез в глаза мой пионерский галстук) сидела постаревшая, не похожая на себя бабушка. Увидев нас, она припала к своему любимцу Адьке, повторяя:
— Она не виновата... Ни в чем, ни в чем... Понимаешь?..
***
Два слова: мама арестована, всего лишь два, но никак не могла я их одно с другим тогда совместить. И как резко разграничат они мое детство: теперь оно всегда будет разделено на ДО и ПОСЛЕ.
Наступил вечер. Бабушка все плачет, уткнувшись Адьке в плечо, он басит что-то обнадеживающее, а я слоняюсь из коридора в развороченную обыском кухню и все пытаюсь, но никак не могу представить себе мамино лицо. Отдельно глаза и волосы представляю, а целиком никак. Случайно толкнула ногой перевернутую табуретку, стала ее поднимать и вдруг до мельчайших подробностей вспомнился один случай...
Это произошло во втором классе 25-й особой образцовой школы, где учились Светлана и Василий Сталины, Светлана Молотова, а также другие дети «элитных», известных всей стране родителей, я в том числе.
Шел урок физкультуры в большом спортивном зале. Я сидела на низеньком стульчике и смотрела, как ребята выполняют упражнения на шведской стенке. Неожиданно кто-то толкнул в спину. Оглянулась — Дашенька П.
— Встань, — сказала Дашенька, — я сесть хочу!
— Но я же сижу, — я даже не поняла сперва, чего она хочет.
— Вот и встань, — повторила капризно Дашенька. — Мой дедушка — знаменитый писатель, я на машине в школу езжу, а у тебя шуба драная.
Недавно купленная серая беличья шубка, действительно, была уже разодрана, так как в то время я решила овладеть техникой лазанья по заборам. Но какое отношение беличья шубка, равно как и дедушка- писатель, имели к стульчику? Я показала Дашеньке язык и снова стала смотреть на шведскую стенку. Однако авторитет дедушки почему-то не давал покоя Дашеньке и толкал ее на провокационные действия. Заметив, что рядом со стульчиком стоит мой портфель, она отшвырнула его в сторону, да так, что все содержимое оказалось на полу.
Пришлось собирать книжки и тетрадки, а на стульчике тем временем воцарилась торжествующая Дашенька. Но лишь на минуту: в следующую я размахнулась тем же портфелем, — и...
Говорят, никто не слышал, как ревет пресловутая белуга, но, несомненно, ей далеко до Дашеньки. Оказавшись вместе со стульчиком на полу, она завизжала, затопала ногами, она орала и вопила до тех пор, пока на шум не вплыла гроза всей школы сама директриса.
— В чем дело? — пророкотала она величественным контральто, и сердце у меня упало.
И недаром. Когда всхлипывающая Дашенька, обратив на директрису полные слез невинные глаза, сказала:
— Она меня убивала портфелем, — гроза, действительно, разразилась. Да какая! Педагогические термины: «семейно запущенная», «плоды непродуманного домашнего воспитания» перемежались с явными вульгаризмами, типа «дрянь, мерзавка, отпетая бандитка». Напрасно я попыталась прорваться сквозь этот обличительный поток и вставить хоть слово оправдания. Учебный день для меня кончился. Мне было приказано немедленно покинуть пределы образцово-показательной и не переступать ее порога без матери.
На следующее утро я решилась на отчаянный поступок — без спросу открыла мамину дверь. Хотя накануне спектакль кончился очень поздно, она проснулась сразу:
— В чем дело, доча? — спросила ничуть не сердито.
И я начала про стульчик, Дашеньку, директрису... Понять что-то из этого путаного сбивчивого лепета было невозможно, но мама поняла все. Быстро встала, позвонила в театр, предупредила, что опоздает на репетицию и стала одеваться. Процесс одевания у нее всегда был непростым, но сегодня она одевалась так, будто отправляется не в среднюю школу, а на дипломатический прием. Зато, когда, сбросив на руки мигом подоспевшей нянечке леопардовую шубу, она пошла по школьному коридору в серебряных лаковых лодочках и ярко-красном платье с широкими, отороченными белым атласом рукавами, результат был ошеломляющий. В это время как раз началась большая перемена, из классов хлынули ребячьи потоки. Однако, заметив маму, даже самые отчаянные мальчишки, неудержимым шквалом несущиеся в буфет, вдруг останавливались, круто меняли курс и устремлялись за ней следом, ошалело глазея.
Так получилось, что директриса опять находилась в физкультурном зале, где в это время проходила торжественная линейка по приему в пионеры. Появление мамы с огромной свитой сразу нарушило ее течение. Старшая пионервожатая забыла, зачем у нее в руках пионерский галстук, и, уступая маме дорогу, отошла в сторону, «недопринятый» пионерчик растерянно подергал шеей, сделал зачем-то полный оборот вокруг своей оси и юркнул обратно в «непионерские» ряды. Мама подошла к директрисе:
— Я хотела бы увидеть вторую девочку, — сказала она.
Дашенька тоже находилась в зале.
— Расскажи, пожалуйста, как все вчера произошло, — повелела мама, и Дашенька очень тихо начала:
— Я правильно все рассказала? Может, что-нибудь было не так? — спросила она в конце.
— Так, — пролепетала совершенно сконфуженная Дашенька.
— Роксана, подойди сюда, — скомандовала мама, и я вышла на середину, оказавшись между пионерской линейкой и все увеличивающейся толпой зрителей. В полной и абсолютной тишине прозвучали тогда мамины слова:
— Заслуги даже самых близких людей — не повод для зазнайства, и ты вчера поступила правильно. Никогда и никому не позволяй себя унижать и впредь. — Она кивнула мне, попрощалась с директрисой и вышла.
Чуть ли не вся школа высыпала за ней. Смотреть, как она надевает шубу, как садится в машину, как захлопывает дверцу. А когда мама, высунувшись из окошка, озорно помахала ребятам рукой, все дружно замахали в ответ и закричали:
— До свидания!..
Триумф был такой полный, что я тоже начала было зазнаваться, и первая это заметила та же Дашенька. Ее обиженно-язвительная реплика «думаешь, ты не хвастаешь своей мамочкой?» — была справедливой: да, я гордилась своей мамой, самой красивой, самой умной, самой доброй...
Но вот мама арестована, мама в тюрьме. Это было непостижимо, невероятно, но это было, и было именно так.
После маминого ареста жизнь изменилась круто.
Теперь я учусь в самой обыкновенной школе и совсем не хожу в театр. И живу не в отдельной, а в коммунальной квартире, нам оставлена одна комната, бывшая детская, в две остальные — в бывшую мамину и бывшую гостиную (она же папина) въехали сотрудники НКВД с семьями. Новые жильцы установили границы и в так называемых местах общего пользования: на кухне у каждого свой столик, в коридоре вешалка, даже конфорки на газовой плите четко распределены кому какую. Коммуналка утверждала свои законы повсюду неукоснительно и властно.
Но, как ни странно, в моей жизни стало больше порядка. Теперь каждый день я вовремя завтракаю, обедаю и ужинаю и, хотя ем в основном картошку да кашу, но досыта и вкусно. И одежда на мне выглядит аккуратнее, и все вещи в доме обрели строго определенные места и все это благодаря бабушке Анне Михайловне, которая после маминого ареста переселилась к нам и стала главой семьи, состоящей теперь из трех человек — брат Адриан поступил в техникум и переехал в общежитие. Третьей была наша бывшая воспитательница или, как она себя называла, бонна, хотя это чопорное аристократическое наименование никак не вязалось с простецкой Луизиной внешностью — нос картошкой, лицо блином. Прожив 25 лет в одной семье — Луиза воспитывала маму и ее сестру Ниночку, еще когда они были детьми, она давно стала ее полноправным членом. Правда, характер у нее был не из легких и это из-за нее бабушка не хотела раньше жить с нами вместе, но теперь несчастье их сблизило.
Скудной бабушкиной пенсии, конечно, не могло нам хватить, и Луиза решила попробовать зарабатывать на жизнь преподаванием немецкого языка. Строго говоря, ее немецкий был далек от совершенства так же, как, впрочем, и русский, — предмет постоянных домашних шуток и анекдотов. Особым своеобразием отличалось в обоих языках обозначение рода существительных. Но если в русском языке большинство слов женского рода она лишала окончаний, а к именам мужчин добавляла мягкий знак, отчего Наташа становилась Наташ, а Коля Кольей, то в немецком вообще не затрудняла себя родовыми обозначениями, раз и навсегда приписав все существительные к среднему роду посредством добавления артикля «дас». Однако, как бы то ни было, но кое-как по-немецки Луиза Федоровна изъясняться могла, что и вдохновило ее поместить объявление в газете: «Даю уроки немецкого языка», а затем и начать эти самые уроки «давать».
Вскоре от родителей одной из своих учениц Луиза получила предложение поехать к ним на дачу с правом занять в счет расплаты за уроки четырехметровый отдельный чуланчик на все лето. Вот так я и очутилась в день своего 13-летия на станции Отдых Казанского пригородного направления.
***
Между тем солнце уже вовсю рассиялось, дачный поселок ожил, и мои мысли от воспоминаний переключились на заботы сегодняшнего дня. Нужно было купить муки и дрожжей для именинного пирога, и я с нетерпением стала заглядывать в окошко продмага, ожидая открытия. Наконец, он открылся, но был еще пуст. Когда все, что нужно, было куплено и я уже собралась уходить, в магазин вдруг ввалилась запыхавшаяся словно после долгого бега огромных размеров краснорожая тетка и еще с порога заорала:
— Мыла 20, нет, 30 кусков, соли 10 кило, вермишели...
— Да куда тебе столько? — изумилась продавщица.
— Надо, стало быть, могу я купить на свои деньги, что мне надобно, — ощетинилась краснорожая и полезла за пазуху «за своими деньгами», днако все же сочла необходимым добавить:
— Может, у меня гости...
— Что ж они у тебя год не мылись, что ли? — сострил подошедший парень.
— Я посмотрю, где ты завтра мыться будешь, — огрызнулась тетка, все еще придирчиво оглядывая прилавок, хотя продавщица сказала, что больше ничего не отпустит: день воскресный, товар не посту пает, а до вечера еще торговать и торговать.
— Торговать... Эх!.. Ничем ты скоро торговать не будешь, — пробурчала тетка и вдруг, перегнувшись через прилавок, выпалила:
— Война началась, девка... Верно говорю, скоро сами узнаете...
Несносная эта тетка разрушила мою безмятежность и, хотя парень и продавщица наперебой уверяли друг друга, что тетка «брешет», что никакой войны быть не может, раз «пакт подписан», прежнее настроение не возвращалось, и я все никак не могла отрешиться от теткиных слов.
На скамейке возле дачи сидел брат хозяйки, недавно демобилизованный пограничник. Проходя мимо него, я неожиданно для самой себя не выдержала и брякнула:
— А тетка в магазине сказала, что война началась, врет, конечно...
— Кто его знает... — ответил хозяйкин брат, глядя в сторону.
Поразительно, как быстро распространяются слухи: к моменту, когда радио подтвердило известие официально, в продмаге торговать было уже нечем.
***
Большие глобальные события всегда нерасторжимы с мелкими, сугубо личными, ломают привычный ход вещей. В этой хорошо известной теоретической истине мне не раз приходилось убеждаться на практике.
***
Прошло не более трех часов с момента объявления по радио войны, а все изменилось в дачном поселке. Еще вчера хозяева дачи были всецело поглощены своими грядками и клумбами — к одной из них, где произрастали редкие пионы, разрешалось подходить не ближе, чем на полметра, а сегодня роскошные пионы были безжалостно расплющены колесами полуторки, на которую в спешке грузили вещи. И с других дач машины, груженные домашним скарбом, одна за другой уже потянулись в город. Мы с Луизой смотрели им вслед, однако сами пока, уступая просьбам хозяйки, — все-таки спокойней, когда дом под присмотром,— решили не трогаться с места.
Проститься с хозяевами пришел комендант поселка, инвалид гражданской войны, пустился было в воспоминания о минувших боях и походах, но его оборвали — шофер спешил, и тогда, обидевшись, он заявил, что раз война, ночью в поселке необходимо дежурить, и сегодня с 12 до 4 их черед.
Чтобы не слушать жалоб Луизы, страшащейся и войны, и потери уроков (кто теперь будет изучать немецкий?), я отправилась побродить по поселку. Но не успела пройти и сотни метров, как передо мной возник наш пес Джек, умильно завилял обрубком хвоста и тявкнул. Джека называли «почти что доберман пинчер». Он был и окраской, и экстерьером «в породу», но роста вдвое ниже положенного и ужасный шляла. Как ни старалась, я не могла отучить его от бродяжнических наклонностей, поэтому ничуть не удивилась, когда пес снова пропал. Однако через минуту он снова появился и снова затявкал, как бы приглашая следовать за собой. Я пошла, но пес снова исчез. Так продолжалось несколько раз, пока вдруг не раздался его оглушительный лай, и в сопровождении собаки появился Адька. Оказывается, он потерял наш адрес, и уже два часа бродил по поселку, заглядывая за чужие заборы, пока его не отыскал проявивший чудеса собачьего интеллекта верный Джек.
На даче Луиза без конца расспрашивала, а Адька взахлеб рассказывал о последних событиях: уже вовсю идет мобилизация, и он успел побывать в военкомате и куда-то записаться, так что есть надежда, что, несмотря на несовершеннолетие, его возьмут добровольцем, на запад сплошным потоком идут военные эшелоны, а в пристанционном лесочке полно зениток. В заключение Адька выпалил полные патриотического порыва стихи собственного сочинения, привалился к печурке и заснул.
Задолго до полуночи Луиза стала собираться на дежурство. Она долго искала подходящее «оружие» и, наконец, обнаружила старую лопату. С моей помощью она была превращена в увесистую дубину с грозно торчащими гвоздями, оставшимися после отрыва собственно лопаты. Эти вызывающе торчащие гвозди, действительно, придавали палке очень воинственный вид, и Луиза заметно приободрилась. Ровно без пяти двенадцать «военный патруль» в составе Луизы, меня и Джека (на поводке) был на объекте — центральной просеке поселка.
Стояла тишайшая тишь. Над полем колыхалось волнистое облако — это земля возвращала накопленное за день тепло. И такая кроткая умиротворенность была разлита повсюду, что сама мысль о том, что где-то рвутся снаряды, стонут и гибнут люди, казалась просто нелепостью.
Начитавшаяся детективов Луиза «не впускала в себя расслабленности» и напряженно вглядывалась вдаль, а я предалась мечтам. Я представила себе, что война уже кончилась, а может, и вовсе не начиналась — бывают же ошибки! И, конечно, не было ареста мамы, и мы снова вместе. Папка хохочет и по обыкновению всех разыгрывает, а мама в необыкновенно красивом золотистом платье... Тут я попыталась представить себе это платье, но никак не могла «согласовать» его во всех деталях: то рукав не соответствовал вырезу, то не нравилась длина...
Мысль о платье так поглотила, что не сразу поняла, почему Луиза довольно-таки ощутимо толкает меня в бок. Оказывается, к нам приближается какая-то темная фигура. До дрожи перетрусившая Луиза тем не менее продолжала идти «на сближение», держа оружие в виде палки с гвоздями наизготовку.
Я взглянула на Джека. Пес не только не лаял, но умильно вилял задом и радостно взвизгивал. Через минуту все объяснилось: это Адька проснулся и решил сменить Луизу на дежурстве.
Когда мы остались вдвоем, он достал из кармана смешно прыгающего на резинке чертика и протянул мне:
— Поздравляю с днем рождения.
— Ой, правда, я и забыла, такой сегодня был длинный день.
— Ну, положим, не сегодня, а вчера, — уточнил Адька, — но все равно длинный. 22 июня — самый длинный день в году.
СМЕРТЬ ЛОРКИ
Осенью 1941 года в Москве начались бомбежки. Первые немецкие самолеты прорвались через противовоздушный заслон наших зенитных батарей где-то в середине октября, но, как грозе предшествует особая предгрозовая напряженность, так и сентябрьская Москва была настороженно притихшей в ожидании неотвратимого.
В Москву я вернулась уже в конце августа, к началу учебного года, но занятия в школах были отменены, и можно было сколько угодно бродить по улицам, вглядываясь в затемненные, с бумажными крестами окна — считалось, что это предохраняет стекла от действия взрывной волны, — пытаясь понять, есть ли за ними жизнь.
Шла эвакуация. Груженные скарбом грузовики, чемоданы, сумки, узлы в руках прохожих, пустынные улицы и переполненные вокзалы, — все говорило о том, что москвичи покидают свой город. Наша квартира тоже опустела. Уехали один за другим соседи, эвакуировалась в Караганду Луиза, остались только мы с бабушкой. Если не считать Лорки, Васьки и Джека.
***
Мое раннее детство. Я вновь и вновь обращаюсь к нему и всегда с нежностью. Оно не было омрачено, как это нередко бывает, всевозможными запретами. Меня и брата окружали умные взрослые, которые стремились не сужать, а всячески расширять наш детский мир радостью общения с интересными людьми,—например, нас не прогоняли при приходе гостей, с домашних репетиций — с книгами, театром и с самым разнообразным зверьем. Черепахи, хомячки, ужи и ежи постоянно обитали в нашей квартире. Но особая роль принадлежала, конечно, собакам и Лорке.
***
Лорка появился в моей жизни в день, когда мне исполнилось ровно 5 лет. В те счастливые безоблачные дни, ДО ТОГО, что случилось потом, каждое лето я проводила на папкиной даче в Серебряном бору, где все время жила в предощущении, что завтрашний день будет еще лучше и радостней, чем сегодня, хотя и сегодняшний дивно хорош. И, конечно, чудеснейшим из чудесных должен, просто обязан быть день моего рождения.
Когда он настал, я проснулась рано-рано, раньше всех. По желтой сосновой стене плясали тени — это ветер играл с ветками сирени, росшей под окном. Одна из ее мохнатых, в цвету, ветвей вторглась в комнату, и на подушке, среди осыпавшихся сиреневых цветов — кровать стояла возле самого окна — был один с пятью лепестками. Все знают, что это к счастью, тем более в день рождения. Как и положено, я сжевала цветок и огляделась — в такой день предсказания должны сбываться немедленно. Но хотя заглянула во все углы и даже под кровать, нигде ничего не было.
Тогда я отправилась в столовую. И тут сразу увидела ЭТО. Оно стояло на столе и было накрыто большим черным платком. Я тотчас сдернула его — и... Передо мной в большой стальной клетке сидел настоящий живой попугай. Он был большой и зеленый, он посмотрел на меня круглым красным глазом, чуть склонил голову набок и сказал: Др...рл...л. При этом черный изогнутый клюв его раскрылся, а во рту задрожал блестящий черный язычок.
— А! Вы уже познакомились?! — улыбающийся папка стоял в дверях. — Здравствуй, Лорка, — обратился он к птице, и попугай опять произнес «Дррлл» очень приветливо.
— Головку, — приказал папка и просунул в клетку палец.
Попугай тотчас подошел, нагнул голову и стал подставлять то одну, то другую щеки, чтоб его гладили. Он запрокидывал голову назад, прикрывал от удовольствия глаза, он всем своим видом выражал покорность и блаженство.
Как только папа вышел, я тотчас сунула палец в клетку. В ту же секунду попугай метнулся, — и... От боли потемнело в глазах, палец был прокушен чуть не до кости. Я уже открыла было рот, чтобы задать рева, как заметила красный попугаин глаз, в нем было торжество. Птица нагло издевалась надо мной, и это была моя птица, которую лично мне подарили на день рождения, которая обязана была мне повиноваться. Ну, нет! Я сунула в клетку другой палец — и в него тотчас вонзился черный блестящий клюв. Теперь уже два пальца были в крови, а попугай как ни в чем не бывало расхаживал по жердочке, высоко поднимая голенастые ноги и злорадно выкрикивал свое ДРРЛЛ.
Слезы разъедали глаза, в носу хлюпало, но я просто не могла отступить и, закусив губу, чтобы не зареветь в голос, снова сунула в клетку палец. Однако и в третий, и в четвертый раз повторилось то же самое: попугай не желал меня признавать. На правой руке нетронутым оставался один мизинец, но он был такой маленький, что я решила «начать» другую руку. При этом, однако, заметила, что, пока я над этим раздумывала, попугай не расхаживает победоносно из угла в угол, а тоже словно размышляет. Тем не менее указательный палец левой руки также оказался в его клюве. Но вместо того, чтобы прокусить, он просто держал его, явно раздираемый сомнениями. Как можно спокойней «папиным» голосом я сказала:
— Лорка, головку!
Попугай выпустил палец, отошел в угол клетки и задумчиво произнес свое дррллл. Когда в комнату вошла Луиза Федоровна, победа была полной, и на ее суматошные возгласы по поводу «нанесенных этой ужасной птицей ребенку увечий», я с достоинством возразила: ничего особенного, просто мы знакомились.
В мое детство Лорка вошел не забавой — личностью. Как объяснил отец, кличку свою он получил «по породе» — принадлежал к разновидности австралийских попугаев лорри. Но сколько я ни рассматривала в зоопарке этих и других попугаев, никогда не могла обнаружить Лоркиного двойника. Он был крупнее зоосадовских и ярче по расцветке: весь ярко-зеленый, но щеки желто-оранжевые, а в хвосте перья самые разные: красные, синие, желтые, изумрудно-зеленые.
Если характеризовать Лорку как человека, то главное в нем было чувство собственного достоинства. Он бывал капризен, несносен, сварлив и, наоборот, ласков, кроток, нежен, но он никогда не заискивал и не подлизывался, как иные кошки или собаки. Войдя в семью, он тут же определил к каждому из нас свое отношение, которого и придерживался неизменно. К отцу питал нежную симпатию, бабушку уважал, а бонну Луизу, напротив, презирал, Адриана терпел, а к маме относился с возвышенным восхищением. Услышав ее голос, он вытягивал шею и напряженно ждал появления. Чем красивее было на ней платье (особенно ему нравилось красное, блестящее, концертное), тем восторженней он ее приветствовал, превращая это приветствие в своеобразный ритуал: он наклонял голову в одну, потом в другую сторону, разглядывал ее со всех сторон, «цокал» и, наконец, произносил неизменное свое дррллл, полное восторга. Когда же мама говорила:
— Здравствуй, птицын, здравствуй, милый, — она тоже его любила и никогда не забывала поздороваться, Лорка гордо вскидывал голову, раз-другой прохаживался по жердочке, особенно высоко поднимая ноги, «шикарно» разворачивался и приседал в галантном поклоне, вновь издавая свое дрлканье.
Но совсем по-особому относился Лорка ко мне, раз и навсегда признав своей Хозяйкой и Повелительницей. И чем дольше он у нас жил, тем чаще в его повадках и отношениях с нами проглядывало что-то почти человеческое. Мне не составило труда выучить его таким «штукам», как подавать правую и левую лапки, — не путая никогда! — галантно кланяться, даже пританцовывать с приспущенными крыльями и «лихими» разворотами. Правда, как ни билась, никак не могла научить его говорить. Часами иногда простаивала перед клеткой, повторяя:
— Здравствуй, Лорка, здра-вствуй, здра-вствуй... — но в ответ всегда слышала только всегдашнее дрлл.
Нет! Лорка не хотел учиться человеческому языку. Его собственный был так выразителен, так богат оттенками: презрение, насмешку, нежность, — все выражало его дррллл.
Как-то Адриан назвал Лорку интеллигентом, пояснив, что в переводе с латинского слово это обозначает понимающий. И в самом деле иногда казалось, что Лорка понимает абсолютно все.
***
— Наш Колюша — это то, что называется, обаятельный человек, — говорил об отце буквально влюбленный в него брат Адька, а ведь ему он приходился лишь отчимом...
Когда голубой линкольн отца въезжал в ворота нашего дома в Карманицком переулке, все ребячье население с воплем «Дядя Коля приехал», не дожидаясь приглашения, набивалось в машину, и каждый получал возможность не только прокатиться, но и подудеть. Финансист по должности — он был председателем Торгбанка СССР, но артист по натуре, отец был неистощимым выдумщиком. Несколько его рассказов было опубликовано в «Огоньке», а по моему спецзаказу, «чтоб было и грустно, и смешно, и чтоб все кончалось хорошо» он сочинял очаровательные истории, которые потом пересказывались во дворе и классе. Меня он совершенно обожал. Не признавая взрослого имени Роксана и укороченного Ксана (он хотел, чтобы я именовалась Светланой, но мама настояла на своем), он называл меня чаще всего «мой Ксаненок» и готов был исполнить любое, самое абсурдное желание...
* * *
Где он теперь? Почему нет рядом сейчас, когда так трудно, папки, доброго, неунывающего, бесконечно любящего?! Я видела, что бабушке неприятны мои расспросы и что, объясняя отсутствие отца длительной командировкой, она неискренна, но никакого другого ответа не получала. И все-таки однажды, когда я проявила особую настойчивость, у нее в сердцах вырвалось: «Откуда мне знать? Может, в командировке, а, может, живет себе преспокойно на своей даче?..»
Тогда я поняла, что должна узнать все сама и в ближайший выходной, посадив в корзинку Лорку, отправилась с ним в Серебряный бор на папину дачу.
От автобусной остановки до нужной просеки было довольно далеко и, чем ближе я к ней подходила, тем ярче представляла себе то до мелочей привычное, что сейчас предстанет передо мной: заросшие травой цветочные клумбы, куст черники возле калитки, между сосной и березой старый гамак с дырой посередине, которую нужно особым образом затыкать подушкой (у новых знакомых подушка обычно проваливалась и их со смехом тренировали). Представляя все это, снова всем существо ощутила, как соскучилась по этому, такому дорогому миру, который принадлежал мне с рождения и не должен, не мог быть разрушен...
Всякая дорога имеет конец. Вот уже передо мной знакомая просека, забор, калитка, наконец дача № 26 — внизу под номером фамилия владельца: Попов Николай Васильевич. Да, все, как всегда! Песчаная дорожка от калитки ведет к дому, под окном куст сирени, невдалеке старая рябина, на которую обычно сажали «подышать свежим воздухом» Лорку. Он уже высовывается из корзины и тянется к «своей» ветке. Я помогла ему вскарабкаться и на душе стало совсем легко.
И тут я увидела гамак. Он висел на прежнем месте, но это был ДРУГОЙ ГАМАК — новый, самодовольный, прочный. И сразу улетучилась безмятежность, внутри стало холодно, словно проглотила вдруг ледяную сосульку. Но ноги продолжали шагать к дому, а оттуда мне навстречу выходил папка.. Я увидела его сразу, как только появился в глубине темного коридора, а он меня — он был близорук и без пенсне — лишь когда уже вышел на террасу. Но увидев, не бросился или хотя бы шагнул навстречу, а напротив, отшатнулся и быстро огляделся по сторонам. «Боится, что меня здесь увидят» — поняла я — глаза наши встретились, и он догадался, о чем я подумала. И сразу бросился и обнял. Он целовал, гладил с нежностью волосы, но глазами избегал встречаться и говорил торопливо, совсем иначе, чем прежде: расспрашивал про отметки, здоровье бабушки, а ответов не слушал, забрасывал шелухой новых ненужных слов.
— Здравствуй, Ксана. Ведь ты Ксана?
Та, которая сперва со мной поздоровалась, а у ж потом решила уточнить имя, возникла рядом неожиданно. Это была рыжеволосая женщина с мясистым в крупных веснушках лицом. Очевидно, она тоже вышла из дома, так как была в халате.
— Знакомься, моя жена, — суетливо представил ее отец, — Берта Яковлевна, известный критик... — Отец заговорил еще торопливей:
— Мы ведь развелись с мамой... твоей (он добавил это «твоей», явно отрезая ее от себя)... Это произошло еще до... до этого (видимо, он избегал слова арест), просто не говорили, чтобы не волновать тебя и Адриана, хотя Адриан ведь не мой сын, по существу мы чужие...
То, что Адька не его сын, а от первого неудачного и недолговечного маминого брака ни для кого не было тайной, но чужие?! Он словно хлестнул меня этим словом, и сам это почувствовал и рыжая жена тоже.
— Какой чудесный попугай! — воскликнула она, очевидно, чтобы переменить тему и протянула к Лорке руку. Но тотчас отдернула! И закричала, с ужасом взирая на располосованный чуть не до кости палец. Растерявшийся, еще более суетливый отец сунул ей разом покрасневший платок и кинулся к Лорке.
— Что ты? Что с тобой, Лорка? Лорочка, успокойся... Головку... — Но вместо того, чтобы склонить голову и прижаться к любимой руке, весь какой-то взъерошенный Лорка грозно шипел, не разрешая отцу приблизиться, — нет! он не прощал предательства.
Несмотря на уговоры, я не пошла в дом и не «выпила чайку». Возле калитки отец вдруг обхватил мою голову и, глядя в глаза прежними бесконечно любящими глазами, зашептал:
— Если бы ты знала, как это страшно... Я ни в чем не виноват, но я знаю, они придут... и я их все время жду, понимаешь, хоть бы скорее...
Его арестовали в конце 1938-го на этой самой даче. Перед тем сняли с работы, исключили из партии, новая жена исчезла из его жизни так же внезапно, как и появилась. Обо всем этом мне рассказывала уже после посмертной реабилитации отца его сестра. Она единственная его изредка навещала. Она же передала мне фотографию, которая до последнего дня стояла на его тумбочке перед кроватью. На фотографии стриженная девчонка с попугаем на плече.
***
Лорка прожил у нас 8 лет. Старость пришла к нему внезапно и, несомненно, главную роль сыграла в этом война. Он панически боялся воздушной тревоги. Весь день он ждал ее, весь день не мигая смотрел на черную тарелку репродуктора, так как очень скоро понял, что внезапно обрывающая очередную передачу тишина (теперь радио никогда не выключали) — предвестник зловещего. Объявление воздушной тревоги вселяло в него ужас. Услышав монотонно повторяемое диктором: «Граждане, воздушная тревога», он забивался в самый угол клетки, и крупная дрожь сотрясала его тельце...
В октябре у Лорки появился еще один враг — холод. В московских квартирах не топили, температура мало чем отличалась от уличной, а промозглая сырость проникала повсюду.
Чтобы как-то Лорку согреть, бабушка сшила нечто вроде попугайного жилета. Лорка без сопротивления разрешал его на себя надевать — он вообще стал очень кроток, но согревался плохо, все дрожал. Очевидно, собственного тепла ему уже не могло хватить, поэтому теперь его сажали за пазуху, когда только могли. Там он прижимался всем телом к груди, словно впитывая чужое тепло, и сидел тихо-тихо, стремясь не помешать, не надоесть. Иногда я совсем забывала о его присутствии, пока он сам не напоминал о себе деликатным царапаньем — про сился в «туалет» — ни разу не нарушил он правил гигиены. За пазухой он ел, только, находясь там, он напоминал иногда прежнего Лорку.
Так уж устроен человек, что он привыкает ко всему, даже к воздушным налетам. Вскоре тесное и душное бомбоубежище стало мне казаться чуть ли не хуже самой бомбежки, и все чаще под разными предлогами я стала увиливать от спуска в подвал и оставалась дома. Здесь мне иногда удавалось заснуть особым прерывистым сном, когда сознание ни на секунду не покидает мысль «я сплю под бомбежкой». Но больше всего хотелось, хоть как-то, участвовать в борьбе с «проклятой фашистской гадиной» и с этой целью однажды удалось пробраться на чердак, а оттуда на крышу. Здесь дежурили «белобилетники» и мальчишки постарше меня, мечтающие скорее попасть на фронт, а пока геройски сражающиеся с зажигалками.
Было уже часов одиннадцать, но совсем светло. По крыше плясали синие тени, отсветы шарящих по небу прожекторов. Весело ухали зенитки, выпуская в темное небо яркие мячики вспышек, вокруг которых колыхались розовые дымные облачка. «Как красиво и совсем не страшно», — только успела я подумать, как вдруг совсем рядом что-то шмякнулось, завертелось, задымилось.
— Что стоишь? Туши! — и Валька Трошин, Адрианов одноклассник, уже сам ухватил зажигалку железными щипцами и сунул ее носом в песок. Но она успела прожечь железную крышу, и по чердачным стенам и балкам стали расползаться огненные языки. К ним тотчас с песком и водой ринулись дружинники, засыпая, заливая, втаптывая огонь в темноту.
Зажигалки в этот вечер сыпались обильно, меня никто не прогонял, и я тоже включилась в борьбу с ними, это наполняло гордостью.
Вдруг яркий луч прожектора вонзился мне прямо в лицо. Отстраняясь от него в темноту, я проследила за направлением луча и увидела, что он «поймал» необычайно низко летящего «Мессера» — была видна даже свастика на его крыльях. Со всех сторон к «Мессеру» побежали другие лучи, скрестились, образуя на небе все уярчающееся световое пятно, в центре которого барахтался, стремясь во что бы то ни стало вырваться из светового плена «Мессер», а зенитки заухали еще громче, и вокруг самолета, прошивая небо, засветились дорожки трассирующих пуль.
— Заюлила фашистская гадина! — услышала я над ухом чей-то торжествующий голос, но тут самолет сделал еще один резкий рывок и внезапно «выплюнул» из себя какой-то предмет.
— Фугаска! — произнес тот же голос. — Держись, ребята!
Судорожно вцепившись в чердачный выступ, я изо всех сил вжималась в него, слушая, как свист летящей фугаски переходит в визг, затем в оглушительный грохот. Распластанная на крыше, я почувствовала, как дрогнул, задышал подо мной весь многоэтажный дом, затем вновь обрел устойчивость,— и наступила тишина, только доотзванивались осколки разом лопнувших стекол. Это была печально знаменитая фугаска, угодившая в Вахтанговский театр и разрушившая его почти до основания.
Едва очухавшись, я побежала вниз узнавать, что с бабушкой. Бомбоубежище игнорировали многие, в том числе и бабушка, потому я первым делом помчалась домой.
Еще не входя в комнату, поняла, что бабушки дома нет — на вешалке не висело ее пальто, и повернулась, было, бежать в убежище, как вдруг услышала какое-то шипение и отчетливое:
— Тревога... Тревога...
«Странно, — подумала,—голос какой-то не дикторский», — и заглянула в комнату. На полу своей клетки сидел Лорка и, раскачиваясь, как заведенный, объявлял воздушную тревогу. «Заговорил!» — поразилась я, но в это время близко снова ухнуло, и я опрометью бросилась в бомбоубежище.
По лестнице бежали дружинники, кто-то пустил слух, что подвал завалило. По счастию, этого не случилось, но от взрывной волны что-то произошло с проводкой, погас свет, началась паника. Пока страсти улеглись и мы с бабушкой вернулись домой, прошло уже много времени. Светало. Налет кончился. Было тихо, мирно, шли не спеша.
Уже поднялись на наш четвертый этаж, как вдруг увидели зеленое Лоркино перышко, затем другое, третье... Дверь в квартиру была открыта, наверное, впопыхах я ее не захлопнула, и порыв ветра выдул навстречу целую горсть легких перьев.
Вбежали в дом. В квартире не осталось ни одного целого стекла, ветер хозяйничал, как хотел, было очень холодно. Дверца Лоркиной клетки была открыта, очевидно, распахнулась от удара взрывной волны, а сама клетка пуста. Из кухни доносилось злобное урчанье. Там на полу голодный кот Васька приканчивал то, что еще оставалось от Лорки. Бабушка прогнала кота, щеткой собрала перья в совок. Одно из них зелено-синее с красным и желтым осталось на подоконнике. Когда-то в прежние добрые дни я собирала Лоркины перышки, а иногда обменивала их на что-нибудь во дворе. Разноцветные ценились особенно: на такое можно было получить стеклянный шарик для игры в лунку или перочинный ножичек.
Вернулась из кухни бабушка, спросила:
— Может, все-таки поедешь?
Бабушка уговаривала меня эвакуироваться вместе со школой в Саратов, где специально открывался интернат. До сих пор я все колебалась: ехать — не ехать, но теперь решилась: «Поеду».
Ветер подхватил разноцветное Лоркино перышко и выпорхнул с ним за окно.
МОЙ ЛЕВИТАН
Известно, что достопримечательности города реже всего посещаются его собственными жителями. Москвичи не исключение. Возможность посетить Третьяковку в любой день — не сейчас, так потом — оказывается иногда большим препятствием, чем любые расстояния. Сколько раз я «угрызалась», сколько раз давала себе слово завтра же заполнить этот возмутительный пробел в своем культурном развитии, но завтра сменяло послезавтра, шли дни и месяцы, а мы с Третьяковкой, как две параллельные прямые, никак не пересекались. Но в день эвакуации почувствовала: без этого не могу уехать из Москвы, и с утра помчалась в знаменитый Лаврушинский переулок.
Против ожидания у кассы стояла очередь. Гимнастерки соседствовали с ватниками ополченцев, с самой разной, но серой и зябкой осенней одеждой, ярких красок тут не было совсем. Зато сколько их было в самой Третьяковке!
Едва перешагнув порог, сразу помчалась к передвижникам, о которых так много рассказывал Адька, обладатель большого количества открыток-репродукций. Первый зал, куда влетела, был Левитановский. Он же стал и последним. Я так и не смогла оторваться от этих омутов, золотых берез, сочной зелени и нежной голубизны. «Все-таки в действительности так не бывает, все-таки он приукрашивает», — подумала я, со вздохом бросая прощальный взгляд на «Золотую осень».
Времени оставалось в обрез. Забежав домой за вещами, сразу отправилась на Речной вокзал.
Возле причала покачивался теплоход. На его белоснежном борту золотыми буквами сияло «Левитан». И это поразившее меня название, многократно повторяющееся на шлюпках и спасательных кругах, и сам теплоход — нарядный, щеголеватый, откровенно прогулочный, никак не вязались с войной и эвакуацией. К тому же день распогодился: выглянуло солнышко, рассиялось, заиграло веселыми зайчиками по водной ряби, заскользило по лицам провожающих. Но при ярком солнечном свете стало заметней, как постарела бабушка. В потертой «с залысинами» обезьяньей жакетке, когда-то модной, теперь нелепой, в съехавшей набок еще более нелепой бывшей маминой красной шляпке, из-под которой косматились седые волосы, она стояла чуть в стороне от общей толпы и неотрывно смотрела на меня. А я то всматривалась в ее осунувшееся лицо, в любимые мудрые глаза, то отвлекалась на толпу, солнце, теплоход, на котором никогда прежде не плавала. То и дело к нам подбегали ребята, носившиеся с пристани на теплоход, и рассказывали, как чудесно там все устроено, и все остальное как-то затушевывалось перед великолепием предстоящего путешествия. Невольно приходили в голову наивные, но утешительные мысли, что «наши немцев заманивают, потому и отступают, а потом, как дадут», что пройдет месяц-два, и все снова будет хорошо.., — да мало ли какими иллюзиями тешит нас воображение, когда не хочет радовать жизнь.
Наконец, все погрузились, загудел прощальный гудок, и полоса воды между теплоходом и берегом стала все расширяться, отрезая уезжающих от остающихся, унося меня куда-то в неведомое. Последнее, что увидела — бабушкину спину на зеленом косогоре. Как медленно, как трудно взбирается бабушка наверх. Теплоход уже доплыл до излучины, а она все никак не достигнет гребня косогора. Наконец, она скрылась за ним, и в эту минуту я совершенно ясно поняла, что больше не увижу ее никогда.
Пожелтевшие от времени письма. Тоненькая пачка, — то, что сохранилось от переписки бабушки с мамой. Мы звали бабушку Наночкой, она нас Адюша и Ксаночка. Адюшку, первенца, любила особенно и в одном из писем, отмечая его одаренность, писала, как ей нравятся его рисунки «в духе Левитана». Если он всерьез этим займется, может стать незаурядным художником. Но Адриан не стал художником, я же вовсе никогда не умела рисовать. Впрочем, в то время я ничего не знала об этих письмах.
А «Левитан», взбивая за кормой снежную пену, все набавлял ходу и, чем дальше, тем живописней вставали по обеим сторонам сперва Москвы-реки, а затем уже и Волги пейзажи. «А ведь он (Левитан) сам бывал здесь, рисовал эти самые места, — подумалось вдруг. Словно продолжая мои мысли, заходящее солнце вдруг коснулось верхушек склоненных к воде золотых берез, и они предстали в такой немыслимой красоте, что гений живописца померк перед мастерством природы. И снова все отступило: печальное, военное, тревожное будто растворилось в спокойствии осени, в ее умиротворенности. Думалось, как хорошо плыть, радовали чистенькие каюты, цветы на столиках, печенье, выданное к чаю, и то, что в одной каюте со мной ребята из нашего дома — толстая Елка (так звали ее и в классе, и во дворе, хотя настоящее имя Елена) и ее брат-близнец Вовка. Правда, в каюте находилась еще их мама, нанявшаяся, чтобы не разлучаться с детьми, в интернат воспитательницей, и а ее «наличие» меня несколько смущало, но, впрочем, должны же быть какие-то издержки, если все остальное так хорошо.
Ровно в 10 часов мама уложила нас спать. Но мне не спалось: захлестывали впечатления, да и Елка с ее габаритами (нам на двоих полагалось одно место) была не лучшим «компаньоном на койку».
Часто, натруженно стучало сердце теплохода — под каютой находилось машинное отделение, где-то что-то позвякивало, тренькала ложка о края стакана, скрипела-поскрипывала дверь... Вскоре к этим шумам прибавился еще один — храп мамы. Его мощь свидетельствовала: спит крепко. А раз так, можно попытаться улизнуть на палубу. Но на верху меня сразу заметил помощник капитана и турнул обратно вниз. Я уже ступила на трап, как увидела притаившегося за каким-то ящиком Вовку и вмиг оказалась рядом с ним.
Теплоход плыл в полной и абсолютной тьме: только мерцала зеленая волжская волна и дрожал огонек папиросы помощника капитана, облокотившегося на поручни. К нему подошел кто-то из команды.
«Ну, кажется, на этот раз обошлось». Помощник промолчал, пристально всматриваясь за борт. Подошедший опять заговорил, указывая на что-то в темноте:
— Большая баржа. Тоже дети?
— Детский дом из-под Вологды. Полторы тысячи ребят, — ответил помощник и пошел было прочь. Но вдруг остановился.
— Слышишь? — теперь он спрашивал, а тот, второй, молчал, видимо, прислушиваясь. — Эх! Сглазил! Долетели-таки, сволочи!
Оба они тотчас побежали куда-то, а вслед за тем появились и тоже побежали еще какие-то люди в матросской форме.
Почему молчит береговая артиллерия? — прошептал Вовка. Откуда мне было это знать, да и не до того мне было: ровный, неотвратимо приближающийся гул самолетов ввинчивался в уши, заползал под кожу, леденил сердце. Мы оба до боли в глазах вглядывались в небо, но лиловая ночь была непроницаема, словно ничего, кроме этого накатывающегося гула, не существовало вообще. И так мы были этим поглощены, что даже не услышали взрыва. Или, вернее, сперва мы его увидели. Там, позади, где осталась баржа, неожиданно вспыхнул свет. Белый. Снопом вверх. И грохнуло. А затем еще и еще. Словно разбуженные загрохотали, наконец, береговые зенитки, им в ответ заухали новые взрывы, и ночь расцветилась горящим прямо на воде бензином, трассирующими пулями, разгорающимся пожаром на барже. Огромным костром он полыхал посреди реки. И в свете этого костра один за другим проносились «Мессеры», расстреливая тонущих детей.
Все шлюпки с «Левитана» были спущены. В черной, маслянистой, горящей воде они вылавливали, увертывались, опрокидывались. Внезапно костер на барже завертелся волчком и разом погас. Образовав огромную воронку, втянувшую в себя все, что было поблизости, баржа затонула. И, словно исполнив свой долг, «Мессеры» разом развернулись и стали удаляться.
«Левитан» остался цел. На его палубе дрожали мокрые дети, — те, кого удалось спасти. Матросы разводили их по каютам. Мы с Вовкой тоже. Когда все уже, казалось, было позади, я увидела «забытую» девочку. Она лежала на корме ничком, без движения, и я испугалась, что она мертвая. Но девочка дышала. Вместе с Вовкой мы притащили ее в свою каюту, где было уже двое спасенных ребят, переодели, растерли, напоили горячим чаем. У девочки были огромные ресницы и огромные серые глаза. Но больше, казалось, ничего не было. Почти бестелесная от худобы, она словно отсутствовала, совершенно ко всему безучастная. Только на вопрос, как ее зовут, выдохнула:
— Тамарочка.
— Что же ты так плохо кушаешь? — спросила Елкина мама, очевидно, убежденная, что еда — спасенье от всех детских бед. — Вот еще печенье, ешь, Тамара.
— Тамарочка,—поправила девочка, не притрагиваясь к печенью.
Я уложила ее рядом с Елкой и еще с одной детдомовкой на свое место в серединку, а сама пристроилась на полу, на коврике. Так и спали остальные пять суток своего плаванья. Теперь «Левитан» еле плыл — сказывался перегруз. Погода тоже, как назло, испортилась: лил и лил дождь; и как-то все тоскливее, неуютнее становилось на душе. Но не погода была тому главной причиной, а «мамочка», которая относилась ко мне со все растущей неприязнью.
Однажды, просыпаясь, услышала какой-то шепот. Прислушалась. «Мамочка» убеждала Вовку держаться от меня подальше.
— Почему это?—возразил Вовка.
— Потому что она прежде всего дочь врагов народа.
Очевидно, в лице у меня что-то дрогнуло, шепот оборвался, ну а я тотчас поднялась и, полуодетая, вышла на палубу. Тут же следом выскочил Вовка, за ним — Тамарочка. Вовка в запальчивости начал мне говорить, что он «плевал на то, кто чья дочь, что он сам знает, с кем ему дружить», а Тамарочка протягивала мне кофту. В ее огромных глазах поблескивали слезы.
— Ну, что ты? Что ты? — забыв об «инциденте», наперебой стали мы успокаивать, соображая, чем бы ее развеселить. И придумали.
В тот же день из чемоданных ремней и казенных полотенец мы соорудили качели. Вызванный спешно «мамочкой» помощник капитана, глядя на робко улыбающуюся Тамарочку, вместо того, чтобы выругать за полотенца, наоборот, похвалил, сказав, что надо и в других каютах что-нибудь сотворить, а то ребятня совсем закисает.
Но качели все же сыграли роковую роль в моей судьбе. Когда «Левитан» наконец причалил к пристани, выяснилось, что только часть ребят будет помещена в Саратовский интернат, а часть отправлена в село Боары в открывающийся там детский дом. Специально прибывшая в Саратов, весьма внушительных размеров директриса детдома почему-то была заинтересована, чтобы «ее часть» была как можно большей и прямо на пристани стала требовать «своих» детей. Она размахивала какой-то бумагой и все попытки доказать, что ребята из одной школы и их нельзя делить, разбивались об эту бумагу. Когда же дело дошло до дележки, Елкина мама в число отправляемых на село первой вписала меня.
Возле пристани стояли подводы, на которых предстояло продолжить путешествие. Я помахала отчаливающему «Левитану» и, крепко держа за руку Тамарочку, пошла выбирать себе «карету».
ЗДЕСЬ ЖИЛ МЮЛЛЕР
Дом, в котором мы живем, выражает нас самих. До войны я жила на Арбате в новом основательном доме, построенном для ударников социалистического строительства. «Ударником», конечно, была мама. Когда она получила эту квартиру, то решила обставить ее современно,элегантно, уютно и красиво. Все вещи для новой квартиры предстояло приобрести заново, для чего однажды был вызван шофер Володя на персональной маминой машине и шофер Алеша на грузовике, обычно перевозящем театральные декорации. Обе машины и все домочадцы, включая меня и Адьку, ровно в 10, как было приказано — «Пора, наконец, прекратить этот расхлебай и приучить себя к точности» — стояли у подъезда.
В 11 потерявший терпение Адриан поднялся наверх посмотреть, что там мама. Вернувшись, он сообщил, что она в очень нервных тонах разговаривает по телефону, судя по всему, с художником, оформляющим новый спектакль. В 12 какой-то человек спросил, не знает ли кто-нибудь. где находится дом № 3. Адька на всякий случай поинтересовался, какая ему нужна квартира, оказалась — наша. Подмышкой человек нес что-то бумажно-картонное.
—Эскизы! — изрек проницательный Адька.
Наконец, ровно в 2 часа со словами «ну, что же вы стоите, не будем задерживать друг друга» мама, сопровождаемая человеком с эскизами, подошла к своей машине и... продолжила разговор с художником.
Все же где-то в шестом часу эскорт из двух машин подъехал к мебельному магазину. Здесь мы увидели железные койки и канцелярские столы, покрытые дерматином. Разумеется, надо было объяснить директору, что сегодня так торговать уже нельзя, приведя в качестве аргументов массу интереснейших примеров, которые директор, продавцы и посетители, надо сказать, выслушали с большим вниманием. Конкретным результатом поучительной беседы было извлечение из складских недр по личному указанию и даже при непосредственном содействии директора ореховой этажерки, внешне ничем не примечательной, но, по словам того же директора, весьма дефицитной. Действительно, два покупателя тут же изъявили желание приобрести этажерку, что придало ей дополнительную ценность. Ехать в остальные магазины не имело никакого смысла, тем более, что директор услужливо сообщил, что там ассортимент еще беднее, ехать домой с грузовиком, груженным одной этажеркой, также не хотелось, поэтому взяли курс на комиссионный. За пять минут до его закрытия все, в том числе оба шофера, вошли в магазин. Там шел жаркий спор между хамоватым молодым продавцом и интеллигентного вида старушкой. Старушка привезла стол, продавец, ссылаясь на позднее время, не хотел его принимать. Конечно, мама не могла не заступиться за симпатичную старушку. Продавцу было указано на неправильные действия и на то, что в распоряжении старушки еще по крайней мере 4 минуты. Не сдаваясь, продавец заявил, что из-за ходового товара он готов пожертвовать своим личным временем, но «этот гроб все равно никто никогда не купит».
— Ну, почему же гроб? — сказала мама и посмотрела на стол, украшенный резьбой и необычайно массивный. Все тоже на него посмотрели и стали высказывать по поводу стола «мысли вслух». В результате выяснилось, что обоим шоферам и бонне Луизе Федоровне стол категорически не нравится, я не имела на этот счет никаких суждений, и только Адриан убежденно заявил, что стол мировецкий, так как у него есть тайник. И, действительно, под крышкой стола обнаружили такой большой ящик, что Адька там совершенно свободно помещался. Это решило дело. Стол был оценен, куплен и доставлен в новую квартиру. Благодарность старушки не имела границ. Она без устали повторяла, какая мама замечательная и как она расскажет о ней всем своим знакомым.
Как скоро выяснилось, слово свое она сдержала. Уже на другой день утром раздался телефонный звонок, и школьная подруга вчерашней старушки сообщила, что у нее тоже есть чудный стол, который ей совершенно необходимо продать. Никакие доводы на нее не действовали, и, хотя круглый стол сегодняшней старушки никак не сочетался с прямоугольным вчерашней, стол был доставлен и водружен. Между тем слух о новом пункте скупки мебели дошел до маминых родственников, и они наперебой стали предлагать совершенно изумительную мебель, которую почему-то не брали в комиссионках и которая, конечно же, необычайно украсит мамин новый дом. Так в квартире на Арбате появился рябой книжный шкаф с цветными стеклами, из которых одно было выбито, диван мореного дуба и кровать с двумя (вместо полагающихся четырех) никелированными шишечками.
Пыл родственников угас, когда были истрачены все деньги, а квартира напоминала мебельный склад. Но потом что-то передвинули, что-то накрыли портьерой, появился большой цветастый абажур, маленькое в виде цветочка стеклянное бра — и квартира обрела свое лицо. Нет, она не стала ни элегантной, ни фешенебельной, — ощущение небрежности и бытовой запущенности было стойким, но и эта «всех времен и стилей обстановка», и висящие на стенах фотографии, и эскизы декораций, — все выражало сущность мамы, отца, бонны Луизы, бабушки, брата Адьки, меня, даже собак, проживающих в Москве на Арбате в доме № 3, квартире № 8.
Теперь ничего этого не было. Ни привычных вещей, ни квартиры, ни тех, кто в ней жил... Все стало прошлым, вчерашним, ушедшим. А настоящее — это война, эвакуация, небольшое село Боары под Саратовом и деревянный деревенский дом с тремя парами окон, где сегодня вместе с остальными детдомовками живу я.
В доме две комнаты: большая — проходная и поменьше — отдельная, в каждой из них огромная в полкомнаты печь с вмазанным в нее котлом или, как его здесь называют, казаном. Есть в доме и крепкие стулья с гнутыми ножками, и внушительный пузатый буфет, и деревянные кровати с панцирными сетками, и даже пианино марки «Рерих». Чувствовалось, что каждую вещь специально подбирали или изготавливали именно для этого просторного дома с домовитыми основательными хозяевами. Выселенные, как и все немцы республики Поволжья по приказу Сталина в 24 часа, где они сейчас? Вспоминают ли этот дом, который тоже стал их прошлым. А в нем сейчас вся мебель в беспорядке составлена в маленькую комнату, а в большой прямо на полу спят вповалку 16 эвакуированных девчонок, среди которых и украинка Рая Величко, и неизвестно где жившая до войны Тамарочка, и я, москвичка с Арбата.
Грязь и скученность породили вшей. Они кишмя кишели в рубашонках, трусах, волосах. Каждый вечер в большой комнате топили печь, впихивая в ее огромное чрево целые бревна от разобранных на дрова домов. Бревна не кололи, а постепенно целиком вдвигали в печь, заменяя сгоревшую часть новой порцией дерева. Когда печь нагревалась настолько, что, если приложить палец к ее железному боку, зашипит, ее использовали как утюг, пытаясь выжечь ненавистных вшей. За этим занятием и застала нас однажды воспитательница Анна Ивановна — она тоже была из эвакуированных, но приехала позже.
С первого взгляда она мне совсем не понравилась, хоть и говорят: первое впечатление — самое верное. Худющая, сутулая, она показалась мне такой серой и невзрачной, что словно добавила мрачных красок в наше и без того безрадостное существование. Нет, подлинное не всегда замечаешь сразу. По достоинству оценить этого человека я сумела лишь потом.
Некоторое время Анна Ивановна молча смотрела на почти голых девчонок, прижимающих грязное белье к грязной, в картофельных «приварках» (один из способов приготовления пищи) печи. Потом повернулась и вышла.
Вернулась она с тазом и тряпкой и решительно направилась в комнату поменьше. Оттуда тотчас стала вносить и двигать в большую комнату мебель. Самая старшая из нас и, как потом выяснилось, самая хозяйственная Рая Величко, конечно, не могла оставаться в стороне. Но прежде, чем начать действовать, она сочла необходимым напомнить приказ заведующей детдомом: ничего не двигать, кроватей не застилать и вообще ничего не предпринимать, пока она, заведующая, не решит, кого как расселять. «Переживаемые нами трудности, — наставляла нас заведующая, — ничтожны по сравнению с теми, которые выпали на долю наших отцов и братьев». Сколько еще раз в ее патетическом исполнении мы будем слушать это!
На Анну Ивановну, менявшую воду, грозный приказ не произвел никакого впечатления, зато острая на язык Валя Щукина отреагировала по-своему:
— Пока она будет думать, кого с кем селить, мы все тут зачервивеем. Ну, чего смотрите! — заорала она на нас, сама уже орудуя тряпкой.
Отмывая дверь, я заметила на ней какую-то надпись. «Здесь жил Мюллер», —прочитала я и не стала ее стирать.
Через два часа стены, окна и пол в обеих комнатах были до блеска вымыты, и девчонки стали расставлять мебель. Но мне была уготована другая наиважнейшая миссия — добыть постельные принадлежности у завхоза — рыжей и крикливой тети Лизы.
Как я и предполагала, тетя Лиза уже спала, дверь мне открыла тетя Маня, повариха. Соображая, что же теперь делать, я с интересом разглядывала комнату, где поселились тетя Маня и тетя Лиза. Казалось, они жили здесь всю жизнь, эти две женщины, столько домовитости было в туго накрахмаленных подзорах и тюлевых накидках на еще не разобранной тети Маниной кровати, в замысловато раскрашенном абажуре из промасленной бумаги и особенно в выцветших семейных фотографиях в аккуратных рамках, развешанных по стенам. А занавески! Никогда бы не поверила раньше, что простые куски белой материи, подшитые кружевом, смогут пробудить во мне столько противоречивых чувств — от нежности до зависти.
Между тем тетя Маня разбудила тетю Лизу и в двух словах изложила ей цель моего прихода. Увы! Мои худшие предположения оправдались — реакция тети Лизы была бурно-отрицательной. В потоке слов, которые она извергала, свесив с кровати короткие, в дряблых складках ноги, слышалось: надумали на ночь глядя!.. А что директорша строго наказала никому не давать, ей (Анне Ивановне) хоть бы что...Тоже мне командирша нашлась!..
Стало ясно, что ни простыней, ни одеял получить не удастся, что придется в лучшем случае спать на матрасах, что мечта сделать пристанище домом неосуществима. Не дослушав до конца речей тети Лизы, я зашагала прочь. Шла медленно — не очень-то приятно сообщать плохие новости и, не дойдя до крыльца, заглянула в окно. В большой комнате на аккуратно расставленных кроватях распаренные сидели девчонки, в маленькой Анна Ивановна причесывала Тамарочку. Я вздохнула и направилась к крыльцу. Но не успела сделать и шагу, как услыхала пронзительный голос тети Лизы:
— Больше недели на полу... Сама небось одеяло ватное, покрывало тканевое, а сироты, как хошь... — нагруженные до отказа тетя Лиза и тетя Маня направлялись к нашему дому.
Как видно, тетя Маня сумела затронуть в душе тети Лизы лучшие струны, а вид сверкающих окон и чистых счастливых девчонок заставил эти струны петь. Вскоре кладовка тети Лизы была распахнута настежь, и, стоя в дверях, она щедро швыряла в наши услужливые руки бесценные сокровища ее недр в виде вафельных полотенец, ковриков с оленями и трикотажных маек.
Глубокой ночью, когда все преобразования были закончены и можно было наконец улечься на новенькие хрустящие простыни, вдруг почти выдохнула всегда молчаливая Тамарочка:
— А картинка с дяденькой?..
Оказывается, у нее дома над кроватью висело изображение усатого мужчины с дымящейся трубкой и шашкой наголо. Срочно занялись поисками изображений курящих мужчин. Были просмотрены немногие имеющиеся книги и неизвестно откуда взявшийся учебник истории, но подходящего рисунка не было. Тогда решительная Рая предложила изобразить мужчину собственными силами, для чего тетя Лиза, осыпая всех последними словами, но явно очень довольная, вновь отправилась в кладовую за бумагой и красками. Портрет неизвестного мужчины родился в результате коллективного творчества. Так как краски были всего трех цветов — синяя, красная и коричневая, то поддевка у мужчины была красная, трубка и усы коричневые, а все остальное — лицо, шашка и получившаяся непропорционально большой рука — синего цвета. Но Тамарочке портрет очень понравился. Она не могла на него насмотреться и заснула счастливая.
Уже светало — все спали. А я оглядывала свой новый дом. Взгляд остановился на двери «Здесь жил Мюллер» — снова прочитала я. Послюнявив карандаш, я приписала: «А теперь живем мы».
ДАЕШЬ СУПОНЬ!
Был конец октября. Нудный осенний, не прекращавшийся уже много дней дождь превратил землю в хлюпающее месиво, которое бесформенными глыбами налипало, чуть не срасталось с обувью, проникая едва не до костей. На новенькие, только перед войной купленные туфельки страшно смотреть, а других у меня нет. Между тем надо еще и надавливать на лопату — все детдомовцы уже на следующий по приезде день были мобилизованы на картошку.
Эх,картошка! До чего же вкусна ты вечером, печенная в золе, и как тяжко достаешься днем. Вязкая глинистая почва от холода так затвердела, что на лопату приходится наваливаться всем телом, а ледяные картофелины выдирать руками, онемевшие пальцы не разгибаются, их сводит судорога. Стоя возле большой кучи только что накопанного картофеля я разглядывала лопнувший туфель. Он «кончился». Что было делать —неизвестно.
В это время раздался зычный глас заведующей детдомом Доры Николаевны.
— Кто умеет обращаться с лошадью? — Ее вопрошающе-требовательный взор обратился прямо на меня.
— Я,— сказала тихо, просто от неожиданности.
— Ты? — в голосе начальницы сомнение.
— Я, — подтвердила громче, подумав, что в телеге все же сухо. — Я! Я! — почти закричала, цепляясь за это слово, как за якорь спасения.
Заведующая кивнула и тут же стала давать мне «необходимые распоряжения», которые предстояло немедленно выполнить.
«Подумаешь, лошадь, — подбадривала я саму себя дорогой. — Это же не самолет, даже не грузовик, с лошадью каждый дурак справится». Но до конца убедить себя подобными рассуждениями как-то не удавалось. И тут я вспомнила про Грачика, лошадь своей мечты.
В раннем детстве, когда я была еще совсем-совсем маленькой, я часто мечтала, что когда-нибудь у меня будет СВОЯ ЛОШАДЬ. Я рассматривала картинки с изображениями лошадей, жадно вглядывалась в коней, гарцевавших по арене, когда мы с папкой ходили в цирк, все они мне нравились, но все же я никак не могла представить, какой должна быть «МОЯ ЛОШАДЬ». И вот однажды рано утром, в тот счастливый миг, когда уже не спишь, но еще не до конца проснулся, я увидела СВОЮ ЛОШАДЬ. Ее звали Грачик, она была чистокровной арабской породы, ровно-шоколадного цвета, с густой челкой и белой звездочкой на лбу, белых ровных-ровных естественных чулочках, светло-бежевой гривой и хвостом. Я тут же нарисовала Грачика с развевающейся гривой и вполоборота повернутой головой, прислушивающегося к моему, да, моему, зову.
Этот рисунок случайно заметил пришедший к маме известный театральный художник Р. Рисунок заинтересовал «метра» настолько, что стали выяснять, кто автор. Конечно, решили, что Адриан — в его литературных, музыкальных и прочих художественных способностях все были убеждены. Но Адька гордо отказался признать шедевр своим, а мне, когда я простодушно заявила, что это я нарисовала СВОЮ ЛОШАДЬ, никто не поверил, тем более, что на «консольном рисунке» я ничего путного изобразить не смогла. Так и остался Грачик произведением неизвестного художника, все же доказывающим, что даже самый неспособный к живописи человек может однажды что-то изобразить на бумаге, если прежде он нарисовал это в своем воображении.
Воспоминания детства развеяли последние сомнения, и я уже весело поглядывала на молодую белесую кобылку, по кличке Зорька, которая отныне поступала в мое единовластное распоряжение и на которой мне предстояло немедленно отправиться в район за подсолнечным маслом. «Масло, так масло», — веселилась я, поглядывая на новенькие бурки, хоторые мне выдали по распоряжению заведующей со склада, чтобы, как она выразилась, «своим босяцким видом я не компрометировала детдом перед всем районом». Но как запрячь лошадь? Как соединить ее с телегой и упряжью?
По счастью старик-конюх, выдававший лошадь, счел нужным сам запрячь Зорьку. Попутно он давал мне ценные советы, из которых главный — «утянуть до упора супонь» — старик указал мне на длинный ремень поверх упряжи, «тогда она (кобыла) хоть какой воз своротит». «Но только ей, конечно, тащить телегу никакой охоты нет, — просвещал он меня, — поэтому она при запряжке обязательно пузу надует».
И кобыла, действительно, шумно втянула воздух, отчего ее бока стали похожи на борта шлюпки.
— Видала? — подмигнул мне очень довольный конюх и продолжал меня просвещать:
— А потом она, значит, дух выпустит, и вся твоя упряжка к свиньям.
Тут он с удовольствием огрел кобылу супонью, она мигом «похудела» и, упершись ногой в оглоблю, до отказа затянул ремень-супонь.
Положив в телегу охапку сена, старик-конюх, наконец, вручил мне "бразды правления" в виде вожжей.
Поначалу все шло отлично. Лошадь бежала довольно резво, послушно огибая лужи то с правой, то с левой стороны в зависимости от натянутой вожжи; сквозь свинец туч прорвалось солнышко, словно снова вернулось лето, и я подумала, как хорошо, что я крикнула «Я!», и как замечательно я справляюсь с этой симпатичной лошадью.
В тот же миг Зорька вдруг свернула с главной на боковую дорогу и затрусила совсем в другую сторону к серому зданию элеватора или, попросту говоря, к мельнице. Никакие тпру и натягивания вожжей не производили на лошадь никакого впечатления: бодрым шагом она проследовала к воротам и направилась к телегам, выстроившимся в длинную очередь. Найдя «последнего», Зорька встала за ним и, уткнувшись мордой во впереди стоящую телегу, аппетитно захрустела чужим сеном. Что я только с ней не делала! Брала под уздцы, тянула, кричала, била вожжами — лошадь не сдвигалась с места. Между тем на нас уже взирала вся очередь. Кто-то смеялся, какой-то парень решил помочь. Как только Зорька почувствовала твердую мужскую руку, она послушно прошествовала к воротам, но, оставшись наедине со мной, своевольно дернула головой, развернулась и вновь отправилась на мельницу (как выяснилось, здесь ей раньше давали отруби).
Наше вторичное появление развеселило всю очередь, но, увы! oно не было последним. И в третий, и в четвертый раз «добровольцы» выводили лошадь, но, оказавшись в моей власти, она неизменно возвращалась.
Наконец, когда Зорька снова появилась на мельнице, однорукий приемщик (наверное, с фронта) вышел из-за весов и сам вывел лошадь за ворота. «Больше не возвращайся, — сказал он мне. — Нельзя, чтобы скотина тебя посмешищем делала». Он сломал прут и протянул его мне.
Но едва однорукий скрылся за воротами, как Зорька сразу «завернула оглобли». Какое-то бешенство овладело мной, я с таким остервенением стала лупить лошадь, что толстый прут тотчас переломился... А Зорька, как ни в чем не бывало, продолжает вышагивать к мельнице! Вот уже достигла ворот... И тут, не помня себя, я кинулась прямо под лошадиную морду и, расставив руки, встала в воротах. Лошадь тоже остановилась. Так мы постояли несколько минут на виду у притихшей очереди, потом лошадь мотнула головой и стала медленно разворачиваться. Я вскочила в телегу, взяла вожжи, и Зорька послушно затрусила к районному центру за подсолнечным маслом.
Было уже довольно темно, когда мы тронулись в обратный путь. Дорога все время шла под гору, Зорька шла ходко, чутко отзываясь на малейшее движение вожжей и, кажется, сама испытывала удовольствие от своего послушания. Ну, а я в отличном настроении глазелана звезды, на бегущую дорогу, на темнеющие сбоку от нее холмы. Вдруг мне показалось, что сзади зажглись два зеленоватых огонька. Вгляделась - в самом деле светятся. Мало того, рядом появилось еще два точно таких же, и еще, и еще, все по двое, причем огоньки эти бегут за телегой. Только, когда испуганно захрапела рванувшая в галоп Зорька, я поняла, что это волки. Они тоже «наддали», — вот уже не только огоньки — серые тени видны за телегой все ближе и ближе.
Зорькины бока в пене, от нее валит пар — ясно, что силы ее на исходе, а волки уже почти вровень с телегой, уже видны яростно устремленные морды, прижатые уши, клочьями свалявшаяся шерсть.
Одной рукой я вцепилась в тележий бок, другой судорожно шарю по ее дну и тут вдруг обнаружила кисет с остатками табака и коробкой спичек. Вспомнила — волки боятся огня! И в самом деле, едва полетел клок горящего сена, тени отпрянули. Но спичек всего 6-7, к тому же одна за другой они ломаются, не успев высечь искры. А волки снова приблизились. Один из них, наверное, вожак, наметом пластался совсем рядом с телегой. В какой-то момент я увидела, нет, вернее, заново услышала — оно бренчало всю дорогу — ведро для водопоя. Рывком сорвав его с крюка, изо всех сил швырнула прямо в волчью морду. Истошный, какой-то щенячий визг огласил ночную степь, разбежались и потухли зеленые огоньки.
Последнюю, еще остававшуюся в коробке спичку использовала почти гениально. Соорудив из остатков прута, которым «воспитывала» Зорьку, и обнаруженной в телеге мешковины нечто вроде факела, я смочила его подсолнечным маслом и подожгла. Яркая дымная эта свеча не гасла до самого дома. Впрочем, теперь нам с Зорькой ничто не угрожало: волки давно отказались от преследования.
Так я стала возчиком и в этой «должности» пребывала более 2 лет. Конечно, это значительно еще уменьшило мои возможности «приобщиться к научным и культурным ценностям человечества» хотя бы в масштабах сельской школы, но ценность человеческую училась воспринимать «не по одежке». Не раз полупьяные продрогшие мужики, сами не чаявшие как бы скорей добраться до жилья, останавливались, чтобы вытащить завязшее колесо моей телеги да еще и чинили его, отчаянно при этом матюгаясь, а жалостливые бабы делились со мной последним. Познала я и радость общения с приволжской степью, которая вопреки расхожему определению никогда не бывает безжизненной. Нет, эта школа жизни не отняла — дала мне многое.
ВОСЕМЬ НА ВОСЕМЬ
Интернат и детский дом — учреждения разные, и не так-то просто превратить их в одно. Хотя формально это было достигнуто одним росчерком чиновничьего пера, фактически под одной вывеской существовали два, а вернее, даже три различных коллектива, так как перед войной в собственно детский дом влили группу ребят из колонии нарушителей, которые очень быстро стали главенствовать. Чтобы получить однородную ребячью массу, мудрое начальство в лице Доры Николаевны решило ее как следует перемешать. Вследствие этого 8 интернатских девчонок, среди них горько плакавшая Тамарочка, были переведены из общежития, где была я, в другое, а на их месте появилось 8 детдомовок.
Был вечер — первый после вселения «новых». Шестнадцать человек настороженно присматривались друг к другу. Но в этой настороженности не было тишины: детдомовцы сразу повели себя шумно-вызывающе. Они веселились. Смеялись по поводу и без, а вернее, из всего делали повод для ухмылок, хихиканья, гоготанья, — я никогда прежде не знала, что смех может быть столь омерзителен.
— Ой, девочки, держите меня, ой, не могу, — то и дело выкрикивал кто-нибудь из «обхохатывающихся».
Особенно усердствовали рябая Зинка и Лидка, востроносая «лисья» девчонка с разными глазами — один серый, другой зеленый. Обе они не так давно отбыли срок в колонии, держались бывалыми девахами, готовыми к передаче богатого жизненного опыта другим, и добиваясь над этими другими превосходства. А для этого нужно было их как следует огорошить, подавить и унизить. Однако само понятие другие довольно растяжимое, и детдомовцы, как нападающая сторона, стремились нащупать слабое звено в обороне противника, безошибочно выделив изнеженную Леночку и рыхлую Дину. И вот на кровать к Леночке подсаживается Лидка и «нежно» ее обнимает. То же самое тотчас проделывает рябая Зинка с Диной, вызывая этим очередные приступы безудержного хохота у всей остальной компании. У Леночки на кровати стоял чемодан, она что-то оттуда доставала, и Лидка, сложив губы сердечком, что, как выяснилось, само по себе безумно смешно, попросила разрешения «посмотреть вещички».
— Смотри, пожалуйста, — сказала растерявшаяся Леночка, не подозревая, какой «цирк» сейчас начнется. Вынимая по одной сорочки, чулки, трусики, Лидка демонстрировала «предмет», а затем трусики надевались на голову («какая чудненькая кофточка», — изрекала при этом Лидка), а чулки превращались в перчатки и при этом показывали кукиш своей исконной хозяйке. Надо сказать, что Лидка была довольно цельна и даже остроумна, и я заметила, что смеются уже не только детдомовские, но и свои, да и сама Леночка угодливо подхихикивает.
Шутка подруги так понравилась Зинке, что она решила то же самое проделать с Дининым чемоданом и бесцеремонно выволокла его из-под кровати. Но не способная ни к чему, кроме сквернословия, она вовсю развернулась на этом поприще.
Первая не выдержала обычно очень спокойная Галя.
— Пожалуйста, прекрати ругаться, — сказала она, вызвав своей репликой подлинное ликование. Лидка и Зинка делали вид, что просто умирают от хохота, при этом все время поглядывая на самую старшую из своих Ларису, которая по всему чувствовалось является вожаком всей компании. Но Лариса не смеялась. Медленно поднялась со своей кровати, вразвалочку подошла к Галиной и плюнула на ее подушку.
— А в следующий раз в рожу получишь, если будешь гавкать, — сказала она и так же вразвалочку вернулась на свое место.
Тогда встала украинка Рая Величко, в 15 лет выглядевшая молодицей. Широкие брови ее сдвинулись.
— А ну вытри, — сказала она низким бархатным голосом.
— Еще чего, — процедила Лариса, но со своего места поднялась. Они стояли друг против друга, обе рослые, внушительные, красивые. Неизвестно, чем бы эта сцена закончилась, если бы опять не Галя:
— Да, ладно, Лариса, я вытерла уже...
Лариса победно усмехнулась и вернулась на свою кровать, Рае ничего не оставалось, как сделать то же самое.
***
Известно, что ссоры и драки в ребячьей среде — дело обычное, но только бывают они разными. Когда я была маленькой и жила на родном Арбате, то тоже часто дралась с мальчишками. Но эти драки, как хорошие сказки, всегда имели «добрый» конец. Если побеждали меня, это, правда, случалось редко, то победитель тут же оказывал «посильную медицинскую помощь», а потом отправлялся ко мне домой, чтобы клятвенно заверить домочадцев, что фонарь под глазом — следствие неудачного падения с лестницы. Если же победа доставалась мне, то потом мы часто вдвоем уплетали одно мороженое, испытывая особое удовольствие от общества друг друга.
Однажды я подралась с самим Толиком, признанным мастером кулачного боя. Эта историческая битва происходила на заднем дворе возле помойки при большом стечении окрестного ребячьего населения. Попытка кого-то из жильцов, вышедшего с помойным ведром, предотвратить кровопролитие, не увенчалась успехом: зрители единодушно заверили «миротворца», что «это они так играют», а мы с Толиком, не переставая тузить друг друга, перебазировались за помойку, где нам уже никто не мешал. Хотя эта битва, по единодушному суждению присутствующих, окончилась вничью — у меня был разбит нос, а у Тодлика распухла нижняя губа и вылетел «вне очереди» молочный зуб, она снискала мне уважение и даже славу далеко за пределами родного двора. С Толиком мы потом так сдружились, что, наверное, не без основания однажды на кирпичной стене нашего дома появилось нацарапанное oгромными буквами: КСАНА + ТОЛИК = ЛЮБОВЬ... Нет, битвы на родном дворе, как июльские грозы, не портили погоды, лишь давали выход накопившейся энергии. Отношения с восемью новенькими детдомовцам напоминали промозглый осенний дождь, нудный и нескончаемый...
***
Вскоре, кроме открытых столкновений, между нами возникло и нечто иное, особенно тревожащее. Так, я заметила, что любительница сенсаций Леночка не без удовольствия пересказывает своим старым подругам «гадости, которые говорили сегодня ЭТИ». Вечерами, когда интернатские и детдомовские рассаживались по разным углам, Леночка стремилась сесть поближе к новеньким и хохотала над Лидкиными шутками едва ли не громче всех. Дина тоже стала «раскалываться», особенно когда нам всем пришлось потуже «затягивать пояса».
В первое время с едой в детдоме было сносно, к тому же на неубранных колхозных полях оставалось вдоволь картошки, капусты, помидоров и даже арбузов. Ударившие внезапно морозы в одну ночь погубили весь урожай. Однако дальновидные детдомовцы сделали на чердаке солидные запасы и по вечерам закатывали настоящие пиры, в то время, как казенный паек оскудевал с каждым днем. То ли из-за неправильного обмена веществ, то ли вообще страдавшая обжорством, Дина ощущала это острее всех. Очень скоро вездесущая Лидка начала это использовать, заставляя Дину за кусок хлеба, стянутый при раздаче, мыть за себя полы или посуду, а однажды я застала ее за стиркой Ларисиного белья, и та, усмехнувшись, процедила «вот наняла за картошку».
Грустно и больно было смотреть на это, тем более, что Дина и Леночка уже вполне добровольно тянулись к «враждебному клану», и все попытки повлиять на них терпели крах.
Но и в стане противников не все было однозначно. Взаимодействие с нами не проходило бесследно, возбуждая самые разные чувства — от зависти до затаенной симпатии.
А жизнь в детдоме текла по своим непривычным для городских девчонок законам. Не было обязательных для этого времени года занятий в школе, но хотя землю уже стянул ледок первых заморозков, продолжались полевые работы — из смерзшейся земли извлекалась смерзшаяся каменная картошка и прочие овощи. Кроме того, надо было добывать дрова, топить печи, носить воду, мыть полы, — словом, производить ряд действий, без которых в сельских условиях нельзя существовать.
Все работы по дому и в столовой выполняли дежурные. Стремясь во что бы то ни стало превратить вверенный ей коллектив в единый монолит, заведующая Дора Николаевна требовала, чтобы дежурные назначались «с той и другой стороны». И как-то Зинке досталось дежурить с Раей Величко. Из всех ребят Рая отличалась крупностью, сочным украинским говором и необычайной домовитостью. Ее кофточка, полотенце с петухами «крестиками», скатерка на тумбочке пленяли снежной белизной, да и весь Раин уголок возле окна внушал завистливое уважение.
В дни Раиных дежурств общежитие прямо-таки излучало чистоту: она орудовала тряпкой виртуозно и вдохновенно. Полной Раиной противоположностью была рябая Зинка, грязнуха и лодырь. Но в тот день Зинка, что называется «расшиблась», она из кожи вон лезла, чтобы «соответствовать», доказать, что дежурит не хуже. Итак, вооружившись тазами и тряпками, они приступили к уборке: Зинка в маленькой, Рая в большой комнате. Вымыв ее до блеска, а затем заодно коридор, сени, прихожую и крыльцо, Рая заглянула к Зинке. Та тоже кончала уборку и, допыхтев до порога, выплеснула грязную воду прямо из окна.
— Все. Вымыла, -сообщила Зинка, ожидая похвалы и одобрения. Но раздувающиеся Раины ноздри и потемневшие глаза отнюдь не выражали восторга.
— Вымыла?—переспросила она и потащила Зинку в угол, где было полно пыли, затем чуть ли не носом ткнула в паутину и, наконец тоном, не допускающим возражений, приказала:
— А ну, бери тряпку и начинай все сначала!
Вечером Зинка решила пожаловаться на Раю своему лидеру — Ларисе. Та внимательно выслушала рассказ об утреннем происшествии, но приговор вынесла не в пользу жалобщицы:
— Верно она тебя вздрючила: тебе бы свиньей родиться да хрюкать, в самый раз было бы.
— С ней спать рядом нельзя, хоть нос зажимай, — добавила самая молчаливая и угрюмая из пришельцев Верка.
Мои отношения с новенькими были несколько иными. Хотя настороженность и недоброжелательство ощущала почти постоянно, все же мне никогда не подкладывали комья грязи под подушку, как Дине, не вытягивали из-под меня стул, словом ежеминутно не «шутили», изобретая мелкие гадости: меня, Раю Величко (прежде всего) и Валю Щукину выделяли, как опасного и сильного противника, с которым надо сражаться всерьез.
Однажды всех нас отправили работать на подсолнухи. Уборка вручную высохших и вымерзших подсолнухов изнуряет однообразием. Идешь по бесконечному полю между черными, звенящими, как стекло, стеблями подсолнухов и ломаешь по очереди один справа, другой слева. Очень скоро в глазах начинает рябить, на ребре ладони образуется мозоль, а ты все ломаешь и ломаешь ненавистные подсолнухи до головокружения, дo одури, до омерзения.
Но мне такую работу пришлось выполнять недолго. Очень скоро на своей Зорьке я стала возить подсолнухи на ток, где мальчишки, тоже вручную, выколачивали из них семечки, которые потом я должна была отвозить на маслобойню, где из них выдавливали пахучее подсолнечное масло.
И вот как-то совершая очередной рейс, я заметила среди черных стеблей какую-то скрюченную фигурку. Это была Женька, веснушчатая, ничем не примечательная девчонка из ЭТИХ. Спросила: ты чего? Оказывается, Женька поранила ногу и не может идти. У меня нашелся чистый носовой платок, я перевязала почерневшую от грязи и холода пятку, а затем «забросила» Женьку домой. Только и всего. Но поездка один на один располагает к откровенности, и по дороге я узнала, что ни отца, ни матери Женька не помнит, жила где-то под Минском у дядьки, потом дядька женился да еще и запил, и она сама попросилась в детский дом.
Доехали до общежития. Я помогла Женьке допрыгать до кровати и, чтобы не скучала, дала почитать «Маугли» Киплинга, единственную книжку, которую привезла с собой. И все. Все дела. Но какая-то ниточка уже протянулась между нами: от меня к Женьке, от Женьки ко мне. Теперь в моем присутствии Женька стала избегать посылать «этих маменьких дочек в пять этажей», и я тоже то и дело вглядывалась в неприметное Женькино лицо, мне уже было небезразлично его выражение.
Хотя «официальным вождем» пришельцев была Лариса, их главным «идеологом» являлась Лидка. Заметив, что, несмотря на все старания накал ненависти кое у кого из ее подруг ослабевает, она решила бросить в ход резервы.
Тем временем наступила настоящая зима. Чуть ли не за одну ночь погибло все, что мы с таким трудом извлекли из земли, но не успели вывезти с полей — а с «казенной» едой стало совсем худо: хлеба 400 граммов на весь день да и тот сырой, пополам с отрубями, приварок — мороженая картошка или пшено в воробьиных порциях. Но запасы детдомовцев, сделанные ими, когда на полях всего было вволю, еще не иссякли. И вот Лидка задумала «закатить пир» с приглашением «своих» мальчишек и Нинки-Оторвы.
Готовясь к приему гостей, детдомовцы притащили со своего склада-чердака даже такие деликатесы, как сушеная дыня или соленые арбузы, не говоря уже о прозаической кислой капусте и соленых помидорах. Скоро дразнящий запах печеной картошки и жареных семечек наполнил весь дом, и мы невольно поглядывали, глотая слюну, в маленькую комнату на накрытый стол, уставленный до краев наполненными жестяными мисками.
«Прием» был назначен на вечер, после казенного ужина, когда нет вероятности возникновения в дверях заведующей Доры. Отчество Николаевна между собой, естественно, не употреблялось — в этот час она обычно собирала у себя всех воспитателей, чтобы «подвести итоги дня и сделать наметки на будущее».
Гости явились точно в срок: четверо мальчишек 14-15-летнего возраста и 14-летняя Нинка, прозванная за отчаянность Оторвой. Несмотря на угощение и даже выпивку — Лидка «расшиблась», но достала поллитра какой-то бурды, выдаваемой за самогон — обстановка в маленькой комнате была безрадостной. Мальчишки держались скованно, никакого желания развлечь девочек или поухаживать за ними не высказывали. Девчонки хихикали, старательно матюкались, но тоже как-то натужно, словно понарошку.
Настоящего веселья не получалось, и вместо того, чтобы «зеленеть от зависти» мы уже потихоньку посмеивались над «сборищем». Но Лидка оказалась дальновидным организатором, на этот случай она припасла несколько, мягко говоря, не самых приличных анекдотов. Уже первый заставил вспыхнуть до корней волос стеснительную Галю, что было замечено собравшейся компанией и намного усилило эффект от самого рассказа. Но первый анекдот оказался «детским» по сравнению со вторым, а второй по сравнению с третьим — собравшиеся «обхохатывались», «заходились», «надрывали животики», — словом, выражали полный восторг и от того, что рассказывала Лидка, и поглядывая на «маменькиных дочек», особенно на не знавшую, куда себя деть, Галю.
Густые Раины брови гневно сомкнулись, у Вали Щукиной подозрительно блестели глаза, а я... Нет, я просто не могла больше просто так сидеть, слушать, смотреть! Рывком встала и с треском закрыла дверь. Но закрытой она оставалась лишь миг. С таким же треском, рывком, ее распахнули вновь. С этой стороны напротив меня стояла гневная Лариса.
— Ты что это, — тут она употребила «сильное» выражение, — без спроса дверь закрываешь? —произнесла она, медленно растягивая слова.
— Тебя что ли спрашивать? — ответила вместо меня выросшая pядом Рая.
— Люблю, когда бабы дерутся, — бросил предвкушая интересное зрелище верзила Славик, а Нинка Оторва, тряхнув каштановой челкой, уже направлялась к нам, в упор глядя на меня узкими карими глазами!
— Ой, девочки, ну, что вы, — вдруг затараторила Леночка, — Ну подумаешь, анекдоты, что мы маленькие, что ли, даже интересно...
Торжествующий хохот в маленькой комнате был ей ответом. Лидка ликовала:
— Вот, видите, девочкам нравится, девочки слушать хотят, а вы им (это непосредственно Рае и мне) мешаете, нехорошие какие, — и тут она с невинным видом добавила словцо, вызвавшее взрыв хохота собравшегося общества.
Усмехающаяся Нинка повела Леночку к картошке, а Лидка продолжала:
— И другие девочки к нам хотят, вон Диночка истосковалась вся. Хочешь картошечки, Диночка? — и Лидка достала из миски большую печеную картофелину.
Дина смотрела на нее, как смотрят на кость изголодавшиеся бездомные собаки — вытянув шею, не сводя глаз, ничего не видя, кроме этой теплой, с хрустящей корочкой, рассыпчатой, такой желанной картофелины.
— Ну, и пусть идет, обжора несчастная, дура толстая, протоплазма гадючья, чтоб ей подавиться, чтоб в гробу лежала, а картошка изо рта торчала!.. — и дальше я пошла «выдавать» такое, что детдомовский махровый мат сразу померк в сравнении с «перлами», которые извергали уста интеллигентной москвички.
Как видно, многодневное соседство дало свои плоды: в отчаянье и гневе я намного превзошла своих «учителей». Кстати, выражение «протоплазма гадючья» прочно вошло с тех пор в детдомовский лексикон и находило самое неожиданное применение.
Остановилась я так же внезапно, как и «прорвалась», и в растерянности огляделась. И свои, и чужие смотрели на меня во все глаза, никто не смеялся, и только стеснительная Галя вдруг тихонько, восторженно хмыкнула.
— Ладно, черт с вами, делайте, что хотите, — сказала Рая, — а мы петь будем. Валя, давай «Отраду».
Проучившаяся 5 лет в музыкальной школе, к тому же великолепно играющая на слух Валя Щукина как будто весь вечер ждала этой минуты. С достоинством заправского концертмейстера она направилась к инструменту:
Живет моя отрада В высоком терему, А в терем тот высокий Нет хода никому,— запела Рая, и все интернатские подхватили повтор. Сно-ва зазвучал, подчиняя и завораживая, один низкий задушевный Раин голос и снова повтор, но теперь его подхватывает и кто-то из маленькой комнаты, а в третий и в четвертый уже подпевают хором.
Я незаметно огляделась: на лице у Лидки растерянность. Лариса подперла по-бабьи щеку и вся подалась вперед, долговязый Славик ухмыляется во весь свой огромный рот, а Нинка уже возле Раи:
— Хочешь семечек? — и протягивает полную горсть.
«Отраду» сменила «Цыганочка». Ее попросила сыграть Роза, сама прозванная цыганкой, смуглая до черноты, очень живая девчонка, подброшенная в детдом еще в грудном возрасте. Наверное, в ней и правда текла цыганская кровь, потому что, как только Валя начала играть, она задвигала плечами, грудью, завихрилась в пляске, и, казалось, что на ней не детдомовское серое, а яркое цыганское платье, шаль с бахромой, звенящие мониста...
Роза недолго плясала одна. Вот уже рядом неумело, но темпераментно заходила Нинка, в центр вышла Рая и сразу за ней Лариса. «Что стоите, мальчишки?—властно прикрикнула она на кавалеров, и Витька Марков тут же очутился рядом, но в такт не попал:
— Я под такую музыку не могу, я только вприсядку.
И Валя сразу же переключилась на «Барыню».
— Ну, а ты что же? — мне протягивал горсть семечек самый старший из мальчишек Мишка Михайловский, высокий, некрасивый, но с хорошей доброй улыбкой. — Или только ругаться умеешь?
Я никогда не была способна к танцам и честно в этом призналась.
— А стихи любишь?
Стихи я любила и тоже призналась:
— Очень.
— Почитай, — попросил меня Мишка и, не дожидаясь согласия, закричал на остальных:
— Тихо! Она стихи читать будет!
Все уже сидели вперемежку и грызли семечки, но при упоминании о стихах пронесся смешок, и Лидка тотчас съязвила:
— Пушкина?
— Хотя бы и Пушкина. От твоих анекдотов уже уши заболели, — и чуть не приказал: — Читай!
Я в растерянности посмотрела вокруг и вдруг заметила Женю. Она так напряглась, что даже побледнела. «За меня волнуется», — поняла я и сразу решилась:
Ты жива еще моя старушка, Жив и я, привет тебе, привет...— стала читать своего любимого Есенина, не заботясь о выражении, слушателях, увлеченная тем, что мне так дорого самой. Но постепенно стала ощущать, как захватили стихи ребят: ведь почти все они, кто навсегда утратил, а кто и вовсе никогда не знал материнской ласки.
Тишина. Она иногда полнее всяких слов выражает самое сокровенное. Не хотелось ее нарушать. Но Валя заиграла «Землянку» и неожиданно запел Мишка, да так проникновенно, что никто не стал подпевать, просто слушали:
Вьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза...И вдруг заплакала Лариса. Горько и беззащитно, уткнувшись Рае в плечо. Дрожащими руками она достала из-под подушки похоронку, совсем недавно пришедшую на отца. Она, оказывается, рано потеряла мать, а с отцом никогда не расставалась, вплоть до самой войны, он так и не женился во второй раз из-за нее.
Гости расходились поздно, а я еще отправилась на конюшню посмотреть, как там Зорька. Вошла переполненная впечатлениями минувшего вечера, но вид вверенной моим заботам лошади, ее голодное ржание повергли в уныние.
— Да, исхудала кобылка, скелет один, — услышала за спиной. Обернулась — Мишка. За ним Витька Макаров и Нинка.
— Сено давным-давно кончилось и соломы почти не осталось, — оправдывалась я, — я говорила Доре, а она не слушает.
— Дора, — усмехнулся Витька. — Дора спросит, когда лошадь падет, самой заботиться надо. А хочешь, сейчас сена привезем? Лугового, с клевером, у моего одра тоже кончается — Витька ведал старым мерином по кличке Клюква. Выяснилось, что Витька, тоже испытывающий фуражные затруднения, обнаружил в поле стог великолепного сена. Похоже, оно пока ничейное, но на всякий случай сено оттуда брали ночью и ехали не по дороге, а прокладывали колею по снежной целине.
Светила луна, блестел, искрился, сверкал немыслимой белизной нетронутый снег, а две лошадиные тени скользили по бескрайнему полю, почти не нарушая тишины поскрипыванием полозьев. Огромный стог был накрыт снежной шапкой. Витька и Мишка целыми сугробами сбрасывали снег сверху, освобождая подход к сену, и он рассыпался мельчайшей мерцающей пылью.
Я прислонилась к копне. Разворошенное, согретое моим телом сено начало источагь запахи: сперва общий — зимний, словно выдыхало из себя стужу, потом все усиливающийся летний, и уже улавливались порознь полынь, мята, ромашка...
Обратно лошади еле брели, то и дело проваливаясь по брюхо в рыхлый снег. Я лежала на самом верху навьюченной на сани высочайшей копны и смотрела на темно-синий шатер опрокинутого надо мной неба. Невдалеке сидел Мишка, взявший на себя обязанности возницы. Всю дорогу туда я по его просьбе читала разные стихи, а сейчас просто смотpeлa на небо и думала, что такой красоты никто никогда не видел и даже не мог видеть, потому что ее никогда до этого еще не было. А миллионы звезд посылали мне свой свет. Вот одна из них засверкала всех ярче и покатилась по небосклону прямо ко мне. Я приподнялась ей навстречу, чтобы лучше видеть, и вдруг полетела сама с накренившегося воза в снежную целину. Умная Зорька сразу остановилась и честно ждала, пока Нинка, Мишка и Витька извлекали меня, барахтающуюся, из снежного моря. По спине текли ледяные струйки, снег забился под воротник, растекался лужицей по лицу, его вытряхивали из варежек, платка, волос.
На звезды больше никто не взглянул, зато хохотали до упаду и, слыша за спиной веселый хохот, лошади тоже будто развеселились и все убыстряли и убыстряли ход.
Когда вернулась домой, все уже спали. Машинально окинула взглядом комнату. Но какие-то изменения заставили всмотреться попристальнее: на соседней с Раиной кровати не Леночка — Лариса...
Утром Лидка попросила перевести ее в другое общежитие. Ее место вызвалась занять Нинка, кем-то глупо прозванная Оторвой. Вместе с Лидкой ушла и Леночка, а «взамен» мы выхлопотали у начальства счастливую до слез Тамарочку.
Оглядывая прибывшее пополнение, староста Рая сказала:
— Только чтобы чистоту соблюдать и без мата.
— Больно строгая ты, начальница! — засмеялась Нина и пошла застилать свою кровать.
Где вы теперь, девчонки нашего общежития? Какими стали? Жизнь неожиданно соединила нас и так же внезапно разметала по разным дорогам. Ни с кем из вас не встречалась я потом, в ДРУГОЙ жизни. Но память хранит ваши слова, лица, поступки. Самое яркое, то, о чем написала и напишу впредь, вижу и помню так, словно это было вчера.
МЕСТЬ
Его звали Дружок. Если бы он жил в большом городе, где собак регистрируют и выдают им нечто вроде паспорта, в графе «порода» значилось бы «б/п», что означает беспородность. Так что на участие в собачьей выставке он рассчитывать не мог, тем более на медаль. Но в тот день, когда его полузамерзшего принесли в общежитие, вряд ли ему было до собачьих наград, только бы согреться и хоть что-нибудь съесть.
В тот день я ездила в районный центр за пшеном. В качестве подручного грузчика со мной был Мишка Михайловский. По знакомой к дому дороге Зорька трусила без всяких понуканий и, устроившись между мешков, мы с Мишкой о чем-то оживленно болтали. Вдруг лошадь остановилась — на дороге лежала собака. Сперва мы подумали — мертвая. Но собака была живая. И когда Мишка, нагнувшись, сказал:
— Слушай, псина, как бы нам проехать, — поднялась и заковыляли к обочине.
Но, видно, что-то случилось у нее с задними лапами, потому что передвигалась — почти переползала — она на передних. Ясно было, что в такой сильный мороз собака долго не протянет, пришлось взять ее с собой.
В тепле пес повеселел, а когда повариха тетя Маня покормила его «ополосками» с котлов, вовсе пришел в отличное расположение, и, улыбаясь всей пастью, всячески выражал признательность обитателям пригревшего его дома. Обмороженные лапы у него скоро зажили, но в сильные морозы, очевидно, все же побаливали: в такие дни он жался к теплу и прихрамывал.
Говорят, мы любим других не за то, что делают для нас, а за то, что делаем мы сами. История с приблудной дворняжкой Дружком тому подтверждение. Но легко быть добрым, когда тебе хорошо, сложнее, когда самому трудно. А нам было трудно.
Зима в сорок втором году в Поволжье была лютая, морозы за 30. По утрам из кровати страшно вылезать, вода в ведре — под ледяной коркой, не только окна, подоконники в инее. Местные жители — их, правда, в селе наперечет, топили печи кизяком: так называется высушенный на солнце и смешанный с соломой коровяк, и были им весьма довольны. Мы с коровяком мучались. У нас он тлел, чадил, дымил, но только не горел. Его приходилось по десять раз выгребать из печи и разжигать снова, чтобы бурые глинистые брикеты обратить, наконец, в золотые слитки, Все же в конце концов технология разжигания кизяков была как-то размотана, но она требовала большого количества дров, а их в степном cеле не было. В ход пошли заборы и сараи, а затем, когда с ними было покончено, то и пустующие дома. Поначалу это происходило совершенно безнаказанно, но потом село стало заселяться эвакуированными, во вновь созданном колхозе появился председатель — фронтовик, демобилизованный «по чистой», и крепкой рукой стал наводить порядок. Вот тут-то и наступил «топливный кризис», а ведро с водой стало по утрам затягиваться кромкой льда.
Союзником холода стал голод. Хлебный паек был уменьшен до 300 гр. Завтрак и ужин состояли теперь обычно из «кубика» (по форме и размерам он, действительно, напоминал деревянный из детской игры) сырого пополам с мякиной хлеба и соленого огурца. В обед к «кубику» добавлялся суп-кулеш из «всего-ничего», где могли быть и макароны, и соленые огурцы, и кормовая свекла, но ни гуще, ни наваристей от этого он не становился, и второе в виде полутора ложек мороженой картошки с «намеком» на подсолнечное масло.
Когда в общежитии появился Дружок, он был включен в число равноправных едоков, что было немалой жертвой со стороны его спасителей. Но пес сумел оценить благородство людей. Он не просто платил извечной собачьей преданностью, но и старался принести пользу конкретными делами. Теперь те, кто отправлялся ночью на дровозаготовки, обязательно брали с собой Дружка. Он садился неподалеку от разбираемого «объекта» и начинал слушать. Его не отвлекали ни лай собак (впрочем, в голодном селе их было одна-две), ни даже вдруг выскочившая «дичь» в виде крысы, до которых он был большой охотник, нет, — его интересовали совершенно определенные звуки-шаги обходящих село сторожей. Но и, заслышав их, он не поднимал оглушительного лая, а со всех ног мчался к «дровозаготовителям» и, только приблизившись к ним, начинал рычать. По утрам в общежитиях вновь поднялась температура, но, увы! то, что скрыто ночью, очевидно днем. Разгневанное колхозное начальство, углядев нанесенный строениям урон, обратилось с жалобой к начальству детдомовскому, а детдомовское в свою очередь обратило свой грозный взор на старших подростков, с которым у начальства уже давно назревал конфликт.
Заведующая детдомом Дора Николаевна Спивак на педагогическом поприще выступала впервые, хотя и окончила когда-то педучилище. Но диплом педучилища сразу по его окончании был убран с глаз долой, а трудовая деятельность протекала в каком-то заготовительном учреждении, где она сумела выбиться в руководящие. Война вмешалась и в ее судьбу: учреждение расформировали, заготавливать стало нечего. Тут-то и подвернулся бесхозный детдом. Репутация руководителя плюс диплом сыграли свою роль, и Дора была назначена его возглавлять.
Из заготконторы в детдом перебазировался также Вениамин Клавдиевич, с первого дня переименованный воспитанниками в Витамина. Чтобы быть зачисленным в педагоги, ему и вовсе не понадобился диплом, его заменила Дорина рекомендация, а в понимании своих педагогических задач оба проявляли редкое единодушие. Главное было добиться, чтобы «они ходили по струнке» и не воображали, что здесь с ними будут «нянькаться». Мы это усвоили крепко и, наверное, потому старались, как можно реже попадаться на глаза своим наставникам. Что касается Доры, то это было не так уж и сложно, сигналом об опасности обычно служил ее раскатистый бас:
— ...Я тебе покажу... здесь не дома!.. ты у меня до гробовой крышки не забудешь!.., — слышалось задолго до появления мощного бюста и еще более мощного торса любимой начальницы.
Напротив, Витамин, назначенный Дорой воспитателем старшей группы девочек, передвигался бесшумно, как призрак, и возникал словно бы ниоткуда с одним и тем же вопросом:
— Ну, как вы здесь? — и пока он это произносил, его шныряющие глазки успевали сделать детальный смотр обстановке и воспитанницам.
И все же как-то так получилось, что об увеличении числа проживающих в общежитии на одну собачью душу он узнал лишь, когда Дружок уже вполне акклиматизировался, а мы успели в полной мере оценить и полюбить пса. Но, узнав о собаке, Витамин потребовал «немедленно ликвидировать это безобразие». В тираде, произнесенной по этому поводу — а он был большой мастер их произносить — то и дело упоминалось грозное слово «комиссия» (всяческих комиссий он сам очень боялся, хотя и умел «производить впечатление») и не менее грозное «Дора Николаевна». Пришлось Дружка вывести вон, разумеется, пока не удалится сам Витамин. Однако очень скоро собака опять была обнаружена в общежитии — на этот раз устроившей «страшенный разгон» Дорой. Присутствующий при сем Витамин в запале служебного рвения схватил собаку за шиворот и хотел ударить ногой, но обычно кроткий и ласковый Дружок успел-таки цапнуть Вениамина за палец. Тот взвыл. Изменив своей всегдашней елейно-вкрадчивой манере, он орал или, вернее, визжал:
— Я эту проклятую собаку убью!..
С тех пор Дружок задолго до прихода Вениамина начинал рычать, а затем прятался под домом, где ему на этот случай было оборудовано очень комфортабельное убежище из досок и сена. Поведение Дружка исключало возможность внезапного появления Вениамина и одного этого было достаточно, чтобы бороться за его существование. А бороться приходилась все чаще. И не только за собачье. За свое собственное.
Жизнь готовила новые испытания. Все бледней и прозрачней становилась и без того восковая Тамарочка. От голода стали пухнуть ноги у Дины, у нее, очевидно, действительно, был нарушен обмен веществ, потому что она совсем не похудела. Но ноги достигли «слоновьих» размеров, вставать она не могла совсем. Смотреть на все это было невыносимо, и однажды решительная Рая обратилась к Доре с просьбой выделить Дине и Тамарочке дополнительное питание. Но бдительное око начальницы разглядело то, что простым смертным видеть не дано. Дина была объявлена «злостной симулянткой», недаром ее «так разнесло». Что же касается Тамарочки, то ее было предложено перевести в другую соответствующую ее возрасту группу, потому что, как заявила Дора, «не исключено, что здесь ее действительно объедают». С огромным трудом удалось отстоять Тамарочку. Захлебываясь от рыданий, она повторяла:
— Я не хочу кушать, не хочу кушать!..
А мысли о еде стали неотступными. Днем их как-то заслоняли многочисленные заботы: вставали затемно, убирались, носили воду, кололи дрова, пытались растопить печь, затем шли в школу, готовили уроки... Но вечером... Вечером они завладевали полностью, они вытесняли все, что не связано с пищей, едой, кушаньем, что нельзя кусать, жевать, глотать...
Любой разговор, о чем бы ни шел, незаметно переходил на еду. Вот сидят поодиночке и группами шестнадцать девчонок. Кто читает, кто что-то шьет, кто готовит уроки. Лариса, прекрасная рукодельница, просит передать ей желтую нитку.
— Такими нитками, — вдруг произносит сероглазая Галя, — раньше коробку с тортами перевязывали.
— Ничего подобного, — сейчас же поправляет любящая во всем точность Валя Щукина, — не такими, а золотыми, и не нитками, а специальной тесьмой.
— А ты какие пирожные больше любишь: эклер или наполеон? — вдруг кто-то «переходит» прямо к делу».
И пошло-поехало: каждый выскажет свое мнение о разных сортах пирожных, потом перекинутся на домашнюю кулинарию: что как печется, варится, жарится... Такие разговоры могли длиться часами, но кончались всегда одним и тем же:
-Эх! Сейчас бы хлебушка кусочек, кажется, слаще всех пирожных...
Однажды в разгар подобных воспоминаний с Диной сделался истерический припадок, и Лариса во всеуслышанье заявила, что если кто-то еще про жратву заговорит, то «такого леща» получит, что сразу аппетит отобьет. Но справедливая Рая рассудила иначе:
— Так ведь думается: не станем говорить, еще тягостней станут вечера эти бесконечные.
И вот тогда возникла мысль, поначалу показавшаяся невыполнимой, сделать что-то такое, чтобы о еде никто не вспоминал. Решено было назначить «ответственных за вечера». Пусть поломают голову! Пусть придумают что-нибудь! А что — каждому самому решать.
Первый вечер было поручено провести бывшей ученице музыкальной школы Вале Щукиной. Она, естественно, посвятила его музыке. Добросовестно изложив биографию Чайковского, она сыграла весь свой ученический репертуар, а когда он иссяк, перекинулась на легкий жанр — песни из популярных кинофильмов.
Следующий вечер принадлежал Нинке, бывшей Оторве. Не обладая никакими талантами, но, не желая ударить лицом в грязь, она еще накануне напросилась ехать со мной в район за бумазеей, которую там непременно предстояло «выбить». Но добычу дефицитной бумазеи я целиком осуществила сама, а Нинка неизвестно каким образом сумела заполучить в библиотеке единственный экземпляр «Трех мушкетеров», с коими за пазухой и появилась в общежитии, преисполненная законной гордости.
Слух об этом достиг общежития мальчиков старшего возраста, и вечером четверо из них явились в гости, принеся с собой жареных семечек. Дюма-отец настолько всех увлек, что в дальнейшем решили ничего не организовывать, пока книга не будет прочитана до конца. Тягуче-тоскливые, кажущиеся прежде бесконечными вечера обрели смысл, их с нетерпением предвкушали весь день. Правда, в общежитие, едва стемнеет, по несколько раз наведывался Витамин. Но бдительный Дружок тотчас сигнализировал об опасности, а ее сознание придавало вечерам дополнительную прелесть. Как только уши пса принимали положение "внимание, мне кажется, я что-то слышу", — все замирали. Если потом слышалось сперва тихое, а потом все более громкое рычание, значит Витамин крадется к общежитию. Вмиг мальчишки оказывались на чердаке, собака под домом, Дюма под подушкой, а девчонки все, как одна, вязали и зевали прямо в лицо входящему Витамину, старательно изображая благонравную скуку, что, по его мнению, было самым подходящим состоянием для воспитанников.
Конечно, всех нас по-прежнему мучил голод, но даже он как-то заглушался пусть ненадолго отрубями, жмыхом, патокой — добыча мальчишек из разных источников, о которых расспрашивать считалось бестактным. Впрочем, самый значительный вклад в скудное вечернее угощение делали возчики: Витька Макаров и я, — нас нередко оделяли сердобольные кладовщицы при выдаче продуктов по наряду. Так однажды сразу от двух кладовщиц, расчувствовавшихся при виде детдомовской сиротки, мне перепали мешочек настоящей муки и горсть сахарного песку. В тот же вечер Витька принес отрубей, реквизированных из пайка подведомственного ему мерина Клюквы, и по детдомовскому рецепту было решено приготовить халву: в пережаренную муку добавляется песок, и получается нечто восхитительное. В то время я часто задумывалась, почему такая вкуснотища, как патока, жмых или вот такая халва, в мирной жизни не употреблялись или приготавливались совсем иначе.
Итак, на тот вечер было намечено крупное пиршество. Но кончились дрова, и группа мальчишек отправилась на разборку очередного дома, который, как они решили, «никому не нужен и только мешает» (правда, не совсем ясно кому).
Все удавалось в этот вечер: и дрова были благополучно доставлены, и оставшиеся в общежитии вовремя заметили крадущегося Витамина и избежали опасности, а главное, сам вечер с чтением «Собора Парижской богоматери» (Нинка сумела наладить с библиотекой постоянный контакт) и роскошным угощением — халва и лепешки из жмыха — все было бы прекрасно, если бы... Ох! Уж это «если бы...» Как часто ничтожное обстоятельство становится роковым и в один миг разрушает, казалось бы, незыблемое.
В тот вечер Вениамин с Дорой тоже решили устроить неизвестно уж по какому поводу, кажется, по причине только что отбывшей проверочной комиссии, пиршество, разумеется, совсем другого «ранга» и тоже засиделись позже обычного. Выйдя из дома начальницы и направляясь к домику, который он делил с другим воспитателем, Вениамин заметил поздний свет во вверенном ему общежитии старших девочек. Между тем, когда он три часа назад делал, как он любил выражаться, «небольшую проверочку», все уже ложились спать. Вениамин тотчас направился к общежитию. Но уже на полдороге свет погас и, войдя, он застал всех спящими, а кое-кто еще подхрапывал (знал бы он, какого труда стоило «спящим», слушая этот храп, не расхохотаться).
Успокоившись, Вениамин снова направился к своему дому, однако на крыльце, обернувшись, увидел, что свет снова загорелся. Ясно было, что его дурачат, но как?!
Не лишенный находчивости Вениамин в третий раз зашагал к общежитию, но не к нашему, а старших мальчишек и там обнаружил отсутствие шестерых воспитанников, которые, как клятвенно уверяли остальные, «вышли до ветру». Укрепившись в своих подозрениях, Вениамин отправился к Доре. И вот на дороге от женского общежития к мужскому была устроена засада.
Шестеро ребят в самом радужном настроении, обсуждая минувший вечер, шли домой. По дороге Витька и Славка стали в лицах изображать, как крадется к общежитию Витамин, как реагирует на его приближение Дружок. Вошедший в роль Витька даже встал на четвереньки, грозно зарычал — и тут они увидели Вениамина.
На другой день к разъяренному детдомовскому начальству обратилось начальство колхозное, требуя наказать хулиганов, причинивших материальный ущерб кооперативному хозяйству, — и Дора охрипшим от длительного воздействия на воспитанников голосом запретила поварихе тете Мане кормить шестерых мальчиков и все общежитие старших девочек вплоть до особого распоряжения.
Пришло и прошло время обеда — мы сидели голодные. Мрачная Нинка на чем свет крыла Дину, которая «раскололась» и отдала Доре библиотечный «Собор Парижской богоматери» — мудрая начальница тут же с треском разорвала книгу и бросила ее в печку. Но главная беда была впереди — известие о том, что Витамину удалось изловить Дружка.
Бедный мохнатый веселый Дружок! Его погубило то самое убежище, которое столько раз выручало. Враг загородил единственный выход и изловил собаку арканом. Полузадушенного пса Вениамин бросил в обледенелый старый колодец и закидал камнями. Он был еще жив, когда мы прибежали, и ответил на зов жалобным визгом...
В сравнительно небольшом коллективе, каким являлся наш детдом, тайное быстро становится явным: борьба, что ведут старшие ребята со своим воспитателем и заведующей, давно была в центре внимания всех остальных воспитанников и немногочисленного персонала. О последних событиях первой узнала повариха тетя Маня. Получив распоряжение Доры не кормить старших ребят, а их порции отдать Вениамину Клавдиевичу, она не только не выдала продуктов Витамину, но и высказала ему все, что о нем думает.
Вениамин побежал жаловаться Доре, а тетя Маня в свою очередь поспешила в общежитие младших девочек к тете Лизе и Анне Ивановне. Они ближе всех принимали к сердцу происходящее, особенно Анна Ивановна, которая сперва отвечала за старшую группу, а потом без объяснения причин и, несмотря на просьбы «с той и другой стороны», была переведена Дорой к младшим. Но старшие девчонки, а затем и мальчишки все равно считали ее своей: забегали, советовались, девчонки поверяли ей «сердечные тайны».
Узнав о том, что произошло, Анна Ивановна бросилась к Доре. Разговор с ней однако ничего не дал. Тем не менее «своею властью» Анна Ивановна и тетя Маня решили детей накормить, с чем и отправились в общежитие. Но шестерых девчонок и шестерых мальчишек дома не оказалось и где они никто не знал. А были мы все на самом краю села возле колодца, в который Вениамин сбросил Дружка.
Колодец был очень глубок и обледенел, поэтому все попытки достать собаку спеха не имели. Да и к чему доставать — из колодца уже давно не доносилось ни звука. Но мы не уходили — не могли. Нас переполняла ненависть. Она распирала, требовала выхода. И тогда родился план. Его осуществление странным образом связано с моим отцом и ранним детством.
***
Любовь к собакам я, верно, унаследовала от отца. Брат Адриан утверждал, что «наш Колюша любой подзаборной дворняжке всегда готов пожать ее честную лапу», но и собаки прямо-таки влюблялись в него с «первого взгляда». Ни одна, самая злая, чужая его никогда не укусила, а свои поражали беспримерной даже среди псов преданностью.
Как-то шутя папка сказал, что он меня тоже заколдовал особым собачьим заклинанием. Очевидно, повинуясь этому заклинанию, чуть ли не сразу после появления в селе Боары ко мне подошел огромный пес и лизнул в щеку. Брошенный хозяевами Анчар (так звали пса) поселился под моим окном и только мне разрешал себя кормить и гладить. Когда Вениамин задумал приспособить овчарку к охране скотного двора, чтобы надеть собаке ошейник и посадить на цепь, ему пришлось обратиться за помощью ко мне. Таким образом я обеспечила Анчару вполне сносную собачью жизнь, но теперь он должен был помочь нам.
***
Сразу по прибытии в село Дора занялась организацией подсобного хозяйства, причем здесь она проявила энергию и размах. Детдом стал владельцем двух коров, нескольких коз, различной птицы и с полдюжины свиней. Впрочем, на нашем меню это почему-то не сказывалось, разве что в дни наезда различных комиссий вдруг волшебным образом напоминало о себе желтым кружком сливочного масла к завтраку или стаканом молока в младшей группе. Но комиссии уезжали, и обеды сразу оскудевали. Каждодневные сетования Вениамина, в веденье которого находились животные, что куры не несутся, а коровы не доятся, не заменяли ни молока, ни яиц, хотя дежурные по скотному двору, а всю грязную работу выполняли детдомовцы, видели, как и то, и другое собирается и выдаивается, а затем уносится в неизвестном направлении Вениамином или Дорой.
Корифеями в общем стаде были, конечно, свиньи. Четверо. Раскормленных. Вымытых и вычищенных. Согретых любовью и лаской Доры и Вениамина. По утрам, еще затемно, из свинарника доносилось вожделенное верещание, хрюканье свиней и могучий бас Доры:
— Да не спешите, всем хватит, дурашки, дурашечки мои.., — рокотала она так маслянисто-ласково, как никогда не говорила ни с кем из воспитанников.
Демонстрируя кому-нибудь свиное поголовье, Дора смотрела на розовые туши с нежностью и вздыхала:
— Не знаю, как резать будем, ведь какие красавицы, а умные... — и начинался с трогательными подробностями рассказ о том, какой могучий интеллект скрывается под щетиной и толстой кожей хавроний, как свиньи узнают ее по голосу и устремляются навстречу.
Было похоже, что она, действительно, любит «своих свинушечек», но совсем другие чувства вызывали они у нас. При взгляде на раскормленные свиные туши вспоминалось худенькое тельце сероглазой Тамарочки, думалось, сколько наших порций пошло на свиной обед.
Накануне нового года прошел слух, что ждут каких-то важных «представителей» чуть ли не из самой Москвы. По этому поводу были выданы со склада новые занавески на окна и зарезан самый могучий из свиного стада хряк Васька. Уплетая ароматный наваристый борщ, мы радовались, что мяса теперь, по словам тети Мани, хватит на четыре-пять недель, так как Васька потянул чуть ли не на пять пудов. Но «представители» не приехали, а мясо из кладовой на кухню больше не поступило.
За несколько дней до гибели Дружка поголовье свиней уменьшилось еще на одну свинью — Дуньку, которая якобы сожрала отраву для крыс. Эта «официальная версия», однако, никак не согласовывалась с тем, что накануне из свинарника доносился пронзительный визг, а заходивший ночью в конюшню Витька видел, как какие-то люди вместе с Вениамином загружали подводу чем-то очень похожим на свиную тушу.
Было ясно, что в котлеты или общественный борщ свиньи не попадут, но именно поэтому они были призваны стать орудием мщения.
Бывают у людей таланты, которые раскрываются в самых неожиданных обстоятельствах. Такой оказался у Гришки Долгова, самого молчаливого из мальчишек. Когда разрабатывался план, он произнес всего одну фразу: «Будет острый нож — ни одна не хрюкнет». Нож, кстати, и добыл, и наточил он сам.
Глубокой ночью восемь теней пробирались к свинарнику. Все было обговорено и продумано до мелочей. Трое девчонок заняли наблюдательно-сторожевые посты, а я, четвертая, направилась к Анчару. Повинуясь команде, он тотчас тихо улегся у моих ног, а в это время мальчишки перепиливали дужку огромного амбарного замка. Все мы превратились в слух, но ни один звук не доносился из свинарника, куда скользнул Гриша.
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он появился вновь и махнул рукой. Тотчас остальные мальчишки тоже скрылись в свинарнике. Через минуту они появились снова, волоча за собой свиные туши. Только когда все уже было загружено в сани и раздался условный свист, я побежала за тронувшимися санями.
Мартовская степь. Испещренная синими тенями, бескрайняя, она выглядит подобревшей, навевает мирные мысли и радужные мечты. Впрочем, все это, может, от непривычного ощущения сытости?.. Дым костра у заброшенной овчарни в нескольких верстах от села еще разносит дразнящий запах жареной свинины, но есть уже никто не может. Двигаться тоже не хочется и совершенно непонятно, что делать дальше. Но вид продрогших усталых лошадей и, главное, мысли о голодных товарищах побуждают к действию.
Как ни странно, вернуться домой, поставить лошадей в конюшню и приступить к угощению удалось совершенно беспрепятственно. В домах у Доры и Вениамина не горит свет, очевидно, они ни о чем не подозревают. Однако это было не так, и во время нашего отсутствия произошло следующее.
Еще затемно Дора, как всегда, направилась к любимым хавроньям. Но, войдя в свинарник, вместо Пашки и Машки — она называла свиней только человеческими именами — увидела лишь их скрюченные хвостики, вызывающе положенные у самых дверей. Трудно описать ее ярость, во всяком случае вопли взбешенной начальницы услышали не только мигом прибежавший Вениамин, но и тетя Маня с тетей Лизой.
По следам полозьев Вениамину без труда удалось определить, куда мы направились. Но чтобы отправиться следом, нужны были лошади, а они были у нас. В правлении колхоза, куда кинулись Дора и Вениамин, в этот час еще никого не было. Пришлось преследователям пускаться в погоню пешком.
Когда, наконец, они добрались до заброшенной овчарни, мы ее уже давно покинули, оставив, впрочем, улики совершенного преступления в виде остывшего костра и разбросанных повсюду костей.
Пережитые волнения, сытость и тепло так меня разморили, что, присев на койку, я сама не заметила, как заснула безмятежным и сладким сном.
Мне снилась веселая желтая тропинка, бегущая к веселой, в солнечных бликах речке в Серебряном бору, куда мы с папкой, размахивая полотенцами, устремились купаться. Рядом с нами бежит наш пес Пират и звонко лает. И так нам хорошо и весело бежать, но только... Только уж очень громко разлаялся Пират, и почему он трясет меня за плечо?
Кроме меня, все вовремя заметили приближающуюся опасность и тут же покинули общежитие, — потому весь гнев разъяренного начальства обрушился на меня одну. К тому же Вениамин догадался, кто усыпил бдительность собаки, и считал меня главной виновницей. Вместе с ослепленной яростью Дорой он немедленно приступил к расправе: Вениамин крепко держал меня за руки, Дора наотмашь била по лицу...
Первой на помошь бросилась Тамарочка. Самая маленькая. Самая слабенькая. Бесконечно любящая. Вцепившись в платье начальницы, она тоненько закричала:
— Не смей бить Ксаночку!.. — и сама стала молотить кулачками толстый начальственный зад.
Вслед за Тамарочкой влетели ребята, тетя Маня и тетя Лиза. Вид их был так грозен, что Дора и Вениамин стали отступать перед молча двигающейся на них стеной. Однако, когда в дверях появилась Анна Ивановна с незнакомыми людьми, Дора вновь обрела начальственный апломб и пророкотала:
— Почему здесь посторонние?
Но «посторонние» прибыли по письму сотрудников детдома и уже успели немало увидеть, стоя в дверях общежития старших девочек.
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ
Я влюбилась. С первого взгляда. Как только ОН появился. А случилось это так.
Шел урок русского языка. Я в пальто у окна. Оно покрыто толстым ледяным панцирем и лишь в середке оттаянное моим дыханием окошечко. Сельская улица перед школой пустынна, только пляшут февральские снежинки.
«Кому нужны эти склонения, когда война, когда беда», — думаю я и уже невольно отмечаю, что оба эти слова первого склонения.
А в классе холодрыга страшенная, говорят, почти не осталось дров. Те, кто пришел пораньше, жмутся к чуть теплой печке, но мне там места уже не досталось, — сама виновата: явилась чуть не перед звонком, вот и сиди теперь на самом продуве. «К первому склонению относятся имена существительные с окончанием на а, я, например...», — зубрилка Леночка повторяет задание.
Звонок уже давно прозвенел, но учительницы Лидии Степановны все нет, как всегда опаздывает. Наконец, она вошла, вернее, вползла в класс. Закутанная поверх пальто то ли в старое одеяло, то ли в полностью утративший первоначальный облик платок, копной угнездилась за учительским столом, едва слышно проскрипела:
— Дежурный, кто отсутствует?.. — урок покатился по привычным рельсам.
***
У каждой школы, как у каждого человека, есть свое неповторимое лицо. Первые школьные годы в моей счастливой довоенной жизни, ДО ТОГО, что случилось потом, проходили в школе дня детей высокопоставленных лиц и известных деятелей искусства — «отпрысков» свозили сюда со всей Москвы. В этой — образцово-показательной — я училась у заслуженной учительницы, которая сама служила образцом для других учителей, прилежно посещавших ее уроки. Учительница не говорила, а вещала, остальные учителя благоговейно ей внимали, а обучаемые первоклашки из кожи вон лезли, чтобы быть достойными этого педагогического спектакля. И только я нарушала гармонию. Мои тетрадки, сплошь в кляксах, испещренные красным учительским карандашом, были усыпаны «плохо» или «очень плохо», — тогда существовала такая шкала оценок.
С какой тоской отправлялась я по утрам в эту школу и с какой радостью выбегала из нее. Но как только оказывалась за пределами, словно поворачивался в душе волшебный выключатель, который тушил одну и зажигал другую лампочку. И в ее свете минувший школьный день совершенно преображался: те самые девчонки, которые презрительно фыркали мне вслед «дура», «плохишница», теперь наперебой предлагали дружить, а страдальческая гримаса взиравшей на меня учительницы заменялась ласковой улыбкой.
А я сама, нет, теперь на уроке от страха, что меня вызовут, не сжималась в комок, а гордо, выше всех тянула руку и без запинки выпаливала ответы на все задаваемые образцовой учительницей вопросы, вызывая восторг прочих учителей. Когда я подходила к дому, картины, рожденные воображением, уже полностью вытесняли реальные и потому на вопрос, что мне сегодня поставили, я с чистой совестью отвечала: «отлично» — если было «очень плохо» или «хорошо», если в тетрадке или в дневнике стояло просто «плохо».
Увы! Воздушные замки непрочны! В один далеко не прекрасный день терпенье заслуженной учительницы иссякло, и в моем дневнике появилось грозное обращение к родителям, предписывающее оным немедленно явиться в школу, которую их дочь настолько позорит, что того и гляди низведет из числа образцовых в самые обыкновенные.
Грустная пришла я в тот день домой, такая грустная, что это заметал даже не очень-то замечающий меня брат Адька. Узнав, в чем дело, он вместо того, чтобы посочувствовать, стал с видом доморощенного Шерлока Холмса изучать мои каракули.
— Это у тебя потому кляксы, — наконец, изрек он, — что ты непроливашку (так называли чернильницы) переполняешь, а если чернил на донышке, ни одной кляксы не будет.
«На донышке», действительно, дало положительный эффект: целый лист исписала я под присмотром Адьки — и хоть бы что. Но, главное, выяснилось, что если буквы не просто писать, а как бы рисовать и при этом думать, какие они красивые, как посоветовал Адька, то они не кривятся, не разбредаются в разные стороны, а чинно и гордо шествуют друг за другом по строке. Выводить такие буквы даже доставляло удовольствие, и я заново переписала полтетрадки.
Адриан тем временем накатал записку, где сообщал, что родители находятся в командировке (наглая ложь!), но что им лично меры приняты. И подписал Адриан Розанов, а в скобках — «старший брат».
Вручать записку надо было одновременно с переписанной тетрадкой, что я в точности, хотя и не без трепета, выполнила (особенно меня смущало это нахальное «лично»). Как ни странно, затея удалась полностью. На записку учительница отреагировала положительным кивком, а в тетрадке впервые появились «хор.»и даже одно «отл.». Воодушевленная успехом, я постепенно разжалась и перестала быть позором образцово-показательной.
***
Адька, Адюшка, Адриан, мой дорогой, талантливый старший брат!... Ты так много значил для меня, особенно в детстве.
У нас была одна мама, но разные отцы. Отцом Адриана был друг Аркадия Гайдара, сам известный писатель Сергей Григорьевич Розанов, автор популярной детской книжки «Приключения Травки». Адя унаследовал от своих знаменитых родителей феноменальную память, страсть к познанию — его называли «ходячая энциклопедия» — и несомненный литературный дар. Он учился в самой обычной районной, но превосходной по составу учителей и общей атмосфере школе, где потом вплоть до войны училась я, и был там всеобщим кумиром.
Благодаря Адьке школьные стенгазеты становились произведениями искусства. Он же был главным редактором, основным автором и художником издаваемого в 71-ой школе литературного журнала — все с нетерпением ждали выхода очередного номера.
Как давно это было! И как непохожи моя первая школа для элиты и любимая на родном Арбате на крохотную сельскую, где сейчас возле промерзшего окна я вспоминаю дорогие лица, голоса, утраченный такой дорогой мне мир.
Но вот что-то инородное вторглось в мои воспоминания и разом все разрушило. Этим что-то явился худощавый мужчина, идущий к школе. В военной шинели. Прихрамывает... Что ему здесь надо?.. Толчок в спину прервал мои размышления — оказывается, учительница меня вызывала. «Ну кому это нужно?» — опять подумала я, но тем не менее вяло забубнила:
— К первому склонению относятся...
Я еще не кончила отвечать, как на пороге появился тот самый военный. Теперь он был без шинели, в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем.
— Вы не разрешите мне посидеть на уроке? — спросил учительницу и, услышав недоуменное «пожалуйста», сел за заднюю парту.
Урок продолжался. Военный просто сидел, просто смотрел, просто слушал, а все ребята, да и учительница тоже к нему приглядывались, прислушивались, гадали, кто бы это мог быть. Посматривая на военного, я невольно стала «мерзнуть за него». И в самом деле, в классе пар от дыхания клубился облачками-мячиками, в непроливашках чернила в ледяном крошеве, а он в одной гимнастерочке, хоть бы шинель на плечи накинул. Другие ребята тоже поеживались, косясь на военного, а он даже «не обнял себя», будто тут восемнадцать по Цельсию.
Но странно: как-то так получилось, что прилипшие к печке, глядя на военного, от нее чуть отодвинулись, нахлобучившие шапки их сняли, и даже Лидия Степановна к концу урока несколько меньше напоминала капусту на грядке — откинула платок, поправила волосы.
Во время перемены, когда военный вместе с Лидией Степановной вышел из класса, вездесущая Ленка Иванчикова принесла из учительской сенсационную новость: военный не какой-нибудь «представитель», а назначенный в школу новый директор. Зовут его Сергей Николаевич, капитан, недавно из госпиталя, будет географию преподавать.
— Девочки, я в него влюбилась, — закончила свое сообщение Ленка. Но не одна Ленка, все девчонки тотчас влюбились в нового директора, и я не была исключением. До сих пор моим любимым предметом была история, теперь я всему предпочитала географию. Впрочем, тут я тоже не была исключением: географию полюбил весь класс.
Сергей Николаевич был удивительным рассказчиком. Обычно, в начале, он говорил медленно, словно нехотя, даже монотонно, но потом, все более воодушевлялся: речь становилась порывистой, глаза устремлены в еще неведомое, но готовое раскрыть свои тайны, известные ему одному. И свершалось волшебство. Вместо скучной комнаты с пузатой печкой перед нами — зеленое море джунглей. Загорелые, счастливые, мчимся мы в узких, похожих на сигары, лодках по стремительной Амазонке, и тропический рай раскрывает нам свои объятия. Чем неприглядней было за окном, чем холоднее и голоднее, тем увлекательнее становилось путешествие, в которое он брал нас с собой. Мы осязали жесткую мохнатость кокосов, пили их прохладно-тягучее молоко, а вокруг порхали многоцветные колибри и сквозь веер пальмовых листьев струилась сиреневая синь тропических небес.
Теперь, если первой была география, я не шла — летела в школу и являлась на урок чуть ли не раньше всех. Однако на самих уроках вела себя глупее глупого. Сперва без конца тянула руку, стремясь поразить ЕГО своей географической эрудицией — я чуть ли не наизусть выучила учебник и прочитала все имеющие хотя бы отдаленное отношение к географии книги, которые смогла раздобыть; затем, уязвленная слишком, по моему мнению, с его стороны на все это спокойной реакцией, решила не отвечать вовсе. Встану и молчу. Вызовет к карте — то же самое. Но все мои «штучки» Сергей Николаевич словно бы не замечал. Ни замечаний, ни плохих оценок — ничего. Правда, я была уверена, что все это скажется на четвертной — ведь должен же он когда-то «принять меры» — и с трепетом ждала, когда эти оценки объявит. Узнав, что поставлен высший балл, от неожиданности завопила, как вопят двоечники: «За что отлично-то?», чем вызвала дружный хохот всего класса.
Стать всеобщим посмешищем всегда обидно, а если тому причиной только ты сам, обидно вдвойне — настроение у меня было отвратительное. А когда плохое настроение, лучше остаться одному, поэтому я не пошла вместе со всеми после уроков в общежитие, а бесцельно бродила возле школьного крыльца, сбивая с него сосульки. Вдруг слышу:
— А я тебя ищу. Не хочешь ли пойти со мной? Колхоз школе лошадку выделил, а ведь ты лошадница...
Как после затяжного ненастья выглянувшее солнце разом преображает все вокруг, так ликующая радость вмиг испарила плохое настроение — все пело в душе, когда я вместе с Сергеем Николаевичем шла по селу. «Интересно, какую нам дадут лошадь, может, Машку?» — вспомнила я гнедую кобылу-трехлетку, которую еще летом заприметила в табуне. Воображение Сергея Николаевича тоже, очевидно, рисовало ему призового скакуна, потому что всю дорогу он насвистывал что-то веселое и по-мальчишески озорно сшибал прутиком «головы» высунувшегося из-под снега сухого чертополоха.
Радость тут же улетучилась, когда мы увидели, что нам предназначалось. Это была не лошадь и даже не скелет лошади, это был какой-то лошадиный остов, состоящий из ребер и ног, а вернее, трясущихся узловатых подпорок с расплющенными копытами. К тому же один глаз у нее был совершенно закрыт, а другой с огромным бельмом. Чтобы вывести кобылу из конюшни, понадобилось около часа, но когда, наконец, она предстала во всей красе при свете весеннего дня, даже старик-конюх, которому полагалось привыкнуть к Федуле — так звали кобылу, — плюнул и пошел прочь, пробурчав:
— Такую на живодерню-то вести стыдно, не то что к детям!..
Чтобы кобыла не завалилась, пришлось подпирать ее с двух сторон и только благодаря общим самоотверженным усилиям ее удалось удержать в вертикальном положении. Шагала она к тому же так шатко-медленно, что путь от конюшни до школы грозил растянуться до утра. Солнце уже садилось, а мы не прошли и половины пути. Но как только бледно-желтый солнечный шар коснулся земли, Федула, словно это был какой-то лошадиный сигнал, разом остановилась, всем своим видом показывая: хоть убейте, больше не сделаю ни шагу.
Сели на какое-то бревно. Взглянули друг на друга и вздохнули. Сергей Николаевич нашел палочку и стал что-то чертить на мартовской первой проталине. Я вопросительно поглядела на него, он усмехнулся, в глазах засветились озорные искорки, зачертил быстрее: извилистая литая, кружочки вдоль, один из них большой. «Города, — догадалась я, — а это — извилистая река». И сразу осенило:
— Днепр!
— Угадала! — услышал он мое восклицание. — А что за города?
— Большой, по-моему, Киев.
— А это Канев, — сам показал на кружок поменьше. — Вот тут мы и жили.
Рядом с кружком появился домик и три фигурки: одна в брюках, две в юбочках.
— Мои Нинки, — ответил на мой вопросительный взгляд. — Жена и дочка.
— Где они сейчас?
— Не знаю...
Помолчали. Затем Сергей Николаевич снова стал чертить кружочки городов, зигзаги рек, волнистые линии гор, и я узнавала в этой своеобразной контурной карте Буг, Днестр, Карпаты... все дальше и дальше к западной границе, а затем и за нее.
— Берлин! — восторженно выдохнула, угадав ход его мечты.
Он посмотрел удивленно и рассмеялся:
— А говорила, за что отлично?!
Быстро темнело. В правлении колхоза, возле которого остановилась злосчастная Федула, зажегся свет.
— Погоди-ка, — вдруг сказал Сергей Николаевич и решительно направился туда.
Я чуть помедлила и последовала за ним.
В обшарпанной комнате за столом ссутулился человек. Он откидывал костяшки счетов и что-то записывал. Лампа без абажура свисала с потолка и едва не касалась изможденного лица, высвечивая сине-багровый шрам на щеке. Не поднимая головы, он хмуро буркнул:
— Чего надо?
— Глаза ваши увидеть надо.
Человек вскинулся, его напряженные в красных прожилках зрачки вперились в Сергея Николаевича. Несколько секунд смотрели молча,J
— Фронтовик? — спросил сидящий.
— В настоящее время директор школы...
Но председатель колхоза — это был он — тут же его перебил:
— Школой пусть район занимается, а мне...
— А тебе, — в свою очередь перебил Сергей Николаевич, — на детей, стало быть, наплевать?!
— А ты не ори! — сам заорал председатель, и они, прерывая друг друга, стали выкрикивать каждый свое: что в школе не осталось дров, что в колхозе одни старики и нечем сеять, что дети пухнут от голода... а
Шрам на щеке у председателя почернел, лицо свела судорога, и Сергей Николаевич вдруг замолчал, а потом спросил совсем тихо:
— Осколком задело?
— Под Ржевом. Не был там?
— Нет. Мы под Курском два месяца в болоте мокли.
— В окружении?
Лицо Сергея Николаевича стало белее листа бумаги:
— А что? Почему спросил? Или тоже проверять надумал?
— Самого проверяют, — глухо отозвался председатель. — Мало немцы шкуру живьем сдирали, теперь вот свои в душу плюют...
Сергей Николаевич придвинулся к нему, и они заговорили очень тихо о чем-то глубоко волнующем обоих.
По звездному небу уже давно плыл месяц, когда мы все трое вышли из правления. Федула изваянием застыла у крыльца.
— Оставьте здесь, — сказал председатель. — Завтра на живодерню сведем.
При этих словах кобыла вздохнула и нерешительно двинулась вперед. Председатель усмехнулся:
— Помирать никому неохота. Она, правда, не такая уж старая, хотя, конечно, пользы сейчас от нее ноль, только корма переводить, которых и вовсе ноль целых ноль десятых.
— Скоро травка появится, — сказала я.
— Вот вам и решать, жить ей или умереть, — закончил разговор о кобыле Сергей Николаевич, они снова заговорили о войне, фронте, окружении.
На следующий день Сергей Николаевич объявил, что во время весенних каникул старшеклассники отправятся в соседнюю область на лесозаготовки: три четверти заготовленных дров пойдет колхозу, четверть — школе.
Двадцать девять ребят из 6-7 классов — самые старшие — и Сергей Николаевич поселились в большом бараке, где до войны жили лесорубы, над высоким песчаным обрывом. Внизу по-весеннему голубела разводьями безымянная речка, а сразу за бараком начинался молодой осинник, который затем, словно на глазах вырастая, переходил в настоящий лес. Здесь уже рядом с осинами белели березы, темнели ели, а кое-где даже раскинули узловатые руки-сучья кряжистые дубы.
Незабываема была та весна. Мы вставали с первыми сигналами громкоговорителя и мчались к речке. Ежась от ледяной воды, вбегали потом в кухню, где уже дымилась разложенная по оловянным мискам пшенка с салом. Трижды в день получали мы этот приварок — все, что смог выделить колхоз, но как же вкусна была эта каша с пайковым — по сто грамм за раз — хлебом, наполовину состоящим из отрубей, с какой страстью бросались после пшенной трапезы на дровозаготовки, зная, что каждое четвертое полено даст живое тепло пузатой печке, и уже не надо будет сидеть на уроках в пальто и разбивать пером ледяную корку в чернильнице.
Конечно, пилы поначалу заклинивало, топоры казались стопудовыми, деревья, падая, норовили нас придавить, но учитель всегда находился именно там, где должно упасть неверно подрубленное дерево или выпасть из ослабевших рук топор. А как красиво он работал! Каждое его движение было таким ловким, точным, совершенным, что страстное желание делать, как он, превозмогало все. И двадцать девять пар глаз всматривались, двадцать девять пар рук подражали, двадцать девять душ овладевали!
Возвращаться домой должны были тридцать первого марта. Но в этот день с утра к нам приехал председатель и уговорил Сергея Николаевича поработать еще неделю. А первого апреля пришла настоящая весна. Стремительно, буйно, ликующе она звенела ручьями, сгоняя их в овраг, надувала почки на деревьях, пробивалась травой и ласкала прямо-таки летним солнцем. Даже вечера были теплыми. В один из них на поляне разожгли костер, и Сергей Николаевич рассказал нам о своем бойце Васе Короткове.
Перед самой войной Вася стал студентом математического факультета Московского университета, куда был зачислен без всяких экзаменов, как победитель всесоюзной математической олимпиады. В первый же день войны он, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат и попросил направить в артиллерию. Лучше его не было в части наводчика, он молниеносно производил нужные расчеты, а когда выдавалась свободная минутка, самозабвенно решал какие-то сверхсложные задачи. Шальной снаряд разорвался рядом в одну из таких минут, и последнее, что он прошептал, было: «Красивая задачка»...
Много лет спустя, уже вернувшись в Москву, я встретилась с Витькой Макаровым, который к тому времени превратился в Виктора Григорьевича, кандидата математических наук. И, вспоминая пережитое, он сказал, что именно в тот вечер у костра решил стать математиком и решать красивые задачки.
В середине апреля окрепшие, загорелые, как после крымского курорта, мы, наконец, вернулись с лесозаготовок. Заждавшаяся Тамарочка потребовала, чтобы я сразу пошла с ней на школьную конюшню. Порученная ее заботам Федула так преобразилась, что ее трудно было узнать. Правда, бельмо на глазу оставалось, но второй глаз раскрылся и был вполне зрячим, а главное, кобыла, никак особенно не понукаемая, привезла с речки бочку с водой и даже немного покатала Тамарочку по двору. Обрадованная, я сказала, чтобы завтра к концу уроков Федулу с бочкой подогнали к школьному крыльцу — показать Сергею Николаевичу.
В тот день последним был опять урок русского языка. Я сидела возле своего любимого окна и смотрела на совсем уже по-весеннему солнечно-желтую дорогу. «Хорошо бы Сергей Николаевич вышел сразу, как подъедет с бочкой Федула», — подумала я и вдруг сразу его увидела. Да, конечно, это он — в шинели, сапогах, фуражке, а за плечами вещевой мешок. В это время на дороге показалась бодро везущая бочку Федула. Сергей Николаевич остановился, вгляделся, а потом посмотрел прямо в мое окно. Заметив меня, он улыбнулся и помахал фуражкой.
Глядя на все уменьшающийся силуэт, я думала: неужели никогда мне больше не придется увидеть этого человека, лучшего в моей жизни Учителя? Нет, мы еще встретимся: в трудный час он снова окажется рядом. Но произойдет это еще нескоро.
БУБНОВЫЙ ТУЗ И СЕМЕРКА ПИК
Однажды в раннем детстве папка рассказал мне сказку про гномика. Этот гномик каждое утро ровно за минуту, как человеку проснуться, вытаскивает из колоды одну карту. Самая счастливая — бубновый туз. Если гномик его вытянет, все в этот день тебе будет удаваться. Но если достанет семерку пик, беды не миновать.
В тот памятный день, не полагаясь на случай, гномик, наверняка нарочно, извлек для меня из колоды туза, потому что счастливой я почувствовала себя сразу, как проснулась и увидела, какой сегодня прекрасный день.
Был июль. Середина лета. К хорошему привыкаешь быстро: ушли прочь холода и, кажется, никогда не вернутся, ешь вдосталь — забыл, что такое голод. Кроме значительно улучшившегося детдомовского довольствия, мы были зачислены еще и на колхозное: а это значит целых 800 граммов хлеба, вволю молока и трехразовый горячий приварок. Правда, за это надо было работать. И еще как! Часто, возвращаясь вечером с прополки или окучивания, после целого — от зари до зари — дня работы под палящим солнцем, я сравнивала тяжелый крестьянский труд с довоенными занятиями родителей: теперь их деятельность выглядела чуть ли не детской забавой...
Исключением был сенокос. Я заметила, что даже одевались на сенокос в деревне иначе, чем всегда: пусть не самое лучшее, но чистое и яркое, чаще всего бывшее выходное платье. И как же празднично смотрятся цветастые ситцы на сочной в капельках росы зелени луга при сверкании жжикающих кос.
В тот день в составе нашей неразлучной четверки — с Мишкой, Витькой и Нинкой — я работала на огромном заливном лугу. Это был не первый день нашей работы здесь. Сперва мы убирали сено вместе с деревенскими, а потом, убедившись в нашей сноровке и трудовом энтузиазме, луг был доверен нам полностью. Это так нас окрылило, что вместо отпущенных на луг пяти трудовых дней мы почти закончили его за четыре. На сегодня оставался лишь самый край, колышущийся зеленью за щеткой скошенных стеблей.
Работать начали, как всегда, с зарей. Мальчишки косили, девчонки сгребали и копнили. Сгребать пахучее луговое сено, да это же не работа — удовольствие! От нее и не устаешь нисколечко! Другое дело скирдовать или навьючивать на воз, поддевая вилами и подавая наверх по полкопны, когда руки дрожат от напряжения и тяжести, а сенная труха сыплется на лицо, заползает за шиворот, нестерпимо щекочет и колется. Но даже и это — то ли уже приобретя необходимую сноровку, то ли другое что — сегодня я делала без натуги и радостно. Впрочем, работа спорилась у всех и уже к одиннадцати часам сено было не только скошено, но и почти все вывезено с луга. Оставалось всего на один воз. Однако это сено решили не вывозить, отложив поездку до вечера, так как очень хорошо знали характер председателя, которого никакими трудовыми доблестями не удивишь и который тотчас же перебросит нас на другой объект, где у него, как всегда, «все горит».
Ну, нет, не затем мы по шестнадцать часов самоотверженно вкалывали, чтобы не насладиться в полной мере честно заработанным отдыхом. Этот план был также полностью одобрен и безымянным дедом, прикрепленным к нашей бригаде, в веденье которого находились Тигр и Цыган — снежно-белые тяжеловесы-битюги, величавые, как кони древних витязей. Дед хвастал, что оба они были в Москве на сельскохозяйственной выставке, где взяли призовые места. Конечно, втайне я мечтала хоть раз заменить деда, «взяв вожжи» в свои руки, тем более, что моя Зорька как раз поранила ногу и была отстранена от работы. Но своих красавцев дед никому не доверял, а им, казалось, вообще не нужен был возница. Услышав «готово», тотчас трогали с места и всю дорогу шли убаюкивающей ровной рысью, а дед сладко спал, привалившись к прогретому солнцем пахучему сенному боку. Когда же сено сгрузят, Тигр и Цыган сами разворачивались и так же размеренно-степенно отправлялись в обратный путь — дед часто даже не просыпался.
Свободные полдня дед решил отпраздновать просто: достал заботливо припасенную чекушку, разом «выбулькал» ее содержимое и, закусив хлебовом, так он называл суп-кашу из муки и свинины, завалился под стогом, успев пробормотать:
— К коням чтоб...
Но мы, конечно, не собирались так же бездарно тратить подаренные судьбой и к тому же честно заработанные счастливые часы. Прежде всего решили искупаться. Эх! До чего же здорово в самую жарищу бултыхнуться с разбегу в чистую прозрачную речку и разом вместе с сенной трухой и потом смыть всю усталость! До чего здорово почувствовать себя, наконец, не тружениками села, обязанными неустанно работать для фронта и тыла, а просто мальчишками и девчонками, плещущимися в жаркую летнюю пору в прохладной воде. Совсем, как прежде! Совсем, как до войны!
А речка небольшая и небыстрая, но прохладная и чистая, к тому же славилась своими уловами. Во время весенних разливов в нее порой заплывала из Волги даже знаменитая стерлядь, ну, а в обычное время здесь было немало плотвы, язей, ершей, золотистых линей, ленивых налимов.
Мальчишки быстро приспособили под бредни рубахи, а я вспомнила о марлевом сачке, который несколько дней назад раздобыла в райцентре. Новенький, ярко-розовый сачок для бабочек предназначался Тамарочке, которая все больше меня тревожила. Несмотря на то, что теперь все мы питались в избытке, она по-прежнему была очень бледна и худа. Наша компания беззастенчиво реквизировала с колхозных полей и немногих частных садов разные фрукты-овощи и одаривала ими младших, а я старалась скормить их как можно больше Тамарочке. Каждый раз она светло этому радовалась, но скорее не приношениям, а мне, моему появлению. Но даже и в эти минуты в ее огромных серых глазах было что-то, отчего щемило сердце.
Размышляя обо всем этом, я опустила розовый сачок в воду и побрела к ивовым зарослям на противоположном берегу. Заметив, что пребываю в прострации и бреду, сама не знаю куда, Нинка притаилась в зарослях, чтобы внезапно выскочить и напугать. Так она и сделала. Улучила момент и с воплем: «Держи ее!» ударила ивовым прутом перед самым моим носом. И вдруг что-то огромное стукнуло меня по ноге, а затем ткнулось прямо в марлевый сачок.
— Ой! Мамочки! — испуганно завопила я, инстинктивно выдернула сачок из воды и рывком швырнула на берег прямо к Нинке.
Но теперь заорала она и было от чего. Рядом с прорванным сачком извивалась, стремясь вновь очутиться в родной стихии, исполинская щука. Чтобы преградить ей дорогу, Нинка протянула ивовый прут — он тут же был перещелкнут могучими челюстями. Но все же общими усилиями — конечно, тотчас примчались Витька с Мишкой — щуку удалось отодвинуть на безопасное расстояние от берега, а затем и просунуть ей под жабры леску. Когда уснувшую рыбину подняли, выяснилось, что длиной она никак не меньше метра и столь же внушительна в объеме.
— Как оглобля! Никогда такой не видел! Ребятам показать — лопнут от зависти, — суммировал наши впечатления Витька.
Эх! Тщеславие! До чего ты нас только не доводишь! Самые опрометчивые поступки порой совершаются ради минутного триумфа... Идея запрячь Тигра и Цыгана, чтобы прокатиться в соседнюю бригаду и показать всем невиданную щуку, принадлежала Витьке. Запрет деда во внимание не приняли, тем более, что его фраза осталась недосказанной и толковать ее можно было как угодно. Так что, если и были у кого какие сомнения на этот счет, то их развеяли вмиг. Что же до меня, то, во-первых, мне очень хотелось увидеть Тамарочку, а во-вторых, завладеть, наконец, вожжами — какие тут могут быть сомнения!
Холеные битюги, как всегда, с места разом взяли рысью и мерно зацокали по прокаленной жарой проселочной дороге. Лучшая в колхозе телега, сработанная еще немцами Поволжья, на больших дутых, похожих на автомобильные шины колесах плыла-катила по сельским ухабам, как по воздуху, и без всяких происшествий доставила нас на поле, где пропалывали свеклу младшие.
Восторг Тамарочки и всей остальной ребятни при нашем появлении был неописуемый. Самая младшая «работница», семилетняя голубоглазая Люська, увидев чудо-щуку, даже намочила штанишки, что в свою очередь вызвало новую бурю восторга.
Практичная тетя Маня между тем решила по-своему использовать выгоду от приезда дорогих гостей.
— Слышь, ребятки,— обратилась она к нам, — а не поможете ли вы нам с прополкой этой проклятой. А то мы с нашими малолетками только к ночи до отметки допластываемся. (Отметка означала конец дневной нормы).
Удивительно, как та же самая прополка, которая у всех у нас обычно не вызывала ничего, кроме омерзения, сейчас превратилась в увлекательную игру. На сорняков ринулись, как в атаку, с криками «Ура!» Младшие стремились не отставать от старших и обогнать друг друга. Когда же Витька объявил, что достигший отметины первым получит в качестве приза щучью голову, энтузиазм достиг апогея, и дневную норму выполнили еще до того, как тетя Маня управилась со щукой. А первым закончил прополку подопечный Витьки Макарова Витька Маленький.
Чтобы достойно отметить столь выдающиеся трудовые успехи, а также, чтобы «не торчать над душой» у тети Мани, решили покатать младших на Тигре и Цыгане. Степенные тяжеловозы стоически отнеслись к тому, что с десяток ребят, хохоча и толкая друг друга, взгромоздились на их широченные спины (на такой спине хоть танцплощадку устраивай, — заметила тетя Маня) и, сделав по полю круг почета, доставили своих пассажиров прямо к столу — к испеченной, украшенной морковкой и укропом щуке.
Я смотрела на Тамарочку и не узнавала: с каким аппетитом ела, как разрумянилась, как звонко смеялась, видно, нет лучшего лекарства, чем радость.
— А можно мы их еще покатаем? — обратился Витя к молоденькой воспитательнице Милочке, но та уже тоже задремала в тенечке.
— Покатайте, покатайте, — вместо нее ответила вездесущая тетя Маня, — только не очень долго.
Снова запрягли лошадей.
— Может, на опытное поле сгоняем? — вдруг предложил Мишка. Обычно очень молчаливый, он иногда изрекал прямо-таки восхитительные идеи. Данная, несомненно, принадлежала к их числу: о необычайно вкусных арбузах на опытном поле ходили легенды. Правда, опытное поле охраняется, но вдруг удастся, вдруг повезет?!
И ведь, действительно, повезло! Не иначе, как сказочный гномик всем нам вытащил сегодня по самой счастливой карте: шалаш сторожа был пуст, и вокруг тоже никого не было. А арбузы! Таких, наверное, не пробовали даже короли в день коронации! Мы с Тамарочкой выбирали самые большие, продолговатые, похожие на дирижабли «полосатики» (Витька сказал, что именно они получили на сельхозвыставке большую золотую медаль) и разбивали ударом об землю, выедая затем только самую середину. Конечно, где-то в глубине души совесть робко шептала, что так поступать — свинство, но я заглушала ее укоры бесспорным аргументом: мы так долго голодали, что хоть один раз можем позволить... Все же Мишка, увидев, сколько мы попортили арбузов, назвал нас варварами и посоветовал скорее смываться. Прихватив с десяток «полосатиков», наша компания благополучно покинула бахчу и вернулась к коням, оставленным у речки под присмотром Нинки.
Говорят, преступник чаще всего попадается в тот момент, когда, зарвавшись, теряет чувство меры. Наверное, это так и есть. Ну, что бы вовремя остановиться, что бы вернуться?! Но нет! Теперь злой дух проснулся в душе Нинки. Вынужденная по жребию (досталась самая короткая травинка) присматривать за лошадьми, она не могла простить нам «арбузных лавров» и предложила совершить еще один дерзкий набег— на пасеку. На все возражения: «поздно уже», «дед может проснуться», «Тамарочка устала» и другие она находила контрдоводы: «и вовсе не поздно», «сто раз успеем», «Тамарочку у реки посадим, отдохнет»... Словом, Нинка убедила всех, хотя, если по-честному, особенного труда ей это не составило. Решено было Витьку Маленького оставить с Тамарочкой у речки, а самим для скорости отправиться на пасеку на лошадях и только вблизи спешиться.
Увы! Мы слишком долго испытывали судьбу, на этот раз удача нам изменила. Я ощутила это первой. Найдя в старом улье кусок свежего сотового меда, я тут же сунула его в рот. Но в сотах, оказывается, спряталась пчела, которая тотчас вцепилась мне в язык. Однако наши злоключения только начинались. Хотя Витька уверял, что знает секрет, как не потревожить ни одной пчелы, не успел он приоткрыть улей, как весь пчелиный рой ринулся на него. Ужаленный сразу в десятки мест, Витька заорал. Дальше события развивались молниеносно. Из избушки выскочил пасечник с ружьем, заряженным для такого случая крупной солью. Пасечник не был снайпером, поэтому, хотя он стрелял в Витьку, большая часть соли была растрачена впустую, и только несколько крупинок угодило в находившуюся рядом Нинку, отчего она завопила, как сирена. Мишка, который находился при лошадях, увидев все это, поспешил на помощь, но наткнулся на объезжавшего поля председателя.
— Стой! — закричал тот. — Почему не на сенокосе?
Стоять меньше всего входило в наши планы. Едва ввалившись в телегу, мы стали нахлестывать битюгов. Однако брать призовые места на скачках вовсе не удел тяжеловозов. Хотя они добросовестно сменили привычную рысь на тяжелый галоп, расстояние между ними и резвой председательской Машкой неумолимо сокращалось. Развязку ускорило появление агрономши, которая как раз направлялась на опытный участок. Заподозрив неладное, она загородила своей бричкой дорогу. Мы оказались в западне, и ничего не оставалось, как остановить лошадей. Допрос председателя, неловкие оправдания ребят, не стесняющаяся крепких выражений агрономша, обнаружившая в телеге семенные арбузы, — все это слилось в каком-то диком хоре. Но я не принимала в нем участия — невыносимо болел укушенный пчелой, распухший язык.
Я первая заметила маленькую фигурку, спешащую к нам. Человечек нелепо размахивал руками и что-то кричал, но за общим гомоном его не было слышно. «Да это Витька Маленький», — узнала вдруг я, и в груди у меня стало так холодно, словно Снежная Королева сжала рукой мое сердце.
— Па..а..стойте! —с трудом выговорила я — и странно: все сразу замолчали.
Теперь стало слышно, как захлебывается плачем Витька, можно было разобрать, что он кричит:
— Там... Тамарочка в речке утонула...
Два часа пытались вернуть к жизни бездыханное тельце, но жизнь улетела из него навсегда.
Через несколько лет мне удалось узнать адрес матери Тамарочки. Она теперь жила в Москве, я ее разыскала.
У нее уже была новая семья, двое детей, бесцветный, но вполне положительный муж. Меня усадили за стол, достали несколько банок варенья: все из ягод со своего участка. Я заговорила о Тамарочке, хотела рассказать о ней все, хотела передать, как много она значила для нас. Но постоянное обращение к варенью: «ну как вам вишневое, вот еще попробуйте из крыжовника» сбивало.
И я поняла, что это не просто дань вежливости, а равнодушие: здесь уже давно вычеркнули из своей памяти то, что мне до сих пор так дорого...
ПРИЕЗЖАЙ! Письмо от мамы
Я получила письмо от мамы. Оно было коротким и энергичным. Мама писала, что живет теперь в поселке Переборы недалеко от Рыбинска и что нам разрешено быть вместе.
— Приезжай! — писала она. — Мы постараемся строить нашу жизнь интересно.
В письмо была вложена фотография. Седая, строгая, волевая женщина с твердым ртом и внимательным взглядом смотрела прямо на меня. Ни тени меланхолической грусти, ни «печати перенесенных страданий». Эта женщина была совсем не похожа на ту, которую я видела в последний раз, и на ту, которую знала в детстве. Но знала ли?
Если бы мне было предложено определить главную черту личности моей мамы, я бы назвала неожиданность — никогда нельзя было предугадать, какой она будет на этот раз.
Спустя много месяцев, когда наша встреча состоится, я пойду встречать приехавшую в Москву маму, и я не узнаю ее. Не узнаю потому, что буду высматривать «предыдущую маму». А мимо пройдет теперешняя, заденет краем серебристого плаща и тоже не узнает меня. Однако это будет еще очень нескоро, а сейчас, держа письмо, я вспоминала маму, какой ее ощущала в разное время с раннего детства. Воспоминания были отрывочными, а мама каждый раз другой.
Мне 6 лет. Я только что проснулась в нашей довоенной квартире на Арбате. За окном оживленно перебраниваются воробьи, свистит, поддразнивая их, попугай Лорка. В кухне дребезжит посуда, готовится завтрак. Все это звуки обыденные, привычные, но вот какое-то бормотанье доносится из маминой комнаты.
В ночной рубашонке я крадусь к двери — вдруг удастся подсмотреть. Так и есть — щелка. Мама сидит на кровати. Какая она сегодня юная. Как девчонка. Может, от этой короткой новой стрижки? И ногу по-девчоночьи под себя подвернула, сидит, раскачивается, бормочет нараспев какие-то слова. «Итальянский учит», — догадываюсь я, так как знаю, что мама должна ехать за границу, ставить там итальянскую оперу. И вспомнила, как мама укоряла меня за то, что я «вытравила из себя немецкий». Когда мне было три года, то вместе с отцом (он был советским торгпредом в Германии), мамой и Адрианом жила в Берлине и полгода провела в пансионе, где очень скоро начала говорить по-немецки так же, как немецкие дети. Однако в Москве мальчишки родного арбатского двора, услышав, как я «шпрехаю», стали дразнить «немец-перец-колбаса», и тогда, глупо обидевшись, я «принципиально» постепенно забыла язык.
Сейчас, слушая, как мама, превосходно владеющая немецким и французским, еще и итальянский учит, я впервые пожалела об этом.
— Доча, иди сюда, что ты там подглядываешь, — перешла мама на родной русский. — Не стой босая. Хочешь, залезай ко мне.
Еще бы не хотеть! В один миг я очутилась под одеялом.
— Расскажи сказку, — попросила я.
— Про что сегодня? — спросила мама. У нас с мамой была такая игра: я заказывала, мама выполняла, — и сказка рождалась тут же.
— Про него, — я показала на игрушку на тумбочке (в маминой комнате было множество игрушек, но это были ЕЕ игрушки, брать их было нельзя).
— Жил-был Пупсятина, — начала мама, и я сразу поверила во все, что будет в этой еще не родившейся сказке, потому что точнее нельзя было назвать этого толстого добродушного и самодовольного целлулоидного человечка. — Он стоял на тумбочке и скучал, — продолжала мама. — Но вот однажды...
— Ночью, — уточнила я.
— Ночью, — согласилась мама, — он отправился путешествовать.
Мама рассказывала о невероятных приключениях Пупсятины, который испугался Мыльного Пузыря, но спас слоненка, и, так как сказка сочинялась на ходу, так же непосредственно, как я, воспринимала все хитросплетения ею же придуманного сюжета.
***
В Московский театр для детей, созданный и возглавляемый моей мамой, я могла беспрепятственно приходить, когда угодно.
Сегодня в пустом зале я одна. А на сцене сейчас начнется репетиция и там мама. Она в синем комбинезоне, похожа на молодого рабочего.
— Свет! — кричит мама, — и загораются «глаза» разноцветных софитов, освещая сцену, в центре которой пестрый шатер, а на его верху большие пляшущие буквы образуют веселое слово «цирк». И из цирка-шатра под звуки ликующей музыки, кувыркаясь, танцуя, прыгая, появляются артисты, все наполняя движением.
— Стоп! — кричит мама, — и все замирает. Она подходит к молоденькой актрисе в двухцветном ярком трико. — Скажите, пожалуйста, кого вы играете?
— Акробатку, — еле слышно лепечет актриса.
— Спасибо за пояснение, а я думала, что вы изображаете бегемота. Пожалуйста, повторите ваш трюк.
На глазах у актрисы слезы, она пытается прыгнуть и чуть не падает. «И правда, какая она неуклюжая, зря пошла в артистки»,—думаю я, но мама почему-то говорит:
— Так, немного лучше. Теперь попробуйте сильнее оттолкнуться. — И отталкивается сама, и прыгает, как заправская гимнастка, тоненькая, пружинистая, сильная. Увлеченная, прыгает и артистка. — Молодец! Еще раз! Еще! А теперь все снова!
И снова ликует оркестр, и снова танцуют и кувыркаются актеры, а я смотрю только на молоденькую и любуюсь, какая она грациозная, ловкая, красивая... Честное слово, я бы влюбилась в нее, если бы не была влюблена в свою маму.
* * *
Через три года после ареста, незадолго до войны, нам с бабушкой было разрешено свидание с мамой. Когда я об этом узнала, даже испугалась: мама униженная, как больно будет видеть это. И какой она стала ТАМ? Я знала, что мама теперь совершенно седая, наверно, очень постаревшая, может, вся в морщинах...
Когда начинала об этом думать, почему-то в памяти всплывала картинка из школьной хрестоматии: изможденная женщина в платочке с выбивающимися оттуда жидкими прядями склонилась над корытом. Я прекрасно знала, что картинка называется «Прачки», что на ней изображены и другие женщины, а главное, что та женщина ни при каких обстоятельствах, ни единой черточкой не похожа и не может быть похожа на мою маму, но ничего другого себе представить не могла.
Выехали поздно вечером. В переполненном вагоне молодые красноармейцы без радости уступили нам — одну на двоих — нижнюю полку. Сами всю ночь азартно играли в карты и курили.
Наконец, приехали. Ноябрьским промозглым утром долго шли по раскисшей глинистой дороге, пока не увидели низкие бревенчатые бараки за колючей проволокой. Здесь находилась моя мама.
У ворот лагеря взад-вперед ходил часовой. Когда мы подошли, он встал перед нами и застыл, безразличный, как монумент. Бабушка о чем- то робко его спросила, он даже не повернул головы.
Вдруг из барака напротив появилась женщина в серых, очень изящных сапожках, серой барашковой шапочке набекрень и очень красивом сером же пальто с таким же, как шапочка, воротником; она стремительно шла к воротам. «Какая красивая... неужели это?.. — я не успела додумать, как мама уже обнимала меня и бабушку, а часовой смотрел на нас и расплылся до ушей в такой счастливой улыбке, будто это к нему прибыл кто-то самый дорогой.
Но вот из кирпичного дома, стоящего в стороне от бараков, вышел и быстро направился к нам какой-то военный, судя по всему начальство.
— Что здесь происходит?—раздался его резкий окрик, и я заметила, что бабушка вся сжалась.
Он потребовал от нее какую-то бумагу, бабушка протянула, но бумага оказалась не та, и военный стал выговаривать часовому отрывистым «лающим» голосом, а нам приказал идти в какую-то контору, чтобы там получить нужную бумагу.
Мы снова оказались за воротами. Снова шли по вязкой, скользкой глине через большое, изрытое, очевидно, картофельное поле, а сверху сеял и сеял нудный, проникающий до костей осенний дождь. Бабушкина спина, совсем мокрая, покачивалась передо мной, она шла трудно, медленно, но не остановилась ни разу, пока не дошли до цели.
Узнав, зачем мы пришли, военный, к которому обратились, сказал, что должен доложить капитану, и ушел, оставив нас ждать в коридоре. Наконец, он вернулся и указал на дверь, в которую нам предстояло войти.
Многие слова у меня в детстве сразу вызывали в воображении образы, возникавшие на основе прочитанных книг, полюбившихся кинокартин, спектаклей, песен. Слово «капитан» ассоциировалось с человеком крепким, мужественным, красивым, спокойным и добрым. Человек, сидевший за столом, в той комнате, куда мы вошли, был страшен. Страшным своей болезненной некрасивостью было его испитое, землистое лицо, непомерно длинные, узловатые, какие-то «паучьи» пальцы, нервно перебирающие поданную бабушкой бумагу, и особенно его глаза, совершенно круглые, бесцветные, «рачьи глаза». Когда он их поднял от бумаги, я в страхе попятилась к двери и так там и стояла, прижавшись. А человек сразу стал кричать на бабушку тонким резким голосом, потрясая бумагой. Из его захлебывающейся речи я поняла одно: бумага, привезенная бабушкой из Москвы, его чем-то не устраивает, и он не даст нам свидания с мамой.
И вдруг бабушка заплакала и упала перед страшным человеком на колени. Она вся сотрясалась от рыданий, а он кричал на нее и требовал, чтобы она встала. В какой-то момент бабушка обернулась на меня, и я поняла, что тоже должна упасть, молить, плакать... Но во мне словно все окаменело, я еще плотнее прижалась к двери и ничем ей не помогла. «Какая же ты черствая», — напомнит она мне это потом в сердцах.
А человек уже снова был за своим столом, он что-то писал, затем все-таки поднял бабушку с колен и почти вытолкал нас за дверь. Мы опять шли по картофельному полю к баракам за колючей проволокой, возле которых вышагивал уже новый часовой. Но того, первого, мы тоже увидели, когда нас пропустили за ворота после, на этот раз, очень тщательной проверки — он стоял рядом с мамой.
— Вот, — сказала она, — этот человек из-за меня теперь будет сидеть на гауптвахте.
— Ну, и посижу, какое дело, — сказал этот человек, — зато вам свиданку разрешили. — И улыбнулся до ушей.
Но вот наконец мы только втроем. Бабушка что-то говорила, спрашивала, плакала, а я только смотрю не отрываясь на совсем новую для меня маму. На синее с белым платье, на удивительно изящные — я сразу их заметила — сапожки («Это мне один урка сделал, не правда ли, неплохо», — перехватила мама мой взгляд), на ее блестящие необыкновенно живые глаза, но больше всего на волосы. Никогда ни у кого больше не видела я таких волос. Это было какое-то живое, струящееся серебро, обрамляющее совсем юное лицо (она поседела за одну ночь, первую после ареста). «Как королева», — подумала я.
Словно услышав мои мысли, за дверью кто-то сказал:
— Королева, разрешите?..
В комнату вошел лысый рыхлый человек, напоминающий бухгалтера. Он держал в руках несколько разноцветных кусков материи.
— Это заведующий лагерной аптекой и наш завпост Семен Яковлевич Магиденко, — представила мама вошедшего, который очень учтиво и даже несколько церемонно поклонился сперва бабушке, а затем мне. А мама продолжала:
— Вы не представляете, какие замечательные костюмы получаются из обыкновенной марли, если ее окрашивать лекарствами. Ты знаешь, — обратилась она уже к бабушке, — я поняла, что театр можно создавать везде. Может, здесь он особенно нужен. Мы сейчас ставим «Бесприданницу» и, по-моему, получается.
В комнату опять постучали, а затем просунулась чья-то бритая голова, и ее обладатель произнес:
— Прошу прощения, репетиция начинается.
Мама чуть смутилась:
— Наверное, надо было отменить, но через два дня премьера, а спектакля все так ждут... Это ненадолго (репетиция продолжалась часа четыре). Может, вам даже разрешат посидеть в клубе, хотя у нас это, правда, не полагается, но я попрошу, — и она вышла.
Я, наконец, огляделась. В комнате с грязными, в каких-то коричневых подтеках стенами была только узкая, с худосочным матрацем, но без одеяла кровать и три табуретки. По стене полз клоп. «Так вот откуда подтеки», — подумала я и поежилась. Но мне тут же стало стыдно. «Подумаешь, клоп. Я пробуду здесь всего одну ночь, а мама живет уже год и неизвестно, когда выйдет».
Нам все-таки разрешили побывать на репетиции. Но хотя прогнали, по несколько раз повторяя одно и то же, два акта, я ничего не поняла из содержания пьесы, вернее, я его просто не воспринимала. Все во мне было поглощено другим: как ведет себя ЗДЕСЬ моя мама и как ведут себя с ней ЭТИ ЛЮДИ. Я уже знала, что мамина «труппа» в основном состояла из уголовников, осужденных на разные сроки за бандитизм и хулиганство. Но, глядя на них на репетиции, видя, как радостно-благоговейно выполняют они все ее указания, как предупредительно-внимательны к бабушке и ко мне, не только не могла их себе представить совершающими тяжкие преступления «путем грабежа и насилия», но и попросту невежливыми, например, не уступившими места старушке в трамвае.
— Ну, там разные, вот «Горе от ума» начала, — сама прочитала наизусть и попутно сыграла за всех чуть ли не полкомедии Грибоедова.
Моя «эрудиция» ее явно не удовлетворила и, наверное, чтобы разбудить мой дремлющий интеллект, она стала рассказывать о своих любимых книгах, а затем о любимых пьесах и перешла на то, как интересно она задумала постановку «Двенадцатой ночи« Шекспира, которую осуществит сразу по возвращении:
— Я уверена, что очень скоро справедливость восторжествует, мы снова будем вместе, и я сразу начну репетировать...
Почему-то, услышав это, я вспомнила капитана, перед которым бабушка стояла на коленях, и сказала, что он очень страшный и злой.
— Нет, ты ошибаешься, — горячо возразила мама. Это добрый, отзывчивый и смелый человек, хотя и очень больной. Он ведь не имел права разрешать свидания, так как на вашем документе не было самого главного — печати, а сделал это. Учись, доча, видеть в людях их суть, а не только внешнее. Почти к каждому человеку можно подобрать золотой ключик, который откроет в нем лучшее. И еще: никогда не теряй веры в людей, даже когда ты становишься жертвой чего-то непонятного и страшного.
Утром следующего дня мы с бабушкой покинули лагерь. Мама осталась за колючей проволокой.
— Мы скоро увидимся, я верю! — Она махала нам рукой и улыбалась, а серебряные волосы падали ей на плечи.
***
Я сидела на своей кровати, перечитывала полученное письмо и думала о маме. А за окном была ночь, темная ночь в приволжской степи, в детском доме, за много верст от тех мест, о которых я вспоминала. Впрочем, ночь уже кончалась. Наступало утро. А утром я должна была ехать к маме.
ПЛАТА ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ
В коричневом фанерном чемодане целое богатство: полпуда муки, сало, сливочное масло, сахар и три буханки хлеба. Мука и сало выменены на вещи, остальное по распоряжению заведующей детдомом Анны Ивановны выдано со склада мне на дорогу. До самого Саратова, впрочем, велено чемодан не открывать, так как той же Анне Ивановне удалось договориться с директором другого детдома, переезжающего из нашего райцентра куда-то на север, о том, что они меня до Саратова довезут и в пути покормят.
Был еще только ноябрь, но природа давно забыла про осень, зима властно утвердилась не только на земле, но и на воде. Застигнутая морозами врасплох Волга, словно внезапно остановленный конь, вздыбилась ледяными волнами. Бегущие по ним машины тряслись в лихорадочном ознобе, сталкивая друг с другом своих промерзших до неодушевленности пассажиров. Почему-то почти совсем не было автобусов: и те, кому нужно было попасть из Саратова в Энгельс, добирались на грузовиках в открытых кузовах. Так ехала и я с фанерным чемоданом и с двумя десятками таких же продрогших детдомовских ребят. За два дня совместного пути мы не успели даже познакомиться. Все наше общение ограничивалось совместным ночлегом в Доме колхозника и едой, которую мне выдавали в последнюю очередь за вычетом особо дефицитных масла и сахара, полагавшихся только «своим». И все же я успела к ним привыкнуть, и, когда в Саратове на вокзале мы расстались, стало грустно и одиноко. Но нужно было действовать. И прежде всего купить билет.
Зимой 42-43 года Саратовский вокзал представлял собой огромный человеческий муравейник. Но, как и в обычном муравейнике, здесь были свои центры, определявшие всю его кишащую, внешне беспорядочную жизнь. Ими являлись кассы, вокруг которых змеились унылые, бесконечные очереди. В очередях стояли, сидели, даже лежали, задушевно беседовали и зло перебранивались люди с мешками, корзинами, сумками и чемоданами. Расписание пассажирских поездов уже давно не соблюдалось, да и как могло соблюдаться, когда вне всякого расписания день и ночь гудели рельсы под тяжестью военных эшелонов, идущих на запад. Однако обыкновенные поезда, пусть нерегулярно, но все же ходили. Об их прибытии очередь узнавала совершенно непонятным образом, так как никаких оповещений по радио не было. И все же каждый раз за два-три часа до продажи билетов в обычно неподвижной очереди вдруг возникали какие-то бурлящие островки взволнованно переговаривающихся о чем-то людей. Когда же окошечко одной из касс с сухим стуком распахивалось, все приходило в неистовое и беспорядочное движение. Кулаки, локти, мешки, чемоданы — все шло в дело. Слабым здесь не было места или, вернее, слабые неизменно оказывались в самом хвосте очереди. Там, где уже несколько суток находилась я.
После одного из таких сражений, когда билеты кончились, а очередь успокоилась, следом за мной стала пожилая женщина с острым лисьим лицом, закутанная в большой клетчатый платок. Сочувственно разглядывая, женщина стала меня расспрашивать, куда и откуда я еду. Узнав, что в Рыбинск к маме, посетовала: девчонка одна, в такую даль, к тому же небось голодная. Женщина покачивала головой и смотрела на меня так жалостливо, что я сочла необходимым ей сообщить, что продуктов у меня много, целый чемодан и деньги тоже есть. Судя по довольной улыбке, это ее успокоило и обрадовало. «Какая хорошая женщина», — подумала я, истосковавшись по вниманию и теплу. Та, очевидно, тоже почувствовала ко мне полное доверие, потому что попросила покараулить ее корзинку, пока она сходит в туалет. Я, конечно, согласилась. Вскоре женщина вернулась, затем опять куда-то отлучилась, оставив на моем попечении все свои вещи. Так продолжалось несколько раз.
Наконец, и я обратилась к женщине с просьбой покараулить фанерный чемодан. До сих пор, помня строжайший наказ Анны Ивановны, я повсюду таскала его с собой. Хорошая женщина очень охотно согласилась.
Но едва я немного отошла, мной овладела непонятная тревога, и я повернула назад. Но тут, откуда ни возьмись, передо мной вырос мордастый парень и загородил дорогу. Я попробовала его обойти, но мордастый, ухмыляясь, все время оказывался на моем пути.
Вдруг из-за спины парня в вокзальных дверях я увидела знакомый клетчатый платок, но, может, мне это только показалось?! Оглянулась на мордастого, но он исчез так же неожиданно, как и появился. Я все же заспешила к выходу и уже почти достигла дверей, как одна из очередей забурлила, и хлынувшая к кассе толпа оттеснила меня к тому самому месту, где я стояла в очереди. Но хорошей женщины там уже не было. Не было и фанерного чемодана.
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
Вот уже несколько дней, как мне ничего не хочется. Тупое безразличие, равнодушие ко всему и прежде всего к самой себе овладело мной. Не волнует, что не умыта, что нечего есть и неизвестно, где буду спать. Единственное, чего бы я желала — сесть где-нибудь в уголочке и сидеть, не двигаясь. Но именно этого я не могла себе позволить, потому что одно стремление во мне все-таки жило — во что бы то ни стало доехать до мамы.
Мысль об этом не покидала ни на минуту и требовала поступка. Наверное, это и побудило меня прийти в отдел народного образования. Вошла в дверь с надписью «Заведующий», но, оказалось, что он куда-то уехал. Секретарша, буркнувшая это, была такой неприветливой, что я сразу повернулась, чтобы уйти. Однако она меня остановила и так же хмуро спросила, зачем я сюда пришла. Выслушав мой сбивчивый лепет, секретарша встала и направилась к выходу, приказав следовать за собой. Она привела меня в детский дом, где мне дали поесть и обещали дать обед еще и завтра. Когда мы вернулись в гороно, секретарша указала на обитый зеленым сукном стол, очевидно, самого заведующего и снова буркнула: «Ночевать можешь здесь». Конечно, стол не кровать, но все же лучше, чем каменный пол на вокзале, где к тому же в 5 часов утра всех выгоняют на мороз. Но днем в гороно находиться было нельзя, и я бесприютно бродила по городу.
Шла битва за Сталинград. Саратов был относительно недалеко, и в городе все явственнее ощущалось грозное дыхание войны. На вокзале, где я по-прежнему проводила большую часть дня, все реже открывались окошечки обычных касс, зато все больше шинелей и солдатских полушубков было в кассе воинской. Еще больше их было на перроне у бесчисленных составов и эшелонов, где на открытых платформах под чехлами и без стояли танки.
А морозы с каждым днем заворачивали все круче. Стены домов покрыты льдистым инеем, кажется, дотронься — и они зазвенят холодным стеклянным звоном. Нигде в городе уже давно не работало центральное отопление, поэтому с топкой и топливом выкручивались, кто как мог. И все-таки выкручивались — об этом говорили дымки из самоварных труб буржуек, выведенные в окна, и мне мучительно хотелось хоть недолго посидеть у такого огня и выпить кружку обжигающего кипятку с пайковой хрустящей черной корочкой. Бродя по стылым горбатым от снега улицам, всматриваясь в хмурые озабоченные лица, я пыталась представить себе этих людей дома: их быт, семью, уют... Воображение рисовало их разомлевшими от тепла, улыбающимися, приветливыми, и их добрые улыбки предназначались именно мне, сидящей с кем-то из них рядом у излучающей тепло буржуйки. Но люди шли мимо и не было им до меня никакого дела.
Наконец, появился завгороно. Он был тоже озабоченным, усталым, множество народа толпилось у него в приемной. Однако хмурая секретарша сразу провела меня в кабинет и поставила перед заведующим. Узнав, что я обязательно должна уехать, но что у меня нет ни денег, ни билета, ни продуктов, он только сказал:
— Так... — и стал еще более озабоченным и усталым. Потом он долго пытался кому-то дозвониться, но телефон никак не соединялся, а потом соединился, но кого-то не было, наконец, потом этот кто-то чего-то не понимал или не хотел понять, и заведующий все время повторял:
— Да поймите вы!..
Но, видно, этот кто-то так ничего и не понял, потому что завгороно вдруг покраснел, бросил трубку, а потом закурил, но, затянувшись, отшвырнул папиросу и снова стал звонить...
Потом заведующий вызвал какую-то женщину и приказал ей идти со мной за билетом. Я приготовилась идти на вокзал, но, оказалось, есть еще одна касса совсем недалеко отсюда. Там почти не было очередей, но тем не менее кассирша время от времени высовывалась из окошечка и очень громко провозглашала:
— На сегодня ни на один поезд ни одного билета, только на завтра.
Когда мы шли сюда, женщина сказала, что возьмет мне билет на сегодняшний вечерний поезд, но, услышав выкрик кассирши, я поняла, что сделать этого не удалось. Но и билет на завтра все равно был счастьем, к тому же, кроме билета, женщина выдала мне 300 рублей, чтобы купить продуктов на дорогу.
Но странно — именно теперь, когда все так хорошо складывалось, тупое безразличие навалилось на меня с удвоенной силой. Мне хотелось только одного — лечь, но это было невозможно, и я побрела к рынку, хотя мысль о еде почему-то была неприятна.
Идти с каждым шагом становилось все трудней и даже не из-за скользкой дороги, а из-за ног: с ними что-то случилось, они перестали меня слушаться. К тому же стало невыносимо жарко, так жарко, что сперва я расстегнула пальто, а потом стала развязывать тесемки у шапки. Заметив это, какая-то женщина сказала:
— Что ты делаешь? Сейчас ниже тридцати.
Потом вгляделась и воскликнула:
— Да ты больна! Тебе надо к врачу.
— Мне надо к маме, — скорее себе, чем ей, ответила я и побрела дальше.
Наконец, добралась до базара. Здесь торговали разным барахлом и продуктами. Какой-то долговязый тип в рваном женском платке поверх кепки спросил, что мне надо, и, узнав, что хлеба, тут же извлек из-под полы буханку. Она была круглая и довольно большая. Тип хотел за нее 250, но уступил за 200. Прижав к себе буханку, я побрела дальше.
В молочном ряду тетка с кирпичной рожей наливала из бидона молоко. Я уже прошла мимо, как вдруг почувствовала, что страстно хочу, мечтаю, жажду выпить этого молока. Напрасно я внушала себе, что это блажь, что я не имею на это права, ноги сами повернули обратно. Пол- литровая банка стоила 100 рублей. На робкую просьбу продать стакан или половину банки тетка ответила презрительным отказом. А молоко вблизи сулило немыслимое блаженство. Белая пена с желтыми крупинками масла от мороза встала над банкой шапкой, медленно лопались молочные пузыри, источая терпкий дразнящий запах... Искушение было слишком велико — я протянула тетке сотню.
Но как только мое желание исполнилось, как только до краев полная банка очутилась в моих руках, я вдруг утратила к ней всякий интерес. Чем ближе я подносила к губам молоко, тем меньше мне хотелось его пить, даже запах теперь вызывал отвращение. Я поставила банку и взглянула на тетку. Она возвышалась над прилавком, как монумент. В ее немигающих глазах была неумолимость. Все же я сделала робкую попытку и прошептала:
— Мне не хочется.
— Твое дело: хошь пей, хошь в снег лей, — согласилась тетка и при этом туго запахнула на груда овчину, топорщившуюся от напиханных туда денег.
Сознание, что я так бездарно истратила последние деньги, заставило меня вновь поднести ненавистную банку к губам. От вымерзшего с ледяными кристаллами молока деревенело горло, ломило зубы, кажется, никогда и ничто не вызывало во мне такого жгучего омерзения, но я упрямо лила и лила в себя ледяную струю, пока не выпила все до капли.
Я добрела до гороно, когда уже начало темнеть. Очень хотелось лечь, чтобы вытянуть наконец дрожащие ватные ноги, но засела занозой, буравила душу мысль: если сейчас лягу, уже не встану. Все же вошла, присела на ступеньку лестницы и, хотя о еде не хотелось даже думать, машинально отломила ломтик от буханки. Что-то посыпалось вдруг на колени. Вгляделась — опилки. Вся буханка состояла из них, только по краям тонкая корочка хлеба.
Наверху хлопнули дверью, послышались шаги, затем голоса, кто-то спускался по лестнице. «Неужели?! — подумала я, еще не разобрав слов, а только звук голоса...
— Я узнавал, поезд ушел, — сказал один, и это был завгороно.
— Ну, значит, уехала, — ответил другой, и это был тот самый, ЕГО голос, Сергея Николаевича, самого любимого моего учителя. А он уже здесь рядом, ведет наверх, укладывает на стулья, кладет руку на лоб, что-то спрашивает, о чем-то говорит. И пусть я опять просчиталась, билет был на сегодня, мой поезд ушел, пусть хлеб из опилок и тошнит от молока, все равно все будет, как надо, если ОН рядом. Только почему он не посидит около, а звонит и звонит по дребезжащему телефону, требуя за кем-то срочно приехать. У кого высокая температура?!
Как долго, бесконечно долго колесит «Скорая» по ночному Саратову. Одна больница, вторая, третья. Нет! Не могут они больше принять ни одного человека. Подъехав к четвертой, ни у кого ничего спрашивать не стали, а прямо понесли в приемный покой.
— Ксана! Ксана! Ты слышишь меня? Открой глаза, ты видишь меня, Ксана?
Как тяжело, оказывается, поднимать веки, разжимать губы и сказать одно единственное слово:
— Вижу...
— Я уезжаю, Ксанка. Еду на фронт в Сталинград. Но ты обязательно должна выздороветь, понимаешь, должна...
Какое неспокойное слово «должна», оно ввинчивается в тебя и буравит, стучит в висках, словно перестук колес бегущего поезда, который должен был тебя куда-то везти, но куда и зачем ты уже не знаешь.
— Что с этой-то делать, ни в палате, ни в коридоре ни одного места.
— Пусть тут лежит, к утру все равно умрет.
Я это слышу, я понимаю, что говорят про меня, но меня это нисколько не пугает — наоборот: умереть, значит, наконец, вытянуться, значит покой, полный желанный покой. Но что-то внутри меня не соглашается, что-то копошится, сопротивляется, что-то тревожит и стучит: должна, должна.
— Пи...ть, — вдруг произносит сухой, шершавый, какой-то совсем отдельный от меня язык. — Пи...ить...
Видно, кто-то меня услышал, потому что чьи-то руки поднимают голову, подносят чашку к губам и осторожно держат. Вода такая горячая, что эти руки с трудом удерживают чашку, но я этого не чувствую: хотя голова у меня пылает, в груди поселился ледяной змей, который изо всех сил сдавливает, стремясь обратить в лед мое сердце.
— Пи...ить, — снова просят губы, и снова те же руки приносят и помогают. Кружка за кружкой вливаю я в себя клокочущий кипяток, и ледяной змей чуть разжимает свои объятая.
— Федор Иванович, девчонка вот тут...
— Знаю, тетя Маша. Тиф у нее и двустороннее воспаление легких, не стоит и трогать.
— Так ведь пятый день в приемном покое лежит, кипяток ей ведрами таскаю. Может, в палату ее? А ну отлежится?
— Где тут. Ну да ладно, несите к самым тяжелым.
***
Тетя Маша! Ты была просто нянечкой... Много раз пыталась вспомнить твое лицо и не смогла. Только старый платок, морщины и руки, которые все время что-то терли, мыли, выносили судна... Но это благодаря тебе, твоим рукам не один безнадежный больной становился прежде тяжелым, затем выздоравливающим и затем покидал больницу. Это благодаря тебе я, наконец, вздохнула полной грудью, посмотрела вокруг, попыталась сесть.
Две недели не отходила тетя Маша от моей постели. Две недели обкладывала грелками, поила кипятком с желтыми кубиками пайкового сахара, гладила натруженной рукой бритую наголо голову, две недели шаг за шагом выцарапывала, отвоевывала у смерти.
— А ведь девчонка-то выкарабкалась, — скажет однажды на обходе главный врач Федор Иванович. — Вот ведь живучая!
А ЧУДЕСА ВСЕ-ТАКИ БЫВАЮТ
— Ты спишь? Проснись! Проснись скорей!
Я села на кровати — какой уж тут сон, смотрю на разбудившую меня соседку по палате Ларису. У нее лихорадочно блестят глаза, ярким румянцем полыхают щеки. Не нравится мне это полыханье, неужели опять начинается приступ?
— Ты его видела?— спрашивает она.
— Кого?
— Летчика. Вот здесь, на твоей кровати только что сидел... «Люблю, — говорил мне, — больше жизни».
Я оглядываю кровать, но никаких следов пребывания летчика не обнаруживаю. Видя мое недоверие, Лариса вскакивает, тычет в пустое пространство, горячась все больше:
— Да вот же, вот здесь он сидел.
— Тише! — прошу я, — ты всех перебудишь! — И с тревогой смотрю на две другие кровати, где спят плаксивая пухлая Лялечка, каждый день отыскивающая у себя новые болезни, и необъятная Евгения, скандалистка и матершинница. Лариса тоже боязливо взглядывает туда, где колышется бесформенной массой Евгения, но, увидев, что та спит, продолжает:
— Цветы мне принес. Розы. Одни красные.
Я смотрю на Ларисину тумбочку, там нет ничего, кроме щербатой чашки. Перехватив мой взгляд, Лариса говорит еще горячей:
— Только я велела обратно унести. Не хочу, чтобы симулянтка и эти (кивок в сторону Евгении и Лялечки) завидовали.
Лариса воодушевляется все больше, рассказ о влюбленном летчике расцвечивается новыми умопомрачительными подробностями. Она говорит все быстрее и громче, она уже не видит меня, не слышит самой себя, речь становится бессвязной, движенья неверными.
Как ни пытаюсь успокоить Ларису, на этот раз мне это не удается. Вот подняла с подушки патлатую голову Лялечка, сразу захныкала:
— Это невыносимо, я с таким трудом уснула...
А вот с кровати спускает жирные ноги Евгения — я с опаской слежу за ее действиями. Евгения пока молчит, но ее рука тянется к звонку, — так и есть, вызывает дежурного врача. Услышав звонок, Лариса почему-то сразу успокоилась. Испуганно и уже вполне осмысленно огляделась и юркнула под одеяло. Но Евгения уже «вошла в раж»: громко, во всю свою могучую глотку, чтобы слышали в соседних палатах, орет, понося всех, кто допустил сумасшедшую к «здоровым больным», требует убрать ее «немедля в психушку подальше от людей», угрожает жалобами, потрясает кулачищами над изголовьем совсем уже не видной и не слышной Ларисы.
Наконец, в палате снова наступает тишина. Могучий храп Евгении, посапывание Лялечки, чуть слышное дыхание Ларисы, каждый спит, как может, только мне не спится. Мне нравится Лариса, она напоминает Тамарочку. Такие же серые грустные глаза, такая же робкая, добрая, деликатная. Если бы не эти приступы... Но больна она серьезно, и, как говорят врачи, возникла болезнь от нервного потрясения. Муж Ларисы погиб на ее глазах во время налета немцев на станцию, где формировалась его часть. Они только что попрощались, он побежал к своей теплушке, но в это время появились фашистские мессеры... Лариса видела, как один из них стал стремительно снижаться прямо над ним. Видела, как из брюха самолета вывалилась бомба, слышала грохот взрыва... А потом только огромная воронка на том самом месте, где только что был он.
В обычные дни, когда болезнь отступала, Лариса вспоминала мельчайшие подробности недолгой жизни со своим Петей, рассказывала, как они встретились, вспоминала, что он ей говорил. Слова были простые и нескладные, ничего общего не имеющие с теми пышными, страстными клятвами, которые произносили «навещавшие» Ларису во время ее галлюцинаций щеголеватые лейтенанты-летчики или бравые капитаны-танкисты. А Петя был обыкновенным пехотинцем, рядовым...
Евгения все же добилась своего: в конце концов, Ларису увезли в больницу для душевнобольных, а на ее место, по настоянию той же Евгении, из соседней палаты перевели бесцветную старушонку, всецело поглощенную своей грыжей.
Без Ларисы мне стало совсем одиноко, к тому же нестерпимо мучил голод. Главный врач больницы Федор Иванович во время обхода часто повторял:
— Вообще-то тебе прежде всего надо хорошо питаться, — и даже давал этому научное объяснение: у выздоравливающих после брюшного тифа в организме происходят какие-то процессы, в результате которых возникает острая потребность в пище. Если эту потребность не удовлетворять, почти обязательны осложнения в виде язвы и других болезней. Но беда в том, что, кроме научных объяснений, максимум того, что мог сделать Федор Иванович, это выписать дополнительно полчашки супа из мороженой картошки.
Как мне не хватало сейчас тети Маши, выходившей меня. Уж она бы расстаралась лишней картофелиной на кухне да и от себя бы оторвала кусочек хлеба. Но тетя Маша уехала к дочери в Ташкент, больше надеяться было не на кого.
Время. Как оно томительно тянется — от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Особенно трудно не заглянуть в тумбочку, где лежит хлеб. Его выдают утром, сразу всю пайку — 300 грамм. Каждый раз я даю себе слово есть хлеб только за завтраком, обедом и ужином, разрезаю пайку на три части, но как-то так получается, что уже к обеду в тумбочке не остается ни крошки. И вот тянется и тянется день, затем наступает бесконечный вечер. Я слоняюсь по коридору, смотрю в окно, ложусь на кровать, чтобы как-то отвлечься, чтобы перестать думать о том, как я хочу есть. Конечно, лучше всего скорее заснуть, а для этого кто-то говорил, нужно считать слонов, представляя себе каждого из них. Вот он первый слон, я вижу его — идет, медленно переставляя ноги-тумбы. У него крохотные свиные глазки и змеиный хобот, который все время что-то ищет. Из толпы, окружившей слоновник, кто-то бросает ему яблоко. Как ловко слон поймал его хоботом, как деловито заложил в розовый мешок рта и снова просит подачки. «Можно, я что-нибудь ему брошу?» — спрашиваю я рядом стоящего папку. — «Конечно», — отвечает он и протягивает мне только что у входа в зоопарк купленный бублик. С ломкой корочкой, еще теплый, обсыпанный маком. Но нет — я ни за что не брошу такой слону, я сама его съем. И я уже разламываю бублик, подношу ко рту и... просыпаюсь.
Кроме голода, мучительными стали и отношения с соседями по палате, особенно с Евгенией. Эта рыхлая, всегда потная женщина с тупым и злобным лицом сумела искусно использовать столь, казалось бы, невыгодную ситуацию, как болезнь.
Она писала письма в местком и партком большого завода, где работала вахтером, в которых обязательно упоминались муж и сын-фронтовики и красочно описывалась собственная жизнь, полная лишений и самоотверженного труда на благо родного завода. И с завода звонили в больницу, просили оказать особое внимание, выделялись средства и люди, которые приносили передачи. Такие же письма она посылала туда, где работали муж и сын, и там тоже «реагировали», звонили и что-то приносили. Помимо этого, были подключены все родственники и прежде всего родная дочь, и целый день Евгения шуршала свертками, гремела банками, жевала и чавкала.
Почти непрерывно ела и Лялечка, заботливо снабжаемая «бронированным» мужем, и постоянно что-то мышкой грызла в своем углу неприметная старушка Фомична.
Взаимную антипатию мы с Евгенией почувствовали с первого дня совместного пребывания в палате. Но особенно после того, как бедную Ларису по настоянию Евгении отправили в сумасшедший дом. Вечером того же дня Евгении принесли с завода передачу, и она принялась сортировать припасы, восседая на больничной койке, как императрица на троне.
— Вот, Фомична, — обратилась она к подобострастно внимающей ей старушке. — Завод прислал. Об хороших специалистах цельное предприятие заботу проявляет, а до шантрапы всякой, вроде той, что до тебя койку занимала, никому и дела нет.
— Она ведь эвакуированная, у нее не было никого, — не выдержала я.
— Ишь, заступница. Нашла кого себе в подруги взять, придурку ненормальную.
— И в самом деле, — поддакнула Лялечка, — ты совершенно напрасно водила с ней компанию, нужно налаживать контакты с людьми достойными, с которых можно брать пример.
— Это с вас что ли? Да никогда, — не смогла я себя сдержать — и тотчас на меня обрушилась Евгения:
— Шпана подзаборная, вошь тифозная, доходяга... — были самыми «изысканными» из эпитетов, которыми она меня награждала.
Но это было только начало. Неприязнь переросла в ненависть, и теперь вся накопившаяся за время больничного безделья энергия была направлена на то, чтобы утолить эту ненависть.
На другой день утром во время обхода Лялечка, явно по выработанному Евгенией плану, обратилась к главврачу:
— Что же Вы, Федор Иванович, выздоровевших не выписываете? Больные люди неделями места ждут, а у вас койки давно здоровые (кивок в мою сторону) занимают. Главный врач, семидесятилетний Федор Иванович был человек кристальной, почти маниакальной честности. Сутками не выходя из больницы, обремененный бесчисленными административными и медицинскими неурядицами, он не позволял себе съесть миску больничной бурды или взять к чаю хотя бы грамм сахару. Упрек Лялечки он воспринял очень остро: побагровел, уронил очки и закричал, чтобы Лялечка не вмешивалась не в свои дела, что он, между прочим, готов выписать ее саму хоть сейчас, так как не видит нужды в ее пребывании в больнице. Лялечка расплакалась, весь день пила сердечные капли и говорила, какая она больная и как это страшно, когда болезнь опасная, но какая, неизвестно. Евгения ее утешала и попутно честила всех без разбора врачей, которые «настоящих больных не лечат, а всяким там подзаборницам и симулянткам потакают»...
И все же обе они были правы: меня уже давно полагалось перевести из больничного на домашний режим, но Федор Иванович, конечно, знал, что мне некуда деваться: в Саратове ни друзей, ни знакомых, а мама...
Снова и снова я стала думать над одной фразой из последнего маминого письма, на которую поначалу не очень-то обратила внимание. «К сожалению, в силу обстоятельств я пока не могу отсюда никуда выезжать сама»... Почему не может? Ведь она на свободе? И, ломая над этим голову, вспомнила разговор Сергея Николаевича с председателем колхоза: «у нас теперь такая свобода есть, что от тюрьмы не отличишь: укажут тебе точку на карте, там и кукарекай, а за пределы не сметь»... Да, вот такая свобода у моей мамы, вот почему она не смогла и не сможет за мной приехать. И хорошо, что я написала ей из больницы, чтоб не волновалась, что мы увидимся позже. Только вот увидимся ли?
Ночь. Как всегда, храпит Евгения, что-то бормочет Лялечка, охает и вздыхает Фомична. Но мне не спится. За окном беснуется метель, бьет по стеклам ледяными кристалликами. Слушая ее вой, я представляю, как, выйдя из больницы, я опять буду бродить по промерзшим Саратовским улицам на своих таких еще слабых ногах. Уныние и безнадежность охватывают меня. «Никуда я не пойду. Сяду на первой ступеньке и буду сидеть, пока не умру»...
Утром во время обхода я сама попросила Федора Ивановича меня выписать. Он вздохнул, снял очки, посмотрел на меня выцветшими слезящимися глазами, опять вздохнул и, наконец, сказал:
— Хорошо. Но через три-четыре дня.
— И чего тянут? — пророкотала Евгения, едва он вышел. — Чего ждут? Прынц что ли явится за ней на ковре-самолете?
Лялечка захихикала и, как всегда, поддакнула:
— Да уж, в наше время чудес не бывает.
Принесли хлеб. Я даже не стала делить пайку, разом съела все 300 грамм и легла, отвернувшись к стене. Я слышала, как «прохаживается» на мой счет Евгения, вторит ей Лялечка, но меня это больше не трогало. Я не повернула головы и, когда в палате появилась нянечка с подносом, на котором были умопомрачительные «деликатесы»: сливочное масло, творог, сметана, яйца и целый каравай пушистого белого!! хлеба. Все в остолбенении уставились на чудо-поднос, одна я по-прежнему безучастна. Даже, когда нянечка подошла к моей кровати и спросила:
— Попова, ты ведь? Тебе передача, — я не подняла головы, только ответила:
— Это не мне. Поповых много.
Евгения тотчас подхватила:
— Конечно, не ей. Откуда ей такое? — и нянечка уплыла со своим подносом. Однако вскоре она появилась снова и решительно поставила поднос на мою тумбочку:
— Больше Поповых в больнице нет. Да ты посмотри, тут записка.
Через минуту я была уже в коридоре. Там у зеркала Анна Ивановна, милая Анна Ивановна, директор родного детдома! Она смотрела прямо на меня, но словно не видела. «Не узнает», — догадалась я, бросаясь к ней...
Потом, уже наговорившись, я впервые внимательно посмотрю в зеркало и сама себя не узнаю: истонченное, «из одного профиля» лицо, наголо бритая голова, рыжий больничный халат... И все-таки это я, я, я! И все-таки я жива! И все-таки бывают на свете чудеса!
На следующий день мы с Анной Ивановной вновь едем через замерзшую Волгу. На этот раз нам повезло: удалось попасть в автобус. По дороге Анна Ивановна рассказывает, что в детдом почти одновременно пришло два письма: одно от главврача больницы Федора Ивановича, где он просил за мной приехать, и второе от Сергея Николаевича с фронта. В конверте, кроме общего, ко всем ребятам, был еще маленький листок, письмецо лично мне.
«Ксана-Ксанка, — писал он, — я верю, что ты обязательно прочтешь мое письмо, что болезни тебя не одолеть. Жизнь иногда бывает мрачноватой, но, верь мне, это проходит. И людей настоящих, отличных людей все-таки больше, чем всякой дряни. Правда, удалось им попортить мне крови, но все-таки, видишь, выстоял. У нас сейчас здесь жарковато, но мы обязательно победим. И я снова стану учить таких, как ты, мальчишек и девчонок».
Тогда я еще не знала, что вскоре вслед за письмом пришла еще и похоронка: Сергей Николаевич пал смертью храбрых в боях за Сталинград.
«Жизнь — явление полосатое», — последняя книжка моей мамы. Я вновь и вновь перечитываю, обращаюсь к ней.
В моей жизни контрастных полос также было немало, как немало было и людей, самых разных. Но добрых и светлых гораздо больше. Спасибо им.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Шестнадцать коек в одноэтажном деревенском доме. Одна из них в углу моя. Пятнадцать ребят ходят на цыпочках и говорят шепотом, чтобы я не проснулась. Потому что мне нужен покой. Никто из ребят не сказал мне: «как мы без тебя соскучились»... или «ах, как плохо ты выглядишь, от тебя осталась четверть»... Нет, мне говорят: «доходяга».., «дистрофик»... «мешок с костями».., но может ли что-то больше ласкать слух?! Каждое утро на моей тумбочке появляется пол-литровая банка с молоком — это плата натурой за курточку Мишки Михайловского, которая внезапно стала ему мала. Пошла в обмен и белая довоенная рубашка Витьки Макарова, единственная приличная на все мальчишечье общежитие, — она превратилась в увесистый шматок сала. А из кухни по несколько раз в день наведывается тетя Маня, принося что-то «тебе сейчас самое располезное».
Тихо в доме. Лишь шуршат мыши, тикают ходики и скрипят половицы под моими ногами. Я подхожу к зеркалу. Оттуда на меня смотрит странное, невероятно худое существо с удивленными светлыми глазами. Рот у этого существа глупо растянут, оно чему-то радуется. Чему? Может, тому, что сегодня получила письмо от мамы? Или тому, что снова здесь, дома, и скоро из школы придут ребята? И еще, конечно, тому, что наши на фронте наступают, гонят с родной земли фрицев! И пусть еще пляшут за окном снежинки, свет уже весенний, предвещающий наступление теплого, ласкового лета. Хорошо!
Дни бежали за днями. Возвращались силы. Болезнь становилась воспоминанием. Шел последний месяц моей детдомовской жизни, и каждый новый день по-новому открывал тех, с кем свела меня за это время жизнь, судьба, война. Но как же мы все изменились! Ну, разве можно было разглядеть в замкнутом, отрешенном от всего внешнего подростке-юноше, самозабвенно решающем какие-то невероятной трудности задачки и уравнения? прежнего Витьку Макарова, отчаянного драчуна и дебошира? А Зина Дулина? Вчерашняя грязнуля и нескладеха стала стройной, влекуще-грациозной и весьма домовитой девицей. Зато наша бессменная староста Рая Величко, которой предрекали карьеру певицы, неожиданно увлеклась агрономией и целые дни возилась с рассадой, которую выращивала тут же на подоконнике.
В тот мартовский вечер в общежитии девчонок хозяйничали мальчишки. Это они жарко натопили огромную пузатую печь с вмазанным в нее казаном, у которого священнодействовал Мишка Михайловский, сосредоточенно помешивающий что-то, источающее одновременно смрад и благоухание. И в предбаннике —так принято называть сени — тоже вовсю орудовали мальчишки, — лицам женского пола туда входить категорически запрещено. А потом наступает момент, когда всех девчонок выгоняют и из маленькой комнаты, так как и здесь тоже необходимо сделать кое-какие приготовления.
Никто из нас тогда не знал, что этот вечер станет нашим последним общим праздником, но все мы готовились к нему и ждали с особым нетерпением. Девчонки потому, что как-никак, а 8 марта — это их законный праздник, а для многих мальчишек радость девчонок стала их радостью. Нет, не только потому обрела прежде нескладная Зина женственность и грацию, что стала старше, но и потому, что раскосые монгольские глаза Женьки Чевычина выделили ее из девчонок вообще в одну-единственную девочку. И не случайно Нина Прохорова, в прошлом Нинка Оторва, несмотря на заурядные способности, готова рядом с Витькой часами корпеть над задачником — в нашу жизнь вошла Любовь.
Бывает так, что каждое слово, самое обычное, приобретает особый второй смысл. Так было в тот вечер. Я видела, что, что бы ни делал Мишка, он делает это для меня, куда бы ни смотрел, видит меня, ловит каждое мое слово. И я говорила со всеми для него одного и радовалась, видя, что он расслышал в моих, казалось бы, ничего не значащих словах только нам понятный главный смысл.
— Хочешь пирога? — обращается ко мне заботливая Нинка. — Нет, лучше халвы, — отвечаю я, и Мишка улыбается: он знает, что халва из жмыха мне нравится потому, что это он ее изобрел и приготовил.
Звучал Шопен — мазурки, вальсы — в исполнении Вали Щукиной, пели хором песни, читали стихи. И было в нас в этот вечер чувство необычайной близости ко всем вместе и к кому-то одному.
Я вышла на крыльцо. Прямо за домом начиналась степь. Прихваченная морозцем после солнечного дня, она переливалась, искрилась, сверкала...
Но вот скрипнула дверь, и большая черная тень улеглась рядом с моей тенью — это на крьшьцо вышел Мишка. Затем почти сразу возникли еще две тени — Витькина и Нинкина. И, наверное, услышав наши голоса, в конюшне заржала Зорька.
— А что если... — начал Мишка.
— Вот бы здорово! — подхватил Витька, а Нинка добавила:
— Что ж ты стоишь? Запрягай!
И, правда, что если действительно промчаться в санях по залитой луной мартовской степи?!
Поняв, что предстоит прогулка, Зорька довольно зафыркала и сама встала в оглобли, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. За ней семенил, не отставая ни на шаг, жеребенок, прозванный Чертенком за смолисто-черную без единого пятнышка масть.
Отмахав рысью верст десять, притомившаяся Зорька «по собственной инициативе» подвезла нас, наконец, к огромному ржаному стогу посреди степи. А желтый лунный шар, конечно, не случайно завис прямо над нашими головами, а чтобы своим прозрачным легким светом подсветить лица, ведь нам так важно было видеть друг друга. Нет, мы не целовались украдкой и не было слов-признаний или клятв, но рядом с Нинкой был Витька, а рядом со мной Мишка и что бы ни случилось потом в жизни, я знаю, все мы будем благодарны ей за эту ночь...
Однако, видно, не совсем я еще окрепла, если, вернувшись домой, заснула так крепко, что не услышала, как утром ни свет ни заря в общежитие прибежала тетя Маня и закричала, чтобы все срочно шли в школу, где скажут что-то очень важное. Только когда всей ватагой ребята снова ввалились в дом, я узнала, что получен приказ о реэвакуации детдома и через три дня мы едем в Москву.
И снова дорога. Стучат-стучат колеса: тук-тук, тук-тук, пыхтит-фырчит паровоз, трудится, напрягается, тащит за собой вагоны. Самые переполненные, самые беспокойные два последних — в них едем мы. Едем в Москву.
***
Нет! Совсем неласково примет меня поначалу родная столица. Нескоро я увижу маму и встречу человека, который станет моей судьбой. Но это уже друге я история.
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вокзал... Место встреч и разлук. На Казанском вокзале, куда наш поезд прибыл в семь минут седьмого вечера, первое, что бросилось в глаза, — большие привокзальные часы, а возле них встречающие.
Меня никто не встречал и не мог встречать — некому. Может, поэтому особенно больно было видеть поцелуи-объятия других наших ребят, теперь уже бывших детдомовцев, у которых объявились родственники. Тех, у кого их не было, ждал автобус, который должен был нас куда-то отвезти для решения дальнейшей участи. Но я детдомовской «участью» была уже сыта по горло, поэтому заявив ответственным за это «мероприятие», что родственники ждут меня дома, направилась к метро. Скоро однако выяснилось что не только родственников, но и дома у меня не было. После маминого ареста из конфискованной органами трехкомнатной квартиры одна комната была «великодушно» оставлена нам, детям. Но брат Адька ушел на фронт, я попала в детдом, а комната осталась бесхозной.
Когда я позвонила в знакомую дверь по Карманицкому переулку 8, мне открыла совсем незнакомая женщина. Это была беженка из Западной Украины, которой вместе с двумя детьми была предоставлена наша комната для временного проживания. Где проживать мне, было неизвестно...
Первую ночь перекантовалась у жившего этажом ниже Вовки Волкова. Именно перекантовались. В раннем детстве мой друг и даже рыцарь — ребята нашего двора, верно, не без основания считали, что он ко мне неравнодушен, Вовка теперь превратился в очень мрачного верзилу, угрюмого и подозрительного. За весь вечер он не произнес и пяти фраз, все время выглядывал в окно и к чему-то прислушивался. Увы! — не зря: через несколько дней его посадили за кражу, а спустя 2 года он умер в тюрьме, забитый дружками по криминалке.
В книге моей мамы «Новеллы моей жизни» есть глава о Сулержицких. Главный «Сулер» — так все называли его в Московском Художественном театре, был Леопольд Антонович Сулержицкий, друг и сподвижник Константина Сергеевича Станиславского. Именно он проделал основную работу по постановке знаменитой «Синей птицы» во МХАТе. О его остроумии, буйных всплесках неуемной фантазии ходили легенды, а плодами его веселых и подчас фантастических замыслов были не только знаменитые мхатовские капустники, но и практическое претворение в жизнь учения Льва Толстого о непротивлении злу и помощи ближним. Он много раз бывал в Ясной Поляне, встречался с самим Львом Николаевичем, а затем отправлялся по городам и весям России, организовывая комитеты помощи голодающим. Идеями толстовства он увлек большую часть труппы МХАТа, в том числе моего деда композитора Илью Саца и известного актера Николая Александрова, отца будущей жены своего сына Дмитрия.
Машенька Александрова... Она же Мария Николаевна Александрова-Сулержицкая или Темусенька, — так называла ее я (сокращенно от тетя и Муся), в чьей судьбе она сыграла огромную роль.
Сначала наше знакомство было заочным. От нее ко мне и от меня к ней шли из Москвы в детдом и обратно письма. Я писала коротко о скудных детдомовских событиях, она более подробно, главным образом, об Аночке. Аночкой мы с Адькой называли нашу бабушку — Анну Михайловну Сац. После того как Адька, а затем я покинули Москву она как-то зашла к Марии Николаевне (они были подругами) да так у нее и осталась.
Наверное, у каждого человека бывают какие-то необъяснимые предчувствия. Так случилось со мной, когда однажды я получила письмо от Марии Николаевны. Я уже получала их и до этого, но, когда взяла в руки ЭТО, меня словно обожгло.
— От кого посланьице? Плясать будешь? — игриво поинтересовался кто-то из ребят.
— Идите вы все к черту! — вдруг заорала я, бросилась в другую комнату и упала на кровать. Я знала, ЧТО в этом письме, оно лишь подтвердило то, что прочла, не раскрывая, сердцем: бабушка умерла.
И вот на следующий по приезде в Москву день я иду по «обратному адресу» детдомовских писем на Огарева 12, с трудом волоча тяжеленный чемоданище. В нем бесценное сокровище — пуд муки, вымененной на всю детдомовскую экипировку — от застиранной маечки до ватника.
Я позвонила. Раздался заливистый с визгом лай — и дверь отворилась. На пороге крепкая, лет 40 женщина в мужских брюках-бриджах и размахаистой кофте. Волосы пепельные с проседью, несколько длинноватый нос... Но все это неважно: глаза — вот главное: лучистые, голубовато-фиолетовые и такие добрые.
— Я... я... я... — хотела, но не сумела представиться... — Но она все поняла.
— Ксана! Ксаночка приехала! — На ее восклицание тотчас выбежал, а вернее, припрыгал — одна нога нормальная, другая в каком-то специальном огромном башмаке — тщедушный, но чрезвычайно живой Дмитрий Леопольдович, тоже голубоглазый, с венчиком редких, но необычайно пушистых неопределенного тона волос. Пока он меня обнимал, я заметила высунувшиеся из разных комнат две головы и одну руку. Рука заграбастала продолжавшую визгливо лаять собачонку, а голова в роскошных пепельных кудрях внимательно меня разглядывала. И рука, и голова принадлежала «особи» мужского пола, лет 14, Леопольду, а попросту Левке Сулержицкому — сыну. Вторая миниатюрная прелестная головка, которая при раскрытии двери тотчас «дополнилась» всем прочим, что положено 12-летней девочке, была Марьянина, дочери.
За сутки пребывания в родной столице я трижды слышала одни и те же вопросы: «Ну, и что ты будешь делать дальше? И где жить думаешь?» Их мне последовательно задали женщина, занявшая нашу комнату в Карманицком переулке, мать Вовки Волкова Анна Алексеевна и очень близкая родственница, подолгу в прежние благополучные годы гостившая летом у нас на даче, а сейчас проживающая одна в трехкомнатной квартире на Арбате. Вопросы задавались с единственной целью — дать понять, чтобы мне не вздумалось ни на что рассчитывать. Здесь вопросов не задавали. Само собой разумелось, что жить мне отныне в этом доме и что я становлюсь равноправным членом семьи.
— Я всегда мечтал, что у меня будет много детей, теперь по крайней мере хоть трое, — окончательно определил мой статус Дмитрий Леопольдович. — Пойдем, я угощу тебя чудной яичницей. — и запрыгал, увлекая меня по направлению к кухне. Там из больших ящиков, занимавших ее большую часть, он стал доставать яйца. Большинство разбитых им яиц были черными от гнили, в некоторых находились останки невылупившихся птенцов, но когда обнаруживалось нечто желто-белковое, Дмитрий Леопольдович приходил в восторг:
— Превосходное! Почти без запаха! Можно сказать, почти диетическое!
Между тем от благоухания этого «почти» пришлось срочно открыть форточку, а Мария Николаевна «просто на всякий пожарный» «досолила» яичницу каким-то едко пахнувшим лекарством из висевшей в углу аптечки.
— Видишь ли, Ксаночка, — просвещала она меня, пододвигая сковородку. — Советская власть поделила население на три категории: литер-атеры, литер-бетеры и кое-какеры. Мы принадлежим к кое-какерам.
В то время продукты выдавались по карточкам трех видов — литер А, литер Б и прочие. «Прочим», как правило, не доставалось почти ничего. Да, «кое-какерам» приходилось крутиться, и они крутились, вернее, крутилась она, Мария Николаевна, наша Темусенька (интересно, что вслед за мной так называть ее стали и родные дети).
Чуть ли не еженедельно она отправлялась менять вещи в подмосковных деревнях и селах. Перед этими походами обыкновенно производился «смотр имущества», во время которого, например, выяснялось, что у каждого члена семьи совершенно необязательно должно быть свое пальто, в то время, как два человека одного роста, в частности, Дмитрий Леопольдович и Левка прекрасно могут обойтись одним.
— А посмотрите, сколько у нас полотенец! — восклицала Мария Николаевна. — Можно подумать, что здесь у нас баня и все только и делают, что с утра до вечера моются... — и она бросала в рюкзак четыре из имеющихся пяти.
Но рюкзак заполнялся не только вещами Сулержицких — Мария Николаевна обслуживала чуть ли не весь подъезд. Пенсионные актрисы МХАТа, немощные старушки несли ей свое барахлишко, которое она обменивала на муку, отруби, горсть крупы, картошку... Рюкзак трудно было поднять уже при ее уходе на «промысел», но это не шло ни в какое сравнение с тем, что на своих руках она доставляла по возвращении, причем большая часть предназначалась старушкам. Одна из них, кстати, отблагодарила Темусеньку, отказав ей перед смертью свою дачу на Истре с роскошным участком в жасмине, сирени, склоненных над водою плакучих ивах и березах и с очень старым деревянным домом, густо населенным Левкиными и Марьяниными друзьями, обитавшими в основном на чердаке, где «спальные принадлежности» заменяло пахучее сено. Подолгу жили на этой даче и другие многочисленные давние или совершенно случайные знакомые Сулеров, все, кому вдруг вздумалось «отдохнуть на природе».
Я тоже не раз туда наезжала, но это много позже, ну, а в те дни... В те дни я осваивалась с новой для меня ролью в удивительном доме. Он включал четыре основных и одну маленькую «закуточную» без дверей комнаты, небольшую кухню, коридор, а также туалет и ванную. В последней всегда что-то замачивалось, иногда неделями, считалось, что таким образом белье «само выстирывается». Две комнаты на противоположных концах квартиры принадлежали Левке и Марьянке. В каждой из них главенствовало пианино и при нем стул-вертушка. Рано утром Мария Николаевна ставила на газовые конфорки ведра с водой, которые потом служили обогревами. Доведя воду до кипения, ведра затем подставляли под стульчики и, окутанные паром, (квартира не отапливалась) Левка и Марьянка сотрясали воздух звуками гамм, арпеджио, бессмертными творениями русских и зарубежных классиков.
К этим благородным звукам все время прислушивался Дмитрий Леопольдович из большой комнаты. Чего в ней только не было! Эскизы бесчисленных декораций, фотографии, груды книг вперемежку с какими-то лоскутами, горшками и чашками, и повсюду зарисовки и макеты парусников в уменьшенно-игрушечном виде, воплощавшие бесчисленные бриги, фрегаты, яхты, словом, все многообразие того, что в минувшем веке бороздило моря и океаны. Дмитрий Леопольдович был блестящим знатоком парусного флота и в то время составлял словарь его терминов, он же позже будет консультировать фильм «Адмирал Ушаков».
Из всего семейства только Дмитрий Леопольдович получал служащую карточку — что значило 500 граммов хлеба, все остальные иждивенческие — 300. Я довольно долго не получала никакой — а значит, теперь Мария Николаевна за обедом делила общий хлебный паек не на четыре, как раньше, а на пять частей. Однако были еще и две собаки — беспородная Нелька и появившийся уже при мне щенок овчарки Джоник. Его появление у Сулеров сперва было продиктовано сугубо практическими соображениями. Дело в том, что чистопородная овчарка являлась существом военнообязанным (на фронте они выполняли множество функций: от санитаров до подрывников — собаки с привязанными к ним гранатами бросались под фашистские танки) и на ее выращивание полагался солидный паек, который включал в себя такие деликатесы, как гречка и даже мясо.
Прослышавшая об этом Мария Николаевна поехала в собачий питомник, где ей предложили на выбор несколько щенков. Все они были толстые, крепкие, с вставшими, несмотря на ранний возраст, локаторами-ушами. Однако она заметила, что в стороне попискивает лопоухий щенок с каким-то искривленным загнутым вверх хвостиком и узловатыми лапами. Оказалось, выбракованный из-за плохого экстерьера и по этой же причине подлежащий уничтожению. Мария Николаевна тут же попросила отдать ей именно его и добилась своего. Но в силу прирожденных дефектов щенок был признан невоеннообязанным, а значит, никакого пайка на него не полагалось. Так Джоник стал еще одним, кроме меня, нахлебником в семье Сулеров.
Вскоре в квартире появились еще Машка и Васька — два месячных поросенка. Собственно, это на их содержание и выращивание были получены «некондиционные» яйца, яичницами из которых все мы питались, а также мешок отрубей и тыквенное повидло. Из отрубей пеклись вкуснейшие лепешки, а еще более вкуснейшими, если это возможно, они становились от намазываемого на них повидла. Но появились поросята, когда все это было уже практически съедено, а между тем до осени — времени, отпущенного им на жизнь,—после чего они должны были превратиться в свинину, половина из которой принадлежала «выращивателям», было еще месяцев пять. Ситуация становилась критической.
Выручила одна из опекаемых старушек. Она сообщила, что на берегу Оки в Соколовой Пустыни у нее есть зимний дом, где на чердаке большие запасы сушеной крапивы и жмыха-отходов от подсолнечника. Старушка утверждала, что лучшего корма для поросят в природе не существует. Сначала хотели за этим богатством съездить, но я предложила на какое-то время там вместе с животными поселиться: в школу идти в этом году поздно, а молодая крапива и всякая травка — был уже апрель, — наверное, будут не лишними в поросячьем рационе.
И вот я на берегу безбрежной реки в деревянном домике, почему-то находящемся в отдалении от всех других домов поселка. Первое, с чем столкнулась, — никакой крапивы и жмыха на чердаке не осталось, все съели мыши. В отместку парочку из них с ходу слопала Нелька, не поделившись с остальными. Между тем мои продовольственные ресурсы составляли чуть отрубей, чуть гречки и чуть повидла, но все эти «чуть» составляли большую часть того, что вообще было в то время у Сулержицких. Сварив на печке из половины своих запасов некое хлебово и разделив его по-братски со своим поголовьем, я легла спать, строя неясные планы на будущее. Их осуществление начала утром с посещения сельсовета, где мне поставили на мои продовольственные карточки печать, а это значило, что я могу их полностью отоваривать в местном сельмаге. Однако, кроме 600 граммов бурого хлебушка — двухдневная норма — отовариваться было нечем, а значит, мои планы стали еще более неясными.
***
Хотя мой домишко находился более чем в двух верстах от остальной деревеньки, сельское «радио» быстро разнесло среди местного населения, состоящего в основном из подростков и бабулек с дедульками, весть обо мне и моем поголовье. Самым ценным в этой информации было известие о поросятах, которых подросток по имени Леха тотчас решил украсть.
Выследив, когда я покинула свои апартаменты, он беспрепятственно вошел в дом, запихал поросят в мешок и уже собрался уходить, как на пороге возник Джон. Если на захлебывающуюся визгливым лаем Нельку он до этого не обращал никакого внимания, то овчарка, преградившая путь, его несколько смутила. Однако разглядев, что это скорее щенок, чем взрослая собака, он с деревенской удалью решил дать ей пинка. Не тут-то было. Едва он занес ногу, как Джон на него бросился, а следом и расхрабрившаяся Нелька. Джон мощным толчком «забросил» Леху на диван, а дворняга порвала брюки и здорово тяпнула за ногу, за что-таки была награждена пинком, навсегда отбившим у нее охоту связываться с Лехой.
Когда я вернулась, он простодушно и подробно сам про все рассказал и в конце поинтересовался:
— Милицию звать будешь? Тогда опять в сельсовет топай. У нас один мильтон на всю округу и тот только в райцентре.
Но «опять топать» мне совсем не хотелось, а вот хотя бы выпить чаю очень. Я стала колоть лучину, но Леха отобрал у меня топор, разжег печь, поставил воду, а потом смущенно попросил зашить брюки, располосованные Нелькой до основания. Облачившись в них снова, он сказал:
— Ну, я пошел, — и исчез.
Но ненадолго. Довольно скоро его конопатая белобрысая рожица показалась сперва в окне, затем он воссел на подоконнике, и вот уже в самом доме.
— Сковородка какая-никакая есть? — поинтересовался он. — Я тут у бабки своей кое-чего спер, — и Леха вывалил из узелка несколько картофелин и кусок сала. — Все веселей, чем пустой кипяток хлебать.
Эх! Леха! Леха! До чего же ты был мил, наивен, хитер и бесшабашен. И что бы я без тебя делала?! Именно Леха построил для свиней чуланчик, навесил на него дверь, а на дверь большущий замок — «от шпаны».
— Думаешь, я один, чуть что где плохо лежит, тащу, почитай все так.
Он же решил проблему кормежки хавроний и собак, указав на обыкновенные ракушки, бесчисленное множество которых находилось на берегу и отмелях. Правда, они были тяжеленные и таскать их приходилось с утра до вечера, но брошенные в огромный чугун с кипятком (его тоже притащил, конечно, Леха) раскрывались, а находящиеся внутри моллюски, как видно, были очень питательными: поросята росли и жирели, шерсть у собак лоснилась.
Леха приходил ко мне каждый день. Мы вместе ловили рыбу, ходили за грибами и ягодами, гоняли чаи, и каждую свободную минуту он просил меня «чего-нибудь порасскажи...» И я рассказывала, вернее, пересказывала любимые книжки, сам он даже читал плохо, хотя кончил начальную школу.
Так прошел апрель, май, июнь, начался июль... Однажды, я только проснулась, вбегает Леха:
— Тебе телеграмма! — Протягивает бланк, а глаза тревожные.
В телеграмме: «Срочно возвращайся в Москву. Лева с Марьяной тебя сменят. Приезжает мама».
Радость меня переполняла. Леха ее не разделял.
— Ты что, в Москву намылилась?
— Мама приезжает, ты же видел телеграмму.
— А свиньи как же? За ними пригляд нужен и мало ли жулья.
Я попросила его присмотреть за животными, пока не прибудут Левка с Марьянкой, но Леха отрезал:
— Что я вам нанялся, что ли? Сама их дожидайся.
— Ты просто вредничаешь, не стыдно?
— Не уезжай, — попросил совсем тихо. — Или ладно: езжай и сразу назад. Вернешься?
— Не знаю. Как получится.
— А я ведь на тебе жениться решил, как только 18 исполнится.
— Жениться? Да ты что?! — Мне стало смешно, а он, видя это, вконец расстроился.
Милый Леха! Наши пути разошлись в тот вечер. На перроне, где я с нетерпением поджидала электричку, он все повторял, чтобы я не тревожилась за собак и свиней. Но я о них не думала. Я думала о встрече с мамой.
ОТЕЦ ЯБЛОК—ГОРОД-САД
и мысленно возвращалась в те дни, когда появилась здесь впервые.
** *
Все началось со встречи с мамой. Она указала телеграммой день приезда в Москву, но точного времени, а главное, каким видом транспорта —самолетом, поездом или пароходом, прибывает, указано не было. Поэтому я с раннего утра встречала ее на улице, ведущей к дому, вглядываясь во всех проходящих мимо женщин.
— Смотри! Это не мама? — спросила тоже вышедшая Темусенька, указывая на «свежевыкрашенную» блондинку в серебристом плаще и броском ярко-красном платье.
— Нет! Что вы! — отвергла я предположение с такой решительностью, что мы даже глядеть не стали, куда она направляется. А между тем блондинка вошла в наши ворота, и это была моя мама.
Полностью отбыв пятилетний «основной» и годовой дополнительный (пребывание в строго указанном месте) сроки заключения, она, наконец, получила право на жительство в любом городе нашей необъятной родины, кроме Москвы и Ленинграда. Между прочим несколько лет назад, когда она еще «отбывала» в Бутырках, сам Берия предложил ей жить и работать в Алма-Ате, но она гордо отказалась: «Вы знаете, я ни в чем не виновата. Я была незаконно арестована в Москве и должна туда возвратиться».
Что ж... Берия вернул ее... в Бутырку.
Но Алма-Ата, видно, была ей предназначена судьбой. В высоких инстанциях, куда ее теперь вызвали, маме предложили работу режиссером в алма-атинском оперном театре и организацию первого тюза Казахстана.
Со времени маминого ареста прошло более шести лет. Мы заново открывали друг друга. Впрочем, я, наверное, до конца так и не открыла ее никогда...
«Я никого не боюсь», — часто говорила она, и это было правдой, как правдой была бескомпромиссная твердость ее характера в нерасторжимости с неиссякаемой женственностью.
В Москве тогда ей было разрешено пробыть не более суток, но никто из знакомых и друзей, с кем она встречалась, не смог бы разглядеть в ней
берегу и отмелях. Правда, они были тяжеленные и таскать их приходилось с утра до вечера, но брошенные в огромный чугун с кипятком (его тоже притащил, конечно, Леха) раскрывались, а находящиеся внутри маллюски, как видно, были очень питательными: поросята росли и жирели, шерсть у собак лоснилась.
Леха приходил ко мне каждый день. Мы вместе ловили рыбу, ходили за грибами и ягодами, гоняли чаи, и каждую свободную минуту он просил меня «чего-нибудь порасскажи...» И я рассказывала, вернее, пересказывала любимые книжки, сам он даже читал плохо, хотя кончил начальную школу.
Так прошел апрель, май, июнь, начался июль... Однажды, я только проснулась, вбегает Леха:
— Тебе телеграмма! — Протягивает бланк, а глаза тревожные.
В телеграмме: «Срочно возвращайся в Москву. Лева с Марьяной тебя сменят. Приезжает мама».
Радость меня переполняла. Леха ее не разделял.
— Ты что в Москву намылилась?
— Мама приезжает, ты же видел телеграмму.
— А свиньи как же? За ними пригляд нужен и мало ли жулья.
Я попросила его присмотреть за животными, пока не прибудут Левка с Марьянкой, но Леха отрезал:
— Что я вам нанялся что ли? Сама их дожидайся.
— Ты просто вредничаешь, не стыдно?
— Не уезжай, — попросил совсем тихо. — Или ладно: езжай и сразу назад. Вернешься?
— Не знаю. Как получится.
—А я ведь на тебе жениться решил, как только 18 исполнится.
— Жениться? Да ты что?! — Мне стало смешно, а он, видя это, вконец расстроился.
Милый Леха! Наши пути разошлись в тот вечер. На перроне, где я с нетерпением поджидала электричку, он все повторял, чтобы я не тревожилась за собак и свиней. Но я о них не думала. Я думала о встрече с мамой.
ОТЕЦ ЯБЛОК—ГОРОД-САД
В переводе с казахского Алма-Ата значит отец яблок. В октябре 1995 года я и Виктор Петрович Проворов, директор Московского детского музыкального театра, были приглашены на празднование 50-летия Первого тюза Казахстана, созданного, как еще четыре детских театра страны, благодаря моей маме Наталии Ильиничне Сац. Ее имя в день официального торжества было присвоено этому театру. Я снова ходила по улицам города моей юности, удивлялась огромным новостройкам, огорчалась измельчавшим яблокам, гигантскому смогу, окутавшему город, и мысленно возвращалась в те дни, когда появилась здесь впервые.
** *
Все началось со встречи с мамой. Она указала телеграммой день приезда в Москву, но точного времени, а главное, каким видом транспорта — самолетом, поездом или пароходом прибывает, указано не было. Поэтому я с раннего утра встречала ее на улице, ведущей к дому, вглядываясь во всех проходящих мимо женщин.
— Смотри! Это не мама? — спросила тоже вышедшая Темусенька, указывая на «свежевыкрашенную» блондинку в серебристом плаще и броском ярко-красном платье.
— Нет! Что вы! — отвергла я предположение с такой решительностью, что мы даже глядеть не стали, куда она направляется. А между тем блондинка вошла в наши ворота, и это была моя мама.
Полностью отбыв пятилетний «основной» и годовой дополнительный (пребывание в строго указанном месте) сроки заключения, она, наконец, получила право на жительство в любом городе нашей необъятной родины, кроме Москвы и Ленинграда. Между прочим, несколько лет назад, когда она еще «отбывала» в Бутырках, сам Берия предложил ей жить и работать в Алма-Ате, но она гордо отказалась: «Вы знаете, я ни в чем не виновата. Я была незаконно арестована в Москве и должна туда возвратиться».
Что ж... Берия вернул ее... в Бутырку.
Но Алма-Ата, видно, была ей предназначена судьбой. В высоких инстанциях, куда ее теперь вызвали, маме предложили работу режиссером в алма-атинском оперном театре и организацию первого тюза Казахстана.
Со времени маминого ареста прошло более шести лет. Мы заново открывали друг друга. Впрочем, я, наверное, до конца так и не открыла ее никогда...
«Я никого не боюсь», — часто говорила она, и это было правдой, как правдой была бескомпромиссная твердость ее характера в нерасторжимости с неиссякаемой женственностью.
В Москве тогда ей было разрешено пробыть не более суток, но никто из знакомых и друзей, с кем она встречалась, не смог бы разглядеть в ней вчерашнюю зека. Она всегда, даже в самые жестокие и многотрудные периоды своей жизни боялась вызвать к себе снисходительную жалость, и делала все, чтобы исключить хотя бы намек на это. Вот и теперь, прекрасно одетая и причесанная, она приехала в Москву в каюте первого класса, хотя в пути почти ничего не ела: на это денег уже не хватило.
Казанский вокзал. Он стал для меня судьбоносным. С Казанского уходил на фронт брат Адька. Туда доставил меня поезд по возвращении из детдома. И вот теперь в Алма-Ату путь тоже лежит с Казанского.
***
Говорят, на детях выдающихся личностей природа отдыхает. Что ж, она имеет право отдохнуть, ведь она так славно перед тем потрудилась. Но люди все равно упорно ищут в потомках черты сходства со знаменитыми родителями и, не найдя, не скрывают своего разочарования. Их можно понять, хотя потомкам постоянно соприкасаться с этим , поверьте, не самое большое удовольствие.
У моей мамы было трое детей: двое сыновей и я. Никто из нас не стал ее копией, но в каждом то и дело мелькали ее блики и черточки, которые в разное время проявлялись в разной степени. Элементы какой-то чисто внешней похожести у меня, пожалуй, больше всего наблюдались в алма-атинский период, недаром нас часто принимали за двух сестер, может, потому, что в то время мама в силу «производственной необходимости» была блондинкой (для исполняемой еще в лагере роли не нашлось подходящего парика) да и выглядела она тогда лет на 28 — 30, не больше.
Итак, две блондинки прибыли в 44 году в столицу Казахстана.
***
Алма-Ата. Город-сад. Он поразил меня теплом, величавостью, благоуханной красотой. Никаких переулков, закоулков, тупиков. Все улицы строжайше прямые. Одни как бы сбегают с гор, другие их соединяют. И звенит хрустальным звоном вода в бесчисленных арыках, омывающих корни пирамидальных тополей, могучих яблонь с висящими на них краснощекими плодами, кусты миндаля и бесчисленных роз. И отовсюду, где бы ты ни находился, виден оперный театр. Он словно парит над городом, находясь на самой высокой его части, нежно-розовый, в строгих колоннах и легких кружевах казахского орнамента. А над театром — величавые, вечные горы Тянь-Шаня со снеговыми шапками на вершинах.
Оперный театр на какое-то время стал не только местом маминой работы, но и нашим домом. Дирекция не смогла к нашему приезду «выбить жилье» и потому вынуждена была поселить в комнате админсгратора, выходящей прямо в театральный вестибюль.
«Жизнь — явление полосатое», — часто повторяла мама, и именно так, как я уже говорила, она озаглавила свою последнюю книгу, написанную в 88 лет «кровью сердца» и стоившую ей почти потери зрения — ведь до этого она самый мелкий шрифт читала без очков! «Полосатость» то и дело проявлялась и в моей жизни, особенно в 44 году. Новый год — еще в детдоме, ранняя весна в Москве у Сулержицких, начало лета в Соколовой Пустыни, и вот сейчас в конце июля в Алма-Ате в оперном театре. А в это время здесь дает спектакли не только казахская труппа, но и эвакуированный из Москвы балет Большого, здесь танцует Уланова!
«Сонный, ленивый, абсолютно не театральный город» — такая шла молва об Алма-Ате. Это было и правдой, и неправдой. Днем в 40-градусную жару город вымирал: учреждения с 12 до 16 не работают, на улицах ни души, лишь изредка процокает к базару ишачок, едва различимый под горой навьюченных на него мешков и водрузившимся сверху толстым казахом. Да, на оперных спектаклях, звучащих по-казахски, на сцене куда больше народу, чем в зале, но на Улановой... Всегда аншлаг! Я старалась не пропускать ни одной «Жизели», ни одного «Лебединого», и всегда меня охватывало ощущение чуда, которое никогда больше не повторится. Но чудом была не только возможность видеть Уланову, в Алма-Ату был эвакуирован театр Моссовета во главе с Юрием Завадским, а Сергей Эйзенштейн снимал здесь «Ивана Грозного».
С мамой и без я не раз бывала на съемках и, сидя где-нибудь в самом уголочке, жадно всматривалась в кадры рождения будущего фильма. Вот нервно жестикулирующий, всклокоченный Эйзенштейн что-то объясняет склоненному перед ним Черкасову в гриме и облачении позднего Грозного. Вот проходит мимо, но вдруг останавливается и в упор смотрит прямо на меня, но явно не видит, вся в своем Серафима Бирман. А вот вспыхнул ярчайший свет, раздается «Мотор!» — и Черкасов-Грозный, взмахнув скипетром, с искаженным яростью лицом идет прямо на юпитер...
— Уберите спину! — кричит вдруг Эйзенштейн.
— Не могу, она ко мне приделана, — отвечает Черкасов одними губами, не меняя выражения, но делает какое-то движение: спина в кадре, съемка продолжается.
В поведении различных чиновников, с которыми маме приходилось иметь дело, я всегда за улыбчивой любезностью ощущала настороженность к вчерашней «врагине». Но Эйзенштейн, Черкасов, Уланова, Завадский — все находящиеся в это время в Алма-Ате мастера культуры, всячески стремились показать, что она для них прежняя Наталия Сац, своя, любимая, во всем равная. Уже в июле в филармонии мама устроила концерт «Мастера искусств детям», в котором приняли участие лучшие певцы и танцоры Казахстана, а также Николай Черкасов. Свое выступление он начал с непосредственного обращения к зрителям.
— Дети, — сказал он, — вы не представляете, как вам повезло. У вас теперь есть Наташа Сац, а это значит, что у вас есть все, все самое лучшее...
Мама, которая вела этот концерт, попросила Николая Константиновича спеть песенку Паганеля из столь популярного тогда кинофильма «Дети капитана Гранта». Но если речь о достоинствах Наталии Сац лилась как по маслу, то едва Черкасов пропел «Жил отважный капитан, он объездил много стран», как остановился и растерянно посмотрел на продолжавшую играть пианистку. Начали с начала — результат тот же. Когда все повторилось в третий раз и в зале зазвучал смех, инициативу в свои руки взяла мама:
— Вы, конечно, понимаете, дети, что Николай Константинович нарочно делает вид, что забыл слова, он хочет узнать, а знаете ли вы эту знаменитую песенку.
Дружное «знаем» прозвучало в ответ.
— Ну, тогда спойте ее вместе с Николаем Константиновичем.
Зал весело запел, Черкасов влился в общий хор.
Почти все эвакуированные из Москвы актеры проживали в общежитиях или гостиницах. Номер в гостинице «Дом делегатов» вскоре стал и нашим домом. Впрочем, не только домом, но и репетиционным помещением, сперва только маминым — она создавала номера для своих концертных выступлений, потом общетеатральным, когда готовился к открытию тюз. Но это позже, а сейчас...
** *
— Слушай, давай объявим, что у тебя сегодня день рождения, пусть приходят знакомые, несут подарки, — случалось, говорила мама.
Часов в 11 вечера после окончания спектакля — в нашем номере большой прием. Подарки самые неожиданные: от гималайского ежика — он долго потом у нас жил, до абажура. Но о «предмете торжества» тотчас забывают. Мама садится за рояль, Черкасов, водрузив на голову подарочный абажур, танцует восточный танец, потом «превращается» в крокодила. Жаров становится медведем, а Целиковская змеей, потом все поют куплеты и отплясывают канкан — не забыть и не передать мне того духа безудержного творческого упоения, царившего на наших днях рождениях или именинах, которые провозглашала мама, ничуть не заботясь о подлинных датах. Впрочем, и день рождения Целиковской мы, по-моему, за год отмечали раз шесть. Но не из желания получить подарки — их тут же передаривали, а из стремления к творческому общению с теми, для кого театр — это жизнь, а жизнь — театр...
В конце июля оперный театр закрылся в связи с окончанием сезона до сентября, и мама приняла предложение баритона Петра Каретникова отправиться с созданной им концертной бригадой на месячные гастроли по среднеазиатским городам. Я как бесплатное приложение тоже была взята в турне.
«Тряпки-веревки, тряпки-веревки», — это балерина Ольга Байкова рассматривает содержимое своего чемодана. Она окончила одно из самых престижных — ленинградское — хореографическое училище, потом чуть не погибла от голода во время блокады и вот теперь в нашей бригаде. Еще в ней артист оригиального жанра Юра Мозжухин, пианист Роман Валентинович и бесшабашный Коля, водитель полуторки, транспортного средства, выделенного филармонией на все время наших гастролей.
Наши концерты имели успех и делали приличные сборы, несмотря на то, что «красная строка» Каретников и в знаменитых ариях, и в популярных шлягерах стабильно брал фальшивые ноты, отчего Роман Валентинович болезненно морщился, как от зубной боли, а Юрочка Мозжухин ронял половину предметов, которыми жонглировал.
Особенно меня смешил его «стаканный жонгляж». На деревянный обруч ставили стаканы с водой, затем Юрочка под бравурную музыку начинал вращать обруч. В конце номера он показывал публике стаканы, в которых на донышке, действительно, что-то оставалось. Юрочка упоенно раскланивался, а Роман Валентинович в это время большим носовым платком старательно вытирал лысину — последствия Юрочкиного «водопада».
Совсем другого художественного уровня были выступления мамы и Ольги Байковой. В первом отделении мама обычно в серебристо-сиреневом длинном платье читала, а вернее, исполняла «Встречу Анны Карениной с сыном», а во втором в папахе и военной шинели стихи советских поэтов о войне и любви, а Ольга соответственно в первом танцевала классические адажио и вариации, а во втором — зажигательные народные танцы (после войны она стала примой-балериной Киевского оперного театра). В то время мы с Ольгой очень сдружились и целые дни проводили вместе в основном на восточных базарах.
Кто не видел восточные базары в небольших среднеазиатских городах, многое потерял. Звуки, запахи, краски, — национальный колорит во всем.
Здесь горы винограда, урюка, арбузов, дынь не только на прилавках, но на земле, на ревущих ишаках и верблюдах в таком количестве, что видны лишь морды да хвосты. Торгуют исключительно мужчины, женщины разгружают и подносят товар да кипятят чай, который из расписных пиал пьют их властелины, ведя друг с другом неторопливую беседу. Именно ради этого они скорей всего и съезжались на базар из отдаленных кишлаков и аулов.
Отправляясь на восточный базар, совсем необязательно иметь много денег, можно даже их вовсе не иметь, но очень неплохо «подзаправиться», потому что тут все наперебой предлагают «попробовать» и не по ягодке или щепотке, а пригорошнями и горстями. Пользуясь этим, мы с Ольгой разыгрывали на базарах целые спектакли. Например, подходим к одному из продавцов винограда, я беру несколько ягод, кладу в рот одну, вторую, третью.
— Ну как? — вопрошает Ольга.
— Да что-то не пойму...
— Да вы как следует попробуйте, — оживляется продавец и сует нам в руки по небольшой кисти.
Едим. Продавец смотрит нам в рот. Глубокомысленное молчание. Наконец, Ольга задумчиво:
— Вообще-то хорошо...
Продавец уже берется за гири.
— Но... — продолжает Ольга неопределенно.
— Да... — подхватываю я.
— Да вы у меня попробуйте, что ж с первого-то раза, — включаются в разговор другие продавцы, и отовсюду к нам тянутся руки с гроздьями.
В Коканде нас разместили в гостинице, которая находилась непосредственно на базаре. Ольга отправилась туда сперва одна, но вскоре вернулась за мной.
— Там такой симпатичный продавец винограда, — сказала, — пойдем, познакомлю.
Продавец, действительно, оказался очень симпатичный и молодой. Он сразу стал угощать нас виноградом, медом, орехами и не спускал глаз с Ольги. Мы премило болтали, и я заметила, что соседний продавец урюка не спускает глаз с меня.
— Рассердился аксакал, сильно рассердился, что сын на русскую девушку заглядывается, — подытожил сценку продавец урюка. — А мне никто ничего приказывать не смеет, я сам себе аксакал.
Дальше выяснилось, что этому аксакалу очень нравятся русские девушки, и он хотел бы на одной из них жениться, в частности, на мне. Войдя во вкус базарных спектаклей, Ольга сказала, что это вопрос серьезный и его надо обсудить со старшей сестрой «невесты» и ее дядей (как выяснилось, под дядей подразумевался Каретников). Сгорающий от нетерпения «жених» попросил начать переговоры тотчас же, и мы с Ольгой отправились в гостиницу.
В тот вечер из-за каких-то неурядиц кокандская филармония не смогла нам предоставить площадку, и мы были совершенно свободны. Неожиданное приключение с внезапным сватовством всю гоп-компанию необычайно воодушевило. Каретников, узнав, что он «дядя невесты», зарычал от удовольствия и тут же напялил на себя ярко-красную рубашку и зеленый галстук. Все остальные тоже в зависимости от вкуса и возможностей уделили особое внимание своему гардеробу, после чего всей бригадой отправились на переговоры. Как известно, на востоке за невесту полагается давать калым. Мой «жених» сразу предложил за меня двух баранов и три мешка сушеного урюка. Такой калым вызвал бурю негодования моих многочисленных родствеников.
— Два барана? Я рассчитывала на небольшое стадо, — выразила крайнее недоумение старшая сестра-мама.
— Да ты только посмотри, какая девушка, — вопил вошедший в роль «дядя», вертя меня во все стороны...
В конце концов сторговались на четырех баранах, пяти мешках сушеного урюка и всей гурьбой отправились обмывать сделку.
Известное английское выражение «мой дом — моя крепость» как нельзя больше подходило к жилищу моего «жениха», как, впрочем, и к домам всех его соседей, обнесенных высокими глинобитными заборами, скрывающими от посторонних глаз все, что внутри. А внутри просторная глинобитная мазанка, увешанная коврами, множество хозяйственных построек, среди которых бродят куры, козы и овцы (интересно, каких он предназначает мне на калым?) и тенистый сад, посреди которого большая узорная беседка, увитая виноградом, с причудливыми «люстрами» дымчато-фиолетовых и янтарно-прозрачных кистей.
Мой «жених» что-то сказал встретившей нас узбечке, и она, бросив на меня быстрый и острый взгляд, стала хлопотать возле стола в беседке, уставляя его бутылками, блюдами, тарелками.
— Нет, жена, и та тоже, — он кивнул на еще одну узбечку возле дома.
— Как же это? Ведь советская власть не разрешает иметь много жен, — опешил наш праведный шофер, комсомолец Коля.
—У нас вся власть по четыре-пять жен имеет, — отвечал «жених». — И тот, который самый главный в городе, и который партия — тоже.
— Да, конечно, местные обычаи... — занял неопределенно-примирительную позицию Каретников, откупоривая бутылку и поглядывая на дымящийся бешбармак.
— Ну, что ж, за молодых.
— Черной работы знать не будешь, это пускай они (в сторону жен) делают. А тебя я только любить-ласкать буду, —воодушевился «жених» и вознамерился заключить меня в объятия.
Но старшая сестра-мама решительно этому воспрепятствовала:
— Нет! По нашим обычаям до свадьбы этого не полагается.
Ее тут же поддержали, блюдя мою невинность, все остальные «родственники», и чтобы окончательно остудить пыл жениха, сообщили, что это плохая примета. Он присмирел, и все принялись за угощение. Расставаясь, «жених» прошептал мне:
— Завтра с утра калым привезу и тебя к себе заберу.
Я не придала его словам значения, зная, что завтра утром мы уезжаем. И, действительно, с восходом солнца мы отправились продолжать наше турне. Но, едва тронулись, увидели на дороге четырех баранов, которых погонял мой «жених». Его старшая жена вела ишака, нагруженного мешками с урюком.
— Ку...у...да? — закричал он, увидев меня.
— Мы скоро вернемся, — попытался утешить его Каретников, а Коля поддал газу.
***
В сентябре открыл очередной сезон оперный театр, и мама приступила к постановке «Чио-чио-сан» Пуччини. Я же должна была продолжить, а точнее, «вернуть себе» школьное образование. Никаких документов, удостоверяющих, что я когда-нибудь что-нибудь кончила, у меня не было, а если бы и было, я бы не стала ими пользоваться: в лучшем случае могла рассчитывать на справку, выданную средней школой села Боары, что посещала 6 класс. Но в 17 лет это, согласитесь, не украшает, и, если продолжать образование такими темпами, школу я закончила бы уже за 20. Словом, надо было на что-то решаться, и в конце августа я отправилась искать учебное заведение, куда бы меня согласились взять.
Я вышла из дома и пошла вниз по улице с намерением покорить первую же школу на своем пути. Среднюю школу № 54 я увидела издалека и, войдя, решительно направилась прямо в кабинет директора. Никаких документов с меня и не требовали, только спросили:
— А сколько ты окончила классов?
— Восемь, — не моргнув глазом ответила я и меня тут же зачислили в 9-ый.
Война согнала с насиженных мест не только знаменитых артистов, но и учителей: географию преподавала украинка, физику интеллигентнейший Александр Константинович из Ленинграда, а литературу Антонина Георгиевна Кордзинашвили из Тбилиси. Колоритнейшая дама! В класс не входила — влетала в каком-нибудь ярком — пусть штопаном-перештопанном, но сохраняющем следы былой экстравагантности одеянии с неизменной шалью через плечо, скрепленной с облезлой горжеткой из чернобурки, при этом большая ее часть, включая лисью морду, волочилась за ней по полу, как шлейф за королевой.
На ее уроках я почти сразу выбилась в корифеи. Правда, началось со скандала. «Антонина» — в разговорах между собой мы не утруждали себя отчеством — заставляла нас вести конспекты ее «лекций» и по ним отвечать. Но лекции эти были просто более кратким изложением учебника, и я приспособилась подчеркивать то, что она говорила. Заметив, что я не пишу, она спросила, почему, я объяснила свою «методику», чем привела ее в негодование. Желая как следует проучить, она поставила меня перед классом и стала распекать, обвиняя в зазнайстве и невежестве.
— Уверена, что ты даже назвать не можешь ни одного поэта, а смеешь своевольничать...
— Почему, могу. Пожалуйста — Пушкин, Лермонтов, Блок...
— Блок? Ты что же, читала Блока? — негодование сменилось удивлением.
— Читала.
— Ах, дети, как я люблю стихи Александра Блока: «В голубой далекой спаленьке...» — начала она и чуть запнулась.
— «Твой ребенок опочил», — подсказала я и продолжила: «Тихо вылез карлик маленький».
— «И часы остановил», — подхватила она.
Я покорила сердце Антонины Георгиевны.
— «Сацик», —т ак она меня стала называть, — может не писать моих лекций, но вы все обязаны, потому что вы невежды и неучи.
Особое отношение ко мне Антонины Георгиевны сохранилось до конца школы. Когда ее уроки посещал какой-нибудь «представитель» или комиссия, она всегда вызывала меня и к месту, и не к месту заставляла читать Блока. Антонина, кстати, буквально спасла меня на выпускных экзаменах по геометрии. Я запуталась в доказательствах и, как ни билась, не могла свести концы с концами. От отчаянья стала нести какую-то математическую ахинею, но при этом непрестанно меняя интонацию. Антонина, которая была членом комиссии (в математике она, естественно, ничего не понимала), услышав мои фиоритуры, тут же пришла в восторг. «Вы только послушайте, как Сацик теорему доказывает, — воскликнула она. — Словно стихи читает» — и все, действительно, сосредоточились на том КАК, а не ЧТО я говорю — и единодушно оценили мои знания высшим баллом.
Но вернемся в сентябрь 44-го...
Как после долгой зимней спячки, природа весной бурлит кипением жизни, так мне после всего минувшего было мало учиться в 9 классе, бывать на киносъемках, спектаклях, концертах. В то время я еще очень увлеклась альпинизмом. Сначала это произошло благодаря Гале Можаевой, новой школьной подруге. Ее отец год назад вернулся с фронта. Врачи «комиссовали его по чистой» ввиду целого букета болезней, из которого язва желудка, туберкулез легких, почечная недостаточность были еще не худшими, и прямо заявили его жене, что больше месяца он не протянет. Но вместо того, чтобы, лежа в постели, терпеливо ждать конца, он уехал в горы, стал там строить дом и разводить пчел.
Скоро слава о его меде разнеслась по округе, и колхоз-гигант «Алма-атинский» предложил ему должность главного пчеловода, выделив пару крепких лошадей, чтобы он мог объезжать дальние пасеки. Мы с Галкой нередко сопровождали его в этих поездках, и я не переставала удивляться его неутомимости. Худощавый, жилистый, с выцветшими прозрачно-голубыми глазами, он был очень молчалив и очень добр. Он уже давно забыл про врачей и болезни, а о вкусе и целебных свойствах его меда можно было писать поэмы: много лет спустя обосновавшийся в Казахстане брат Адька привозил мне от него баночки солнечно-желтого благоухающего горного меда, излечивающего от простуды, порезов, ожогов, словом, от всевозможных хворей и болезней.
Первое, чем он поразил мое (и по-моему, мамино) вооображение был чемодан с фотографиями и сырами. Сыры были американские, плавленые, присылаемые американцами взамен открытия второго фронта, фотографии женские — память о влюбленных и покоренных. Сыры были очень вкусные, женщины на фотографиях в основном бальзаковского возраста и сверхзаурядной внешности. Особенно «хороша» была одна с «баба-ягинским носом и подбородком». «Тетя Лошадь» прозвали мы ее. Но у этой "тети», оказывается, был муж генерал. И как же козырял этим генералом Дима (кстати, судя по его рассказам, он был с ним в прекрасных отношениях), повествуя о своих амурных победах. Стремясь во что бы то ни стало выделиться, отличиться, возвыситься, а главное, показать маме, каким сокровищем она обладает, Дима готов был на все.
Еще в Москве маме говорили об Алма-Ате, как городе ленивом, сонном и абсолютно нетеатральном. Таково было первое впечатление и об артистах казахской оперной труппы. Плоские лица, немигающие, ничего не выражающие глаза, небрежно-высокомерные позы, — такими предстали они на первой репетиции «Чио-чио-сан». За внешней ледяной непроницаемостью угадывалось: зачем и кому понадобилась эта режиссерша, вчерашняя зека. Встанем, как всегда, напротив дирижера и споем, тем более в зале, как всегда, никого не будет. Я не была и не могла быть на этой репетиции и не могу воспроизвести, что и как мама на ней делала, но я ее провожала и встречала и видела лица актеров ДО и ПОСЛЕ. Забегая вперед, скажу, что успех «Чио-чио-сан» был не просто огромный — фантастический. Впервые на казахском оперном спектакле был аншлаг. Эйзенштейн, Черкасов, Бирман, Тиссе писали восторженные отзывы о постановке и Куляж Бейсеитовой в заглавной роли, и все время, пока «Чио-чио-сан» была в репертуаре, у кассы толпились желающие заполучить «лишний билетик».
По вечерам мы часто ходили в гости уже не только к московским, но и к казахским артистам и всегда центром общения становилась мама. Дима гордился, но больше завидовал ее успехам и во что бы то ни стало стремился сотворить нечто эдакое, чтобы о нем заговорили. Узнав о моем увлечении горами, он тотчас не преминул сообщить, что является «сыном солнца», покорителем Суфруджу и других горных вершин и что только он может научить меня настоящему альпинизму. Короче говоря, однажды мы отправились в горы вдвоем и не успели сделать двух шагов, как Дима стал вносить коррективы в наш маршрут, что в свою очередь привело к тому, что мы заблудились. Бредем неизвестно куда среди альпийских в рост человека трав, а Дима уже ворчит, что это я его завела и что здесь, наверное, много диких зверей. Он пугливо озирается, я пытаюсь его успокоить.
— Смотри! — вдруг радостно кричит Дима и показывает на что-то большое и темное возле поваленной ели. Я вглядываюсь, пытаюсь понять, кто это, а обрадованный Дима уже кричит:
— Товарищ! Не скажете ли нам, где Алма-Ата?
Но «товарищ» вдруг повернул к нам медвежью морду, заурчал и пустился наутек.
Стало темнеть. Мучительно соображаю, что делать. Наконец, вспомнила — река! Где-то читала: если сбился с дороги, ступай к реке, она обязательно приведет тебя к жилью. Прислушиваюсь — шум горных рек далеко разносится — и действительно его различаю: река где-то внизу.
В пьесе Евгения Шварца «Красная шапочка» есть прелестный образ Волка, хвастуна и пижона, который на все отвечает: «Я сам, сам иду, сам придумал...». Позже, когда в казахском тюзе ставили «Красную шапочку», мама посоветовала исполнителю роли Волка Юре Померанцеву «лепить роль» с Димы.
— Это же просто с него списано, —говорила она.
И в данной ситуации Дима тотчас заявил, что он сам знает про реку, просто не успел мне об этом сказать. Я тем временем заметила едва заметную тропинку и предложила Диме спуститься по ней к реке, но он тотчас возразил, что идти надо напрямик и, не дожидаясь меня, ринулся вниз. Я же пошла по тропинке и без всяких приключений добралась до реки. Набрала сушняку, развела костер — детдом приучил меня не отправляться в дорогу без спичек, жду — Димы все нет. Вдруг раздается страшный грохот и вместе с камнепадом он буквально сваливается мне на голову.
-— Я летел десять метров, — победоносно сообщил Дима, как только очухался, весь в синяках и ссадинах. Позже в его расцвеченных яркими деталями рассказах десять метров последовательно превращались в двенадцать, пятнадцать, наконец, двадцать метров.
Утром Дима заявил, что должен немедленно начать заниматься игрой на скрипке, так как решил превзойти Паганини, словом, мы должны отправляться домой. Решили идти вниз по реке, и Дима чуть ли не в припрыжку двинулся вперед. Надо знать ярость горных рек, чтобы понять, как осторожно необходимо передвигаться даже вдоль берега. Но Дима, конечно, чтобы «спрямить путь» прыгнул на валун, находящийся чуть ли не на середине — и тут же очутился в ледяной клокочущей быстрине. Еле-еле ему удалось выбраться на берег. Но в каком виде: кровоподтеки, синяки, ссадины, вдобавок что-то случилось у него с ногой — она распухала на глазах.
Вот как! Оказывается, это я во всем виновата. Но тем не менее надо искать выход. Я усадила Диму возможно удобнее, прислонив к скале, и стала обследовать окрестности. К счастью, очень скоро наткнулась на хорошо утоптанную тропу со следами овечьего помета и копыт — значит, здесь их гоняют на водопой, и отправилась по ней вверх.
Весной в альпийских лугах Заилийского Алатау цветут тюльпаны — сплошной ковер огненно-красных и лимонно-желтых цветов. Ранним летом их сменяют фиолетовые ирисы, а потом до поздней осени цветное разнотравье. По нему я и шла теперь. Наконец, дошла до верха и сразу услышала бешеный лай. Навстречу неслись огромные кавказские овчарки: оскаленные пасти, вздыбленная шерсть... «Все. Конец»,—подумала я, — и застыла изваянием. Это и спасло. Добежав до живой статуи, собаки несколько растерялись, а в это время из жилища вышел чабан и отогнал псов.
Старик-чабан жил здесь совсем один и плохо понимал по-русски. Все же мне удалось растолковать ему, что внизу находится человек, которому очень плохо. Подойдя к Диме и осмотрев его ногу-бревно, он не говоря ни слова, изо всех сил дернул ее. Дима взвыл, как раненый бык, и — вскочил. Выяснилось, что теперь он может не только стоять, но и, хоть с трудом, ходить. Кое-как с нашей помощью он доковылял до стойбища чабана, был накормлен и, заняв его постель, блаженно уснул. Мне же предстояло решать, что делать дальше: как доставить Диму домой, как сообщить маме, чтоб не волновалась. Старик-чабан пытался что-то втолковать, но я ничего не могла понять, пока в потоке казахской речи не мелькнули спасительным островком два русских слова: пасека и лошадь. Пасека! Всеми пасеками в округе заправляет отец Гали Можаевой! И лошадь у него есть! Но как до него добраться? Поняв, что я что-то уразумела из его объяснений, чабан перешел на первобытный язык жестов, указав направление пути, а главное, проводив до нужной тропы.
И я снова наедине с горами. Наверное, потому, что ничего, кроме безудержной радости, пока шла, не испытывала, я дошла быстро, всего за 2 часа, и не заблудилась. Первой в доме встретила Галку Можаеву. Это было как нельзя кстати, потому что вечером она возвращалась в Алма-Ату (по будням она жила в городе), а значит, передаст маме, что все в порядке, а учителям, что я задерживаюсь по уважительной причине.
Иван Петрович, отец Галки, вскоре доставивший Диму на лошади (хотя Дима не раз заявлял, что он настоящий джигит, чтобы не свалился, его пришлось привязывать к седлу), осмотрев ногу, сказал, что хотя чабан все сделал правильно, несколько дней ногу нагружать нельзя, а это значило: эти несколько дней мы проживем на пасеке. Прекрасно!
Пасека — это мед, а мед — это пчелы. Иван Петрович, очевидно, знал какое-то пчелиное заклинание: я не видела, чтобы он надевал специальную маску или отпугивал пчел дымом, но пчелы его не трогали, даже когда он выпиливал соты из ульев. Я хоть и не имела таких привилегий, но могла спокойно ходить по саду, где были расставлены ульи, не подходя к ним, правда, чересчур близко. Дима пчел ненавидел (хотя и любил мед), они платили ему тем же и умудрялись жалить в самых неожиданных ситуациях самым коварным образом. Так, уже на второй или третий день Дима, хотя и прихрамывающий, но бодрый и жизнерадостный, уговорил меня сходить с ним на речку, чтобы искупаться в каком- нибудь безопасном месте. Такое место было в километрах трех внизу, на большом ровном месте, где река на время смиряла свой бешеный нрав и выглядела вполне миролюбивой. Там же, на другом берегу находилась база отдыха для особо ответственных работников. Но ответственные работники, видимо, были заняты ответственными делами, а на базе жили в основном изнывающие от безделья и скуки их жены. Чтобы хоть как-то убить время, они в нарядных платьях с кружевными зонтиками прогуливались взад-вперед вдоль берега. Димино купание для них явилось неожиданным развлечением, а для него так просто подарком. Заметив, что дамочки пялятся на него во все глаза, а он был, действительно, очень красив, Дима «распушил перья»: схватил средней величины булыжник и стал лупить себя по груди, демонстрируя бицепсы. Одна из дамочек игриво бросила ему цветочек. Он послал ей воздушный поцелуй и еще вдохновенней заработал булыжником. Между тем этот импровизированный спектакль привлек внимание не только дамочек, но и пасшейся неподалеку коровы. Некоторое время она, выпучив глаза, взирала на Диму, затем ее заинтересовали оставленные им на берегу мыло и полотенце. Когда я с другого берега крикнула:
— Дима, корова! — мыло она уже съела и, пуская огромные пузыри, взялась за полотенце.
— Отдай! Возьми! Отбери у нее! — завопил Дима, сам не делая к корове ни шагу. — Оно же казенное! (полотенце было из гостиницы).
Все же смех дамочек подвигнул его на решительные действия, он вытянул из коровьей морды зеленое изжеванное полотенце и направился обратно. Но не прошел и десяти шагов, как вновь отчаянно завопил: на него налетели невесть откуда взявшиеся пчелы. Отбиваясь от них, забыв про раненую ногу, он с редким проворством добрался до дома и успокоился лишь тогда, когда Иван Петрович в утешение напоил его настоенной на каких-то травах и меду водкой.
Эта незатейливая история дала мощный толчок Диминой фантазии и в его рассказах обросла такими героическими подробностями, что даже я порой начинала верить в его былинные подвиги во время нашего путешествия. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — любила повторять мама. Став первой слушательницей его рассказа, она почти всерьез заметила:
— Прекрасная история, и ты себя в ней прекрасно проявил. Но я тоже кое-что сделала: принято решение начать работы по открытию в Алма-Ате Первого детского театра Казахстана.
***
Мама умела увлекать и увлекаться. Дима был одним из ее увлечений, но увлечение не всегда любовь. А всю свою страсть, всю безмерную любовь она отдавала делу своей жизни — театру для детей. Она создала их несколько, и было впечатление, что они так же преданы ей, как она им. Когда ее посадили, загорелся Центральный детский театр. Несколько лет продолжалась реконструкция Камерного музыкального театра на Никольской, где до этого помещался наш детский музыкальный, но накануне новоселья, неизвестно отчего, возник пожар. И вот совсем недавно, приехав на празднование 50-летия первого тюза Казахстана, я стояла на его пепелище. Чудо-здание сгорело сразу после того, как маму «съели» чиновники от искусства и примкнувшие к ним коллеги, и она вынуждена была покинуть Алма-Ату. Теперь русский и казахский тюзы сосуществуют в помещении бывшего театра драмы. Работают успешно.
Но я вспоминаю наше здание и наш театр.
***
Утром школа. После надо зайти на базар купить или обменять что-то на еду — хозяйство нашей семьи на мне. Конечно, необходимо отоварить хлебные карточки, а это часовые очереди. Еще приведение в порядок маминых платьев — она обращается с ними довольно небрежно и все время меняет. Но все это между главным — между репетициями и работой на стройке нашего театра.
Мама удивительно умела превращать НЕТ в ЕСТЬ, НЕЛЬЗЯ в МОЖНО и добиваться своего не БЛАГОДАРЯ, а НЕСМОТРЯ НА... Только-только чиновники, мечтающие спустить создание театра на тормозах, находят подходящий аргумент — в Алма-Ате нет пустующего здания под будущий театр, как она им на это здание указывает — бывшей киностудии. Новый аргумент — оно так разрушено, что нельзя восстановить. Но главное архитектурное управление уже ее союзник и берется это сделать. Несмотря на все новые аргументы и новые препятствия, здание укрепляется, реконструируется, украшается, и близится день, когда в нем появятся первые зрители. Они увидят золотой зал, с казахским орнаментом и непревзойденным творением великого скульптора Иткина (в то время он отбывал ссылку в Алма-Ате и был беднее последнего нищего) — деревянного Джамбула, сидящего на пороге казахской юрты. А поднявшись наверх, зрители попадут в уютнейший концертный зал в бело-розовых, как цветущий весенний сад, тонах, с барельефами Чайковского, Бетховена, Моцарта, Шопена. И наконец, — большой театральный зал с красивейшим занавесом, на котором вытканы шелком взявшиеся за руки мальчик и девочка — русский и казашка. Как только он раздвинется, начнется спектакль.
Но спектакль еще надо было создать. И рождался он в том же номере гостиницы «Дом делегатов», где мы жили. В Алма-Ате не было театральных училищ и студий, а значит, неоткуда было брать готовых артистов. Вернее, почти неоткуда. Кое-кто пришел из других театров драмы и даже оперы, кто-то даже прибыл из других городов и приходилось решать для них квартирный вопрос, но их было мало.
— Слушай, в твоем классе нет способных девчонок (школы тогда были мужские и женские), из которых можно сделать актрис? — спросила как-то мама.
— Думаю, есть.
— Продумай как следует и вечером приведи их к нам. Хорошо бы также зайти в соседние школы и разведать, нет ли там. Вообще сообрази сама и докажи, что ты моя дочь.
Это был ее способ воздействия на мою психику. Достаточно было сказать «докажи, что ты моя дочь», — и я расшибалась.
Вечером в нашем номере сверх-аншлаг. Дима распускает «павлиний хвост» перед хорошенькими абитуриентками, мама за роялем — ее актеры должны быть музыкальными.
На протяжении всех лет, что мне довелось быть с ней рядом, всегда поражалась ее «человековедению» — умению разглядеть в человеке его глубинную суть, о которой он подчас и сам не подозревал.
Две девочки перед ней. Одна миловидная, бойкая, на все вопросы отвечает складно, стихи читает громко, может и песенку спеть, и с подтанцовочкой пройтись. Другая сумрачная, насупленная, басню прочитала бесцветно, ну, кажется, совсем не интересная. Но мама первую отпускает, а со второй возится: предлагает одно, второе, третье, спрашивает, что мы проходим по литературе. Узнав, что «Грозу» Островского, предлагает прочитать монолог Катерины. Она начинает так же бесцветно, но потом увлекается, воодушевляется, преображается, а когда заканчивает, на глазах слезы. Эта девочка потом стала одной из лучших актрис театра.
Первым спектаклем театра должна была быть «Красная шапочка» Е.Шварца. Но вот беда — нет у нас Красной шапочки. Девчонок способных в группе немало, но не Шапочки они, нет правды, точного попадания в образ. Уже на сцену вышли, три актрисы попеременно репетируют, а удовлетворения нет.
— Юля, поправь софит, — просит завпост.
— Какой? — свесилась сверху белокурая головка.
— Кто это? — спрашивает мама.
— Работник электроцеха.
— Пусть она спустится.
Девушка спускается. Хрупкая, маленькая, золотистые кудри и огромные голубые глаза.
— Юля, а ты не мечтала стать артисткой?
— Мечтала.
— Тогда приходи ко мне вечером домой.
Снова репетиции в номере.
— Я не могу разозлиться на Красную шапочку, я в нее влюблен, — басит Волк — Юра Померанцев.
Я тоже влюблена и, по-моему, мама, а уж дети!.. «Красная шапочка, какая ты хорошенькая!.. Как ты замечательно поешь!.. Красная шапочка, ты нам очень-очень нравишься!..» Ах, Юля, Юля, какая бы из тебя актриса вышла!.. Но неудачное замужество, роды — и осталась только Красная шапочка.
Я тоже начала участвовать в массовых сценах в спектаклях. Но, чтобы получить хотя бы крохотную роль, надо было быть зачисленным в театральную студию, созданную мамой при театре, выдержав вступительные экзамены. Желающих прославиться на артистическом поприще оказалось предостаточно и среди вчерашних школьников, и пришедших со стороны, поэтому конкурс был довольно большой.
В приемной комиссии, кроме мамы, композитор Манаев (позже он напишет прелестную музыку к «Двенадцатой ночи»), Виктор Сергеевич Розов, тогда еще не драматург, но довольно известный режиссер, Галина Сергеевна Уланова. Уланова первая выделила меня из остальных девчонок.
— Ну, что же ты? Это же просто. — Уланова вновь показала. Но я тупо смотрела в пол и совершенно не понимала, что надо делать своими балетными ногами.
— Голова не балетная. — сказала Уланова и потеряла ко мне всякий интерес. Однако, когда я прочла басню, а затем монолог Катерины, Виктор Сергеевич Розов воскликнул:
— Это совсем не Катерина, но ведь интересно, — и меня зачислили.
Все студийцы в обязательном порядке принимали в качестве практики участие в массовых сценах, но нас то и дело выдвигали на эпизодические, а то и на главные роли. Однажды я увидела свою фамилию на листке распределения ролей в пьесе Малюгина «Старые друзья», и она значилась напротив самой главной роли Тони-Антона, так звали героиню пьесы. Правда, на эту роль было назначено четыре исполнительницы, и я как раз была четвертой, что по театральной практике означало, что мне ее никогда не сыграть. Однако я кухни театра не знала, а посему, выучив чуть ли не в один день роль назубок, денно и нощно бредила своей героиней.
Как-то мама решила проверить самостоятельные работы студийце» — назначение на ведущие роли так же, как я, получили почти все. Начался страшный разнос: «просвещенные» старшим поколением актеров студийцы один за другим доказывали свою полную несостоятельность. Зато я на этом фоне засверкала яркой звездой. В назидание и поощрение меня перевели из страховщиц в основные исполнительницы и даже стали со мной репетировать. Однако это продолжалось недолго: приближалась премьера, нужно было сосредоточиться на одной более опытной актрисе и, естественно, меня отставили. Но причудливы пути театральные. Спустя месяц после премьеры случилось так, что основная исполнительница этой роли заболела, вторая уехала по каким-то семейным делам, третья вообще уволилась из театра. Надо было либо отменять спектакль, либо выпускать на сцену четвертую, то есть меня.
Играла я в каком-то чаду. Забыла про задачи, приспособления, даже про мизансцены, вообще про то, что я играю. Просто меня не было, а была девушка Тоня-Антон, и два ее друга Володя и Валя. И, увлеченная сперва Володей, я — Тоня-Антон — в конце понимаю, что не он, красивый и самодовольный, а застенчивый незаметный Валя истинное-настоящее. Когда, внутренне прожив и осознав все это, я медленно через всю сцену пошла к Вале, вдруг раздались аплодисменты, а когда сказала: «Валя, знаешь, я тебя очень люблю» — тишина, а затем овации. Это был триумф первый и — увы! — единственный в моей артистической карьере.
На следующий день снова шел этот спектакль, и я снова должна была играть. Актеры, свидетели вчерашнего, растрезвонили знакомым о моем непревзойденном исполнении, в театр пришли знатоки. Их ждало полное разочарование. На сцене я не была ни Тоней-Антоном, ни самой собой, а какой-то безликой марионеткой, озабоченной лишь тем, чтобы воспроизвести вчерашние интонации и вообще тем, «как это было вчера». Но вчерашнее состояние не возвращалось, а интонации, не согретые живым чувством, не могли вызвать сопереживания у публики. На третьем и четвертом спектаклях я, несмотря на многочасовые репетиции с режиссером, играла еще хуже, — с роли меня сняли. Тогда впервые во мне шевельнулась мысль: мое ли это дело играть на сцене и даже — а хочу ли я быть актрисой?
Тоню-Антона я больше не играла, но другие роли мне продолжали давать. Одна из них — Клава Ковалева из «Молодой гвардии» Фадеева. Клава, простая, добрая шахтерская девушка, была влюблена в одного из главных героев пьесы Ваню Земнухова. Свою любовь и нежность она на протяжении спектакля выражала одной фразой: «Я так рада, Ванечка»... Я произносила ее с чувством, так как мне очень нравился проработавший у нас сезон Владимир Банковский, исполнявший роль Вани. Он смотрел на меня сверху (он был очень высокий) весьма благосклонно, но думал о другом: как бы ему, здесь подзаработав, поскорее вернуться в Москву.
Кульминационной сценой в «Молодой гвардии» было развешивание подпольщиками красных флагов. По «гениальному» режиссерскому замыслу моей мамы это решалось так. На авансцене с разных сторон появляются Сережа Тюленин (его исполнял Коля Фаюткин) и кто-нибудь из юных подпольщиц. Звучит нагнетающая эмоции музыка и — точно в «аккорд»! — юная подпольщица взлетает на плечи Тюленину, выхватывает из-за пазухи красную материю — и — снова аккорд! возникает огромное, во всю сцену, алое полотнище, колыхаемое закулисным ветродуем.
В качестве юной подпольщицы предстоит выступить мне. Звучит музыка. Я выхожу на авансцену, Коля чуть выставил ногу. Аккорд. Я отталкиваюсь и... падаю. «Корова», — доносится из зала мамин голос. Сцену повторяют. Снова Фаюткин выставляет ногу, снова аккорд. Я отталкиваюсь сильнее и, перелетев через партнера, грохаюсь позади него.
— Вы не актриса, вас нельзя близко подпускать к сцене! Волкоморова, возьмите у нее флаг.
Жанна Волкоморова, наша прима, трусит заранее и потому даже не пытается «взлететь», а вцепившись в Фаюткина, лезет по нему, как по дереву.
Снова вызывают меня и на этот раз я делаю все, как надо, однако назавтра, на генеральной, с перепугу перелетев через Фаюткина-Тюленина, грохаюсь в оркестр, а вдогонку слышу режиссерский вопль:
— Она поломает мне все инструменты!
Но инструменты и кости целы, а вот мизансцену пришлось упростить. Как негодовала по этому поводу режиссерша, как обвиняла «юных подпольщиц» в бездарности!..
Но время идет, я уже в десятом классе, а мама ставит «Двенадцатую ночь», один из самых пленительных спектаклей нашего театра. У меня в нем ролька, не обозначенная Шекспиром: вместе с Женей Васильковой мы изображаем двух фей, поселившихся в замке графини Оливии и в лирических сценах принимающих разные «интересные» позы.
Но совмещать студию, артистическую деятельность и школу становится трудновато, тем более, что в школе впервые вводятся государственные экзамены на аттестат зрелости с вручением золотых и серебряных медалей. Мое прилежание — нулевое: письменные домашние задания выполняю на переменках и других уроках, во время устных ответов выплываю благодаря хорошо подвешенному языку. Но все чаще я начинаю понимать: нет во мне всепоглощающей страсти к артистической карьере, что называется «нет жизни без сцены», да и таланта, верно, нет, хотя играю немало и даже иногда небезуспешно. Словом, все чаще возникает мысль: а не попробовать ли себя в чем-то другом. Однако любая профессия требует знаний и желательно получить их в высшем учебном заведении. И тут меня осенило: не попытаться ли получить медаль, чтобы без экзаменов поступить в любой институт (такие тогда были правила), а в какой, соображу потом.
Но в 18 лет радость настоящего часто сильнее всего. И я радовалась. И находила время не только на школу и театр, но и на флирт, и на чтение книг, иногда совмещая то и другое. Вот так однажды вечером я и двое наших парней-студийцев вместе прочитали «Венеру Ильскую» Эдгара По, — рассказ о каменной статуе, сыгравшей роковую роль в судьбе юноши, надевшей ей на палец кольцо. А на следующий день в театре шла «Двенадцатая ночь», где все мы были заняты: я в роли феи, оба студийца играли придворных. В Алма-Ате сентябрь и почти весь октябрь по-летнему теплые, поэтому мы в антракте прогуливаемся по закрытому для посторонних дворику при театре. Неожиданно я замечаю статую огромной физкультурницы, которая по замыслу строителей должна украшать фонтан, хотя воду к нему подвести почему-то забыли. Пылкие взгляды, бросаемые на меня обоими «придворными», щекочут мое самолюбие и толкают на рискованные действия.
— Да это же Венера Ильская, — восклицаю я. — Хотите, я на нее влезу. — Не дожидаясь одобрения, одним махом я вскакиваю на «венерино» колено, обхватываю торс, и... она валится на меня.
«Венера» рухнула не вся — только бюст, — нижняя ее часть с торчащими из живота железными штырями, сколько помню, так и осталась стоять над поверженным мною к ее ногам собственным бюстом, который, кстати, на следующий день не смогли даже приподнять несколько человек. К счастью, при падении «Венера» задела меня только вытянутой рукой. Но и этого оказалось более чем достаточно: у меня была пробита голова, ушиб в легких и сломана нога.
На несколько мгновений я потеряла сознание, но к действительности вернули не суетящиеся вокруг «придворные», а театральный звонок к началу третьего акта. Сейчас начнется сцена Виолы и Оливии. Мы, феи, должны в танце кружиться вокруг нее, а Виолу играет мама... Мысль об этом заставила приподняться.
— Я должна танцевать, танцевать должна, — бормоча это, я попыталась сделать какое-то па и рухнула снова. «Придворные» подхватили меня и отнесли в театральную машину, доставившую в больницу.
На следующий день там появилась мама. И еще с порога обрушилась на меня всей мощью своего голоса и темперамента:
— В театральном костюме лезть на какую-то статую!.. Ты разрушила мизансцену!.. Ты не актриса!.. Ты не моя дочь!
Возможно, человек со стороны, узнав про это, подумает: какая бессердечная мать. Вместо того, чтобы справиться о здоровье, приласкать, утешить дочь, распекает ее на всю больницу.
Да, моя мама Наталия Ильинична Сац часто вела себя неадекватно общепринятому, крайне редко хвалила, нечасто ласкала, сама не раз говорила, что она своим детям скорее отец, чем мать. Но какой мудрый, какой добрый (она между прочим всегда подчеркивала разницу между добрыми и добренькими) и какой «материнский отец»! Тогда в больнице она не погладила меня по головке, не принесла конфеток — она была разгневана и ей было больно. И больней всего ей было оттого, что ее родная дочь может осквернить своими поступками самое для нее дорогое — Театр.
Неожиданно совсем иную реакцию на случившееся проявил большой поклонник нашего театра, много ему помогавший, первый секретарь горкома комсомола А.Светличный, который тоже находился в это время по случаю обострения своей язвы в больнице (к сожалению, он скоро умер). Услышав рассказ о моем падении, он воскликнул:
— И в этот вечер вы не играли?
— Да, ни в третьем, ни в четвертом действии.
— Какая досада, что я не был на этом спектакле. Я так люблю вашу «Двенадцатую ночь», стараюсь не пропустить ни одного спектакля, но меня всегда до чертиков раздражают эти две идиотки, которые болтаются по сцене неизвестно зачем и что-то там изображают. И вот когда на одну дуру стало меньше, я не был на спектакле...
А «дура» в больнице снова задумалась. Не помню, кто и где сказал: «Если человек задает вопрос: бьпъ или не быть мне артистом, артиста из него никогда не получится». Я же этот вопрос задавала себе все чаще и чаще...
В больницу мне принесли учебники, и первое, что я усвоила — ничегошеньки не знаю. Зато когда я вышла из больницы, оказалось, что во всех моих значительных и незначительных ролях меня заменили, и теперь я могу сколько угодно «грызть гранит науки». Я грызла и в конце концов «догрызлась» до пятерок по всем предметам. Экзамены тоже сдавала успешно, за исключением геометрии, о чем уже рассказывала, и алгебры.
Я одной из первых решила все задачи и уже собиралась сдавать тетрадь, как услышала позади тихие всхлипывания:
— Ты что, Динара? — спросила сидящую сзади одноклассницу-казашку.
— Ничего не могу решить, — прошептала она.
Недолго думая, я быстро переложила свою тетрадь на ее парту.
— В чем дело? Почему разговариваете? — раздался строгий голос председателя комиссии, и он направился к нам. Обнаружив мою тетрадь на чужой парте, председатель предложил снизить мне оценку на балл, а значит, вместо золотой я могла рассчитывать лишь на серебряную медаль. Но меня это нисколько не огорчило, так как права у золотых и серебряных медалистов одинаковые, а Динара уже успела списать полработы и получила спасительную тройку.
Когда я гордо сообщила маме, что окончила школу с медалью, она ответила, что исключительно по этому поводу решила мне подарить братишку или сестренку, о чем, впрочем, по некоторым признакам я догадывалась и раньше...
Вскоре я отправилась в горы в качестве одного из участников месячных сборов на звание младшего инструктора альпинизма СССР.
Лагерь альпинизма находился высоко в горах на Медео. Оттуда каждый день уходили в разных направлениях, а затем возвращались покорители вершин. Мы, новички, первую неделю учились вязать узлы, переправляться через горные реки, ходить в горах, ступая вразвалочку на всю ступню, ровно, глубоко дыша, учились вести себя в связке. Я была крепкая и выносливая, и наш инструктор Петя Черкасов всегда брал меня в свою связку, чтобы не тащить на себе «слабосилок».
«Умный в горы не пойдет, умный горы обойдет» — есть шутливая альпинистская песенка. Но уж если хоть раз поднялся, навсегда отдашь им свое сердце — не знаю, что может быть сравнимо с красотой гор. Однако горы шуток не терпят, легкомыслия не прощают, в этом я скоро убедилась на собственном опыте.
Когда лезешь по отвесной скале, помни о трех точках опоры, а именно: две руки и нога или две ноги и рука всегда должны во что-то крепко упираться. И, конечно, страховка. Тот, кто с тобой в связке, пока ты ползешь, должен, не спуская с тебя глаз, травить веревку, обмотав ее вокруг скалы или валуна. Таковы правила. Их добросовестно изложил и так же добросовестно подчеркнул их обязательность на первом же занятии Петька Черкасов, наш инструктор. В том, что для него самого они совершенно необязательны, я убедилась уже спустя несколько дней. Правда, сначала он уверовал в мои альпинистские способности, что, не скрою, мне очень польстило, и взял в свою связку. Однако после этого он перестал меня страховать. Перемахивает огромными ножищами гигантские ледяные трещины, прыгает горным козлом по осыпи, обрушивая вниз огромные валуны и камни, а на меня — ноль внимания. А ведь я иду сзади: могу и в трещину угодить, и валуны с камнями на меня с грохотом несутся, — чихать ему на это! Однажды это чуть не стоило жизни нам обоим.
Три точки. Я помню об этом, распластанная на отвесной скале. Да, я помню, но мне страшновато, потому что подо мной бездонная пропасть. И как мне хочется, чтобы сегодня — хоть раз! — Петька меня страховал. Но он, конечно, не страхует. Приподнимаю голову и вижу: сидит Петька спиной ко мне и орет во всю глотку «Аля-ля-луйя» — жизни радуется.
Дурак ты, Петька, ведь, если сорвусь, я тебя сдерну, мы же с тобой на одной веревке. Что это? Моя нога потеряла опору — она цеплялась не за уступ — за камень, а он от тяжести рухнул. И я тоже сейчас рухну, потому что держусь, распластанная, на одной руке и одной ноге. «Аля-ля-ля-луйя», — еще громче орет Петька, а я в холодном поту пытаюсь нащупать хоть какой-нибудь уступ, но нога скользит и скользит по гладкой стене. «Все», — думаю я и — нащупываю уступчик. Теперь попытаюсь свободной рукой найти опору — ага! получилось! — зацепилась и подтянулась. Ползу. Выползаю. Сажусь рядом с Петькой.
— Дурак ты, Петька, — говорю, — мы же с тобой чуть не погибли.
— А? — лениво огладывается Петька, машет рукой и снова: — Аля-ля-ля-луйя...
Но через несколько месяцев доигрался-таки Петька. Они шли втроем по снежному пирсу: Петька, еще один инструктор и девушка-новичок (говорят, из-за этой девушки Петька с инструктором накануне чуть ли не всю ночь выясняли отношения). Как ни странно, не девушка, а опытный инструктор сорвался и полетел вниз. Девушка страховала, зарубившись ледорубом, а Петька, как всегда, нет, — и их сдернуло обоих. Метров сорок они летели, оставляя на сверкающем чистейшем альпийском снегу кровавый след. Девушку изуродовало, Петька погиб, инструктор отделался ушибами.
Когда я, заслужив звание младшего инструктора по альпинизму, вернулась, дома уже пищал брат Илюшка, и мама попросила, пока не найдут какую-нибудь няньку, о нем позаботиться. Я уже твердо надумала поступать в Тимирязевский, но с моей медалью можно не спешить (так мне казалось), поэтому решила явиться прямо к началу занятий: зачислят, куда денутся!
Итак, я в няньках — стираю, пеленаю, качаю орущего младенца, которого мама, увлеченная очередной репетицией, опаздывает кормить. Но я редко бываю одна. Снова три «гидальго» смотрят на меня влюбленными очами. Со всеми тремя познакомилась в горах на сборах. «Мои горцы» очень разные. Черноволосый в кудрях Игорь — граф, в «обычной жизни» студент филологического. Герцог — Саша Кузнецов, артист нашего театра, впоследствии мастер спорта по альпинизму, биолог и очень неплохой писатель. Наконец, князь — учащийся железнодорожного техникума Андрей Гимаш, красивый, мрачноватый и очень упорный. Его упорство меня и пугает, и привлекает. Так складывается, что чаще всего рядом со мной и Илюшкой оказывается именно он. Даже в детскую консультацию я предпочитаю ходить с ним, чтобы особо рьяные «защитницы морали» не голосили на всю улицу: «И не стыдно тебе, небось, пятнадцати еще нет!» Хотя мне между прочим уже все восемнадцать.
На папу Диму Андрей тоже оказывает положительное влияние: после их «мужской беседы» Дима уже не требует закаливать младенца «путем выбрасывания в мороз голым на балкон» и даже не пытается накормить еловой хвоей, в которой «все витамины». Однако время идет, а няньки все нет. Маме между тем в оперном театре предложили поставить очень ответственную — из конъюнктурных соображений — оперу Вано Мурадели «Великая дружба» о героизме красного командира — его прототипом являлся не кто иной, как Серго Орджоникидзе. Кроме того, в нашем детском театре она будет ставить новую пьесу Сергея Михалкова «Я хочу домой».
— Между прочим, в одной очень симпатичной роли я вижу тебя, — как-то вроде бы вскользь замечает мама. Но нет, я хочу в Тимирязевку! Вот только бы нянька...
Наконец, нянька найдена. Суматошная, бестолковая, но с медицинским образованием. Правда, из медсестер ее за что-то выгнали, но это не имеет значения, важно, что она есть и я могу ехать. Отправляюсь в школу за документами и заветной медалью и выясняю, что медали у меня нет. Да, не дали мне медаль, так как на 72 заявленных Алма-Атой медали Москва выделила всего 19, да еще и неприятной бумагой сопроводила: очевидно, вы чрезвычайно занижаете требования, товарищи алма-атинские учителя, надо вам основательную проверочку из центра устроить.
Но это не было доя меня ударом, скорее напротив. В тайне я радовалась: значит, не придется расставаться с друзьями, их у меня много и первый — Андрей Гимаш, с маленьким Илюшкой, к которому успела привязаться, с непредсказуемым папой Димой, а главное, с мамой и театром, нашим театром, где я мыла полы, подносила строителям доски, скакала зайчиком, порхала феей, где проходила моя юность.
Я — актриса. С законченным средним — на все пятерки—специальным образованием. С интересной творческой перспективой: готовлю главную роль учительницы Шурочки в спектакле «За Камой за рекой» и Саши в «Двух капитанах». Еще вводят в старые спектакли и самое интересное — получила роль Маши-Матильды в пьесе С.Михалкова «Я хочу домой». Матильдой Машу нарекли проклятые фрицы, которые увезли русскую девочку в Германию, и теперь она в немецком кабачке прислуживает посетителям и поет для них фривольные шансонетки. Вообще-то шансонеток в самой пьесе не было, у Михалкова Маша была просто официанткой, а роль — эпизодической и малоинтересной. Но мама знала, любила и, кстати, превосходно исполняла французские и немецкие шансонетки. Две из них: одна — «Liebe ist ein Omnibus», что в переводе «любовь — это автобус, куда все стремятся попасть», а вторая «Liebe war es nie, nur eine kleine Liebelein», что значит «это не было любовью, это была маленькая любвишка»... — мама ввела в спектакль, чем очень украсила мою роль.
Хотя по режиссерскому замыслу я должна была петь и плясать в кабачке механически, как заведенная кукла, с мыслями о родимой мамочке и покинутой Родине, музыка, текст и особенно молодые актеры, изображавшие фрицев, всячески провоцировали меня на «стильное» исполнение и, надо сказать, небезуспешно. Особенно настойчив был Валерий О.
Не только молодые актеры способствовали перерождению Маши в Матильду, но и зрители, вернее, один зритель, неизменно посещавший все спектакли с моим участием — Андрей Гимаш. Князь Андрей, как мы шутя называли его в горах, стал просто Андреем, затем Андрюшей и как-то оттеснил от меня графа Игоря и герцога Сашу, да и сама игра в великосветское общество к тому времени стала казаться довольно глупой и немного стыдной. Мне Андрей нравился, и очень, однако его отношение ко мне было много серьезней. Как-то гуляя, мы добрели до его дома, он познакомил меня со своей мамой, нестарой, симпатичной, очень хозяйственной. Она довольно настойчиво стала расспрашивать, как я готовлю, стираю, штопаю, потом с гордостью заговорила об Андрюше, его аккуратности, бережливости, основательности.
Слушать об Андрее хорошее было приятно, но я чувствовала, что они оба стремятся погрузить меня в свой мир, чтобы потом запереть в нем, отгородив от всего остального. Но мне не только не хотелось отгораживаться и замыкаться, напротив, я и без того стала испытывать неудовлетворенность от сужения своего собственного мира: раньше были школа, студия, театр, горы, много друзей, теперь только театр, друзей и тех оттесняет Андрей. Нет! Я так не хочу. Я должна что-то предпринять.
Это что-то представилось довольно скоро по дороге на базар. Проходя мимо родной школы, я увидела на дверях объявление о приеме на заочное отделение пединститута. Выяснилось, что в здании института ремонт и вступительные экзамены комиссия принимает здесь, в нашей школе. «В родном доме и стены помогают», — подумала я и вошла. Подошла к расписанию, оказывается, можно хоть сейчас идти и сдавать все четыре предмета. Написала заявление, документы об образовании договорилась занести позже и отправилась писать сочинение на тему «Образ Татьяны в «Евгении Онегине» Пушкина». С Татьяной стремилась расправиться как можно быстрее, чтобы успеть на остальные экзамены, был последний день сдачи приемных испытаний. По этой же причине, едва взяв билет на экзамене по литературе устной, сразу попросилась отвечать.
— Как! Без подготовки? — удивилась экзаменаторша.
— Да, да, разрешите, я знаю...
Действительно, про «Лирику Пушкина» и «Во весь голос Маяковского» я что-то знала, но вот географию и историю подзабыла. Все равно пойду! Авось. В географическом кабинете все стены увешаны картами. Да это же спасение! Времени на подготовку полчаса, к картам можно подходить свободно, а там все обозначено: климат, растительность, животный мир, административное деление, — только соображай. Сообразила на «четверку» и быстро на историю. Вошла последняя, взяла билет, но ничего, просто совсем ничегошеньки не возникает в моей голове по поводу IV съезда КПСС и Первой французской революции.
— Вам программа не нужна? — спрашивает преподаватель.
«Программа? Зачем мне она?», но машинально отвечаю:
— Да, дайте, пожалуйста.
Так же машинально начинаю листать: «Да тут же все написано, пусть кратко, но основное. Неужели с ее помощью не натяну на троечку?»
Воодушевилась и, обогатив факты перлами фантазии и красноречия, получаю четверку: помогли-таки родные стены!
В самом радужном настроении я отправилась на базар, затем домой, затем в театр, где меня ждала еще одна новость:
— Мы решили тебя выдвинуть инструктором по развитию художественной самодеятельности на предприятиях города. Ты познакомься, где что в этом направлении делается, а потом сходи на утверждение в горком комсомола, — сообщил наш комсомольский вождь Боря Абрамович.
Решение родного бюро я восприняла с удовольствием и тут же начала знакомиться. Меня везде встречали очень приветливо, и вместе с самодеятельными артистами мы тут же начинали придумывать, какие будем разучивать стихи и песни, создавать тематические программы, ставить спектакли. Через несколько дней, воодушевленная всеобщим энтузиазмом, с целым ворохом новых идей, я в точно назначенный день и час явилась в горком, где меня должны утвердить в новой должности.
Какое-то время жду в приемной, но вот вызывают. Вхожу. За длинным столом человек восемь, в упор меня разглядывают. Молча. С непроницаемыми лицами. Наконец, тот, что в центре, белесый, с розовым, как у младенца лицом, заговорил, но не со мной, с остальными:
— Безобразие! — произнес розовый. — О чем они только думают?
Я не поняла, что он говорит, но остальные, очевидно, поняли, потому что одни закивали, другие покачали головой. А розовый продолжал:
— Дочь двух врагов народа выдвигают на руководящую должность, чтобы она могла спокойно посещать любое предприятие, даже оборонного значения!
Теперь я тоже все поняла, а розовый соизволил обратиться лично ко мне:
— Вы знаете, что ваш отец расстрелян?
— Нет.
— Врете, разумеется, но это ему не поможет, потому что он рac-cтpe-лян, — с видимым удовольствием по слогам повторил он и, повернувшись к остальным, продолжал:
— Уходите!
Я шла по улице, не очень понимая, куда и зачем иду, но звучала-повторялась во мне песенка: «До свидания, сад, сад, все березки спят-спят, и нам тоже спать пора, до утра»... — ее пел мне папка, укладывая спать, но теперь он рас-стре-лян... Кажется, я произнесла это вслух, потому что Андрюша, который провожал и встречал меня, спросил:
— Что?
На вопрос я ответила вопросом:
— Что ты от меня хочешь?
— Ну, ты же знаешь: хочу всегда быть с тобой, как муж с женой.
— Ах, так... Хорошо, хоть сейчас. Хочешь сейчас поедем к тебе домой?
— Очень.
— Едем!
Мы ехали на трамвае довольно долго. Он все заглядывал мне в глаза и гладил руки, я смотрела сквозь. В саду недалеко от основного дома был еще один крохотный «Андреев домик», им самим построенный, в одну комнату, где вся мебель — кровать, стул, тумбочка. Там состоялось мое грехопадение. Я сделала все, что положено, разделась, легла... Но ничего не чувствовала. Потом оделась и сказала ему:
— Хочу домой, — и не разрешила себя провожать.
Директива горкома об исключении меня из комсомола поступила уже на следующий день, но понимания не встретила. На экстренном заседании бюро Боря бегал из угла в угол и повторял:
— Сталин сказал: сын за отца не ответчик, так что пусть они там не перегибают. За что мы должны ее исключать? За что? — спрашивал он всех, в том числе и меня.
Боря поставил вопрос на голосование, и все проголосовали против исключения, однако радости от собственной принципиальности не испытывали, втайне страшась реакции горкома. К удивлению, она не последовала и скоро стало понятно почему: Верховный Совет Казахстана издал указ о награждении мамы орденом Знак почета. Да, недаром мама так часто повторяла: я верю — справедливость восторжествует, и вот она уже торжествует, и скоро восторжествует окончательно: с мамы снимут судимость, ее вернут в Москву, вернут все, чего лишили... Но... «Недолго музыка играла...»
Приближался день премьеры «Великой дружбы» в оперном театре. Мама репетировала с утра до ночи. По ее просьбе из воинской части на репетицию каждый день приводили красивую белую лошадь, на которой во время своего первого выхода должен был появляться перед зрителями главный герой. Обычно за кулисами вокруг лошади все время кружил драматический тенор, исполнитель «героя», он кормил лошадь хлебными корками и даже дефицитным сахаром и шепотом повторял: «Я потеряю голос... потеряю голос». Влезать на лошадь он категорически отказывался и четверо специально прикомандированных солдат перед выходом водружали почти бесчувственного «героя» на ее спину.
День премьеры наступил. Публики в зале немного, не то, что на «Чио-чио-сан», но зато сколько ответственных и руководящих! Правительственная ложа забита до отказа и к ней никого не подпускают. Первые десять рядов партера также отсечены охраной от прочего народа, впрочем, его, повторяю, немного.
Прозвучала увертюра — сдержанные, но благосклонные аплодисменты. Пошел занавес — аплодисменты громче, уже в адрес художника. Кажется, все хорошо, сейчас появится главный герой, — вот он на белоснежном коне в папахе и бурке.
— Ах, как эффектно, — на весь зал выражает свой восторг дамочка из первых рядов, явно жена ответственного, — и зал разражается аплодисментами.
Эх! Не надо было этого делать! Лошадь пугается, на репетициях аплодисментов не было. Она переступает с ноги на ногу, не дает «верным ординарцам командарма» помочь герою спешиться. Мне из-за кулис видно, как дрожат его губы и трясутся руки, а ведь ему сейчас петь выходную арию.
— Стоять! — орет на лошадь из первой кулисы ее настоящий хозяин, молодой лейтенант.
Лошадь остановилась, но видно, как нервничает: прядет ушами, косит глазом.
Герой запел. Нет, он не потерял голос, поет и очень неплохо поет, но лошадь, лошадь, что она делает?! На глазах у всех на сцене академического театра она справила большую и малую нужду... Дали занавес. Впрочем, его довольно скоро открыли снова. Навоз убрали, лужу вытерли, герой, уже пеший, опять спел свою арию и заслужил аплодисменты, героиня тоже все спела, и хор, и почти вся публика дослушала скучнейшую оперу до конца.
Ответственные поблагодарили исполнителей и постановщика и, словно забыв о неприятном инциденте, удалились, а всесоюзное радио весь вечер вещало о выдающемся успехе новой советской оперы, премьера которой в один день состоялась сразу в двух театрах: в Большом и Алма-Атинском.
На следующий день нас с мамой разбудил ликующий Дима.
— Наташкин, новость! — кричал он, размахивая газетой. Он обожал первым сообщать новости, причем, чем хуже была новость, тем больше он ликовал.
— Новость! — Дима просто светился. — Вашу оперу разгромили! — И он протянул маме «Правду».
Там было напечатано печально-знаменитое постановление об опере «Великая дружба» и связанных с этим просчетах деятелей советского искусства. Прочитав, мама сказала:
— Она это знала вчера.
«Она» была, конечно, лошадь..:
Вскоре после этих событий произошли другие, странные и невеселые. Одно из них — открытое партийное собрание коллектива работников театра. Оно проводилось по непосредственному указанию горкома партии и в присутствии его второго секретаря. Несколько дней назад на премьере «Великой дружбы» он целовал маме ручки и отпускал комплименты, а сейчас сидел за столом президиума непроницаемый, как сейф. С ним рядом в наклоне к начальству — Николай Ангаров, актер и секретарь партийной организации театра. Коля Ангаров играл в основном простаков и сам производил впечатление бесхитростного рубахи-парня. За полтора года работы в театре он трижды получал прибавку к зарплате, а не так давно ему была выбита квартира. В отличие от других актеров он нередко бывал у нас дома и не раз со вздохом говорил Диме, глядя на маму:
— Как я тебе иногда завидую...
Дима победоносно раздувал ноздри и хозяйски покрикивал на меня, очевидно, чтобы возбудить еще большую зависть. Мама своим авторитетом, хоть и беспартийная, немало способствовала избранию Ангарова секретарем партийной организации, но, возглавив ее, он совершенно переменился: движения стали степенными, слова тягуче-округлыми. Теперь он одним из первых брал слово на всех худсоветах, любых, даже сугубо хозяйственных собраниях и совещаниях и свои выступления обязательно начинал словами: «Партийная организация считает»...
Так он открыл и данное сборище, призванное по повестке дня обсудить работу члена коллектива театра (не руководителя—члена) Наталии Сац в связи с постановкой ею на сцене академического театра оперы и балета имени Абая оперы В.Мурадели «Великая дружба».
Я слушала речь нашего партийного босса и поражалась, как ловко он жонглирует высокими словами и политическими терминами. Известно, что на собрании очень важно «задать тон». Ангаров его «задал», остальные подхватили. Один за другим выступающие клеймили маму за аполитизм, эстетизм и прочие «измы» — терминология правительственного постановления заменяла им факты и аргументы, не говоря уже о собственных словах и мыслях — недаром многие держали в руках «Правду».
Не обошли стороной и меня. Когда «представитель» призвал выступить комсомол, слово взял Валерий О. Повторив теми же словами высказанное до него, он внес «существенное дополнение», посоветовав обратить внимание присутствующих на аполитичность моего исполнения роли Маши-Матильды:
— Посмотрите, что она вытворяет на сцене Детского театра, это же просто шлюха какая-то, а не чистый ребенок, мечтающий о возвращении на советскую родину...
***
Много лет спустя я встретила Валерия в театральном Доме отдыха Щелыково. Постаревший, с лысиной и брюшком, я не узнала его. Но он меня — да. Кинулся, напомнил, стал жадно расспрашивать о маме, ее новом театре. Потом начал яростно обличать Ангарова, возглавившего Алма-Атинский театр после мамы и совершенно, по его словам, его разваливший (кстати, его тоже «съели» и очень быстро). Наконец, перекинулся на лирические воспоминания, спросил, знала ли я, как он был в меня пламенно влюблен и помню ли, как однажды пытался предложить мне руку и сердце. Я знала и помнила, а вот о своем выступлении на собрании он, по-моему, забыл. Что ж, бывает...
***
Ход собрания, как ни парадоксально, переломил Дима — он работал в оркестре.
— А я ничего не понял! — вдруг с места очень громко выпалил он, чем сразу вызвал здоровый, незапрограммированный смех. — Если опера плохая, разве постановщик виноват? Оперы композиторы сочиняют.
Это до примитивности здравое суждение вызвало у собрания одобрительный гул. Представитель беспокойно выдвинулся вперед — и тут Дима узнал его:
— Да ведь это вы, вы уговаривали ее взяться за эту оперу, я помню. Она отказывалась, а вы уговаривали, даже премию обещали дать...
Представитель протестующе замахал руками, Ангаров закричал что-то про неуместные выкрики с места и регламент, но из зала уже протестующе завопили: «Дайте сказать человеку» — и, получив моральную поддержку, Дима двинулся на трибуну. Речь его была яркой, сумбурной, изобиловала лирическими отступлениями и неожиданными примерами.
От творческого процесса сочинения оперы он перекинулся на поведение лошади, высказав свои соображения о том, что надо было сделать, чтобы не случилось того, что случилось, затем обратился в зал с прямым вопросом: должен ли постановщик отвечать за поведение лошади на сцене, на что умиравшие от хохота собравшиеся единодушно ответили «Нет!» Дима сорвал бурные аплодисменты, а главное, «прорвал плотину страха». После него сразу несколько человек попросили слова и стали выступать совсем в другом ключе. Видя, что собрание сошло с намеченных рельсов или, как говорят сейчас, «ситуация вышла из-под контроля», Ангаров предложил прекратить прения, но, заранее заготовленную заключительную резолюцию пришлось изменить и вместо: отстранить от должности такую-то, значилось: обратить внимание такой-то на такие-то недостатки...
— Наташкин, мне кажется они хотели тебя съесть, но я тебя спас, — сказал Дима по дороге домой.
— Не беспокойся, Дима, еще съедят, — ответила мама. — Но ты молодец.
Какое-то время спустя пришло письмо из Москвы от Сулержицких. Мария Николаевна писала, что женщина, занимавшая нашу комнату на Карманицком, съехала и там теперь можно жить. Однако, если в течение шести месяцев никто из нас в комнату не вселится, мы потеряем навсегда жилплощадь в Москве. Но мама права жить в Москве не имела, Адриан, приехавший к нам в Алма-Ату после фронта, недавно женился и прочно осел в Казахстане, оставалась я...
Решение ехать приняла сразу и без колебаний, а главной его причиной стал Андрей. Ни я, ни он не забыли той ночи. Только я вспоминала с омерзением, он жаждал повторения, настаивал на браке, без конца спрашивал, чего же я хочу. Но я сама не знала, чего хочу, хотя очень хорошо знала, чего не хочу: быть его женой. И все же Андрей много для меня значил: разорвать с ним, находясь в одном городе, я не могла. Письмо от Сулержицких стало якорем спасения. Андрей на несколько дней отправился в деревню помочь тетке по хозяйству, и я решила уехать, пока он не вернулся.
Прощай, Алма-Ата, город-сад, город моей юности. Я больше не буду здесь жить, но я не забуду тебя никогда.
ЛЮБОВЬ. ШКОЛА. ТЕАТР
Я снова москвичка и на этот раз имею собственную жилплощадь в квартире моего детства в Карманицком переулке, в той самой квартире, которой когда-то маму наградили как отличника социалистического строительства, затем большую часть опечатали как жилище врага народа. Потом эту большую часть, состоящую из 2-х комнат, отдали работникам МВД, отчего квартира стала коммунальной, а я частью этой коммуны.
Мои соседи — машинистка «органов» Клавдия Ефимовна с мужем и Василий Дмитриевич Поначевный с женой и дочерью. «У него не лицо, а бесплатный ордер на арест», — сказала мама, когда впервые увидела Поначевного. Думаю, что немало таких ордеров побывало в его кожаной через плечо сумке, которую он всегда носил с собой. Нередко глубокой ночью под нашими окнами раздавался хрипловатый низкий гудок, затем хлопала входная дверь.
— Это Васенька поехал на ночную работу, — говорила его жена Надя. По ее же словам, за эту «работу» хорошо платили...
***
Вскоре после XX съезда партии я впервые увидела другого Поначевного. Поздно вечером я как-то вошла в кухню. Он сидел один возле своего столика и медленно пил стаканом водку. Увидев меня, сказал:
— Я думал, что выполняю большое государственное дело, оказывается, был просто палачом.
С тех пор он заметно помягчел: стал здороваться с соседями, расписался с собственной женой после многолетней совместной жизни и очень любил возиться с моим сынишкой Мишкой, часами подкидывая его ногой, как на качелях, в синем эмвэдэвском галифе.
Моя комната не ремонтировалась лет 15 и имела крайне обшарпанный вид. Особенно неприятно выглядели выбоины в штукатурке — следы снятых картин и фотографий. Решение этой проблемы я увидела в том, чтобы на месте старых появились новые фотографии. Вероломно покинув Андрея, я оставила ему письмо, где написала обычную в таких случаях ахинею: мы должны проверить свои чувства, а разлука, дескать, только их укрепит и что ничего между нами не кончилось. Я почти верила в это сама, но, желая закрепить эту веру, набрала с собой кучу его фотографий. Теперь они нашли практическое применение, и фотографии Андрея смотрели на меня отовсюду, даже с потолка, замаскировав таким образом ржавое пятно.
Был самый конец августа. Необходимо было решить, что делать дальше. Попытаться устроиться в какой-нибудь театр? Вряд ли получится: в Москве безработных актрис пруд пруди. Но даже если получится, — ролей все равно не дадут, а «выносить подносы», — благодарю покорно.
Просматривая брошюру «Куда пойти учиться», наткнулась на Учительский институт. Эврика! Вот то, что мне нужно. Учиться всего два года, после распределят в московскую, что очень важно, школу учителем русского языка и литературы в 5-7 классах, институт находится у Киевского вокзала, что совсем недалеко от дома. Наконец, наиважнейшее — ни в какой другой институт меня все равно не примут, так как я всюду опоздала, а в этом, может, засчитают сданные мной вступительные экзамены в Алма-Атинском педагогическом. Беру зачетку — иду.
В деканате начинается некий торг:
— Вообще-то мы бы могли вас взять, но лучше, если вы еще раз сдадите экзамены, мы попросим преподавателей в виде исключения вас проэкзаменовать.
— Ах, что вы, что вы! Не надо затруднять уважаемых преподавателей, они так устают...
— Ну, хорошо, мы вас зачислим, но только без стипендии.
— Ах, пожалуйста, мне совсем не нужна стипендия.
Но стипендия или какой-то заработок мне были нужны. И даже очень. Пока единственным источником дохода были высылаемые мамой деньги, но их хватало в обрез. К тому же я знала, что темные тучи вокруг нее опять сгущаются, вот-вот снимут или вынудят уйти по собственному желанию, что вскоре и произошло. Словом, надо было что-то предпринимать. И тут я вспомнила про Лидку.
Лидка была женой моего брата Адриана и одно время актрисой нашего Алма-Атинского тюза. Красивая, довольно способная, она была одержима желанием всех пленять и как можно скорее «проскочить в дамки» на жизненном и сценическом поприще. Еще не окончив театрального училища, Лидка вышла замуж за полярника, но ехать с ним на Крайний Север отказалась и «положила глаз» на подающего большие надежды поэта и драматурга Диму К. Снова вышла замуж, но ждать, когда надежды осуществятся, да и осуществятся ли, ей было невтерпеж и, узнав про открывшийся в Алма-Ате тюз, решила сделать карьеру там. Интересно, что все, кого она бросала, включая полярника, драматурга, моего брата и двух последующих мужей, неизменно добивались успеха и жизненных благ, а ей так и не удалось вкусить «сладкого пирога».
Когда я вернулась в Москву, Лидка тоже была там, якобы в заботах о маленькой дочке. Но дочка с рождения была передоверена маме, а Лидка напропалую жуировала жизнью и всячески откладывала свой отъезд в Алма-Ату. Адриан ревновал, и мама еще при отъезде сказала мне:
— Вот что: найди эту стерву, посади ее в поезд и подтолкни поезд ногой, пока Адриан не сошел с ума или не спился.
Я позвонила Лидке, спросила, когда она уезжает. Она быстренько перевела разговор о своем отъезде на мои дела и, узнав, что я нуждаюсь в заработке, воскликнула:
— Ну, это просто. Я позвоню Юре, и он устроит тебя на киностудию в массовку, там платят по три рубля за съемку.
— Какой еще Юра?—встревожилась я, зная Лидкину резвость.
— Это мой друг. Мы учились вместе. Он купил Наташке коляску и одеяльце, не знаю, что бы я без него делала. Так я тебя познакомлю?
— Хорошо, — отвечала я мрачно, проклиная этого самого Юру.
Странные все-таки бывают в жизни совпадения. Почему в первый раз я увидела его возле Центрального детского? Почему его дальнейшая судьба будет связана именно с этим театром? Не потому ли, что этот театр основан моей мамой и неотделим от моего детства.
Свидание у Центрального детского Лидка назначила потому, что и ей, и мне хотелось увидеть идущих на его сцене «Двух капитанов». Этот спектакль с успехом шел в Алма-Ате, мы обе были в нем заняты: она играла Катю, главную героиню, я Сашу — сестру главного героя.
— Давай встретимся за полчаса до начала, — предложила Лидка, — я познакомлю тебя с Юрой, а потом проникнем на «Капитанов». Я скажу Юре, чтоб подошел.
« Черт возьми, она командует этим Юрой, как хочет», — подумала я, но ровно за полчаса до начала была у Центрального детского. Эх! Юрочка! Сколько раз потом я приходила к тебе в твой, а ты в мой театр, но это будет потом, а сейчас — в первый раз...
Жду. Лидки нет. Хожу взад-вперед перед театром, — ее все нет. А мне навстречу тоже в хождении взад и вперед все попадается смуглый молодой человек в плаще-болонье, тоже кого-то ждет.
«Может, это тот самый Юра, и мы оба ждем Лидку? Да не буду я ее ждать, третий звонок звенит, надо, действительно, попробовать «проникнуть». Проникла. И во время антракта встретилась с Лидкой.
— Как тебе не стыдно, — говорю, — я тебя чуть не час ждала.
— А, задержалась, — беспечно отвечает Лидка и с гордостью добавляет:
— А вот Юра меня дождался.
Чертов Юра, чувствую, что ненавижу нового Лидкиного «пажа», так она называла своих обожателей.
***
Начались занятия в институте. Ничего. Даже интересно. И группа хорошая, хотя и очень разная по составу. Мальчишек всего двое (один Коля Добронравов, впоследствии известный поэт-песенник), а среди девчонок и 50-летняя Александра Ивановна (зачем ей институт, скоро на пенсию?), и фантастически неграмотная цыганка Соня (по 30 ошибок в диктанте) и две Иры — Панина и Бекузарова, с которыми я скоро сдружилась. Где они сейчас? Вышла ли замуж Ирочка Бекузарова, она так к этому стремилась и была бы отличной женой? А Иришка Панина? Какая мягкая, женственная, я всегда ею любовалась...
Часто мы собирались у Иры Паниной в ее крохотной, метров пять, комнатке. Обычно на тахте, как ленивый кот, возлежал Гуленька, студент института кинематографии Игорь К. Ирочка ловила каждое его слово, а он снисходительно разрешал ей себя обожать.
— Все-таки есть некоторые достоинства в малогабаритной жилплощади, не надо делать лишних усилий, — говорил он, сгребая с притиснутого к тахте стола все самое вкусное.
Однако в один далеко не прекрасный день он так же лениво сгреб свое барахло и на прощание заметил, что «шалаш» не для него. Интересно, нашел ли он свое счастье в роскошной генеральской квартире, где обосновался, ведь творчески он не состоялся?..
Мне было уже 20. В физиологическом отношении я была женщиной, в психологическом оставалась девчонкой, верящей и ждущей от жизни чудес. Но чудеса чудесами, а жизненная проза требовала своего. Я снова позвонила Лидке и договорилась, что вечером заеду, авось, поможет с каким-нибудь заработком. Но в тот же день во время занятий Ира Бекузарова сказала мне:
— Ты чего стипендию не получаешь? Не нужна что ли? Ну, так отдай товарищам.
— Но мне же не полагается.
— Я сама видела в списке, сходи, посмотри.
Я пошла и получила целых 20 рублей. Очевидно, резолюция декана на моем заявлении была или не замечена или проигнорирована бухгалтерией, начисляющей стипендию по своим правилам: все пятерки — 25 рублей, без троек — 20.
Купив своей маленькой племяннице какую-то погремушку, в прекрасном настроении вечером отправляюсь к Лидке. Теперь, раз у меня стипендия, я уже не буду ни о чем просить ее Юру, зато постараюсь выпроводить Лидку в Алма-Ату.
Лидка с отцом, матерью и маленькой Наташкой обитали в трапезной бывшего монастыря, а сам монастырь огромной красно-кирпичной обшарпанной глыбой замыкал тенистую дорожку, ведущую к нему от метро, и я лечу по ней, как на крыльях, переполненная радостью. Оттого, что получила стипендию. Что, хотя сентябрь, но совсем лето, оттого, что мне двадцать и я живу на этом свете.
Вот так одним махом пролетела всю дорожку, да еще вверх по каменной лестнице без остановки до Лидкиной двери. Распахнула ее, вошла, гляжу. Лидки нет, и ребенка нет, и родителей. Напротив на диванчике сидит очень смуглый человек и, улыбаясь, смотрит на меня. И я смотрю, но сказать ничего не могу, даже разглядеть ничего толком не могу, так запыхалась.
Вошла Лидка с дочкой — она ее купала на кухне.
— А? Пришла? А это Юра, я тебе говорила о нем.
Так вот он какой Юра. Лидка, как всегда переполненная театральными сплетнями, рада, что может их выплеснуть, хохочет... Я ее почти не слышу. Какие у него глаза? Карие? Нет, зеленовато-карие и как ласково смотрит... А под глазами коричневые тени, как нарисованные, может, правда, подрисованные?..
Лидка между тем наконец-таки собралась отбыть в Алма-Ату, настояли родители, которые все это время не только воспитывали внучку, но и содержали дочь. Разбирая вещи — что с собой, что оставить, она взяла в руки книгу В.И.Немировича-Данченко о работе с актером, которую я давно хотела прочитать. Я сказала ей об этом.
— Нет, это, по-моему, Юрина книга, — она отдала Немировича ему. А он мне:
— Пожалуйста, читай.
От Лидки мы вышли вместе. Вошли в метро. Я спросила:
— Тебе куда?
Он:
— А тебе?
— На Смоленскую.
— Ну, и мне туда же.
В метро мы почти не разговаривали, но он смотрел на меня необыкновенно лучисто и ласково. Проводив до подъезда, он попрощался, а я... Никогда и никто не производил на меня такого впечатления. Несомненно, и я ему понравилась, иначе бы он не провожал и потом книга... Я же должна вернуть ее, а для этого мы должны встретиться. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — сказал Поэт — бессмертная истина. Провожал он меня из чистой вежливости: поздно, девчонка одна, естественно, надо проводить. А книга и вовсе ему не принадлежала, но Лидка уезжает, человеку хочется почитать, так и пусть себе читает. Ну, а ласковый взгляд необыкновенно лучистых глаз, как и заинтриговавшая меня коричневая «подводка» были ему дарованы природой. Он всегда и на всех так смотрел. Одним словом, как выяснилось позже, я не произвела на него никакого впечатления.
Новая встреча произошла на проводах Лидки. Она уезжала, а вернее, улетала через два дня из подмосковного Быково и просила по возможности ее проводить. Может, я бы не изыскала этой возможности, если бы не надеялась снова встретиться с Юрой.
Кроме нас, Лидку провожал ее отец. В Быково у него жили не то дальние родственники, не то знакомые, и ввиду позднего времени — это был ночной рейс — мы отправились к ним. Нас встретили сперва довольно хмуро, но когда отец Лидки стал из солидного кожаного «министерского» портфеля доставать поллитровки и колбасу, очень оживились и в свою очередь дополнили закусь зеленым луком и кособокими огурчиками с собственного огорода. Когда стали садиться за стол, появились еще какие-то знакомые или родственники, так что в комнатенке нас набралось человек двадцать. Но я видела только одного. Я говорила, смеялась, шутила, кому-то что-то передавала, у кого-то что-то брала, но, кроме него, не смогла бы вспомнить ни одного имени и ни одного лица. Когда-то в раннем детстве, обучая мальчишек и девчонок нашего двора искусству лазить по заборам, я свалилась и рассекла себе правую бровь. С тех пор бровь приобрела особую подвижность, особенно если я оживлена или увлечена. В тот вечер бровь ходила ходуном, и этим я впервые обратила на себя его внимание. Теперь он уже не просто смотрел — он видел меня, хотел слышать, что я говорю, над чем смеюсь, почему опять взметнулась моя «самостоятельная» бровь.
«Спальных» мест в комнате было два: кровать и продавленный диван. На кровать лег сам хозяин, диван предоставили мне, остальные расположились на полу.
Утром мы проснулись одновременно, как от толчка, с одной мыслью: а он здесь — а она здесь? Подняли головы, увидели друг друга и засмеялись, хотя я была чуточку смущена: мне показалось, что он прочел мои мысли. Отец Лидки то ли с похмелья, то ли от того, что не выспался, был хмур и насуплен. Буркнул, чтобы мы торопились на электричку, и сам первый зашагал к станции, не оглядываясь. Мы шли следом. Юра улыбался, но говорил немного — он вообще был молчалив, я болтала о чем придется, но именно по дороге на станцию я узнала, что у Центрального детского в плаще был именно он, а книга Немировича-Данченко не его, но и не Лндкина, поэтому пусть будет теперь моей.
Возле станции произошло одно событие, казалось бы, случайное, не заслуживающее внимания, но... Короче, возле станции я вдруг увидела старика с морской свинкой над ящичком.
— Хотите узнать свою судьбу? — старичок обращался лично ко мне.
— Очень хочу, — я обратилась почему-то к Юре.
Он галантно достал рубль (последний!) и отдал старику. Тот ткнул пальцем свинку, что-то ей сказал, — и она закрутила тупой мордочкой над лежавшими в коробке свернутыми в трубочки бумажками. Наконец, одну вытащила, старик протянул ее мне. На желтом каком-то пергаментном листочке значилось: «Ты часто думаешь о покинутом, но прошлого не вернуть. Свое счастье ты найдешь с тем, кто рядом». Я прочитала бумажку и быстро взглянула на того, «кто рядом». Он смотрел в сторону, но как-то слишком старательно.
— Дура-свинка, — сказала я, но бумажку не выбросила. Храню ее до сих пор.
Электричка была переполнена, сесть негде, разговаривать из-за грохота тоже нельзя — стояли в тамбуре и, улыбаясь, смотрели друг на друга, но в моей голове одна мысль: что же дальше? Неужели сейчас расстанемся навсегда?
Прибыли в Москву. Оба опаздываем, пути наши дальше расходятся.
— Ну, до свидания.
— До свидания.
Пошел, смотрю вслед, сейчас скроется. Нет, остановился. Возвращается:
— А может, сходим завтра вместе в театр?
— Давай.
— Тогда встретимся в полдвенадцатого на Арбатской.
— Хорошо.
— Ну, до завтра.
— До завтра.
Завтра! Какое замечательное слово! Завтра — это надежда, это — мост в будущее. Скорее бы оно наступило, это завтра.
Оно наступило. Я иду на свидание. Я предвкушаю встречу. Наверное, он наденет свой выходной костюм, ведь мы идем в театр. Но почему так рано — полдвенадцатого. Может, спектакль детский?
В вестибюле метро он меня уже ждал. Костюм был тот же, что вчера, вернее, не костюм, а рубашка-ковбоечка и брюки в полоску, сзади аккуратная латка.
— Знаешь что? — сказал он мне. — Мы пойдем через служебный, я там уже примелькался, а ты пройдешь по моему пропуску. Он достал свое удостоверение и дополнил фамилию Карпов буквой «а».
Это был спектакль «Варвары» Ленинградского (Товстоноговского) театра, гастролировавшего тогда в Москве. По воскресеньям играли его дважды, а для массовки использовали студентов театральных училищ. Это обходилось дешевле, чем везти из Ленинграда своих актеров.
Спектакль меня потряс. В первый раз я ощутила масштаб творческого гения Товстоногова и его актеров. Когда Юра после спросил меня, заметила ли я его на сцене, честно ответила, что нет. Я не только его не видела, я почти про него забыла, так была поглощена пронзительным искусством ленинградских актеров, актерской игры.
В тот же день я побывала у Юры, а он у меня дома. Его жилище (домом это трудно назвать) находилось у Красных ворот в глубине колодца-двора в двухэтажном кирпичном строении напротив районного отделения милиции, откуда то и дело доносился мат и крики задержанных — это с ними проводили «работу» стражи порядка. Комната на первом этаже в конце длиннющего коридора напротив туалета. В квартире еще семь семей, на всех, как и туалет, одна кухня, о ванной не может быть и речи.
Когда-то отец Юры получил ордер на самую большую в 40 метров комнату в этом коммунальном раю. Но он был холост, его друг только что женился; поставили перегородку — и получилось две комнаты: большую другу, меньшую себе. В этой меньшей никогда не было дневного света, а кроме пяти человек — Юры, его мамы, отчима, двух сестер-близняшек, находились и все их пожитки. И все же как здесь бывало уютно! Достаточно было взглянуть на круглое доброе лицо хозяйки и мамы Елизаветы Ивановны, чтобы почувствовать себя легко и просто.
— Мама, познакомься, это Ксанка, — и посмотрел на нее вопросительно. Она поняла вопрос.
— Садитесь, Ксана, у меня кое-что осталось от обеда, а чай будем пить вместе.
Доброта и бедность были олицетворением этого дома. Отец Юры ушел на фронт в первый же день войны. Его жена в то время была на 7 месяце. Эвакуировались в Пензу, тогда Молотов. Девчонок чуть не с первых дней запихали в ясли, Юру в железнодорожный техникум, сама Елизавета Ивановна устроилась секретаршей к жене Ворошилова, развившей в городе соцбытовую деятельность. В 1943 году на отца пришла похоронка, а через год Елизавета Ивановна связала свою судьбу с его другом, который по просьбе отца все это время, как мог, помогал им.
Отчим был человеком порядочным, но своенравным и деспотичным. Елизавету Ивановну он очень любил, но всячески подчеркивал, что облагодетельствовал, взяв с тремя детьми. Особенно огорчало ее отношение к Юре. Отчим его недолюбливал, хотя и старался скрыть: Юра больше всех был похож на отца, в отличие от своих сестренок не хотел и не мог звать отчима папой, а во время семейных размолвок на его плече выплакивалась мама.
Но в тот первый день отчим был в хорошем расположении, а две черноглазые девчушки растянули в улыбке рты до ушей. Но самое сильное впечатление на меня тогда, да и потом, произвела Елизавета Ивановна.
Однако, я ошибалась, думая, что Юра позвал меня к себе домой потому что уже по уши влюблен и хочет как можно скорее представить своим родным. Он просто очень хотел есть и не без основания полагал, что и я тоже, а денег хоть на самый скромный обед в какой-нибудь забегаловке не было, как не было выходного наряда ни у него, ни у отчима, сестер или мамы. Латки — вот что украшало в этой семье одежду, простыни, даже скатерть на обеденном столе. Они жили на две стипендии: отчима в 100 рублей (он учился на курсах повышения квалификации) и Юрину — в 20. Ее до копейки он отдавал маме, только трехрублевые «халтуры» оставались на карманные расходы (на «халтурные» деньги он и купил себе хлорвиниловый плащ, в котором поразил мое воображение у Центрального детского).
В тот же день Юра впервые перешагнул порог и моего жилища, где отовсюду — со стен, с потолка — на него смотрел Андрей.
— Это что — музей?—спросил он, разглядывая фотографии.
— Это мой жених, мы поженимся через два года, — ответила я, стремясь внушить себе то, во что давно не верила сама.
***
Моя мама четырежды была замужем. Немало было и увлечений. Красавица, остроумнейший собеседник, она была неотразима. Ее взаимности добивались самые великие, из-за нее стрелялись или(чаще!) прозрачно намекали на уход из жизни, и она сама, бывало, едва не теряла головы в исступлении любовного угара. Нет, я не была на нее и в этом похожа, хотя флиртовала и увлекалась, но легкий ветерок не сравнишь с ураганом. Так было до встречи с Юрой, а после... Может, об этом лучше всех сказала та же мама:
— Мне кажется, ваша любовь была такой огромной, что с ним, единственным, ты испытала не меньше, чем за свою жизнь испытала я.
Наверное, она, как всегда, была права...
Романы, как и все на свете, развиваются по-разному. Некоторые — старомодные — годами, ультрасовременные часами или даже минутами. У нас был «средний вариант»: со времени проводов Лидки и до полного сближения прошло четыре месяца. Всего? Или целых? Это как смотреть.
***
Мы встречались каждый день. Чаще вечером, и весь день я жила воспоминаниями или ожиданием встречи. Мои ближайшие институтские подруги две Иры, смеясь, говорили, что я стала сомнамбулой — смотрю только внутрь себя и невозможно вывести меня из этого состояния. Я смеялась, но в общем-то мне было все равно, кто и что говорит и как оцениваются со стороны мои поступки — я любила. Интересно, что в то время я была уверена в том, что я для него — мимолетный каприз, легкое увлечение, которое скоро пройдет. Но все равно я была благодарна судьбе за этот бесценный подарок, за то, что я познала настоящую любовь.
«О доблести, о гордости, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в его простой оправе передо мной сияло на столе»... — мы часто с Юрой читали Блока, но эти стихи совсем по-иному зазвучали во мне, когда однажды он не пришел и не позвонил. Не позвонил утром, когда уходил в училище, днем, когда я вернулась из института, и вот уже давно вечер — не звонит телефон, молчит звонок и на входной двери. Я нет-нет набираю знакомый номер — трубку берут то соседи, то мама, то сестры. Я молчу, стыдно. А он не подходит и не приходит и, верно, больше никогда не придет. Хожу из угла в угол по комнате, бесцельно оглядываю свое жилище — отовсюду на меня смотрит Андрей. Снова всплывают стихи Блока, уже заключительные: «Тогда твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола». Я снимаю, сдираю фотографии — и раздается звонок. В тот день подвернулась внезапная халтурка в кино, и на заработанные деньги мы с Юрой идем в театр Охлопкова смотреть «Вей, ветерок» Райниса.
***
Радость открытия. Мне кажется, в любви она так же необходима, как в науке или искусстве. Почему сегодня почти забыли о целомудрии, зато повсюду слышишь «заняться любовью»? Но ведь раннее знакомство с технологией любви убивает ее поэзию. Как бабочка, лишенная пыльцы, не может взлететь, так и бескрылая любовь ничем не отличается от физиологических импульсов, свойственных любому животному.
***
Чистота и поэзия любви, воспетые Охлопковым в его спектакле, стали катализатором наших отношений. В тот вечер целомудренно, страстно и красиво наша любовь перешла в иную стадию.
Едва рассвело и стал ходить транспорт, Юра тихо вышел из моей комнаты и тут же столкнулся с направлявшейся в туалет соседкой Клавдией Ефимовной:
— Добрый вечер, — вежливо поздоровался он.
— Уже утро, — буркнула в ответ соседушка.
Итак, нас засекли, ну, что ж, тем лучше: все равно рано или поздно узнают. В тот же день я написала два письма: маме и Андрею. Маме, что я люблю Юру и, возможно, все скоро свершится, Андрею, что уже свершилось и наши с ним дороги разошлись навсегда. Ответ от мамы пришел быстро и звучал как приговор: увлечение Лидкиным «пажом» она считает недостойным и даже позорным и просит меня одуматься, пока не поздно. Но не было такой силы, которая заставила бы меня одуматься, тем более, скоро я поняла, что беременна.
Конечно, Клавдия Ефимовна все рассказала второй соседке Наде, та еще кому-то, известие о наших с Юрой отношениях перестало быть тайной.
Однажды во дворе я случайно встретила Вовку Волкова, товарища моих детских лет, у которого, как уже говорила, «перекантовалась» в первый после возвращения из детдома день. Он только что вернулся из очередной «отсидки» бритоголовым и угрюмым. Увидев его и желая как-то развеселить, я стала болтать, в том числе и о своих не в меру любопытных соседях.
— Как бы они тебя не посадили, — сказал Вовка еще угрюмей. — Знаешь, сколько на тебя уже наклепали? Тома.
— Посадили? За что? Ты что-то путаешь.
— Смотри, как бы тебя не запутали. Меня специально к следователю водили, чтобы я тоже на тебя клепал, но я не стал.
— Что ты можешь на меня клепать? Мы сто лет не виделись.
— А им-то что? Лишь бы материалу набрать...
***
Несколько лет спустя уже после XX съезда я в лоб спросила Поначевного, правда ли, что меня могли посадить с его «подачи». Он чуть смутился, но тут же отпарировал:
— Клавдия тоже писала и побольше моего: тоже комнату хотела получить.
Ах, вот оно что: двое работников «органов» хотели захватить мою комнату, вот и действовали привычными методами. Позже, реабилитируя отца, от тех же органов узнала, что спасла меня несогласованность действий соседей. «Факты», приводимые в письмах-доносах, взаимоисключали друг друга, и уж слишком явно просматривался личный интерес.
***
Я ничего не рассказала об этом разговоре Юре, но впервые крепко задумалась: а что я буду делать с новорожденным ребенком, да еще если меня посадят. Два года назад в Алма-Ате я встретила Зорьку Сокольникову, с которой вместе прошла моя безмятежно-счастливая — до 1937 года — детская пора. В то время она уже провела в тюрьмах и ссылках лет 10, но больше всего тревожилась за сына, которого отобрали у нее, как только он родился (интересно, что их любовь с мужем выдержала тягчайшие испытания и погасла, когда оба добились полного благополучия). Нет, я не уготовлю своему малышу такую судьбу, пусть лучше его не будет вовсе.
В то время аборты были строжайше запрещены. Помогла Ира Панина. Она не раз говорила мне, что по моему лицу можно читать, как по открытой с большими буквами книге. Вот и «прочитала» о моей беременности. Спросила, — я подтвердила.
— А что будешь делать?
— Не знаю.
— Я знаю. Я недавно сама через это прошла.
Гуленька бросил Иру, когда она была на третьем месяце. Помогла мама. В своем Мичуринске она нашла какую-то бабку. Так вот почему после каникул Ира была такая бледная. Теперь этой бабке через месяц предстояло заняться мной.
В отличие от многих девиц я не мечтала о замужестве. О любви — да, о замужестве — никогда. Напротив: брак казался мне мещанством, даже могильщиком любви, слишком много я видела тому примеров. Еще меньше я могла предполагать, что Юра считает иначе, поэтому очень удивилась, когда однажды он мне сказал:
— Давай поженимся.
— Да ты что! — моя первая реакция была резко отрицательной, я искренне считала, что брак способен лишь расплескать, разрушить то большое, что было в нас и о чем мы никогда не говорили вслух: только глаза, руки, губы...
Что ж, он не настаивал и, казалось, даже забыл о своем предложении, а мне почему-то стало хотеться, чтобы он его повторил. Однако он не повторял.
Однажды, придя раньше обычного, он предложил мне пойти погулять. Мы часто вместе гуляли по кривым арбатским переулкам, и он рассказывал мне «биографию» старинных домов-особняков, позже безжалостно уничтоженных. Но в этот раз он повел меня в другую сторону, к Смоленской. Я о чем-то болтаю. Вдруг Юра указывает на здание:
— Смотри-ка, загс. Давай зайдем.
— Зачем?
— Для смеха: напишем заявление, что женимся, а сами не придем.
Это показалось мне забавным. Зашли. Попросили у хмурой тети, которая одна скрепляла и расторгала супружеские узы, пришедших в этот мир и уже покинувших его, нужный бланк, заполнили его и ушли, очень довольные этой «хохмой».
Прошло еще несколько дней. Я как обычно пришла из института домой, никого не жду, решила вымыть пол. Но не успела закончить, как является Юра:
— Ты что делаешь? Мы же опаздываем.
— Куда?
— В загс.
— Как в загс? Мы же в шутку, решили не ходить.
— А ребята знают. И преподаватели. Меня с занятий отпустили... Да ты что? Что я всем скажу? И потом, мы же можем развестись, поженимся, а потом быстро разведемся...
Февраль. Дождь со снегом, на тротуарах сплошное месиво, еще не хватает заболеть с этим замужеством-женитьбой. Ладно, оденусь потеплее: сверх продувной шапки платок, ничего, что старый, зато тепло.
Идем. Настроение еще мерзопакостнее, чем погода. Смотрю на Юру, он пытается улыбнуться, но, видно, через силу. Ясно: на душе кошки скребут. В загсе та же тетя спрашивает у Юры:
— Ну, а где невеста-то ваша? Эта?
Да, хорошее я в своей рванине впечатление произвожу.
— Распишитесь здесь. И вы. Возьмите свидетельство. Кто следующий?..
Все. Я жена, а этот рядом — мой муж.
— Знаешь, я опаздываю, — говорит глава семьи и устремляется к метро.
— Но ты же отпросился, тебя отпустили.
— Ну да, с занятий. Но сейчас начнется репетиция. Очень важная.
А Юра продолжает:
— Я ребятам сказал, они могу нагрянуть, — и исчез в метро.
Еще не легче. До стипендии целых четыре дня. Дома только картошка, подсолнечное масло да недомытый пол. Ну, пол, положим, я сейчас домою, а остальное...
Позвоню-ка своим Иркам и Левке Сулержицкому, опишу ситуацию.
Мои Ирки не подкачали, обогатили свадебный пир кислой капустой и солеными огурцами. Друзья жениха притащили пол-литры, но сам он почему-то задержался.
Когда Юра, наконец, пришел, на столе уже мало что оставалось. Но виновнику торжества тут же налили стакан водки и провозгласили здравицу в его честь, которую он, по-моему, даже не дослушал до конца: усталый, целый день ничего не евший, сполз со стула и заснул. Позже всех явился Левка Сулержицкий, зато таким торжественным я его никогда не видела. В костюме, галстуке, с цветами он подошел к одному из Юриных сокурсников и торжественно произнес:
— Поздравляю.
— Меня-то с чего? — удивился сокурсник.
Не потерявший апломба Левка двинулся к другому сокурснику, но тот еще на «подходе» отмежевался. Так и не удалось Левке поздравить жениха, но остальная часть вечера прошла в «духе взаимопонимания и непринужденного веселья».
Мы долго, очень долго всячески избегали слов муж, жена, но втайне про себя радовались свершившемуся: брак углубил, упрочил нашу любовь, не утратившую целомудрия и поэзии.
Постепенно я открывала Юру для себя и с удивлением обнаруживала, что вышла замуж совсем за другого, чем представляла себе, человека. Тот, придуманный красавец, — типичный «герой-любовник» на сцене, экране и в жизни (кстати, такое представление о нем по первому впечатлению складывалось не только у меня и очень помешало его сценической карьере). Этот, настоящий, был тоже редкостно красив, особенно каре-зеленые ласкающие глаза, так красив, что даже в общественном транспорте на него сразу все начинала смотреть, как на картину, но в голосе никакого металла — приглушенный, с хрипотцой, в поступках ничего экспансивного — молчалив, мягко-спокоен и очень глубок. В силу женского мелочного любопытства я как-то решила выведать о его прошлых «любвях», он неохотно ответил:
— Их не было.
— Но ты же не девственник.
— Нет, но это не называется этим словом. — Помолчал и добавил:
— Жаль, что мы не встретились четыре года назад: ведь в восемнадцать лет я уже мог на тебе жениться...
Между тем известие о нашем браке долетело до Алма-Аты. Лидка прокомментировала его в своем духе:
— Юра был безумно влюблен в меня, но я храню верность Адриану, и, чтобы быть ко мне ближе, он женился на Роксане.
Услышав это, мама пришла в ярость и отправила мне письмо-ультиматум: либо я немедленно развожусь, либо она перестанет мне помогать. Но в то время заставить меня развестись, наверное, не смогла бы даже смерть.
Итак, теперь наш семейный бюджет базировался лишь на двух стипендиях — источник немощный и ненадежный: любая случайная тройка во время сессии могла его перекрыть. Правда, Юрина мама тайком от отчима подкармливала нас обедами, но ведь было еще одно обстоятельство: с каждым днем я все больше ощущала нарождающуюся во мне новую жизнь. Откладывать больше было нельзя: ранним мартовским утром я отправилась в Мичуринск.
Заштатный провинциальный городишко с одноэтажными домиками и сугробами выше крыш. С трудом пробираются между ними редкие прохожие. Пробираюсь и я, нахожу домик мамы Иры Паниной. Какая милая женщина с красивыми грустными, как у Иры, глазами. Ничего не выпытывает, ни о чем не расспрашивает, просто хочет помочь. Вскоре Ирина мама приводит бабку, невзрачную, как полевая мышь. Получив десятирублевый гонорар, бабка оживляется и начитает какие-то колдовские приготовления, приговаривая
— И не заметишь, как выскочит, я их не счесть сколько уже аннулировала.
Наконец, бабка проделывает необходимые процедуры, — и я грохаюсь в обморок. Когда прихожу в себя, вижу двух перепуганных женщин и крохотного ребеночка. Он величиной всего в ладонь, но уже ясно видно, что мальчик и все у него есть, даже ноготки на пальчиках. Я держу в руках крохотное сморщенное тельце и не понимаю, как я могла, зачем я это сделала, ведь это мой, наш малыш. Все, что угодно, но я не должна была его убивать!..
Ирина мама кладет мне руку на лоб и еще больше пугается.
— У нее температура, — шепчет она, — ой, а вдруг умрет, меня же засудят.
У бабки от страха трясутся руки:
— Я ни при чем, она просила, я сделала, причем я, — бормочет, но, чувствуется, что сама она в этом не уверена.
Мне вновь ставят градусник. Ирина мама смотрит на него с мольбой, но ртуть упрямо ползет вверх.
— «Скорую» вызывай, а то и впрямь сейчас помрет, — все же решается бабка.
— Вы не бойтесь, я вас не выдам, скажу сама, — шепчу я, видя, что она колеблется. Мне очень плохо, и я надеюсь на эту «скорую». Но «скорая» не спешит, и моя надежда гаснет. Когда меня доставили в больницу, она погасла совсем.
По кивку какой-то сонной фигуры в приемном покое санитары свалили меня в коридоре на кровать без одеяла и простыней возле разбитого окна, из которого страшно дуло.
— Все, конец, — подумала я, и почему-то ко мне вернулось присутствие духа. — Скажите, пожалуйста, — обратилась я к проходящей мимо медсестре низким «маминым» голосом, — у вас здесь кто-нибудь выздоравливает?
Она ошалело уставилась на меня.
— Нет, со мной все ясно, — продолжала я, — я, конечно, умру, но все же, есть такие, что выздоравливают?
— Есть, выздоравливают, а как же, — пролепетала она и стремительно куда-то побежала. Однако уже через несколько минут вернулась и вместе с доставившими меня санитарами перевезла в операционную и доложила:
— Я позвонила Виктору Карловичу, он сейчас придет. Что же вы сразу не сказали, кто вы?
Действительно, минут через 10 появился симпатичный старый доктор и устранил последствия бабкиной медицины.
— А ведь ты, милочка, можно сказать с того света вернулась. Вовремя ты мне позвонила, Люся.
— Я бы раньше позвонила, кабы знала, что она племянница депутата, — простодушно ответила сестра.
Ах, вон что! Вот, оказывается, за кого она меня приняла. Но почему племянница? Какого депутата? Этой загадки я так и не разгадала. И все же спасибо доставшемуся от мамы низкому голосу и собственной интуиции. Меня перевели в нормальную палату, а через три дня я вернулась в Москву.
***
В детстве в нашу жизнь входят сказки. Наивный прекрасный мир, где все четко разграничено: злое злым, доброе добрым, и они обязательно победят. Ну, а в жизни все перепутано: злые иногда совершают благородные поступки, добрые и любящие тебя предают.
Вот хотя бы мои соседи. Я знаю, что они хотят завладеть моей комнатой, наперебой строчат на меня доносы, но Надя, гражданская жена Поначевного, жалеет и заботится обо мне, когда я, еще слабая и больная, возвращаюсь из Мичуринска, а ее муж через несколько лет (правда, после XX съезда) будет с удовольствием нянчить моего ребенка.
Ну, а я сама? Я люблю Юру, но всегда ли я веду себя по отношению к нему даже не безупречно —достойно.
Однажды за завтраком раздается телефонный звонок. Снимаю трубку — Андрей.
— Ты где?
— В Москве. В Александровском саду. Придешь?
— Конечно, приду. Сейчас. Немедленно.
Поворачиваюсь — и вижу глаза Юры, в них боль, но я ничего не делаю, чтобы хотя бы ее смягчить. Одеваюсь. Ухожу.
Андрей ждет меня с нетерпением. Он возмужал, но хотя несколько «омужичился», по-своему красив. Разговор идет какой-то пустячный и вдруг:
— А ты могла бы вернуться ко мне?
— Но... Но я в общем-то замужем. А знаешь, приходи к нам сегодня вечером, я вас познакомлю.
— Думаешь, он позволит?
Что значит позволит? Мне никто ничего запретить не может.
Подло я себя повела, если вдуматься. И в сущности своим «независимым кокетством» я предавала нашу любовь. Знаю, Юра так бы не поступил. Никогда.
Вечером мы сидим втроем. Юра как всегда молчалив, сдержанно-приветлив, я неестественно оживлена, Андрей в тон мне рассказывает бородатые анекдоты и все время предлагает выпить. О выпивке он позаботился основательно: на столе штук пять бутылок. Но пьет, главным образом, он один, не очень-то склеивается наша компания. Наконец, часа через два Андрей небрежно произносит:
— Да, там на улице меня девчонка ждет, собственно, не девчонка, а вроде как бы жена, может, сходить за ней?..
— Как — ждет на улице? Твоя жена? Но ведь дождь проливной!
Я опрометью бросаюсь на улицу. Прямо под нашими окнами насквозь мокрая молодая женщина с огромным животом.
— Здравствуйте, вы жена Андрея? Я — Роксана. — И слышу в ответ:
— Если бы вы знали, как я вас ненавижу!
— За что?!
— А что бы вы чувствовали, если бы ваш муж каждый день говорил, что женился на тебе только потому, что ты похожа на какую-то там Роксану, и упрекал за то, что недостаточно похожа?
Я привела Иру домой, отправила в ванную, переодела и только тогда как следует разглядела:
— Да ты на меня похожа, как апельсин на картошку, ты же красавица!
И в самом деле. Светло-русая, тяжелой короной вокруг головы коса, точеные нос, губы и огромные серо-синие глаза — как можно нас сравнивать! Даже беременность ее не портила: и стан, и ноги — все при ней.
Я попросила налить вина и подняла тост за благородство, которое считаю высшим достоинством каждого человека, но прежде всего мужчины. Я смотрела на Юру. Я любила его бесконечно...
А наша с ним жизнь продолжалась — бедная, беспечная, счастливая. Свои нищенские стипендии мы получали почти одновременно и тут же закупали на месяц сахар, подсолнечное масло и картошку. Откладывали что-то на хлеб и оплату квартирных счетов, а оставшееся проматывали за четыре-пять дней, посещая театры, коктейль-холл, выставки, — сколько мы всего повидали талантливого, незабываемого!
Между тем пришла весна, время экзаменов, у меня обычных, у Юры выпускных. После экзаменов и заключительных студенческих спектаклей ему было вручено свидетельство об окончании театрального училища с правом работать в качестве профессионального артиста в любом театре нашей необъятной родины. Но этот театр надо было найти самому.
Пути-перепутья. Куда вы нас забрасываете? И почему именно так, а не иначе распоряжается нами судьба?
Юра пробовался в три театра, брали его в два. Первый, гастрольный, предложил хороший оклад и хорошие роли, но выяснилось, что театр 8 месяцев в году в разъездах. Второй — Центральный детский: на самое скромное положение, во вспомогательный состав. Но он и я были рады и этому.
Конечно, если бы руководство театра знало, что этот красивый способный выпускник театрального училища — зять Наталии Сац, основавшей театр, которого они ее лишили, они бы его никогда не взяли. Думаю, что и он, если бы знал, как скажется «клеймо» зятя на его актерской будущности, сам бы в этот театр не пошел. Но, что случилось, то случилось. Судьба.
А моя судьба привела меня в 519-ю школу Кировского района города Москвы. Впервые я перешагнула ее порог в тот день, когда в институте был выпускной вечер. Он начинался в семь вечера, встреча с директором школы была назначена на три дня. За пятнадцать минут до этого я уже была на месте. Но директор был занят: в кабинет входили и выходили учителя, большей частью возбужденные, требующие в отношении кого-то немедленно принять меры. Часа полтора спустя, наконец, пригласили меня. Но не успел начаться разговор, как в кабинет вошла молодая интересная женщина с классным журналом в руках (это была завуч) и стала выговаривать директору за то, что он кого-то не аттестовал и этим «испортил всю картину» — и директор так смущенно оправдывался, будто он вовсе не директор, а нашкодивший третьеклассник. Этот разговор прервала вбежавшая учительница с возгласом:
— Ну, скажите на милость, что я должна выводить Зайцеву, если у него подряд четыре двойки?
— Зайцеву? — переспросила завуч. — Ну, конечно, тройку.
Наконец-таки мы остались вдвоем. Директор облегченно вздохнул, потом стал любезно расспрашивать меня обо всем, а затем заговорил о трудностях педагогической профессии, в которой, как стало ясно из его рассуждений, самое главное не прибегать к «последней мере». Теория «предпоследней меры» была его коньком. Позже, когда он «садился на него» на педсоветах, все мы тяжело вздыхали, осознавая, что это всерьез и надолго. Но там все же кто-нибудь (чаще всего завуч) его «угомонял», а тут перед молоденькой учительницей он говорил часа три.
На выпускной вечер я явилась в десятом часу. Меня встретили общим гулом и громкими возгласами:
— Ну, наконец-то! Позже не могла? Налейте ей штрафную!
Но мне и самой было обидно: за два года я успела привязаться и к сокурсникам, и ко многим преподавателям, среди них были чудесные люди и превосходные профессионалы. «С горя» я первый раз в жизни выпила все, что мне поднесли с разных сторон, потом посмотрела вокруг и сказала:
— А что это вы все качаетесь? Пьяные, что ли? Ну, неважно, я танцевать хочу, — и изобразила нечто вроде книксена, приглашая на вальс милейшего и мудрейшего Александра Адамовича, нашего историка. Тот взглянул на меня в крайнем изумлении, но приглашение принял и даже прошелся со мной в вальсе несколько тактов, после чего вручил Юре, который чуть ли не на руках доставил меня домой.
Да, знакомство с 519-й школой было как первый блин — комом. Однако это оказались только цветочки, а вот ягодки...
Первое сентября. Я учительница, а вот мои ученики: 40 мальчишек, пятиклассников, отдельной стайкой на школьном дворе. Рядом много других стаек, при каждой, как я, классный руководитель. Звенит звонок. Я иду на свой самый первый урок.
Неприятности начались, как только они сели, а вернее, стали «делить места». Один только хочет сесть, другой его отпихивает и кричит:
— Роксана Николаевна, скажите ему, я тут в прошлом году сидел.
— Нет, это я сидел, ему скажите!
— Ой! А Колька мне книжки порвал!
— А он первый полез, вот как дам!..
Все это — спектакль, устроенный специально. Я прекрасно это понимаю, но ничего не могу поделать, а они, видя это, распоясываются окончательно. Сорок пять минут кажутся мне вечностью и заканчиваются полным триумфом сорванцов. Один из них под конец лихо отплясывает на моем учительском столе, остальные в упоении гогочут...
Звонок. Бреду в учительскую.
— Ну, как? — спрашивает завуч Зоя Дмитриевна и по моему лицу понимает, что плохо.
— Пойдемте в мой кабинет, не надо, чтобы вас сейчас видели другие учителя, — она уводит меня к себе и плотно закрывает дверь
А я закрыла лицо руками, чтобы скрыть слезы, но они все равно текут.
— Дайте листок бумаги, я заявление напишу, не буду, не могу быть учительницей, лучше уборщицей, полы мыть, кем угодно, но только не это.
— Ну-ну, не надо, обойдется, увидите, — пытается она меня утешить, но я реву в три ручья. Тогда она меняет тактику:
— Странно, мне показалось, что вы человек волевой и самолюбивый, как же можете так быстро сдаться? Жаль, если я ошиблась, но, если так — вот бумага, пишите заявление.
Она выходит. Звенит звонок на урок. Как хорошо, что сегодня у меня их больше нет.
Выхожу в коридор — тишина, везде идут занятия. Ну, это, наверное, только в коридоре тишина, представляю, что творится в классах. На цыпочках подхожу к одной двери, заглядываю в щелочку. Урок географии. Мальчишка у карты, водит указкой, остальные слушают — никаких эксцессов. Странно. Но, может, это какой-то особый класс?.. Иду к своему 5 «Б». Дверь полуоткрыта, математичка диктует задачу, мои сорванцы пытаются ее решить. Но почему же, черт возьми, ей они подчиняются, а мне нет?!
— Алехин, сядь, как следует, — говорит математичка.
Ага! У нее тоже не все гладко.
— Что, я не сижу что ли? Как еще сидеть надо? — огрызается Алехин. Да это тот самый мальчишка, что плясал у меня на столе.
— Не смей мне отвечать, решай задачу.
Алехин что-то бурчит, но склоняется над тетрадкой.
«Ей легче, она знает их фамилии», — пытаюсь я оправдать свой провал и сама себе возражаю: «Но ведь никто не мешает и тебе их узнать». «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог», — вспоминаю пушкинское и чувствую, что мне хочется снова войти в класс, что я не успокоюсь, пока не подчиню себе их всех до единого.
Весь день я разрабатывала стратегию, на следующий приступила к ее осуществлению. Итак, первое — фамилии. Накануне я их почти выучила наизусть, но ведь надо понять, кому какая принадлежит — это второй пункт разработанного мною плана.
Звенит звонок, направляюсь к 5 «Б» и еще из-за двери слышу:
— Во, ребята, сейчас цирк будет!
«Ах, черти», — рывком открываю дверь. Резкость и решительность моего появления производят некоторое впечатление: встали они сегодня дружнее, чем вчера, теперь надо не дать им перехватить инициативу:
— Баранов, как стоишь?! — говорю наугад.
— А как надо? — комаром пищит самый маленький и тщедушный мальчишка, который, кажется, единственный стоял как надо.
Реплика Баранова вызывает смех, но я не даю им разгуляться и приступаю к выполнению своего плана.
— Сейчас я вас всех пересажу, как считаю нужным.
Мой замысел прост: я посажу их попарно, соединяя первого с последним по алфавиту. Чертеж класса с расположением парт передо мной, на чертеже все пронумеровано и расписано: кто за какой партой должен сидеть. Но одно дело замысел, другое — его осуществление.
— Баранов и Шаманов, садитесь сюда, — называю я первую пару, нарочно пропуская Алехина, чтобы избежать конфликта с самого начала Но, как назло, на предназначенной этой паре парте уже развалился Алехин.
— Чего это я буду им свою парту уступать, нашли дурака, да я тут с первого класса сижу.
— А я почему должен с Барановым сидеть, я с Кочкаревым всегда сидел, — подхватывает Шаманов, — на что мне Баран — бэ...э...э...
Все хохочут.
Кажется, «цирк» все-таки будет, если не настою на своем.
— Закрыть рты!
Смех стихает.
— Алехин, встань. Встань, я сказала.
Все же поднялся.
— Иди сюда и стой, пока я всех не рассажу.
— Вот еще! Чего это я буду стоять? Я лучше здесь посижу. — И он направляется к моему стулу.
«Ах, стервец!» — и, забыв от злости все последние и предпоследние меры, я бью по стулу ногой. Не успевший сесть Алехин оказывается на полу. Восторг и хохот класса, но «коверным» в цирке оказывается Алехин, и он теряет самообладание:
— Вы че? Чего самоуправничаете. Я директору скажу.
— Правильно, — я распахиваю классную дверь. — Ступай к директору, Алехин, все ему расскажи, пусть он меня в угол поставит... — и под одобрительный смех выталкиваю его из класса.
— А теперь вот что, — обращаюсь я к остальным. — Вы сейчас без возражений сядете так, как я считаю нужным. Быстро сядете, нам еще работать надо. Неделю будете сидеть таким образом, а потом, если все будет хорошо, я разрешу сидеть, как вам хочется.
Да, я действовала тогда, пренебрегая всеми педагогическими правилами и принципами, но из какой педагогики исходило Кировское РОНО, собравшее в одном классе нашей школы всех самых отчаянных «малюток» района, чтобы разрядить обстановку в других школах?! Что и было сделано.
Поместили их на первом этаже, где других классных комнат больше не было, и стали думать, кто их будет «образовывать и воспитывать». Поскольку главный принцип оценки учителя в мужской школе был — держит или не держит дисциплину, — я, как «победительница самого Алехина», была среди тех, кто это должен осуществлять.
Обогащенная приобретенным опытом, я, готовясь к встрече с таким неординарным «контингентом», теперь уже не только хорошо знала фамилии (с правильными ударениями, что немаловажно), но и всех в лицо и даже кое-что из биографий своих новых учеников. Все они были переростками-второгодниками со стажем, состояли на учете в милиции, самые «выдающиеся» имели по две-три судимости.
В какой-то степени признавали эти «милые крошки» только трех учителей: суровую немногословную математичку Нину Ивановну, классного руководителя Константина Васильевича, которого между собой называли Костян, и меня. Остальных в разной форме и степени изводили и доводили. Помню, какое сильное впечатление произвел на меня навзрыд рыдающий учитель английского языка Станислав Алексеевич — у него и так всегда был какой-то жалкий вид, а тут просто заливается слезами. Оказывается, эти подонки изрезали и облили чернилами его единственный пиджак.
Взбешенная, мчусь на первый этаж и вижу нечто невообразимое. Все двадцать пять человек в коридоре, окружили кого-то, толкают и гогочут, а этот кто-то визжит и ойкает:
— Вы что делаете?
Разбежались, а предо мной предстали четыре девчушки, которые пришли к старшеклассникам на репетицию и по ошибке забрели на первый этаж. Ну и вид у них был после «нежданной встречи»! Но меня больше занимают не они, а Станислав Алексеевич:
— Как вы могли это сделать? Вы же знаете, у него двое детей, мать, он всех содержит!
— А пусть не дерется.
— Дерется? Но ведь вы же его довели! А что, Костян вас не лупит, что ли? Думаете, я не знаю?
— Костяну можно, он сильный, а этот от слабости кулачонками машет, каждый должен своей дорогой идти: вот Нина (математичка) на нас не кричит, с палкой не гоняется, а мы ее признаем. И вас тоже. Вы вот на Островок пошли — не испугались, он бы в жизни не пошел.
Да, логика... И про Островок вспомнили. Впрочем, и я про него не забыла.
На Островке — так назывался один из наших микрорайонов, — жили почти все наши «трудные», это было царство шпаны. Жил там и Голованенко, рыжий, тупой детина, уже третий год сидящий в 5-м классе. Как-то он мне нахамил, я сгоряча потребовала, чтобы явились его родители, сделав соответствующую запись в дневнике. Дома он, разумеется, дневник не показал, я «завелась» (чего, кстати, всячески надо избегать) и перед всем классом заявила, что его ухищрения не помогут и я с его родителями все равно встречусь.
— Не встретитесь, — совсем обнаглел Голованенко.
— Посмотрим, — ответила я и в тот же день отправилась на Островок.
Когда подошла к нужному подъезду, возле него шебуршились двое мальчишек лет шести-семи — я на них почти и внимания не обратила. Однако, когда, поговорив с матерью Голованенко, вышла, у подъезда увидела человек двадцать шпаны, нахлобучивших на головы пальто и преградивших мне дорогу.
Что делать? Вернуться за помощью к матери Голованенко? Но эта рыжая рыхлая женщина с водянистыми глазами произвела на меня гнетущее впечатление. Кроме того, если я отступила — значит, струсила, представляю, как они растрезвонят об этом на всю школу. И я решительно двинулась вперед. Живая стена все же расступилась, однако чья-то палка ткнулась мне в бок, да и вдогонку полетели комья земли и камни.
На другой день, судя по их оживленным хитрым рожам, они ждали меня с нетерпением.
— Ну, как, Роксана Николаевна, побывали на Островке? — поинтересовался один из самых отпетых —Шурыгин.
— Конечно. А ты что же, со страху так укутался, что и не разглядел толком?
— Во второй раз пойдете?
— Если понадобится, обязательно. И обязательно тогда зайду к тебе.
Но еще раз идти на Островок мне совершенно не хотелось...
Впрочем, вскоре я изобрела простой, но оригинальный способ воздействия на трудных: после выполнения плана урока, о котором я им сообщала вначале (два-три вопроса по старому материалу, объяснение нового, упражнение) я рассказывала все, что придется — от наивных сказочек до душещипательных романов. Они так ждали этого момента, что овладели искусством скорописи и с молниеносной быстротой строчили упражнения, естественно, не затрудняя себя орфографией. Однако за любую провинность я лишала их этого удовольствия, чем добилась почти идеального послушания.
Казалось бы, я могла испытать некоторое удовлетворение, и все же в это время я чувствовала себя в классе примерно так, как дрессировщик в клетке с тиграми: всегда наготове хлыст...
Однажды, вскоре после начала моей педагогической карьеры, заметила, что один из моих учеников, как только начинаю рассказывать, берет ручку и, саркастически усмехаясь, что-то записывает. Отобрала у него листок, на котором было:
«Стенограмма объяснения учительницы Сац Р. Н.
Александр Сергеевич Пушкин... Шмаков, не верти головой ...родился в 1799 году... Сергеев, куда ты смотришь ...в Москве. Его отец... Я тебя выгоню, Старостин. ...Сергей Львович Пушкин происходил из... Повторяю, выгоню, если не прекратишь ... дворянского рода... Половин, на меня смотри...» и так далее.
Впервые я задумалась над своими педагогическими «методами». Восьмиклассник Игорь Ятчени, у которого отобрала запись, был малоприятным подростком, но умным и тонким. Было совершенно очевидно, что на уроках «дрессировщика» ему неинтересно. И, наверное, не ему одному.
Тем не менее моя популярность в пределах одной школы росла, чему были подчас смешные свидетельства.
Как-то Юра зашел за мной в школу (он старался при любой возможности быть рядом со мной, мой Юра). Прямо напротив школы — трамвайная остановка. Сели. Поехали. Дорогой разговариваем о его премьере — он превосходно сыграл небольшую роль в спектакле «Волынщик из Стракониц». По существу, один проход — и всегда под аплодисменты. Юра достает газету с рецензией, где о нем самые лестные слова и, посмеиваясь, говорит:
— Вот и слава пришла.
— Разве это слава? Вон слава, — отвечаю я и показываю на заиндевевшее окно. Там на толстенной снежной корке начертано «Саца — обос...».
Однако со временем что-то все же, очевидно, менялось и в моих «держимордовских» методах, и в отношении ко мне моих сорванцов. Постепенно на заборах улицы Осипенко, которую они так любили «украшать» моей неприлично рифмующейся фамилией, стала исчезать эта самая «рифмующаяся» часть, да и «оповещающие вопли» при моем появлении тоже зазвучали по-иному: вместо «Атас! Саца идет!» «Атас! Идет Роксана!»
Параллельно жизни школьной текла, как и положено, жизнь личная и общественно-историческая. Хотя почему параллельно? Ведь они то и дело пересекались. Те, кто был свидетелем событий, связанных со смертью Сталина, наверняка помнят трагедию, разыгравшуюся на его похоронах, когда тысячи людей, пришедших проститься с вождем и учителем, были растоптаны и раздавлены. Тогда сработал эффект толпы — страшное явление. Нечто подобное, хотя, конечно, в иных масштабах и качестве, довелось наблюдать и в школе. Особенно запомнился один случай, когда я почти случайно заглянула на перемене в дверь своего, тогда 7 класса.
Заглянула и обомлела. Все мальчишки столпились у окна и гиканьем, топотом, свистом наперебой стремились напугать идущего по узенькому обледенелому карнизу на четвертом этаже Адика Кирьянова, который, как потом выяснилось, на спор должен был снаружи перейти из одного окна в другое. Помню, как я похолодела от ужаса, но застыла стараясь не выдать своего присутствия, чтобы он, внезапно меня увидев не потерял равновесия. Кирьянов в классе был одним из самых любимых и авторитетных среди ребят. Если бы он упал и разбился, его смерть наверняка потрясла бы каждого, но сейчас каждый был не личностью, а частью толпы, охваченной звериным любопытством садизма: упадет — не упадет, и как будет падать.
Только яркие сильные индивидуальности способны противостоять всеобщему психозу, сохраняя свое «я», как сохранила его во всех жизненных перипитиях моя мать. Я, к сожалению, этим похвастаться не могу, скорее напротив. Да, я никогда не верила в вину моей матери, никогда не сомневалась в честности отца, понимала, что сама в любой момент могу оказаться в их положении, и тем не менее верила, что отец народов об этом знать не знает, ведать не ведает. Помню, на Октябрьской демонстрации 1952 года я шла с краю в колонне под красным знаменем и, впившись глазами в сутулый силуэт гениального вождя, истошно вопила вместе с толпой: «Ст..а..лин!»
Во время похорон Сталина мама была в Москве. С некоторых пор она приезжала сюда постоянно примерно раз в полгода на сессию заочников ГИТИСа, в который поступила. Я в то время тоже заочно училась в педагогическом (учительский не давал права преподавать в старших классах) и поражалась, с какой легкостью она сдавала экзамены, иногда сразу за несколько курсов, сдавала блестяще, хотя сам по себе ГИТИС был ей нужен как зацепка, трамплин для возвращения в Москву. Известие о смерти Сталина она приняла отчужденно-холодно, угрюмо и насмешливо взирала на мои искренние и обильные слезы. Меня это злило. «Она не может ему простить своего заключения, — негодовала я, — но как она может в такой момент думать о себе, сводить какие-то счеты, когда такое горе, когда без него, наверное, погибнем мы все, вся страна». Почти с ненавистью гладя маме в лицо, я заявила, что, может, кому-то и все равно, но я должна поклониться гробу и разделить всенародную скорбь. Мама в ответ каменно промолчала, но неожиданно решительно запротестовал Юра:
— Ты туда не пойдешь, — сказал он,—там черте что творится.
— Нет, пойду, и никто меня не удержит.
Однако удержали. Юра попросту втолкнул меня в комнату и запер на ключ. В первый и единственный раз он применил ко мне «метод физического воздействия», оказавшись куда мудрее и дальновиднее, чем я.
Смерть Сталина и последовавший за тем XX съезд открыли маме дорогу в Москву. Но тогдашнее руководство Центрального детского сделало все, чтобы не впустить ее в театр, ею основанный. Она стала работать в гастрольно-концертном объединении, а жить за шкафом нашей единственной комнаты. Такое сосуществование не способствовало нашему сближению, и «черная кошка» в то время не раз пробегала между нами...
Между тем наша с Юрой семья скоро должна была увеличиться. Я на редкость легко переносила предматеринский период, да и внешне почти ничего не было заметно. Даже когда начались родовые схватки и Юра отвел меня в роддом, нянька при входе, оглядев меня, спросила:
— Ты чего пришла?
— Как чего? Рожать.
Я ни секунды не сомневалась в рождении сына, хотя бы потому, что на девчонку я попросту неспособна. И сын родился. Вполне здоровый. Вполне нормальный. Очень симпатичный. Вот только девать его было совершенно некуда. Если бы не Юрина мама и соседи-мгэбешники, не знаю, как бы мы выкрутились. Но выкрутились и даже, благодаря моей маме, получили новую жилплощадь, правда, на окраине, вблизи Петровского парка.
***
Он был желанным, наш малыш. Он родился от любви. И пусть любовь осеняет его жизнь.
Когда в первый раз мне принесли его в палату, я задумала: если сейчас улыбнется, в мир войдет хороший добрый человек. Он улыбнулся. И хотя врачиха тут же авторитетно заявила, что у новорожденных не улыбка, а гримаса, я знаю: мой малыш улыбнулся. Это у взрослых часто вместо улыбки гримаса, а дети улыбаются, и мой малыш улыбнулся в первый же день своей жизни.
***
Но теперь уже я могу преподавать не только в 5-7, а вплоть до 11 класса — заочно окончила пединститут. Думаю, я была самой нерадивой студенткой курса, во всяком случае на лекциях меня никто никогда не видел, но экзамены умудрилась сдать. И вот он, диплом.
В это время средняя общеобразовательная школа № 519 тоже изменилась: за партами рядом с неуемными мальчишками восседали благонравные девочки. Пожалуй, вначале они мне даже несколько мешали. Я привыкла к вихрастой непричесанности своих сорванцов, а тут эти юбочки, бантики, жеманные улыбочки. К тому же с сорванцами уже полный контакт: идя в новый класс, мне уже не нужно было осваивать фамилии — школьное радио слухов работало на меня. И еще на меня работал театр. Несмотря ни на что, он продолжал жить во мне, окрашивая все, что я делаю, легким отсветом необычности. Я стала устраивать школьные вечера, ставить отдельные сценки и целые спектакли, тут, кстати, пригодились девчонки, да и на уроках старалась отходить от привычных схем и официальных методических разработок.
Но как-то на перемене случайно услышала разговор двух старшеклассниц:
— Знаешь, моя мама вчера читала «Войну и мир». Как я ей завидовала! Мне кажется, я уже никогда не смогу читать эту книгу после наших уроков литературы. Без дрожи не могу вспоминать про «лишних людей» и «типичных представителей».
Правда, как могла, я старалась этого избегать, пыталась увлечь ребят любовью к поэзии, театру, тому, что так дорого самой, но штампами пронизана вся наша жизнь. И, чтобы подготовить тех, кто в нее входит, их надо обучить штампам. Обычно приступая к какой-нибудь большой теме, например, «Евгению Онегину», я распределяла время таким образом, чтобы сначала дать почувствовать очарование самого произведения: никакого анализа, просто чтение стихов, сравнение с черновиками, дневниковые записи, письма — пересказать, что на таких уроках происходило, невозможно, но, наверное, что-то сделать все-таки удавалось, иначе почему взрослые люди, в прошлом мои ученики, до сих пор так любят об этом вспоминать.
Но вот наступал второй этап — обучение штампам. Я могла как угодно относиться к набившим оскомину темам сочинений, но я должна была обучить ребят общепризнанным канонам, чтобы на вступительных экзаменах никакая «Мария Ивановна» не могла к ним придраться.
— Так, — говорила я на таких уроках, — теперь мы будем делать из сосны фонарный столб, — и я начинала «расчленять» Онегина, старательно внедряя пресловутые штампы в их и свое сознание.
Когда через несколько лет я стала работать в только что открывшемся Детском музыкальном театре, выяснилось, что я сама полностью разучилась излагать мысли в свободной незаштампованной форме, и понадобилось немалое время, чтобы от этого избавиться. Да, ничто в жизни не проходит бесследно. Хочу проиллюстрировать это еще на одном примере, на этот раз смешном.
Как-то школьный завхоз пожаловался мне на моих девятиклассников , которые открывают классную дверь не руками, а исключительно ногами. Завхоз самолично и неоднократно делал им замечания, свое веское слово сказал и директор — ничего не помогает: открывают ногами, — и баста. Наконец, выведенный из терпения завхоз потребовал решительных мер, и на перемене мы с ним отправились в класс.
Приступили к разбирательству. Спрашиваю:
— Манаев, ты открываешь дверь ногой?
— Да.
— Но почему не рукой?
— Не знаю, так повелось.
— Ну, а ты, Пуньков?
— И я, — примерно все отвечают в таком роде.
— Однако должен быть какой-то зачинщик, — высказал авторитетное суждение завхоз. Переглядываются, пожимают плечами, молчат.
Ничего не добившись, я произношу пылкую речь о том, как надо беречь социалистическую собственность, но в это время звенит звонок, а у меня в параллельном контрольная и, подхватив свои тетрадки, я бросаюсь к двери, — и... открываю ее ногой. Увы! Я всегда ее так открывала.
Ребята лишь копировали любимую учительницу.
***
Об учительском труде знаменитый педагог Ушинский сказал: «Через 10 лет у учителя появляется усталость, а через 20 отсталость». Я проработала в школе 18 лет: до отсталости не дотянула два года, чашу усталости испила до дна.
***
Перемена. Осталась в классе, присела, что-то мне совсем нехорошо.
— Роксана Николаевна, — это Марина Криворучко, моя ученица. — У меня мама — врач, можно, она вам позвонит вечером?
— Нет, не можно. Дай мне спокойно посидеть...
Но мама вечером звонит, настаивает, чтобы я к ней зашла. Прихожу.
— Да у вас открытая кровоточащая язва, вас надо срочно госпитализировать.
— Нет, что вы, а как же четвертные оценки?
— Вам очень хочется выставлять их на том свете? Все соорганизуется, вот увидите, я вызываю машину.
Больница крохотная — этаж с мезонином. Она недалеко от Белорусского вокзала и моего нового дома: мы только-только сменяли нашу комнату на Новоподмосковной улице на меньшую у Белорусского, избавившись от полусумасшедшей соседки, которая тоже внесла свою лепту в мою язву — следствие неправильного питания и нервных стрессов. И того, и другого у меня целый букет.
За окошком снег, в палате в ржавых линялых халатах унылые женщины говорят только о своих болезнях. Вдруг распахивается дверь. На пороге яркое, шумное, решительное — моя мама! Ни о чем не расспрашивает, сразу к делу:
— Я договорилась с одной хорошей знакомой, она возьмет тебя к себе в онкологический центр, тебя надо лечить основательно, — и исчезла так же внезапно, как появилась.
Так вот значит, какая у меня болезнь, — все померкло перед глазами.
Пришел Юра.
— Мама тебе сказала?
— Да.
По лицу вижу, думает то же, хотя старается не показать вида. В палату впархивает молодая женщина и сразу ко мне:
— Вы Роксана Николаевна? Я из онкологического центра. Конечно, вы не наш контингент, но ваша мама так настаивала, что мы готовы вас взять, создать условия...
— Простите, так я не ваш контингент?
— Конечно, нет, у вас типичная язва, а у нас...
— Знаю. Большое спасибо, но я останусь здесь.
— Как хотите, — упорхнула.
Я оглядываюсь. Какие милые женщины — мои соседки по палате! Соседка справа просто очаровательная и слева симпатичная. А за окном серебрится и падает снег. Как я люблю, когда идет снег!..
***
Мама... Я много раз навещала тебя в разных больницах, и всегда это были люксовые, элитные, для избранных, чаще всего Кунцевская больница — Четвертое Управление. Она стала твоим последним земным убежищем.
В последние годы у мамы даже выработался определенный больничный ритм: в начале сентября и с середины января — в это время не так ощущалось ее временное отсутствие в театре. Сентябрь — раскачка после отпуска, середина января — недельные отгулы после напряженных каникулярных спектаклей. Впрочем, и находясь в больнице, она по-прежнему властно и энергично направляла движение нашего театрального корабля, а ее больничная палата в нарушение всех медицинских правил превращалась в своеобразный филиал директорского кабинета с совещаниями, наставлениями, разносами. Врачи на это взирали сквозь пальцы, нянечки и сестры всячески ей потакали. Думаю, они ей симпатизировали искренно, она владела даром завоевывать сердца, хотя свое значение, возможно, имели и постоянно оказываемые ею щедрые «знаки внимания». «Полы паркетные, врачи анкетные», — известный московский афоризм. Больные тоже были анкетные, и я неоднократно наблюдала, как по-разному обслуживают действующую и бывшую элиту в больнице Четвертого Управления, особенно вне посторонних глаз.
Первого сентября 1993 года в Кунцевку ее отвез Виктор Петрович Проворов — человек бесконечно ей преданный, больше, чем друг, быть может, самый близкий в последние годы ее жизни.
Он уговорил ее лечь в больницу скорее из традиционно-профилактических соображений, чем в силу острой необходимости. Пропуск для ее посещения не могли выписать 4 дня, только 5 сентября я и Виктор Петрович Проворов смогли ее посетить. Что-то с ней произошло за эти дни, мы сразу это заметили, но не могли понять, что.
— Она умудрилась сломать шейку бедра на правой ноге, — сказал, отводя глаза в сторону, врач.
Умудрилась?! Каким образом?! И куда смотрел обслуживающий персонал? А никуда не смотрел, во всяком случае не в сторону ее палаты, когда она в течение часа тщетно звонила в звонок, призывая на помощь. У нее начались сосудистые спазмы — заболевание, которое многие годы не мешало ей жить и работать при своевременном приеме лекарства. Но лекарства не было, врачи не шли, она встала, чтоб позвать, и — упала.
Почти сразу завотделением стал намекать, потом настаивать, наконец, категорически требовать ее перевода в другое отделение для «бывших» элитных (кстати, в том отделении за два дня до смерти мамы я видела Ивана Семеновича Козловского, живым скелетом он лежал в коридоре в ожидании, когда освободится место в четырехместной палате). Мы стойко сопротивлялись. И напрасно. Ее можно было спасти, если бы она попала сюда раньше к умному сердечному врачу, честно делающему свое дело. Но мы слишком долго цеплялись за «элиту».
***
Снег, снег, снег. Приближается Новый год. Врач делает обход — увы! никого из нашей палаты домой праздновать не отпустят. Передачи тоже строго проверяются: язвенникам предписана строгая диета.
— К вам тут явилась целая делегация, — врач смотрит на меня с нескрываемым интересом. — В порядке исключения я разрешил.
Чинно, благонравно в палату входит чуть ли не весь 9 «Б». Мне вручают коробку конфет, а Карпухин — головная боль всей школы — ставит на тумбочку прелестную синенькую конфетницу.
— Это откуда? — почему-то спрашивает староста Лариса Амосова.
— Мама просила захватить, чтобы было куда конфеты насыпать.
Мама Карпухина Лидия Ивановна преподает у нас биологию и чуть ли не по пятам ходит за своим сыном, дня не проходит, чтобы чего-нибудь не натворил.
Карпухин первый начинает прощаться, обходя всех женщин в палате и персонально каждой желая благополучия в наступающем году. Все в умилении, пенсионерка Галина Ивановна того и гляди слезу пустит.
— Да вот же она. Я так и подумала, что кто-нибудь из них взял, — вошедшая нянечка указывает на синюю конфетницу на моей тумбочке, позади нянечки больная из соседней палаты. Так, все ясно.
— Это ваша конфетница? — спрашиваю ее.
— Моя. Но я не понимаю, зачем...
— Он просто спутал, у меня есть точно такая, мальчик решил, что это моя.
— Ну да, я подумал, чего она тут-то стоит, мы же конфеты принесли, — Карпухин невинно округляет жуликоватые цыганские глаза.
— Молчи, подонок, — шепчет Ира Леонтьева, а Шурка Айзенберг чуть ли не выволакивает Гришку Карпухина прочь, — сейчас они ему накостыляют — и поделом.
— Роксана Николаевна, — Владик Минаев еще не ушел. — Я тут один эксперимент проделал, вы распакуйте ровно в 12 ночи, хорошо?
Все-таки мы решили как-то отметить в нашей палате Новый год. Ровно в 12 чокнулись больничными кружками с киселем, закусили манной кашей, сказали друг другу соответствующие слова, но как-то невесело получилось, — больница. Да, но что там за Владиков эксперимент на моей тумбочке? Беру нечто, завернутое в газету, разворачиваю... Ландыш! Живой цветущий ландыш в стаканчике из-под сметаны. И как благоухает. Чуть ли не вся больница сбежалась утром смотреть на нежный хрупкий весенний цветок. Сколько радости, сколько надежд он нам подарил!
— Какие у вас замечательные ученики, — сказала мне владелица конфетницы, — а я, признаться, сперва подумала...
— То, что вы подумали, тоже случается, но вообще-то они ничего.
После больницы меня отправили долечиваться в санаторий под Старой Рузой. Профессор порекомендовал есть только протертое, спать ложиться ровно в десять, ходить мелкими старушечьими шажками. Но через неделю шумная компания лыжников появилась на территории санатория. Конечно, мой 9 «Б».
— Роксана Николаевна, а мы для вас тоже лыжи захватили, Карпухин конфисковал у соседа.
— Ну, Гришка, сидеть тебе в тюрьме.
— Мне? Никогда. Я сам милиционером решил стать.
И ведь стал Гриша Карпухин милиционером и до полковника милиции дослужился, — в этом звании он предстал передо мной несколько лет назад. Ну, а тогда... Тогда я встала на лыжи, и сначала меня повезли, потом заскользила сама, съехала с горки, ну, а затем стала кататься на лыжах каждый день и, чем больше каталась, тем лучше себя чувствовала.
***
У богатых, как известно, есть свои автомобили, особняки, дачи, у меня ничего этого не было. Зато была своя улица. Я ходила по ней одной и той же дорогой 18 лет. На этой улице жили мои ученики, их родители. При встрече они желали мне здоровья одним словом «Здравствуйте», и я отвечала им тем же. Хлеб учителя горек, ноша тяжела, и многие начинают искать иные жизненные пути. Я оказалась в их числе. Но улица, по которой ходила 18 лет, всегда останется моим богатством.
***
Открытые уроки. Своеобразный педагогический спектакль, где и актеры, и зрители — учителя. Иногда он проходит с таким успехом, что актер-учитель приобретает известность сперва в масштабах района, а там, глядишь, и города. Так случилось со мной. И опять благодаря театру. Он все еще не умер во мне и, как свет далекой звезды, манил, не давая опуститься до среднего уровня. Я стала выступать на различных совещаниях по обмену опытом и, очевидно, мой опыт кому-то из вышестоящих так понравился, что мне предложили поехать в Чехословакию, чтобы тамошние учителя русского языка могли им насладиться в полной мере. Захватив кипятильник, сухари и бульонные кубики — непременные атрибуты зарубежных командированных тех лет — я прощаюсь с Юрой и Мишкой и отбываю.
Прага. Один из прекраснейших городов мира. Здесь приземлился наш самолет, но не здесь, а в скучном поселке под Братиславой я буду работать на курсах повышения квалификации чешских и словацких учителей. В моей группе пять человек, люди прелестные. Уже на второй день мы закадычные друзья, а на третий у меня возникает мысль поставить с ними какую-нибудь сценку к заключительному вечеру (театр! опять театр!).
Вспомнила, что однажды Юра в лицах рассказал мне, как бы он поставил чеховский рассказ «Пересолил».
— Берешь два стула и прут, — вот тебе и декорация, и реквизит. Стулья — телега, прут — орудие труда возницы, погоняющего лошадь.
Я осуществила Юрин постановочный план, придумала свой к «Хирургии», мои студенты-учителя репетировали и исполняли эти сценки с упоением и, очевидно, рассказали обо мне другим учителям, словом, «слух обо мне» до Праги докатился. В день отлета в гостинице, где мы находились, раздался телефонный звонок из пражского радио с просьбой немедленно приехать. Как потом выяснилось, интерес ко мне возник вовсе не потому, что я что-то там поставила, а оттого, что по фамилии установили мою «кровную связь» с мамой.
До отлета самолета оставалось два с половиной часа, когда я появилась на радио. Меня усадили перед микрофоном и только тогда сообщили «интересную новость». Через 10 минут я в прямом эфире с рассказом о новых замыслах Наталии Сац. Я сперва разозлилась (хоть бы предупредили по телефону), потом растерялась (с чего начать?), но тут огромная стрелка часов скакнула на назначенное время, и звукорежиссер за смотровым стеклом бешено замахал руками, чтобы я, наконец, открыла рот. Я открыла и сообщила чешскому народу, что Наталия Сац — моя мама. Эти ценные сведения надо было чем-то дополнить, и я поведала, что в настоящее время она работает в гастрольно-концертном объединении. Тут я замолчала и опять взглянула на звукорежиссера. Он уже не махал руками, а с безнадежным видом тянулся к какой-то ручке на пульте. «Сейчас он меня вырубит и пустит какую-нибудь музычку», — поняла я и продолжила неожиданно для самой себя: «Но мечтает о создании Детского музыкального театра».
Рука на пульте замерла, а мысль, вернее, память заработала и дала толчок словам. Во время наших редких встреч мама, дежурно справившись для порядка, кто и чем из нас троих живет, тотчас начинала говорить о своем: о том, как сейчас необходим Детский музыкальный театр. Я в ее идеи не верила, слушала в пол-уха, но, оказывается, они прочно засели в моем сознании и сейчас исторгались потоком слов. Взглянула на часы — мое время иссякает, но режиссер за своей стекляшкой языком жестов и мимики: «Говори! Говори! Я добавлю еще пять минут». Свою речь я закончила гимном веры в то, что такой театр обязательно родится (в первый раз я по-настоящему поверила в это сама) и надеждой, что дети Праги увидят его спектакли (трижды были там на гастролях).
Пожатие рук, слова благодарности и просьба зайти на минутку еще в одну комнату и... получить гонорар: 400 крон! Больше, чем заработала на курсах. Да, но до отлета менее двух часов, а нужно еще успеть в гостиницу.
У выхода меня ждал мой коллега, учитель из Ленинграда, который тоже был на курсах:
— Идем скорей в кафе, у меня кроны завелись, хоть раз за всю поездку по-человечески поедим, меня уже тошнит от этих кубиков.
Из кафе в универмаг, он тут же рядом. Ничего, успеем: тратить деньги легче, чем зарабатывать! В мужском отделе спрашиваю про приглянувшуюся для Юры рубашку.
— Для вас здесь ничего нет и не будет!!!
Продавщица смотрит на меня в упор. Глаза узкие, злые, просто испепеляет ненавистью. Да, советские танки исковеркали своими гусеницами не только тела, но и души братьев-славян. Выручил звукорежиссер. Он тоже оказался в универмаге (думаю, не случайно) и купил все, что нужно.
А мои заграничные вояжи продолжаются. Почти сразу после Чехословакии еду в ГДР.
Работа с чешскими студентами по сравнению с немцами — отдых, санаторий. Там все в раскачку, вразвалочку: если занятия в 9, в лучшем случае явятся в половине десятого. Здесь не успеешь проснуться, кто-то из твоих «учеников», указывая на умывальник или туалет вопрошает: «А как это будет по-русски» и аккуратно записывает в блокнотик — за свои марки все из тебя выжмут.
Поражала меня и немецкая сентиментальность: чуть что — платок к глазам. На полшага отошли — все забыто. Так было и на наших проводах. Плакали все наши студенты — молодые и пожилые, женщины и мужчины, но только до тех пор, пока мы не сели в автобус. Сели. Они отошли и, хотя автобус еще полчаса стоял на месте, никто и не взглянул.
Но всякая поездка имеет конец. Чемоданы распаковываются, сувениры вручаются и окунаешься в привычную суету. Правда, остаются проклятые вопросы, например: почему Георг живет со своей толстой фрау и не менее упитанной дочкой в трехкомнатной квартире, а мы втроем в одной комнате да еще с соседями? Эх! Коммуналка! Кто тебя выдумал? Сколько крови ты попортила, нервов потрепала, прекрасных идей погубила в недрах квартирных склок!
Правда, в квартире на Белорусской, куда мы перебрались, сбежав от соседки, вначале было спокойно: со своими двумя соседями мы особенно не сближались, но и не ссорились. До тех пор, пока мой Мишка не вздумал учиться играть на рояле. Горячим сторонником его музыкальных устремлений стала мама: она купила и доставила в нашу семнадцатиметровку пианино. Горячими противниками явились соседи: они стали бить в стену кулаками и ругаться матом. Ребенок с упорством продолжал стучать по клавишам, Юра старался меньше бывать дома, поэтому все музыкальные издержки пришлись на мою долю.
Как я мечтала о квартире! Пусть крохотной, плохонькой, на первом этаже или даже в подвале, но только, чтобы никто не лез в нашу жизнь.
В то время я часто выступала на различных совещаниях, районному начальству нравилось, как я говорю, меня повсюду приглашали. Но мне уже поднадоело произносить пламенные речи о поэзии учительского труда, все больше я ощущала его прозаическую изнанку. В тот раз я не ожидала, что придется выступать, думала, буду просто присутствовать. Вдруг называют мою фамилию, приглашают на трибуну. Выхожу, а прямо напротив висит огромный плакат: «Учитель в нашей стране должен стоять на такой высоте, на которой нигде никогда не стоял. Ленин». Я прочитала его вслух, хотя этот лозунг и так все знали, но я увидела его как бы впервые и попросила задуматься: а на какой, действительно, высоте стоит учитель в нашей стране? Что бы он ни делал, как бы ни старался, зарплату ему не прибавят, она начисляется от количества часов и стажа, премии дают всем, кроме учителей, квартиры для них не строят. Не на высоте, а в глубочайшей яме находится сегодня учитель в нашей стране. Вот если бы Кировский район не на словах, а на деле хотел бы поднять учителя, ему бы следовало выступить с какой-нибудь конкретной инициативой: и району честь, и учитель, глядишь, хоть на ступеньку поднимется. Надо сказать, что никогда мои речи не производили такого впечатления на аудиторию. Но и руководству пришлась по душе идея выступить с прогрессивной инициативой и этим привлечь к себе внимание.
Да, моя педагогическая карьера шла в гору: меня привлекли к методической работе в министерстве просвещения, стала писать сценарии для учебных фильмов и — вершина! — выдвинули кандидатом в... члены- корреспонденты Академии педагогических наук! Дома у меня хранится «смешная» газета. В ней опубликованы все фамилии этих самых кандидатов. Против каждой по 3-4 строчки с перечислением разных степеней и званий, против моей одно слово — учитель. Конечно, не имеющая никакой поддержки, не вхожая в этот «круг», я в результате тайного голосования набрала самое большое число черных шаров, но ведь все-таки выдвинули. А вскоре случилось нечто гораздо более важное и неожиданное — я получила квартиру!
Как выяснилось, та моя случайная речь имела далеко идущие последствия: власти приняли решение награждать лучших учителей вручением ежегодных премий или выделением внеочередных квартир. И вот однажды среди урока меня вызвали к телефону по срочному делу. Звонили из РОНО и без всяких предисловий спросили: вам что лучше — премию или квартиру. Я подумала, что тут какая-то несуразица и ответила иронически: скажите мне, где та квартира, и я поползу за ней на четвереньках. Но на том конце провода шуток не понимали и ответили, раз я хочу квартиру, то могу получить смотровой ордер сегодня же в РОНО в 16 часов.
Еще не веря, но уже втайне надеясь, ровно в 16 я влетела в указанную мне комнату, и Александра Ивановна Жаркова, ведающая всеми социально-бытовыми вопросами учительства, сказала, что у них «случайно выплыла» двухкомнатная квартирка, которую я могу посмотреть, хотя, впрочем, месяцев через шесть, возможно, будет что-то получше.
— А эту, которая «выплыла», я могу получить сразу?
— Конечно, хоть сейчас выпишу ордер.
Получив ордер, я бросилась по указанному адресу. Двенадцатиэтажный блочный дом-башня был уже весь заселен, но одна квартира на 6 этаже свободна. Мне вручили ключ, и я вошла: две комнаты, кухонька, коридорчик и прочее (раздельно!) — и все мое. Наше! Я ликовала и все представляла себе, как будет ликовать Юра, как вспыхнут радостью каре-зеленые глаза, как он сперва не поверит, затем удивится, потом безмерно восхитится мной и нашей замечательной квартирой!.. Мне так не терпелось все это увидеть, что я схватила такси и помчалась домой.
Юра сидел на тахте и читал газету.
— Юра, — сказала я, — Юра, я получила квартиру!
— Да, — сказал он без всякого выражения. — И что же?
— Как что! Там внизу такси, мы можем поехать и посмотреть нашу квартиру!
— Ну, что ж, поедем, — согласился Юра и пошел к выходу.
***
Мы прожили вместе в этой квартире более 20 лет. Первый раз она тебе не понравилась, но потом, каждый раз возвращаясь из гостей, иногда из очень роскошных квартир, ты входил в нашу крошку-кухоньку, усаживался на любимой табуретке, оглядывался и каждый раз тихо говорил: «Как дома хорошо».
Теперь здесь я живу одна. Давно бы надо сделать ремонт, да руки не доходят и сердце не велит: на эти обои, даже на эти пятна на потолке смотрел Юра. И все-таки: как дома хорошо...
***
Мама вот-вот откроет театр, а я в должности завуча. Составляю расписание, хожу на уроки других учителей, даю им ценные указания, но «что-то не ладится в датском королевстве», — как сказал бы величайший драматург всех времен и народов Вильям Шекспир...
Нет, внешне все как должно: учителя уважают, ученики внимают, родители почитают, РОНО шлет директиву за директивой. Вот и сегодня прислали по поводу металлолома. Не соберем положенного, начнут склонять на всех уровнях, а как собрать? «Может, пятиклассников с пения снять? Все равно не поют... А 6 «А» с физкультуры? Ладно, пойду, брошу клич.» И вот уже стук-гром по всем улицам и подворотням. Освобожденные от пения пятиклассники раздобыли где-то железную тележку, с гиканьем, с песнями (запели негодники!) тащат доверху нагруженную. «Во, сколько мы добыли!» — гордо рапортуют. Но вот именно «добыли». Очень скоро во дворе школы появляется разгневанный мужчина; так и есть, тележку увели у него. А из РОНО поступает новая директива: срочно собирать макулатуру...
Из геометрии известно о параллельных линиях, которые никогда не пересекаются. В жизни, напротив, бесконечные пересечения событий, характеров, судеб, интересов. На их месте обычно образуются запутанные узлы и болевые точки. Все чаще и чаще теперь моя деятельность сводится к распутыванию или разрубанию бесконечных узлов и все больше возникает на мне самой болевых точек.
Однажды выдался у меня особенно тяжелый день. Заболело сразу несколько учителей, надо кем-то их заменить.
Звонок. У телефона сама завгороно Косабиева:
— Я звоню вам лично, чтобы попросить к 16 часам выделить 80 старшеклассников. Они должны приветствовать высоких гостей, прибывающих из Штатов.
— Но, Валентина Павловна, и в девятых, и в десятых завтра итоговые контрольные.
— Знаю, знаю, — есть трудности. Но я потому и звоню лично вам (опять это лично!), что верю в ваш организаторский талант. Между прочим, есть мысли представить вас к заслуженному учителю. Так, значит, не позже четырех 80 человек с флажками на Болотной площади.
Перемена. Кто-то о чем-то спрашивает, кого-то за что-то отчитываю, в голове одно: ну, что я скажу ребятам. Про патриотизм и интернационализм? Или, может, про идиотизм и кретинизм — других измов к этому мероприятию не подберешь? На перемене прошу девятые и десятые классы собраться в актовом зале. Ни на кого не глядя, отчеканиваю:
— Сегодня приезжает важная делегация из США. Вы должны ее приветствовать флажками на Болотной. Если вы мне скажете, что у вас завтра итоговые контрольные, я это знаю и отменить ничего не могу. А если вы меня спросите: верю ли я, что это, действительно, нужно, я вам отвечу: нет. Каждый из вас пусть сам решает, идти ему или нет, но если не будет 80 человек, у меня будут неприятности. За исключением 4 человек пришли все. Кортеж проехал только в семь часов, естественно, никто на ребят не обратил внимания.
С тяжелым чувством я шла домой. Да, они меня не подвели. Но ведь это спекуляция на любви. Сколько можно. Тем более, что я уже давно с ними нигде, кроме уроков, не встречаюсь (ах, как славно в прошлом году мы сидели у зимнего костра, картошку пекли, вино какое-то пили — непедагогично, но здорово; а может, это и есть настоящая педагогика)... Нет, так дальше продолжаться не может. В другой раз я их попрошу, они уже не отзовутся, и правильно сделают. И рухнет окончательно то, во имя чего можно было всем этим заниматься.
Вхожу в подъезд своего дома. У лифта высокий пожилой мужчина. Посмотрел на меня внимательно, потом вдруг:
— Вы учительница?
— Да. Откуда вы знаете?
— По лицу видно. — Смотрит с пониманием грустными добрыми глазами, — вот она, Каинова печать профессии.
Вечером звонит мама:
— Слушай, я тут поговорила с нашим министром, он разрешил мне взять тебя в штат на должность завпеда. Я дам тебе сто десять рублей.
— Мамочка, я больше 500 получаю.
— Но ведь это театр.
— Нет, спасибо, наверное не стоит.
— Разумеется, я не уговариваю, и все-таки подумай. Ведь это театр.
Другого аргумента у нее не было, но этого оказалось достаточно.
***
Два самых близких мне человека — мама и Юра — никогда не метались, не искали разных путей: театр был тем единственным, по которому надо идти, ради которого стоит жить.
Совсем по-разному сложились их судьбы, но одинаковы были устремления. Юра сыграл немного ролей. Из них пять-шесть эпизодических блистательно, а одну главную — Вали Жукова в «Двух капитанах» провалил. Может, потому, что этот персонаж был очень на него похож, а ему нужно было отстранение, характер, не имеющий к нему никакого отношения. Очень интересен он был в Манилове в «Мертвых душах»; но сам спектакль получился средний, особого успеха не имел.
Актерская профессия — зависимая, жестокая. Как он ждал ролей! Ходил на все читки, что-то бубнил в ванной — примерялся. Потом вывешивали распределение — опять ничего, и так раз за разом. Уходили годы, улетала надежда, и удача обходила стороной. А в этом деле удача едва ли не самое важное, может, важнее, чем талант.
Юра был бесконечно предан театру. Ради крохотной рольки, даже массовки, приходил раньше всех, тщательно гримировался, никогда не спешил уйти. В Центральном детском его звали любимцем коллектива, неизменно самым большим числом голосов выбирали в местком (против обычно бывал только один его собственный голос), и он выбивал путевки, без конца кого-то куда-то устраивал, хлопотал... Но родной Центральный Детский к Юре был не очень-то благосклонен, а к его смерти причастен...
Было предновогодье — 30 декабря. Я должна была уходить на спектакль (уже работала в театре), а Юра все не шел. Наконец, открывает дверь и с ходу:
— Черт те что, об актерах совсем не думают, набили на сцене каких-то реек... Но я спектакль не испортил...
Смотрю — он хромает:
— Что с тобой?
— Да вот — там же погоня в «Бонжур, муеье Перро», я бросился и зацепился. Но я тихо уполз, я спектакль не испортил...
— Что ты повторяешь чушь? Этот спектакль испортить невозможно (я его видела, он мне не нравился). Намажь йодом, я скоро вернусь...
Вернулась не так скоро, как должна: проболталась, протрепалась. Вхожу, он в своей комнате на тахте.
— Юра, мне собаку вывести? — Молчит. — Юра, собаку надо выводить? — Опять молчит. — Юра!..
Он умер от стресса — страшно испугался, что испортил спектакль.
Театр... Ты жесток, но тебе невозможно противостоять.
***
Я ухожу от вас.
Р.Киплинг. «Маугли».
Я ушла из школы. Навсегда. Работаю в Детском музыкальном театре. На первых порах одной из главных моих обязанностей стали «вступляшки» — так между собой мы называем вступительные слова перед спектаклями.
Такая форма общения со зрителями была учреждена мамой еще в Московском театре для детей. Раз она спросила со сцены:
— Дети, вы знаете, что я люблю?
— Знаем, — ответили дети. — Ты любишь разговаривать.
Но она не только любила, она умела разговаривать со сцены, увлекать и подчинять себе любую аудиторию. Однако ей было некогда, очень некогда и уже на втором спектакле только что открывшегося Детского музыкального театра она попросила сказать вступительное слово меня, рассчитывая на «гены». «Гены» не сработали, я выступила плохо. Разумеется, ей об этом доложили, и вечером она мне позвонила:
— Я попрошу тебя завтра опять сказать вступительное слово.
— Но я же завалилась.
— Тем более. У тебя ведь есть самолюбие. — Трубка шмякнула. Это была ее манера разговора: не «рассусоливаясь» — сразу к делу, без всяких там здравствуй, как поживаешь... Сказала нужное, и — шмяк!
Самолюбие у меня было, во второй раз выступила удачней, — и пошло...
В первые годы «дом» у театра был крохотный, играть большие спектакли — а они уже появились в репертуаре — было нельзя, и мы кочевали по всем Дворцам культуры и клубам Москвы и Подмосковья. Позже мама добилась, что в определенные дни свои сцены нам стали предоставлять Театр Эстрады, Оперетта, МТЮЗ. Но всюду мы были гостями нежеланными. В самом деле, зачем, например, Театру Эстрады какие-то артисты, музыканты, рабочие, плюс тысяча шумных детей, когда существуют Кобзон или Пугачева? Престиж, успехи никаких хлопот.
Понятия дети и опера в сознании людей поначалу совмещались плохо и, зная это, кассиры, чтобы продать наши билеты, шли на хитрости, например, старательно замазывали слово опера, а симфоническую сказку «Петя и Волк» превращали в сказку-кино (новый жанр!) «Петя и Вовка».
Показателен в этом отношении случай, произошедший со мной. Перед спектаклем «Волк и семеро козлят» я, выйдя на сцену, свою речь начала словами:
— Дети, сейчас вы услышите оперу. — В ответ раздалось дружное: «Ууу» и топанье ногами.
— Вы не любите оперу?
— Не-е-т! — И еще громче топот. Я несколько подрастерялась, но быстро нашлась:
— Хорошо. Сейчас вы будете сидеть тихо, а мы играть спектакль. Если вам понравится, похлопайте. Если нет, сожмите кулаки и поднимите их вверх. И еще. Может, кто-то из вас напишет письмо композитору Мариану Ковалю, а то он теперь и не знает, писать ему для вас музыку или нет.
В конце успех был большой, кулаки никто не поднимал, я в прекрасном настроении разговаривала с кем-то в фойе. Вдруг кто-то толкает в бок. Оглянулась — мальчуган лет пяти.
— Ты что?
— Адрес.
— А, ты хочешь написать композитору?
— Я уже написал—и протягивает мне листок, где начертано печатными буквами: «Пиши — получается». Ребята, пожалуй, признали нас первыми и, чтобы посмотреть наши спектакли, ездили за нами по всей Москве.
Да, Детский музыкальный завоевывал сердца, становился популярным, а вот мне часто бывало и трудно, и неуютно. Напрасно многие думают, что родственная близость к руководству — ближайший путь к успеху и благополучию. Иногда совсем наоборот.
Мама терпеть не могла в делах даже намека на семейственность. Пригласив меня на работу в театр, она сразу круто изменила характер наших отношений: и в служебное, и во внеслужебное время звала почти исключительно по имени и отчеству, приучила к этому и меня. И только иногда, представляя кому-то, говорила: «Это наш завлит, а по совместительству моя дочь». Шутка? Не только. «По совместительству» я себя ощущала не единожды. Однако, как ни называйся, родственные связи остаются, а у людей на этот счет свои представления.
В школе я всем была своя, в театре наоборот, особенно первое время. Вот в репетиционном классе актеры что-то отмечают. На столе картошка, селедка, водка, в атмосфере дух непринужденного веселья. Случайно в класс заглядываю я.
— А! Садитесь! Не хотите ли водочки? — встречают радушно, но вместо непринужденности напряженность: одни боятся сболтнуть лишнее, другие, наоборот, говорят, чтобы «дошло до ушей руководства», — и все с облегчением вздыхают, когда я ухожу. Да и моя должность одним кажется непонятной, другим — надуманной: своего места в жизни «дочка» не нашла, вот и пристроили на теплое местечко под мамочкино крылышко. Однажды во время разгорающейся склоки — у нас их было немного, но совсем без склок театр не театр — трамбонист Валерий Скляренко так и сказал:
— Вношу предложение упразднить должность дочки Наталии Сац, нечего ей тут болтаться.
Конечно, все это и задевало, и обижало, и материальные мои дела резко ухудшились, и все-таки... Все-таки, как говорила мама, театр — это театр: приходить сюда, может, и не стоило, а вот уйти невозможно. Значит, снова надо искать себя.
Классическое выражение К.С.Станиславского «Театр начинается с вешалки», хотя и популярное, но все же, думаю, не совсем точное: всякий театр начинается с репертуара. Им же, кстати, часто и заканчивается. Открытие в Москве первого в мире профессионального музыкального театра для юных наделало много газетной шумихи и в надежде быстрой славы и легкого заработка разные авторы стали присылать в театр свои невостребованные в других местах шедевры. Их набралось целый шкаф, целый месяц я все это читала, сортировала и рецензировала. Наконец, закончив работу и ничего мало-мальски стоящего не обнаружив, я с облегчением доложила маме Наталии Ильиничне:
— Я все рукописи отослала, теперь у нас ничего нет.
— Чему же ты радуешься? — ответила она. — Ведь твоя задача, чтобы у нас что-то было.
Сама она все время занималась репертуаром, постоянно знакомилась с творчеством современных композиторов. Как-то мы вместе были в министерстве культуры СССР и там встретились с Маргером Заринем, замечательным латышским композитором.
— Как бы я хотела, чтобы вы стали нашим автором, — обратилась к нему Наталия Ильинична.
— О! Это прекрасно, я как раз мечтаю написать оперу «Маугли» по Киплингу, вот только, кто сделает либретто, их совсем нет, этих либреттистов.
— Почему нет? Вот моя дочь. Она прекрасно с этим справится. Кстати, отныне ты будешь совмещать две должности: завпед и завлитчастью. Разумеется, ни о какой прибавке жалования не может быть и речи — это честь. Но завлит музыкального театра обязан уметь не только работать с другими авторами, но и сам писать либретто.
Так неожиданно началась новая страничка в моей творческой биографии. Скажу сразу: либретто я завалила. То есть сначала наоборот: его с восторгом без сучка и задоринки приняли на худсовете, затем в министерстве, дал добро Заринь. Я получила полностью гонорар и стала ждать вестей из Риги о ходе работы над музыкой. Но их не было. Написала одно письмо, второе, в ответ — молчание.
Весной у театра гастроли в Ленинграде. От кого-то из пришедших на спектакли музыкальных деятелей случайно узнаю, что Заринь сейчас в Репино — пригороде Ленинграда, в композиторском Доме творчества. Приезжаем в Репино. Наталия Ильинична интересуется, здесь ли Заринь. Да, здесь, но к ужину не выходит, зато к завтраку ровно в 9 минута в минуту.
Минута в минуту и мы появляемся в столовой. Встречаемся. Он с ходу:
— Я не мог писать на этот ужасный либретто, — и всю дорогу, от столовой до своей дачи, куда он нас пригласил, путая русские слова с латышскими, повторял «какой это ужасный либретто».
На рояле напротив друг друга лежали два либретто: мое — все исчерканное вопросительными и восклицательными знаками (наверное, в совокупности они обозначали: какая гадость!) и его — чистенькое, на хорошей бумаге.
— Да, я писал сам,—сказал он, указывая на свои листки, — потому что я не могу писать на ваш ужасный либретто.
Мама просит поиграть музыку. Заринь сыграл нам только один номер «Танец медвежат», но это было восхитительно.
— Вот что, — сказала Наталия Ильинична, — мне наплевать на фамилию либреттиста и на его родственные связи. Не нравится вам это либретто, выкиньте его на помойку и пишите сами. Пишите, пишите для нашего театра!..
Я горько плакала, оставшись одна, и без конца задавала вопрос: ну, почему, почему оно ему не нравится. Но слезы высохли, вопрос остался: а в самом деле, почему? Ведь не нарочно же он! Ясно, что он хотел, но не смог ничего создать на этой основе, не пошло у него.
Вспомнила, кажется, Верди говорил своим либреттистам: вы мне даете слова, а мне нужны ситуации... Ну, а какие у меня ситуации? В первом действии волки ссорятся между собой из-за младенца Маугли. Во втором — из-за юноши и в эпилоге опять ссорятся уже из-за Акелы. Да это же как на коммунальной кухне! Змей у меня нет. И обезьян тоже. Да ведь я выхолостила Киплинга, лишила сюжет ситуативности, развития, приключений... В самом деле, какое ужасное либретто!
Между тем, вернувшись в Москву, Наталия Ильинична ни словом не обмолвилась, словно забыла о моей неудаче (у нее вообще была особенность: за крупное, важное не ругать, а второстепенного в назидание другим не прощать). Мало того, она предложила мне новую работу. Старейший советский композитор Анатолий Александров, давний ее друг и сподвижник, готов написать для нас оперу, правда, еще не знает, на какой сюжет.
Вечером мы у Александрова в его огромной квартире на 3-ей Миусской. Какой симпатичный творческий старикан! Возраст под 90, а сколько огня, интереса к поэзии, театру, самой жизни. Хохочет, вспоминает с Наталией Ильиничной, как они вместе работали в самом первом из созданных ею театров. На его открытии он играл марш Голиафа в перчатках с отрезанными пальцами, — в зале было очень холодно.
— А как вы смотрите, Наталия Ильинична, если написать оперу на сюжет «Липанюшки» — русской народной сказки.
— Прекрасно! Русская сказка — это то, что мне нужно.
Уже по дороге домой, переходя на материнское, она говорит:
— Пожалуйста, с Александровым не медли. Он уже стар, вряд ли сможет долго работать. Если надо, дня четыре, нет, не больше трех, не являйся в театр.
Срочно нахожу сборник русских народных сказок. Вот и «Липанюшка». Ну и ну! Весь сюжет в трех фразах. От скуки старик смастерил куклу из липы и стали они со старухой жить-поживать да добра наживать. Да это же Буратино в усеченном варианте! Зачем нам это? Тем более «Золотой ключик» уже пишет для нас Игорь Морозов. Хочу позвонить и сказать обо всем Наталии Ильиничне, но что-то останавливает. А может, что-то придумать? Название симпатичное — «Липанюшка». Может, это девушка-сирота, не рожденная, а превращенная в липу? Да, но кто превратил? — Баба-яга? Надоели эти бабы-яги да серые волки, в каждой сказке одно и то же. А если Кикимора? Есть какая-то острота в самом слове и относительная новизна. Да, но этого мало... «Жили-были царь, царевич, король-королевич, сапожник, портной, кто ты такой», — всплывает в памяти детская считалочка. Ну, королевичи и прочие мне не нужны, а вот царь... Беру царя!
Хожу по квартире из угла в угол. Ход неясных мыслей прерывает свист — песенка нашего нового жильца — клеста Фомки, подаренного мне одним из бывших учеников.
— Прямо дрозд-пересмешник, — говорит Юра, тоже слушающий его рулады-дразнилки.
— Дрозд-пересмешник! А ведь какой это может быть яркий забавный персонаж... И два брата-дуралея — Фома и Ерема, а третий, герой, конечно, Иванушка. Что-то во мне закопошилось-закрутилось, нитью сюжета повело за собой.
Прошло два дая. Вся драматургия пьесы у меня разработана, нужно только написать стихи, ну, это для моего друга поэта Викторова не проблема.
Вечером позвоню Александрову, договорюсь о встрече. Но звонит мама:
— Никакие Липанюшки мне не нужны. Это какой-то кастрированный Буратино, а у меня будет настоящий.
— Нет, Липанюшка не Буратино, — пытаюсь я вставить слово, — я придумала...
— Что ты там придумала, меня не интересует. Короче: эта тема отменяется. Немедленно поезжай к Александрову, я договорилась — у него есть прелестная музыка к кинофильму «Левша». На этой основе делай либретто. — Трубка шмяк!
Черт возьми! Мне так нравится моя Липанюшка и вот... А Александров уже «заболел» «Левшой». Торопливо стаскивает с меня пальто, тащит к роялю:
— Какая прекрасная идея пришла в голову Наталии Ильиничне, вот вы послушайте, послушайте, — он ведет меня в комнату, садится за рояль и... я уже очарована, увлечена его музыкой, все готова делать, чтобы только зазвучала она в нашем театре.
Позже Юра часто говорил, что «Левша» — лучшее произведение и лучший спектакль нашего театра и сердился, что мы этого недопонимаем. Кстати, «Липанюшка» тоже нашла применение: композитор Жанна Кузнецова написала на ее основе очень милую оперу, которая много шла и до сих пор идет в музыкальных театрах.
***
Мама и Юра. Я снова обращаюсь к вам, когда вспоминаю о своей «либреттной деятельности». Одной, как бы вскользь сказанной фразой Юра не однажды помогал мне выйти из тупика. Когда приступала к работе над «Максимкой», он задумчиво произнес:
— Его должны продавать.
— Продавать? Кому? Каким образом? Кто купит? Кто продаст? Как спасут?..
И пошло-поехало... И в «Джунглях» — так переименовали «Маугли», когда над оперой стал работать Ширвани Чалаев, из тупика помог выйти Юра. Впрочем, о «Джунглях» хочется рассказать поподробнее.
***
Однажды Наталия Ильинична, придя чуть ли не за продуктами в ресторан Дома композиторов, услышала, как из концертного зала доносится очень своеобразная музыка. За роялем — небольшого роста очень смуглый человек с огненными глазами пел на неизвестном языке с таким темпераментом, что дух захватывало:
— Кто это?
— Ширвани Чалаев — дагестанский композитор, народный артист.
Наталия Ильинична прослушала весь концерт, потом познакомилась с Ширвани. Культура, своеобразие, талант соединились в этом человеке из маленького лакского аула в Дагестане, любимом ученике Дмитрия Шостаковича. Конечно, сразу возникла мысль привлечь его к нашему театру.
— Я знаю, о чем бы вы могли написать.
— И я знаю — «Маугли» Киплинга.
— Я как раз об этом и думала.
— Значит, наши мысли совпали, а это неплохое предзнаменование.
О примерно такой беседе, состоявшейся между ними, мне рассказывал Ширвани, с которым в это время я была уже очень хорошо знакома и творчески, и человечески — мы совместно написали музкомедию «Странствия Бахадура» для музыкального театра в Тарту.
После встречи с Ширвани Наталия Ильинична немедленно вызывает меня и начинает распекать:
— Скажите, чем все-таки занимается наша литературная и прочие возглавляемые вами части? И какие результаты вашей, так сказать, деятельности? Вообще у меня создается впечатление, что в театре работает только один человек (разумеется, она сама). Вы, конечно, не знаете такого интереснейшего композитора, как Ширвани Чалаев.
— Почему? Знаю.
— Ах! Оставьте. Ничего вы не знаете, сплошная самонадеянность и верхоглядство. Так вот, я договорилась, что он напишет нам оперу «Маугли». Обеспечьте его либретто — вашим ли, другого автора, меня не интересует, — только не той дрянью, от которой отказался Заринь, важно, чтобы Чалаев начал работать.
Как она чувствовала людей! «Маугли» — Чалаеву, «Максимку» — бывшему моряку Терентьеву, «Белоснежку» — Колмановскому, — точнейшие попадания!
Когда я только пришла в театр, долго не могла привыкнуть к ее полярным высказываниям, шквальным разносам, длинным речам. Нередко про себя думала: «Что она говорит? Ерунда какая-то.» Но из этого, на мой взгляд, сумбура, всегда возникало нечто самое нужное театру.
Заринь так и не написал «Маугли» (видно, собственное либретто тоже не устроило), но как я ему благодарна. Он заставил меня осознать то, чего бы я никогда не поняла без его жесткого урока. Работа над «Джунглями-Маугли» с Чалаевым шла уже совсем иначе. Вместо «паутины словес» появились ситуации, движение, характеры. К тому же мы работали бок о бок, и только что рожденная музыка сама давала толчок к новым поворотам сюжета, более емким словам.
Но вот опера закончена. Можно показывать. Чалаев был в Рузе. Туда же в Дом творчества приехали мама и я. Начинаем показ.
Появляются все действующие лица, сообщают, что все они жители джунглей. Затем идет представление героев...
— Опера начинается с пролога, — поясняю я.
— Чушь! Ерунда, — прерывает Наталия Ильинична, — сначала они должны представиться, а потом сообщать, где живут. Ух, до чего мне надоели эти бездарности, — смотрит на меня почти с ненавистью. — Лучше вообще ничего не говорите, я буду музыку слушать.
Чалаев заиграл, запел, она слушает и до самого конца не произносит ни слова. Потом:
— Вы мне сделали сегодня подарок, большой подарок. Менять ничего не нужно, я режиссерски все оправдаю.
Расстались. Идем обедать, затем на прогулку. Мама шутит, целый хвост поклонников сопровождает нас повсюду. Внезапно она прерывает разговор и поворачивается ко мне:
— Знаешь, там еще должно быть это... ну, как у Чайковского в «Иоланте»...
— «Отчего это прежде не знала ни тоски я, ни горя, ни слез», — подхватываю я, понимая, что она все это время подспудно думала о «Маугли».
— Да, да!..
В тот же вечер Чалаев сочинил на эти слова музыку. Так родилась ключевая ария оперы.
***
Новое здание театра. Я не перестаю им любоваться. Здание, рожденное волей, страстью, великой любовью моей матери. Сколько раз с тяжелыми приступами, простуженная, с высокой температурой, она, невзирая на родственные мольбы, ехала что-то согласовывать, добывать, выбивать, уговаривать и обольщать во имя своего детища. Жаль, что наше телевидение и кинодокументалистика не запечатлели строительство нового здания театра. Из Московского городского комитета партии была спущена директива закончить строительство к 11 декабря 1979 года. За несколько дней до этого Наталия Ильинична со мной и Виктором Петровичем Проворовым приехала на стройку. Я увидела зрелище поразительное.
Было часов одиннадцать вечера, но стройка залита светом — со всех сторон ее прорезали ослепительные лучи мощнейших прожекторов. Всюду строители. Чудесное здание рождалось на глазах.
Но больше всего поражало царящее здесь общее воодушевление. Обветренные лица, заскорузлые руки, ядреный мат, перемешанный с диалектами съехавшихся с разных концов страны лимитчиков. Что, казалось бы, этим людям до какого-то там Детского театра?! Но все они не просто работали — радостно соучаствовали, созидали его. И невольно вспомнилось, как поначалу скептически многие из нас отнеслись к решению Наталии Ильиничны чуть ли не с первого дня стройки давать концерты для строителей; как между балок и блоков рассаживались музыканты, и оркестр исполнял увертюру к «Руслану», а певцы пели Чайковского, Рахманинова, народные песни... Она всегда сама вела эти концерты, бывала здесь чуть ли не ежедневно. И вот теперь, завершая стройку, строители стремились поделиться именно с ней их общей радостью.
Не успела она появиться, как кто-то протянул и помог ей надеть строительную каску, потом какая-то тетка, краснолицая, кряжистая, в грязной робе и тяжеленных сапогах, подбежала к ней:
— Наталия Ильинична! Смотрите, Петю подняли! Да как точнехонько встал, как по струночке!.. — И, действительно, чугунный Петя из скульптурной композиции «Петя и Волк», которая должна украшать первый портал, подхваченный краном, уже занял свое место.
Спустя несколько месяцев после завершения стройки мне принесли буклет, рассказывающий о здании театра. Просматривая его, я обратила внимание автора на фактическую ошибку: в буклете было написано, что скульптура Клыкова «Синяя птица на золотой арфе», ставшая символом театра, находится рядом со зданием, а не венчает его купол. Я указала на эту неточность, на что автор обиженно возразил:
— Никакой ошибки нет. Неужели вы не понимаете, что установить такую скульптуру на крыше технически невозможно, как бы ни мечтала об этом ваша Наталия Ильинична.
Я попросила автора выйти из здания и показала наверх: над зданием театра распластала крылья Синяя птица. Я рассказала, как наша Наталия Ильинична добилась, чтобы из Кузбасса пригнали единственный в своем роде строительный кран, но даже его огромной стрелы не хватало... Как молодой крановщик сделал какой-то очень рискованный маневр, и кран с огромной птицей вдруг стал прогибаться... Как начальство приказало немедленно опустить скульптуру, но крановщик уже занес ее над крышей, сделал еще более рискованный маневр, — и птица словно сама влетела в уготовленное для нее гнездо...
***
«Весь мир театр — мы его актеры». Вильям Шекспир. Как точно. Все мы актеры на сцене жизни, а театр — ее зеркало.
Мне жаль тех, в чью жизнь театр не вошел, она мне кажется тусклой, и я очень благодарна судьбе за то, что этого не случилось со мной.
Я люблю смотреть на смеющихся детей во время спектакля и еще больше, когда на их глазах поблескивают слезы. Это слезы сострадания и доброты, которые пробудил в них театр. Детский музыкальный театр моей мамы Наталии Сац.


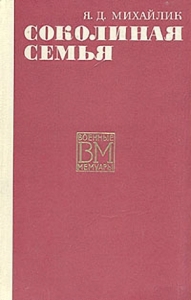
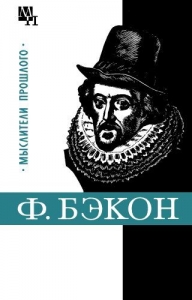
Комментарии к книге «Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре», Роксана Николаевна Сац
Всего 0 комментариев