Вместо предисловия
«Нет ничего лживее, неосновательнее, несправедливее и поверхностнее суждения одного человека о другом», — писал в середине прошлого века ныне забытый критик и литератор А. В. Никитенко. Он пришел к этому малоутешительному выводу, проанализировав не только чужой опыт, но и свой собственный, и оставил интересные воспоминания о своих знаменитых современниках.
Могут ли авторы биографии оставаться беспристрастными, холодными регистраторами фактов, дат, событий и поступков? В особенности повествуя о жизни столь необычной женщины, как Светлана Аллилуева, — противоречивой, непредсказуемой, неуемной и мятущейся. Это очень трудно.
Правда, наша задача довольно скромная: мы не претендуем на открытие неизвестного и глубину анализа. Существует обширная литература о дочери Сталина: четыре книги ее воспоминаний — «Двадцать писем к другу», «Только один год», «Далекая музыка», «Книга для внучек», мемуары современников и соратников ее отца, родственников и знакомых самой Светланы Аллилуевой. Материала вполне достаточно, чтобы выстроить «линию жизни» незаурядной женщины, по-своему талантливой, честолюбивой… неустроенной и несчастной.
Множество дочерей и жен сильных мира сего канули в Лету. И Светлану Аллилуеву давно бы забыли, если б она не открыла в себе литературный талант, если бы всю жизнь не пыталась стать кем-то еще, может быть, самой собой, а не только дочерью своего отца.
Мы не пытались «отретушировать» ее портрет. Не утаивали резкие, порой убийственные отзывы о ней родственников и знакомых. Не замалчивали лукавство и противоречия в ее книгах. Светлана Аллилуева — автор этих книг и Светлана Аллилуева — их героиня порой разные люди. Часто Светлана отталкивала людей своей раздражительностью и нетерпимостью. Но она же умела привлекать их обаянием, интеллигентностью, широтой души.
Впрочем, Светлана Аллилуева не нуждается ни в оправдании, ни в снисхождении, ни в жалости. Она всегда была слишком самодостаточна. И только близкие знали, какая она в душе робкая, как нуждается в понимании, в настоящих друзьях…
И раздел «Семья» недаром занимает такую важную часть ее жизнеописания. От природы Светлана была очень «семейственной», потому что выросла в большой семье, в окружении клана родственников. Повзрослев, она не раз пыталась «свить свое гнездо», не раз выходила замуж, рожала детей. Но… всегда что-то не складывалось, не сбывалось. Светлана тосковала по семье, но так и не сумела ее создать.
Итак, перед вами рассказ о жизни женщины, уже по праву своего рождения выделившейся из толпы обыкновенных людей. Наверное, в этом ее трагедия, ее крест, который не всегда бывал по плечу слабой женщине. Будь Светлана Аллилуева «обыкновенной», возможно, она обрела бы то, к чему стремилась, — счастье, покой и семейное тепло.
Часть I. СЕМЬЯ
Представители славной когорты
В наше время мемуары Сергея Яковлевича Аллилуева прочитываются с чувством легкой иронии и грусти. К доверию, которое все же появляется к автору повествования, примешивается скептическое недоумение, ибо мы, балансирующие на обломках того светлого будущего, за которое боролся Сергей Яковлевич, хорошо знаем, к чему привела страну эта борьба.
Сквозь мелодии «Варшавянки» и «Интернационала» проходит унылый лейтмотив — плач кроликов, идущих в пасть удаву.
«Старый большевик» и «прирожденный бунтарь» — так окрестил Сергея Яковлевича всесоюзный староста и его старинный приятель М. И. Калинин. «Чернорабочий революции», «марксист-идеалист» — так называет его Светлана в «Двадцати письмах к другу». Все эти пышные наименования конечно же не дают представления о человеке, они скорее уместны в некрологе. Светлана старается восполнить этот пробел, она не жалеет светлых красок для деда.
«…Эта тихая, деликатная мягкость была его прирожденным качеством, а может быть, он и научился этому у той прекрасной русской интеллигенции, с которой связала его на всю жизнь революция».
Светлана сама не замечает, как ее слог вдруг начинает громыхать официозом и штампами, спутниками официоза, как он то и дело скатывается в пафос, за которым — пустота.
«Полное отсутствие мещанского стяжательства…», «сила духа, животворящего, неиссякаемого и вечного…», «гордость — ничего не просить, ничего никогда не вымаливать, не выклянчивать…» Слова снова и снова, как мошкара, облепливают пустоту, в которой должен красоваться памятник несгибаемому большевику-ленинцу.
Честное слово, поражает то наивное добродушие, с которым эти восторженные идеалисты все воспринимали: красный террор, многочисленные процессы Ульбрихта и Вышинского, коллективизацию. Да, они скорбели душой, наблюдая за тем, как их друзья, стойкие большевики-ленинцы, появляются на судебных процессах изможденные, с выбитыми зубами… Да, они ужасались, путешествуя по голодной Украине… Николай Бухарин даже все свои личные деньги раздал голодающим — спасибо ему!.. Да, они утирали слезы над гробом доведенной до отчаяния и гибели Надежды Аллилуевой.
Голос же свой не повышали. На всю огромную страну уже тогда в полную мощь звучал другой голос, спокойная речь с грузинским акцентом — осталось лишь подпевать ей подростковыми, ломающимися от страха голосами. Они видели, что «новый мир», в построении которого они приняли активное участие, до ужаса не похож на то, что было задумано. «Жизнь шла не так, как полагалось по схемам, но схемы были объявлены неприкосновенными… Основное правило эпохи — не замечать реальности» (Н. Я. Мандельштам. «Воспоминания»).
Между тем именно благодаря мемуарам Сергея Яковлевича Аллилуева есть возможность, по нашим временам редкая, проследить генеалогию Светланы до ее прапрадедов со стороны Аллилуевых.
Бабка Сергея Яковлевича была цыганкой. Прадеда ее звали Яков Трофимович, прабабку — Марфа Прокофьевна. Они родились крепостными воронежского помещика.
Сергей Яковлевич появился на свет в 1866 году. К тому времени родители его освободились от крепостной зависимости и поселились в селе Раменье. Отец вскоре умер. Мать перебивалась случайными заработками. Некоторое время они пожили на Дону, а в 1882 году Сергей Яковлевич поступил в борисо-глебские мастерские Юго-Восточной дороги. «…У него были поистине золотые руки», — 1 пишет Светлана в «Двадцати письмах к другу». Вскоре он сделался слесарем и попал в железнодорожные мастерские Закавказья.
В то время начиналась острая борьба между народниками и марксистами. Сергей Яковлевич стал посещать кружок, где собирались рабочие, читали запрещенную литературу, обсуждали, каким образом следует бороться с угнетателями-капиталистами.
Как-то на собрание кружка явился незнакомый молодой человек и негромко, напирая на «о», заговорил:
— Еще лучше, товарищи, если вы будете записывать то, что вас особенно волнует или возмутит на работе. Пишите на злобу дня, записывайте факты, а записанное передайте одному, другому товарищу — пусть прочтут. Такие коротенькие записки-обращения можно даже переписать в нескольких экземплярах, раздать товарищам… Этими листовками можно достигнуть многого…
Так состоялось знакомство Сергея Яковлевича с Алексеем Пешковым, благодаря советам которого вскоре и была выпущена первая прокламация, написанная от руки и оттиснутая на примитивном гектографе в нескольких десятках экземпляров.
В 1893 году Сергей Яковлевич женился. Через год у молодых родился сын Павел, а потом дочь Анна. Жена его также примкнула к революционному движению. В это время он узнал о существовании в Тифлисе марксистской социал-демократической организации «Месамедаси» («Третья группа»). Чем она занималась, было неизвестно, и любопытный Сергей Яковлевич отправился в Тифлис.
Там он узнал много не только о самой организации, но и разногласиях внутри нее. Против руководителя «Месамедаси» выступили ее члены, в числе которых был Иосиф Джугашвили, Сосо, как его тогда называли.
Сергей Яковлевич снова стал работать в мастерских. Он вместе с Калининым и Сосо организовал забастовку в токарном цехе, за что был арестован и посажен в одиночную камеру Метехского замка. «Метехский замок со всеми своими постройками стоит высоко на отвесной скале. Внизу, у подножья скалы, шумит и бурлит неугомонная Кура, стремительно неся свои мутные воды. Многое повидал на своем веку замок, немало таил в своих стенах скорби народной, море слез было пролито в его мрачных казематах. Не раз и не два его стены обагрялись горячей кровью. Да и Кура, быстрая и шумная, немало приняла горьких слез» (С. Я. Аллилуев. «Пройденный путь»).
Тем не менее режим в тюрьмах тех лет был намного легче, чем в тюрьмах, которые вскоре по всей стране воздвигнет соратник Сергея Яковлевича Сосо. По сравнению с Сухаревской башней, с оборудованными по последнему слову техники пыточными камерами и Лефортово, где узникам по ночам не давали уснуть нечеловеческие вопли истязуемых, — Метехский замок кажется санаторием.
В 1901 году Сергей Яковлевич вместе с Сосо принял участие в первомайской демонстрации, состоявшейся на базаре в Тифлисе. Он, как принято, кричал «Долой самодержавие!», за что был уволен с очередной службы. Но товарищи позаботились о безработном и отправили его с рекомендательным письмом в Баку к Леониду Борисовичу Красину, известному революционеру, работавшему на электрической станции.
Революционную работу развернули в полную силу, приобрели типографское оборудование, выпустили революционную газету. Тогда же к Сергею Яковлевичу в Баку перебралась семья. Там родилась Надежда, мать Светланы. Но недолго Аллилуев предавался семейным радостям — через год он снова оказался в Метехском замке. Его привлекли по делу социал-демократов.
Как только он вышел из тюрьмы, его по поручению Тифлисского комитета РСДРП устроили слесарем по ремонту машин в типографию Грузинского товарищества, где Сергей Яковлевич работал до 1903-года. Летом создали подпольную типографию, в которой печаталась партийная литература. Hg спустя три года ее разгромила полиция, и Сергей Яковлевич в третий раз оказался в знакомом Метехском замке. Как всегда, его довольно скоро выпустили, и он уехал на нефтяные промыслы в Баку, откуда через полгода перебрался в Серпухов. Там он работал на электростанции фабрики.
Аллилуев стал неплохо зарабатывать и смог вызвать к себе семью. Из Серпухова они все переехали в Москву, где Сергей Яковлевич попал под наблюдение охранки. Он по-прежнему участвовал в делах закавказской партийной организации, его опять арестовали и посадили в тюрьму, но ненадолго.
И снова Баку, где уже ширилось стачечное движение, с которым безуспешно пытались справиться черносотенцы.
И опять тюрьма, начальник которой даже заискивает перед Аллилуевым…
«Однажды, отозвав меня в сторонку, он смущенно сказал:
— Семья моя голодает: нету денег. Разреши брать из вашей кухни хотя бы один обед для жены и ребенка, а?» («Пройденный путь»).
Честное слово, поневоле подумаешь, что, если бы царское правительство получше платило начальникам тюрем, никакой революции и не произошло бы…
Сергей Яковлевич был переведен в Карс в губернскую тюрьму, режим которой не понравился заключенным, и они написали жалобу прокурору. Требования их были удовлетворены. Узник — святое дело. В тюрьме товарищи, как водится, распевали революционные песни, «стройно и дружно», а тюремные власти, как обычно, мирились с этим. Вскоре революционеры были освобождены, тут же бросились на митинг, а вдоволь наговорившись речей, направленных против царя и самодержавия, отправились переночевать в родную тюрьму.
«Когда мы постучали в тюремные ворота, к нам вышел улыбающийся начальник тюрьмы.
— Зачем вы пожаловали, господа? — спросил он».
Господа революционеры улеглись спать по своим камерам, но не тут-то было. «Власти рассвирепели. Часов в девять вечера к нам прибежал взволнованный начальник тюрьмы с взъерошенными волосами и завопил, что он, простофиля, попал впросак и что его отдадут под суд за допущение посторонних лиц во вверенную ему тюрьму. Он стал умолять нас, чтобы мы немедленно ушли» («Пройденный путь»).
Поистине тяжка доля революционера!
Сам того не желая, Аллилуев рисует умилительные картины, описывая свои злоключения подпольщика. «Улыбающийся начальник тюрьмы», «галантно раскланивающийся» губернатор… И снова поневоле думаешь о том, что, если бы власть поменьше улыбалась, раскланивалась и заискивала перед господами революционерами, судьба Российской империи сложилась бы совсем иначе. Ленин все это приметил, понял смысл реверансов перед революционерами и решил, что с врагом не следует быть таким галантным…
Тюрьма — митинг, тюрьма — забастовка, тюрьма — маевка — таков путь революционера. Из тюрьмы Аллилуев отправился на митинг, чтобы снова поскорей оказаться в тюрьме. Но вскоре «мы предупредили товарищей, снабжавших нас продуктами, что освобождаемся в пять часов дня и готовить обед в тюрьме не будем. Поэтому мы просили их приготовить для нас в городе коллективный обед» («Пройденный путь»).
Потом поездка в Тифлис, где «с утра до вечера происходили собрания и митинги. Мы перебирались с митинга на митинг, с собрания на собрание… У нас был атласный красный флаг, расшитый разноцветными шелками, изготовленный армянскими женщинами в Карсе… Дружно распевали революционные песни. Собиравшаяся публика шумно приветствовала нас» («Пройденный путь»).
В Москве началось вооруженное восстание. «В знак солидарности с московским пролетариатом забастовали железнодорожники Закавказья. Тифлисская организация РСДРП призвала массы ко всеобщей стачке, которая должна была перейти в вооруженное восстание… В середине декабря в городе произошли вооруженные столкновения с царскими войсками» («Пройденный путь»).
И снова губернская тюрьма. И снова Метехский замок. Потом Аллилуева по этапу отправили в Архангельск, оттуда — на Пинегу. Но и там революционер-подпольщик пробыл недолго, вскоре его снова можно было увидеть на митингах в Баку. Но, правда, дальше по расписанию — тюрьма, после нее предложение покинуть Баку.
Леонид Красин отправляет его в Питер. «Питер! Центр революционной работы, город, где начинал строить нашу партию Ленин». Восторгу Сергея Яковлевича нет предела, тем более что в Питер его провожает дорогой товарищ Сосо, к тому времени сделавшийся Кобой.
«Я сказал Кобе о своем решении выехать в Питер и об обстоятельствах, вынуждающих меня предпринять этот шаг.
— Да, надо ехать, — произнес Коба…
Внезапно Коба вышел в другую комнату. Через минуту-две он вернулся и протянул мне деньги. Видя мою растерянность, он улыбнулся.
— Бери, бери, — произнес он, — попадешь в новый город, знакомых почти нет. Пригодятся… Да и семья у тебя большая…» («Пройденный путь»).
В Питере Сергей Яковлевич устроился мастером в Общество электрического освещения. «Работал он всегда увлеченно, его ценили как превосходного техника и знатока своего дела. В Петербурге у дедушки с семьей была небольшая четырехкомнатная квартира, — такие квартиры кажутся теперешним профессорам пределом мечтания… Дети его учились в Петербурге, в гимназии, и выросли настоящими русскими интеллигентами, — такими застала их революция 1917 года…» (С. Аллилуева. «Двадцать писем к другу»).
Честность и порядочность деда, о которых пишет Светлана, не изменили Сергею Яковлевичу ни тогда, когда в 1932 году по милости его друга Сосо свела счеты с жизнью дочь Надежда, ни тогда, когда в 1937 году арестовали мужа его дочери Анны.
«Я помню только, что бабушка и дедушка жили постоянно у нас на даче в Зубалово… Они сидели за столом вместе с отцом, которого дедушка называл Иосиф, ты», а бабушка «Иосиф, вы», а он обращался к ним очень почтительно и называл их по имени и отчеству. Так было, я помню, и после смерти мамы… В силу своей деликатности и чрезмерной щепетильности дедушка никогда не спрашивал отца о судьбе своего зятя Реденса, хотя судьба его собственной дочери, Анны, разбитая жизнь ее и ее сыновей его очень тревожили. Он только тихо и молча страдал от всего этого и насвистывал себе что-то под нос, — такая у него появилась привычка» («Двадцать писем к другу»).
Действительно, как вместе со Светланою не поразиться этой необычайной «деликатности» и «щепетильности» прирожденного бунтаря? Он не был деликатен ни с губернатором, ни с начальником тюрьмы в прежние времена, но по отношению к фактическому убийце своей дочери Сергей Яковлевич обнаружил эти прекрасные качества во всей полноте.
Психологически это действительно феноменальная ситуация. Та же Надежда Мандельштам в своей книге воспоминаний рассказала об одной женщине, чей муж по доносу был арестован и сгинул в лагерях. Доносчик являлся к ней очень часто с утешениями и советами, и бедная женщина не смела и пикнуть о том, что ей известно, по чьей милости взят НКВД ее муж. Люто ненавидя этого Иуду в душе, она молчала.
Но в этом случае имеет место хотя бы внутренний протест, чего не позволил себе Сергей Яковлевич, — такова была его «природная мягкость». А ведь дочь Надя наверняка рассказывала отцу о том, как ей трудно живется… Может, Сергей Яковлевич, подобно герою романа Владимира Успенского «Тайный советник вождя», тоже считал Надю виновной в том, что она «не поняла своего великого предназначения»? Сколько же виновнее была супруга самого Аллилуева, мать Надежды, изменявшая ему, но он все прощал по великодушию… А вот у его зятя не хватило души простить Надю, наставить ее на путь истинный, вследствие чего она застрелилась, — очевидно, такая версия устраивала Сергея Яковлевича…
Но дедом он безусловно был прекрасным — многочисленные внуки обожали его. Он все время что-то мастерил в своей комнате, которую превратил в мастерскую с верстаком и различными инструментами. Разрешал детям возиться в своем хламе, занимал их, брал с собой в далекие походы, учил собирать грибы и ягоды…
После смерти Нади он жил в основном в Зубалове, донашивая свою дореволюционную одежду, получал какие-то пайки. До войны начал писать мемуары и в этом нашел свою последнюю отраду, хотя Сталин любил посмеиваться над его писаниной…
Последние годы супруги Аллилуевы жили в разных квартирах, фактически они разошлись. Хотя по-прежнему встречались летом в Зубалове. За столом препирались по пустякам. Сергея Яковлевича возмущала погруженность жены в быт: он по-прежнему питался высокими идеями, и ему это «земное» было в высшей степени чуждо. Комнаты стариков находились в противоположных концах дома.
Сергей Яковлевич умер в 1945 году в возрасте 79 лет. «Болезнь его развивалась последний год стремительно. Он страшно исхудал, — я видела его незадолго до смерти в больнице и испугалась. Он был как живые мощи и уже не мог говорить, а только закрыл глаза рукой и беззвучно заплакал, — он понимал, что все приходят к нему прощаться…» («Двадцать писем к другу»).
Сохранилась его фотография, где Сергею Яковлевичу 36 лет. Он очень красив, черты лица правильные, породистые. Густые, красиво зачесанные назад волосы, широкий, но низковатый, как и у его зятя, лоб, тонкие брови, большие глаза… Глаза выражают тревогу — и мольбу, душевную слабость, нерешительность — и доброту. Такое существо человек более волевой может увлечь на какой угодно путь, даже спровоцировать на убийство. Он пойдет по этому пути в качестве «теоретика», обслуживающего «чистым» способом идею наймита. А в награду за свои заслуги Сергей Яковлевич получил гораздо больше, чем прочие «теоретики» революционного дела, — ему позволили умереть собственной смертью.
Если бы Ольга Евгеньевна Федоренко, бабушка Светланы, не стала бы тещей Сталина, туман забвения поглотил бы ее, как и многих тружеников на революционной ниве, хоть она и весьма колоритная фигура. Жернова Истории перемалывали, правда, и не такие яркие, жизнелюбивые натуры. И эпоха, в которую она жила, поглощающая, как Крон, своих детей, — эта эпоха клацала зубами ощутимо рядом с Ольгой Федоренко. Но и ей зять, любитель острых блюд, по словам Ленина, преподнес царский подарок — как и ее мужу, позволив умереть в собственной постели.
Она родилась в Грузии, в довольно обеспеченной и многочисленной семье. Мать ее звали Магдалина Айхгольц, она была немкой, протестанткой, владелицей пивнушки. Как и положено идеальной немке, Магдалина считалась превосходной хозяйкой — это Ольга, одна из девятерых ее детей, унаследовала от матери. Отец Ольги, нося украинскую фамилию, ощущал себя настоящим грузином — его мать была грузинкой.
В семье говорили по-немецки, по-грузински и немного по-русски. Ольгу воспитывали в вере, которую она пронесла через всю свою революционную жизнь. Когда Светлана и другие внуки Ольги Евгеньевны приставали к ней с насмешливыми вопросами, есть ли Бог и где у человека душа, она раздраженно отвечала: «Вот вырастете и поймете где». Возможно, именно пример бабушки подействовал на Светлану, когда она выросла и начала искать утешение в религии.
Руки у Ольги были золотые. Она умела делать все, что положено настоящей хозяйке, но и больше того: перешивать безнадежно одряхлевшие вещи, варить суп буквально из ничего, как говорится, из топора. Это женское умение помогло ей впоследствии выдержать ее нелегкую кочевую — из-за мужа — жизнь.
…Ей не было и четырнадцати лет, когда она однажды ночью распахнула окно у себя в комнате и сбросила вниз узел с носильными вещами в руки своего двадцатилетнего возлюбленного, бедного слесаря, которому решила вручить свою судьбу.
Ольга Евгеньевна могла бы сделать блестящую партию. Она была необычайно хороша собой, небольшого роста, светловолосая, изящная, необыкновенно соблазнительная и обладала горячим южным темпераментом. Эти качества, сами по себе замечательные, в дальнейшем доставили ее мужу очень много хлопот и неприятностей.
Ольга Евгеньевна Федоренко, так же как и ее муж, выросла прирожденной бунтаркой. Возможно, на первых порах совместной жизни это очень сближало молодых. «Волю, волю я люблю, волю!» — восклицала она, уже будучи бабушкой многочисленных внуков. Время и испытания, выпавшие на долю Ольги Евгеньевны, не сломили ее.
Да, испытания были… Ольга Евгеньевна приняла посильное участие в революционной деятельности мужа. Вероятно, ей, натуре деятельной, активной, нравились конспирация, маевки, митинги, подпольные типографии — все, что как бы составляет дух революции.
Сергей Яковлевич Аллилуев в своих мемуарах оставил жалостливую картину его свидания с женой и детьми в тюрьме. «После месячного пребывания под стражей нам, наконец, дали свидание с родными. Двадцатиминутная беседа с семьей доставила мне большую радость. Мой старший сын, шестилетний Павлуша, прильнул ко мне и без конца повторял:
— Пойдем домой…
Я смеялся, обещал скоро вернуться, но сынок не отставал:
— Нет, пойдем сейчас, с нами!
В это время надзиратель, присутствовавший при свидании, объявил, что время истекло и свидание закончено. Жена взяла за руки ребят и, понурив голову, медленно тронулась. Дети заплакали.
— Идем с нами! — сквозь слезы кричал Павлуша. — Идем домой!..» («Пройденный путь»).
…То ли еще будет с так называемыми ЧСИРами — членами семей врагов народа! Уж им не видать никаких свиданий в тюрьме; их малолетних детей в большинстве случаев отправляли в детприемники.
Но, несмотря на весь энтузиазм и бунтарство, Ольга Евгеньевна, случалось, упрекала мужа. Он, дескать, загубил ее жизнь, «от него она видела одни страдания». Она была так же против брака своей дочери со Сталиным, но дочь ее не послушала. «Твоя мать была дурой!» — кричала она уже после трагической гибели Надежды Светлане.
В годы перед революцией Ольга Евгеньевна закончила курсы по акушерству по примеру Софьи Перовской, а когда началась первая мировая война, стала работать в госпитале, где ухаживала за ранеными, очень ее полюбившими, шила белье для солдат.
Светлана делает упор на «непрактичности» бабушки, которая прибегала к всесильному зятю лишь в самых мелких случаях. «Обычно у нее накапливался запас каких-то чисто бытовых жалоб и просьб, с которыми она обращалась в свое время в удобный момент еще к Владимиру Ильичу (хорошо знавшему и уважавшему всю семью), а позже к отцу. И хотя время разрухи и военного коммунизма давно прошло, бабушка в силу своей неприспособленности к «новому быту» часто оказывалась в затруднениях самых насущных. Мама стеснялась много помогать своим родным и «тащить все из дома», — тоже в силу всяких моральных преград, которые она умела перед собой воздвигать, и часто бабушка, совершенно растерянная, обращалась к отцу с такой, например, просьбой: «Ах, Иосиф, ну подумайте, я нигде не могу достать уксус!» Отец хохотал, мама ужасно сердилась, и все быстро улаживалось» («Двадцать писем к другу»).
Владимир же Успенский имеет свои взгляд на «неприспособленность» Ольги Евгеньевны.
«К таким понятиям, как скромность, достоинство, Ольга Евгеньевна на старости лет была совершенно глуха, чем изрядно досаждала Иосифу Виссарионовичу. Он был одним из немногих представителей сильной половины рода человеческого, к кому Ольга Евгеньевна обращалась без малейшего жеманства, кокетства, но зато совершенно бесцеремонно: будто настолько осчастливила Сталина, что ему вовек не рассчитаться. Это ведь она, дорогая теща, вывезла из Ленинграда многочисленных родственников и помогла каждому занять достойное место. «Иосиф! — требовательно говорила она. — Павлу нужна квартира. Ну что это такое, он ютится в одной комнате». Или: «Иосиф, в магазине нет соли, позаботься, пожалуйста». «Дачных охранников, шоферов, прислугу Ольга Евгеньевна в грош не ставила и бранила постоянно, как заправская барыня; все боялись и сторонились ее» (В. Успенский. «Тайный советник вождя»).
Когда ее дочь Надежда покончила с собой, Ольга Евгеньевна очень страдала. Но и она не посмела ни в чем упрекнуть Сталина. «Эта общая боль не обсуждалась никогда вслух, но незримо присутствовала между ними. Может быть, поэтому, — когда весь наш дом развалился, — отец все чаще уклонялся от встреч с бабушкой и дедушкой» («Двадцать писем к другу»).
После смерти Надежды супруги Аллилуевы стали жить врозь. Скорее всего, в Сергее Яковлевиче накопилась усталость от бесчисленных измен жены, от ее авантюрных романов, в которые она бросалась очертя голову, как будто не в его, а ее жилах текла горячая цыганская кровь.
Ольга Евгеньевна и в старые годы выглядела замечательно. У нее сохранилась, несмотря ни на что, царственная осанка, гордый, прямой взгляд, в движениях проступало чувство собственного достоинства. Чистая, опрятная старушка с намотанными на запястье янтарными четками… Возможно, по ним она произносила: «Богородице, Дево…» — такой она запомнилась Светлане.
Сергей Яковлевич, к своему счастью, не дожил до того дня, когда была арестована и брошена в тюрьму его старшая дочь Анна, но Ольга Евгеньевна дожила. Она писала длинные письма «Иосифу», давала прочесть их Светлане, потом забирала обратно, понимая, «что это ни к чему не приведет».
Умерла она за два года до смерти зятя, который был немногим моложе ее.
…Следует добавить, что Светлана в «Письмах» составила бабушке и дедушке достойную эпитафию, в заключение назвав их «рыцарями правды и чистоты».
Осетинский сапожник и грузинская прачка
Образ отца Сталина в представлении историков как бы двоится. Многим великим или «великим» в кавычках людям приписывают более знатное рождение и более родовитых родителей, чем те, которые воспитывали их. Не избежал этой участи и Иосиф Виссарионович Сталин, отец Светланы Аллилуевой Антон Антонов-Овсеенко в книге «Сталин без маски», ссылаясь на сообщение старого грузинского меньшевика Нестора Менабде, которому якобы Сталин в красноярской ссылке раскрыл тайну своего рождения, пишет:
«Отцом Сталина был Яков Егнаташвили, купец 2-й гильдии. Он жил в Гори и нанял прачкой юную Екатерину Геладзе из села Гамбареули. Чтобы покрыть грех, Егнаташвили выдал Кэто замуж за холодного сапожника Виссариона Джугашвили из села Диди-Лило Тифлисского уезда. Для него купил сапожную мастерскую. Это был запойный пьяница, вспыльчивый и грубый. Менабде рассказывал, что Виссарион вскоре был убит в пьяной ссоре. В старые времена никто из этого секрета не делал. Но когда возникла надобность в незапятнанной биографии Вождя, образ его отчима был обелен при помощи таких опытных выдумщиков партийных легенд, как Ярославский и Поспелов. В тексте официальной «Краткой биографии», написание которой осуществлялось под надзором самого Хозяина, сказано, что Виссарион Джугашвили был сыном крестьянина и сапожником по профессии; затем рабочим на обувной фабрике.
Первые годы мать брала Сосо с собой в дом хозяина, тот не запрещал своим сыновьям дружить с сыном прачки. Не исключено, что именно Егнаташвили устроил Сосо вначале в Горийское духовное училище, потом — в Тифлисскую духовную семинарию. Будущий генсек очень тяготился своим происхождением, положение бастарда… его унижало, выливалось в озлобление.
Достигнув вершин власти, Сталин забрал старшего сына Егнаташвили в Москву, на службу в комендатуру Кремля. Этому человеку генсек доверил свою жизнь, сделав его личным поваром-дегустатором. Надо полагать, маленькая Светлана, досадуя на отца, не случайно грозила ему: «Я на тебя пожалуюсь повару…» Александр Егнаташвили дослужился до звания генерал-лейтенанта, похоронен с большими почестями в Гори еще при жизни Вождя. Младший сын купца Егнаташвили, Васо… стал редактором центральной газеты КП Грузии «Коммуниста», потом — секретарем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Его имя можно найти среди делегатов XVIII партсъезда. Это был один из самых надежных информаторов Сталина».
Эта версия получила широкое хождение среди исследователей именно потому, что в официальном собрании воспоминаний о Сталине почти ничего не говорится об отце, только одна фраза: «Отец Иосифа Виссарионовича проводил день на работе, шил и чинил обувь».
Английский историк Ян Грей в книге «Сталин» заполнил, как сумел, это «белое пятно» в жизни вождя, хотя и он признает, что «сведений о Виссарионе очень мало».
«Отец его — Виссарион — происходил из крестьян села Диди-Лило, недалеко от Тифлиса, где его родители, так же как их предки, трудились на земле. Виссарион же выбрал профессию сапожника. В 1870 году он перебрался в Гори, где в 1874 году женился на Екатерине Георгиевне Геладзе, дочери крепостного крестьянина из соседнего села. Ей было 18 лет, на пять лет меньше, чем мужу. Это были работящие люди, бедные и неграмотные. Оба обосновались в Гори, в скромном домике на улице Соборовал недалеко от кафедрального собора. Домик имел небольшую веранду, две комнаты с кирпичным полом и подвал. Большая комната с одним окном была около пяти метров. Мебель составляли маленький столик, четыре табуретки, буфет с самоваром, зеркало, сундук и нары с соломенным матрацем.
В этом доме Екатерина родила троих детей, которые умерли в младенческом возрасте. Четвертым ребенком был Иосиф, и ему, ее Сосо или Сосело (уменьшительно-ласкательное от Иосиф), она отдала свою любовь и заботу».
Город Гори, в котором 9 (21) декабря 1879 года родился Иосиф Джугашвили, расположен на берегу реки Куры. Он окружен холмами, очень живописными, красивыми, покрытыми виноградниками, утопает в садах. Сюда, в деревню Колхиду, много веков тому назад пришел Ясон, чтобы забрать с собою золотое руно. Это одно из красивейших мест Грузии. В нем, скорее, должен был бы появиться на свет большой поэт, а не интриган от политики, «чингиз-хан», как прозвал Сталина Николай Бухарин.
Иосиф Иремашвили, друг детства Сосо, рассказывал, что Виссарион был коренаст, с черными бровями и усами, с раздражительным характером. Он же утверждал, что «незаслуженные и жестокие побои отца сделали мальчика таким же жестоким, как и его отец». Светлана вспоминает, как отец рассказывал ей, что, защищая мать, «однажды бросился на отца с ножом». Отец погнался за ним, извергая на ходу проклятия, и соседям пришлось спрятать Сосо.
По другим сведениям, у Виссариона и Кэто до Иосифа было не три, а два сына — Михаил и Георгий, скончавшиеся на первом году жизни.
Никита Сергеевич Хрущев вспоминает:
«Я не знаю, что написано в биографии Сталина о его отце, но, когда он начинал свою карьеру, мне приходилось слышать разговоры о том, что его отец вовсе не был простым сапожником, а имел мастерскую, где у него работали, по меньшей мере, десять человек. По тем временам это считалось большим предприятием. Если бы в период чисток подобный факт открылся в биографии любого человека, его подвергли бы такому допросу, от которого у него затрещали бы кости. После революции вопросу происхождения уделялось особое внимание. Если обнаруживалось, что человек вышел не из рабочей среды, то его рассматривали, как второразрядного гражданина».
О жестоком нраве Виссариона писали многие. Он бил жену, издевался над сыном, который не обнаруживал ни малейших следов сыновней почтительности. Тем не менее сам Сталин старался об этом не вспоминать.
Когда в 1931 году немецкий писатель Эмиль Людвиг спросил Сталина: «Что вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?» «Нет, — ответил Сталин. — Мои родители были необразованные люди, но обращались они со мною вовсе не плохо».
По другим сведениям, отец Иосифа Виссарионовича был не грузин, а осетин. Может, именно поэтому вождь не слишком жаловал грузин.
«Душевная открытость и доверчивость грузин раздражали отца, — пишет Светлана Аллилуева в книге «Всего один год». — «Дураки! Грузины — дураки!» — говорил он в сердцах, когда во время его поездки в Грузию в 1952 году его встречали целыми деревнями на дорогах. Он не мог заставить себя поговорить по душам с этими искренними крестьянами…»
Если об отце Сталина известно совсем немного, то гораздо больше мы знаем о матери. Отношение Сталина к ней раскрывают источники двоякого рода. Во-первых, это свидетельства очевидцев, близких Сталину людей и не очень. Во-вторых, его письма к матери.
Нам неизвестно, как протекали детские годы Светланиной бабушки Кэто, или Кэтэ, как называли ее на грузинский манер. Но мы уже вскользь упомянули, что молодость ее прошла в лишениях, нужде и скорби, которые ей «обеспечил» муж Виссарион.
Но как она прожила зрелые годы и старость? Жизнь матери напрямую связана с судьбою ее ребенка, а единственный сын Кэтэ, как мы знаем, сделал головокружительную карьеру.
Правда, это обстоятельство не наполнило Екатерину Георгиевну особой радостью и гордостью. «А жаль, что ты не стал священником!» — сказала простая грузинская крестьянка ему при их последнем свидании незадолго перед смертью. Эта ее фраза очень понравилась сыну, хотя, как пишет Светлана в книге «Всего один год», «амбиция, стремление достигнуть чего-то, стать хоть в чем-то выше других достались сыну от матери».
Нет, высота занимаемого сыном положения оставила Кэто равнодушной. Причину ее счастья или несчастья теперь могло составить другое отношение сына к ней. Послушаем еще раз Светлану:
«Все теплое, любящее, что он мог знать и помнить с детства, персонифицировалось для него в его матери, которую он по-своему любил и уважал всю жизнь. Но он был так далек от нее, духовно и физически; он не умел и не знал, как сделать эти чувства реальными для нее, и они попросту не доходили до нее, теряясь в далеких расстояниях. Когда-то она на своих плечах вывела его на дорогу, дав все возможное в тех условиях, собирая гроши на его обучение. Она стирала для других — иных навыков и знаний у нее не было. Я не думаю, что когда-нибудь позже он в какой-то степени воздал ее усилиям и заботам о нем. Моя мама пыталась уговорить ее жить с нами в Москве — старуха отказалась. Она никуда не выезжала из Грузии и не видела городов, кроме Тифлиса. В последние годы ее жизни правительство Грузии позаботилось о том, чтобы она переехала в Тифлис, и обеспечило для нее скромный минимум. Ее поселили в бывшем дворце губернатора, она заняла там маленькую темную комнату, наверное, бывшую гардеробную, и спала на простой железной койке. Там ее посещали иностранные корреспонденты. Художник И. Бродский сделал ее прекрасный портрет карандашом. Одна молодая грузинка, театровед, сказала мне: «Когда я была школьницей, я часто забегала к ней просто поболтать. Эта старая женщина умела говорить с любым собеседником. У нее было огромное достоинство и природный ум. С ней было интересно…»
Иногда она посылала в Москву сыну ореховое варенье, которое готовила сама. Однажды прислала ему сделанное своими руками одеяло из кавказской легкой шерсти. Чем он мог ответить ей? Он не знал — как, и не умел.
Все, к кому он был когда-то привязан сердечно и испытывал теплые чувства, были связаны в его сознании с матерью. Первая его жена носила ее имя — Екатерина. Тихая красивая женщина нравилась матери, и по ее настоянию брак был церковным»…
Ян Грей согласен с тем, что Екатерина Георгиевна оказала на сына большое влияние. «В молодости она, по-видимому, была красивой рыжеволосой женщиной. Как и ее муж, она говорила только на грузинском языке, но позднее научилась читать и писать, по крайней мере свою фамилию, на русском, чтобы быть достойной сына. Он был смыслом ее жизни. Так как муж пропивал все, что зарабатывал, или не мог заработать достаточно, чтобы содержать их, ей приходилось работать день и ночь.
После отъезда Виссариона в Тифлис ей стало легче, так как заботиться уже приходилось только о себе и сыне. Она стирала белье, пекла хлеб, убирала и шила. У Иосифа всегда были одежда и еда, и он рос сильным и здоровым мальчиком.
Екатерина была глубоко набожной женщиной. Она хотела дать сыну образование. Отмена крепостного права открыла талантливым крестьянским детям двери духовных училищ. Имея духовный сан, думала Екатерина, он получит приход, женится, станет на ноги и, служа Богу, будет жить хорошо и в безопасности. Это была ее цель, и она старалась достичь ее.
Гордостью Гори были четыре школы, включая начальное духовное училище, в которое Екатерине удалось устроить сына. В то время он знал только грузинский язык, но она настояла, чтобы он занимался и русским. Она добилась для него стипендии — три рубля в месяц. И сама зарабатывала десять рублей, работая прачкой и уборщицей в той же школе. На это небольшое жалованье они с сыном и жили.
Два события чуть не сорвали ее планы. В 1886 году Иосиф заболел оспой. Его организм справился с болезнью, но на лице навсегда остались отметины. И второе — желание мужа, решившего обучить мальчика своему ремеслу. «Ты хочешь, чтобы мой сын был священником? Ты никогда этого не увидишь! Я сапожник, и сын мой будет сапожником». Однажды, возможно в 1889 году, Виссарион приехал в Гори. В семье произошла ссора. Жена и соседи пытались отговорить Виссариона, но он упорно стоял на своем и забрал мальчика в Тифлис на фабрику Адельханова. Детали борьбы за будущее Иосифа неизвестны, но спустя некоторое время мальчик вернулся в Гори».
Приятели Сосо по духовному училищу, слова которых цитирует в книге «Сталин» Лев Троцкий, рассказывали, что «мать Иосифа имела скудный заработок, занималась стиркой белья и выпечкой хлеба в домах богатых жителей Гори. За комнату надо было платить полтора рубля».
Неизвестно, как Екатерина Георгиевна отнеслась к тому, что ее сын встал на путь революционера-подпольщика, скорее всего, неодобрительно. Но что она могла поделать? Характер у него был на редкость упрямый. Он рано покинул ее.
Летом 1903 года она приезжала к нему на свидание в Кутаисскую губернскую тюрьму. Как оно происходило, мы не знаем, вполне возможно, Екатерина Георгиевна упрекала сына за то, что он подверг себя таким испытаниям. Между прочим, после 1903 года встречи матери с сыном можно по пальцам пересчитать: их было четыре или пять, не больше.
Есть отдельные свидетельства, что Сталин относился и к матери с той холодностью, которую он вообще распространял на окружающих его людей, за исключением жены Надежды и дочери Светланы. А. Ю. Ларина в «Незабываемом» пишет, что он как-то позвонил Бухарину и выговорил ему за то, что в одной известинской статье сказано, что мать называет вождя «Сосо».
«— Это еще что такое за Сосо? — вопрошал разгневанный Сталин. Непонятно, что его разозлило. Упоминание ли о матери, которой он никогда не оказывал внимания (как я слышала), или он считал, что и мать тоже должна была называть сына «отцом всех народов» и «корифеем науки».
Антон Антонов-Овсеенко подтверждает эти слова:
«Однажды в 1927 году, прибыв в Тифлис и увидев среди встречающих на вокзале свою мать, Сталин воскликнул: «Ты тоже здесь, старая б…?!»
К Екатерине Георгиевне были приставлены две доверенные коммунистки. Этим женщинам поручили заботиться о матери генсека. Одна из них, по имени Цецилия, вспоминала позднее и о таком эпизоде. Втроем они ездили в загородную резиденцию Сталина. В нескольких километрах от Тифлиса, в горах, легче было переносить летний зной. Немногим выше, в местечке Манглис, в летнее время партийные активисты занимались на курсах.
Вилла Сталина в Коджори была довольно просторной. Соратники собирались в большой жилой комнате, которая соединялась с его кабинетом. В тот день там находился Филипп Махарадзе, председатель ЦИК Грузии. Увидев мать, Коба решил подшутить над ней: «Ты что, Филипп, все еще эту старую б..?» Махарадзе плюнул, опрокинул стул, вышел из кабинета. В жилой комнате, которая в это время была полна гостей, он дал волю своим чувствам: «Что же это за генсек? Он всего лишь грубый кинто». Но уличный весельчак кинто, постоянный герой грузинских анекдотов и полууголовных историй, — это сущий ангел в сравнении с Кобой…
Однажды в начале двадцатых годов, когда дома в Кремле у Сталина был философ Я. С. Стэн, генсек познакомил его с матерью: «Ян Эрнестович, правда, ей надо подобрать хорошего мужа?»
Возможно, Сталин время от времени и в самом деле позволял себе в возмутительном тоне отзываться о матери, — то же он делал и в отношении жены, к которой был привязан… До нас не дошли письма, написанные Иосифом Виссарионовичем матери.
Это коротенькие записочки, содержанием до смешного дублирующие друг друга. «Во первых строках» — приветствие, затем неизменный вопрос о здоровье, затем пожелание «живи тысячу или десять тысяч лет». Иногда в эти скупые строки вкрапливается благодарность за присланное Екатериной Георгиевной варенье или же сообщение об отправке какой-то суммы денег для ее личных нужд.
И можно было бы отмахнуться от этих записочек, как от попытки формального выполнения долга перед матерью, если бы не нежность, которая ощущается в этих строках…
Начать с того, что Сталин странно, необычно приветствует ее — «Здравствуй мама — моя!». Так везде, во всех письмах. Он как будто гордится тем, что эта женщина, которой он пишет письмо, и в самом деле его мать, самое родное существо на свете. И как будто хочет дать ей почувствовать эту гордость.
Сохранились довольно многочисленные письма его жены Надежды к Кэтэ — очень подробные, очень содержательные послания. Вероятно, Надежде Сергеевне хотелось угодить мужу, выказывая внимание к свекрови. Возможно, он интересовался, написала ли она письмо его маме.
Надежда Аллилуева, что естественно, не всегда откровенна с матерью своего мужа. Она не хочет огорчать ее описанием ссор, случаев несогласия со Сталиным, которые имеют место. Напротив, Надежда Сергеевна всячески дает почувствовать Кэтэ, что у них дома все хорошо, все очень благополучно. Особенно ее стремление оберегать покой матери Иосифа чувствуется в письме от 14 апреля 1926 года, которое мы приводим не полностью.
«Дорогая мама Кэтэ!
Не сердитесь, что я так долго ничего не писала. Оправдаться не могу ничем, кроме того лишь, что я большая лентяйка, за что меня можно поругать.
Недавно я родила вам внучку, очень хорошую девочку, которую зовут Светланой. Родилась она 28/2 в 3 часа ночи. Когда она подрастет, сниму ее и пошлю Вам карточку…
Ваша Надя».
Надежда Сергеевна в это время переживала семейную драму. Она предприняла попытку уйти от Сталина. Но об этом она, конечно, умалчивает. Напротив, чтобы не бросить тень на свою семейную жизнь, называет себя «лентяйкой» — как раз лени-то в ней не было совершенно.
Зато Сталин — несмотря на то что он пишет маме весьма кратко — куда более откровенен. Он может с нею, как с родным существом, поделиться своей болью, которую принесла ему смерть жены. Зная уже его сдержанную, сухую натуру, понимаешь, что подобная откровенность многого стоит… Значит, он и в самом деле питал доверие к матери. Это — в-третьих.
В-четвертых, как-никак он все-таки заботится о матери. Этого у него не отнять. Он время от времени посылал ей деньги, несмотря на занятость. С его помощью она переехала в столицу Грузии.
Также надо отметить, что чем выше поднимается Иосиф Виссарионович по служебной лестнице, тем нежнее становятся его письма. Последние Сталин подписывает уже не просто «твой Сосо», а «твой сын Сосо».
В подтверждение всего вышесказанного приводим эти письма:
«16 апреля 1922 года.
Мама — моя!
Здравствуй!
Будь здорова, не допускай к сердцу печаль. Ведь сказано: «Пока жив — радовать буду свою фиалку, умру — порадуются черви могильные…»
Твой Сосо».«1 января 1923 года.
Мама — моя!
Здравствуй!
Живи десять тысяч лет.
Целую.
Твой Сосо».«26 февраля 1923 года.
Мама — моя!
Твои письма получили.
Желаю здоровья, твердости. В ближайшее время увидимся. Живи тысячу лет.
Целую.
Привет от Нади.
Твой Сосо».«3 апреля 1924 года.
Здравствуй мама — моя!
Как поживаешь, как чувствуешь себя? Почему нет от тебя письма Надя шлет привет.
Целую.
Твой Сосо».«25 января 1925 года.
Здравствуй мама — моя!
Знаю, ты обижена на меня, но что поделаешь, уж очень занят и часто писать тебе не могу.
День и ночь занят по горло делами и поэтому не радую тебя письмами.
Живи тысячу лет.
Твой Сосо».«25 июня 1925 года.
Привет маме — моей!
Как живешь и здравствуешь?
Тысячу лет тебе жизни, бодрости и здоровья.
Я пока чувствую себя хорошо.
До свидания.
Привет знакомым.
Твой Сосо».«25 апреля 1929 года.
Здравствуй мама — моя!
Как живешь, как твое самочувствие? Давно от тебя нет писем, — видимо, обижена на меня, но что делать, ей-Богу, очень занят.
Присылаю тебе сто пятьдесят рублей — больше не сумел. Если нужны будут деньги, сообщи мне, сколько сумею, пришлю. Привет знакомым.
Надя шлет привет.
Живи много лет.
Твой Сосо».«16 сентября 1930 года.
Здравствуй мама — моя!
Как живешь, как твое здоровье?
Недавно я болел. Теперь чувствую себя хорошо.
Надя уехала в Москву. И я в ближайшее время уеду в Москву.
Живи тысячу лет.
Твой Сосо».«22 декабря 1931 года.
Здравствуй мама — моя!
Письма получил. Хорошо, что не забываешь нас. Я, конечно, виноват перед тобой, что последнее время не писал тебе. Но, что поделаешь, много работы свалилось мне на голову и не сумел выкроить время для письма.
Береги себя. Если в чем нуждаешься, напиши. Лекарства принимать надо. Будь здорова, бодра!
Я чувствую себя хорошо.
Живи тысячу лет.
Твой Сосо».«29 сентября 1933 года.
Здравствуй мама — моя!
Как чувствуешь себя, как живешь?
Твое письмо получил. Хорошо, что ты не забываешь нас. Теперь я чувствую себя неплохо, здоров. Если в чем будешь нуждаться — сообщи. Что поручишь — выполню.
Твой Сосо».«24 марта 1934 года.
Здравствуй мама — моя!
Письмо твое получил. Получил также варенье, чурчхели, инжир. Дети очень обрадовались и шлют тебе благодарность и привет.
Приятно, что чувствуешь себя хорошо, бодро. Я здоров, не беспокойся обо мне. Я свою долю выдержу. Не знаю, нужны ли тебе деньги, или нет.
На всякий случай посылаю тебе пятьсот рублей. Присылаю также фотокарточки — свою и детей.
Будь здорова, мама — моя!
Не теряй бодрости духа!
Целую.
Твой сын Сосо.Дети кланяются тебе. После кончины Нади, конечно, тяжелее моя личная жизнь, но ничего, мужественный человек должен остаться всегда мужественным».
«6 октября 1934 года.
Маме — моей — привет!
Как твое житье-бытье, мама — моя?
Письмо твое получил. Хорошо, что не забываешь нас. Здоровье мое хорошее. Если что нужно тебе — сообщи.
Живи тысячу лет.
Твой сын Сосо».«19 февраля 1935 года.
Маме — моей — привет!
Как жизнь, как здоровье твое, мама — моя?
Нездоровиться тебе или чувствуешь себя лучше?
Давно от тебя нет писем. Не сердишься ли на меня, мама — моя?
Я пока чувствую себя хорошо. Обо мне не беспокойся.
Живи тысячу лет.
Целую.
Твой сын Сосо».Еще остались письма от 11 июля 1935 года, 22 июля 1936 года, 9 октября 1936 года, 10 марта 1937 года, последнее датировано маем 1937 года… Эти последние послания столь же однообразны, как и все остальные.
Детей своих Сталин воспитал в духе почтения и преклонения перед бабушкой. Светлана в «Письмах» вспоминает:
«…в 1934 году Яшу, Василия и меня послали навестить бабушку в Тбилиси, — она болела тогда…
Возможно, инициатором поездки был Берия — мы останавливались у него в доме. Около недели мы провели тогда в Тбилиси, — и полчаса были у бабушки… Она жила в каком-то старом, красивом дворце с парком; она занимала темную низкую комнатку с маленькими окнами во двор. В углу стояла железная кровать, ширма, в комнате было полно старух — все в черном, как полагается в Грузии. На кровати сидела старая женщина. Нас подвели к ней, она порывисто нас всех обнимала худыми, узловатыми руками, целовала и говорила что-то по-грузински… Понимал один Яша, и отвечал ей, — а мы стояли молча.
Я заметила, что глаза у нее — светлые, на бледном лице, покрытом веснушками. Голова была повязана платком, но я знала, — это говорил отец, — что бабушка была в молодости рыжей, что считается в Грузии красивым. Все старухи — бабушкины приятельницы, сидевшие в комнате, целовали нас по очереди и все говорили, что я очень похожа на бабушку. Она угощала нас леденцами на тарелочке, протягивая ее рукой, и по ее лицу текли слезы. Но общаться нам было невозможно, — мы говорили на разных языках. С нами пришла жена Берия — Нина. Она сидела возле бабушки и о чем-то беседовала с ней, и обе они, должно быть, глубоко презирали одна другую…
В комнате было полно народу, лезшего полюбопытствовать; пахло какими-то травками, которые связочками лежали на подоконниках. Мы скоро ушли и больше не приходили во «дворец», — и я все удивлялась, почему бабушка так плохо живет? Такую страшную железную кровать я видела вообще впервые в жизни.
У бабушки были свои принципы, — принципы религиозного человека, прожившего строгую, тяжелую, честную и достойную жизнь. Ее твердость, упрямство, ее строгость к себе, ее пуританская мораль, ее суровый мужественный характер, — все это перешло к отцу».
В 1935 году Сталин в последний раз видел свою мать — это произошло в середине октября. Журналист Борис Дорофеев писал в газете «Правда»:
«Мы пришли в гости к матери Иосифа Виссарионовича Сталина. Три дня назад — 17 октября — здесь был Сталин. Сын. 75-летняя мать Кете приветлива, бодра. Она рассказывает нам о незабываемых минутах.
— Радость? — говорит она. — Какую радость испытала я, вы спрашиваете? Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу страну. Что же должна испытать я — мать?
Мы садимся в просторной светлой комнате, посередине которой — круглый стол, покрытый белой скатертью. Букет цветов. Диван, кровать, стулья, над кроватью — портрет сына. Вот он с Лениным, вот молодой, в кабинете…
— Пришел неожиданно, не предупредив. Открылась дверь — вот эта — и вошел, я вижу — он. Он долго целовал меня, и я тоже. — Как нравится тебе наш новый Тифлис? — спросила я. — Он сказал, что хорошо вспомнил о прошлом, как жили тогда. Я работала поденно и воспитывала сына. Трудно было. В маленьком темном домике через крышу протекал дождь и было сыро. Питались плохо. Но никогда, никогда я не помню, чтобы сын плохо относился ко мне. Всегда забота и любовь. Примерный сын!..»
Скончалась Екатерина Георгиевна в Тбилиси 4 июля 1937 года. В некрологе сказано, что до девяти лет она жила в деревне, рано потеряла отца, испытывала нужду. В 1864 году, после отмены крепостного права, переехала вместе с матерью в Гори. Через десять лет вышла замуж за Виссариона Джугашвили, рабочего обувной фабрики Адельханова. Иосиф был ее третьим ребенком…
Похоронили мать вождя в Тбилиси на Давидовой горе рядом с Грибоедовым возле церкви святого Давида.
Сталина на похоронах не было. Сохранилась его записка на русском и грузинском языках для надписи на ленте к венку: «Дорогой и любимой матери от сына Иосифа Джугашвили (от Сталина)».
«Кавказский Ленин»
Его называли «Сосо», «Давид», «Коба», «Нижерадзе», «Чижиков», «Иванович», «Сталин». «Сосо», как упоминалось, уменьшительно-ласкательное от Иосифа; остальные псевдонимы, «клички», как говорил Молотов, он придумал себе сам. Жандармы в основном именовали его «Рябым».
В 1927 году, в статьях газеты «Правда», посвященных пятнадцатилетней годовщине Октября, его имя еще не упоминается. Это кажется невероятным сейчас, ибо уже в 1929 году страна торжественно отмечает пятидесятилетие Сталина. На стенах Кремля установлены его огромные портреты, на площадях городов — скульптуры, в общественных зданиях — бюсты. Повсюду его славят, называют величайшим гением времен и народов, считают, что «Сталин — это Ленин сегодня». Теперь он на вершине власти. Какие же качества позволили ему сделать головокружительный рывок?..
Иосиф Виссарионович Джугашвили, «гениальный вождь» и отец Светланы, родился 21 декабря 1878 года (по уточненным данным). На эту дату приходится зимнее равноденствие, самая долгая ночь в году…
В 1888 году он поступил в духовное училище Гори — по настоянию матери. В то время Иосиф «был худым и жилистым, с орлиным носом, узким лицом, темными глазами, живыми и беспокойными. Он был маленького роста, но сильный и лучше всех умел драться. Но Иосиф не был похож на других, и его не любили за его манеры… он был агрессивен, ему приходилось таким образом утверждать себя. Он был хорошим другом до тех пор, пока ты подчинялся его властолюбивой воле». Так написал о Сосо его приятель Иосиф Иремашвили.
Но не только сила привлекала к нему его ровесников. Он был, безусловно, умен, обладал очень хорошей памятью. Училище закончил с отличием, был рекомендован для поступления в Тифлисскую православную духовную семинарию. К тому времени Иосиф стал весьма начитанным юношей и, наверное, сам понимал, что в семинарию поступил напрасно. После изучения книг Маркса и Дарвина он сделался атеистом.
В семинарии преобладали настроения оппозиционные по отношению к русским властям. Из нее вышли многие видные революционеры. Руководство старалось сделать все, чтобы погасить бунтарский дух в студентах, — за ними шпионили, у них в спальнях устраивались обыски, за малейшие проступки их сажали в темную камеру-келью, находившуюся в подвале. Здесь Иосиф прошел хорошую школу конспиратора.
Несмотря на большие нагрузки в учебе, он по-прежнему много читает. В основном в те годы его интересует русская и западная классика — Гоголь, Салтыков-Щедрин, Толстой, Чехов, Бальзак, Теккерей, Гюго. Как и многие молодые люди, пишет стихотворения, некоторые из которых были опубликованы в 1893–1894 годах. Их не отличает поэтическое своеобразие, но в стихах все же есть юношеская прелесть. Возможно, он мог бы многого добиться на поэтическом поприще, особенно в советское время, когда расплодилось много «уродцев пера». Но карьера поэта Иосифа не интересовала — увы. Вот два его стихотворения:
Когда луна своим сияньем Вдруг озаряет мир земной И свет ее над дальней гранью Играет бледной синевой, Когда над рощею в лазури Рокочут трелья соловья И нежный голос саламури[1] Звучит свободно, не таясь, Когда, утихнув на мгновенье, Вновь зазвенят в горах ключи И ветра нежным дуновеньем Разбужен темный лес в ночи, Когда беглец, врагом гонимый, Вновь попадет в свой скорбный край, Когда кромешной тьмой томимый Увидит солнце невзначай, — Тогда гнетущей душу тучи Развеян сумрачный покров, Надежда голосом могучим Мне сердце пробуждает вновь, Стремится ввысь душа поэта; И знаю, что надежда эта Благословенна и чиста!И еще одно — в переводе В. М. Молотова:
Он бродил от дома к дому, словно демон отрешенный, и в задумчивом напеве правду вещую берег. Многим разум осенила эта песня золотая, и оттаивали люди, благодарствуя певца. Но очнувшись, пошатнулись, переполнились испугом, чашу, ядом налитую, приподняли над землей и сказали: — Пей, проклятый, неразбавленную участь, не хотим небесной правды, легче нам земная ложь.Из этих строк, полных пафоса, видно, что сам автор жаждет «небесной правды»… В то время он был еще горячим патриотом Грузии.
Первые два года Иосиф считался в семинарии образцовым учеником, но затем вошел в конфликт с монахами, узнавшими о том, что он читает запрещенную литературу. Он становится членом маленькой организации «Месамедаси», первой марксистской организации Грузии, разрешенной полицией. Иосиф сделался руководителем кружка по изучению марксизма среди рабочих.
В мае 1899 года его исключают из семинарии за несдачу экзаменов по неуважительным причинам. Правда, сам он утверждал, что исключили его за распространение марксизма, а его мать говорила, что сама забрала сына из семинарии из-за слабого здоровья.
После ухода из семинарии он некоторое время работал в Тифлисской геофизической обсерватории, принимал участие в стачках забастовках и маевках, после одной из которых Кобе — так он теперь называл себя — пришлось перейти на нелегальное положение и скрыться в Гори.
Когда Леонид Красин, поддерживающий связь с Лениным, начал издавать первую нелегальную газету на грузинском языке, Коба стал печатать в ней свои статьи. Он вошел в состав Тифлисского комитета РСДРП.
После нескольких подготовленных с его помощью демонстраций и стачек полиция наконец арестовывает Кобу, и год он проводит в тюрьме, занимаясь там чтением и учебой.
Сохранилась запись из дела, заведенного на Иосифа Джугашвили: «Рост два аршина полтора вершка (приблизительно 163 см); телосложение среднее; возраст 23 года. Второй и третий пальцы левой ноги сросшиеся. Волоса, борода и усы темные. Нос прямой и длинный. Лоб прямой и низкий. Лицо удлиненное, смуглое, с оспинами».
Кобу ссылают в Восточную Сибирь, в Иркутскую губернию, в село Новая Уда.
Жил он там довольно неплохо: охотился, рыбачил, встречался с друзьями, вел переписку. Тем не менее в январе 1904 года он бежит из ссылки и возвращается в Грузию.
Приблизительно в это время он женился на Екатерине Сванидзе, очень красивой девушке из села Диди-Лило. Она была дочерью Семена Сванидзе, социал-демократа, железнодорожника. Скорее всего, Коба познакомился с нею через ее отца или брата, Алешу Сванидзе.
Типичная грузинская женщина, покорная, ласковая, она не интересовалась революционными идеями брата и отца, а потом и мужа. Кажется, это даже нравилось Сталину, который, по словам Светланы, терпеть не мог «идейных селедок». К тому же она пришлась по душе матери Кобы, настоявшей на том, чтобы брак был церковным. Одноклассник Иосифа по семинарии Христофор Тхинволели тайно обвенчал молодую пару в церкви святого Давида. У них родился сын Яков. Говорили, Коба был очень привязан к своей юной супруге и относился к ней очень хорошо. Но есть свидетельство некоего Петра Можнова, которое приводит в своей книге А. Антонов-Овсеенко, что это было не так.
В тридцатые годы, работая в Баку, Можнов узнал, что здесь живет один старик, у которого Коба с женой снимали квартиру в 1908 году. Он разыскал старика, и вот что тот поведал Можнову:
«Да, жил у нас в восьмом году этот самый Коба с женой Кэто… Слушай, какой он революционер! Мерзавец он, подонок! Кэто тогда беременна была, а он ее матерно ругал, ногами в живот бил. Мы с женой ее выхаживали, она потом чахоткой заболела. Когда Коба домой пьяный приходил, всегда последними словами ругался».
По одним сведениям, Екатерина Семеновна умерла от воспаления легких, по другим — от тифа. Иосиф Иремашвили посетил Кобу после смерти жены. «Он был очень опечален и встретил меня как некогда, по-дружески. Бледное лицо отражало душевное страдание, которое причинила смерть верной жизненной подруги этому столь черствому человеку. Его душевное потрясение… должно было быть очень сильным и длительным, так как он не способен был более скрывать его перед людьми.
Екатерину похоронили по всем правилам православного обычая. На фотографии, запечатлевшей похороны, мы видим умершую, красивую, как ангел, лежащую в гробу, который окружили родственники. У изголовья стоит Иосиф Виссарионович со скорбным, убитым лицом.
Летом 1904 года Коба, познакомившись с ленинскими работами, которые произвели на него огромное впечатление, создал в Баку большевистский комитет. Он пишет ряд статей, которые опубликованы без подписи в газете «Пролетариатис брдзола», органе Кавказского союза РСДРП. Эти статьи дошли до Ленина, который повсюду вербовал себе сторонников, и вскоре между ними началась переписка. В 1905 году в Финляндии на первой большевистской конференции состоялась и личная встреча.
В марте 1908 года Кобу арестовывают как руководителя забастовок в Баку, полгода держат в тюрьме, а затем высылают в Сольвычегорск Вологодской губернии. Летом он совершает побег в Петербург, несколько дней живет в доме Сергея Аллилуева, с которым их связывали годы совместной подпольной деятельности, с фальшивыми документами возвращается в Баку, где его вновь арестовывают и отправляют обратно в ссылку. С 1912 года он становится известен как Сталин.
В этом же году на Пражской конференции была учреждена самостоятельная партия большевиков. От Орджоникизде, с которым Сталин вместе работал на Кавказе, он узнал, что его выбрали членом Центрального Комитета. В феврале 1912 года он снова совершил побег и прибыл в Петербург, чтобы по указанию Ленина организовать новую газету, название которой позаимствовали у Троцкого, издававшего свою газету за рубежом, — «Правду». В день, когда вышел первый номер газеты, Сталина опять арестовали, отправили в ссылку в Нарымский край, откуда он, как водится, бежал.
Зимой по приглашению Ленина он оказался в Кракове. О чем они тогда беседовали — неизвестно. Нет сведений и о том, понравились ли они друг другу. В чем-то Ленин и Сталин были похожи. Ян Грей пишет: «Оба невысокого роста, коренастые, со слегка азиатскими чертами лица: оба обладали огромной силой воли…» Надо заметить, Сталина тогда в революционных кругах считали куда более нормальным человеком, чем Ленина.
Дмитрий Волкогонов в книге «Триумф и трагедия» противопоставляет Сталина Ленину — в пользу последнего. Но вот как пишет о Владимире Ильиче Г. А. Соломов, один из активных деятелей социал-демократического движения в России: «Прежде всего, отталкивала его грубость, смешанная с непроходимым самодовольством, презрением к собеседнику и каким-то нарочитым (не нахожу другого слова) «наплевизмом» на собеседника, особенно инакомыслящего и не соглашавшегося с ним и притом на противника слабого, не находчивого, не бойкого… Он не стеснялся в споре быть не только дерзким и грубым, но и позволить себе резкие личные выпады по адресу противника, доходя часто даже до форменной ругани. Поэтому, сколько я помню, у Ленина не было близких, закадычных, интимных друзей. У него были товарищи, были поклонники — их была масса, боготворившие его чуть не по-институтски и все ему прощавшие…»
Читая эту характеристику, невольно вспоминаешь: «Сталин — это Ленин сегодня!»
В январе 1913 года Сталин написал в Вене свою знаменитую работу «Марксизм и национальный вопрос», которая очень понравилась Ленину. Но не успел он вернуться в Петербург, как его снова арестовали и после пятимесячного пребывания в тюрьме отправили в ссылку в Туруханский край, потом в поселок Курейка почти у самого Полярного круга. Там он узнал о начавшейся первой мировой войне.
В начале 1917 года его переводят в Ачинск, где тогда находился Лев Каменев, с которым они когда-то вместе отбывали ссылку в Сибири. К Каменеву Сталин в те времена относился с заметным пиететом, поддерживал его. Вместе они вернулись из ссылки в Петроград — Сталин с вокзала отправился к Аллилуевым. До приезда Ленина из Швейцарии он руководил газетой «Правда» и всей деятельностью партии.
Но когда Ленин в «Апрельских тезисах» выступил с требованием немедленно начать социалистическую революцию, Сталин как бы ушел в тень. После того как в июле министерство юстиции опубликовало документы, из которых стало ясно, что Ленин и другие лидеры большевиков являются немецкими агентами, Сталин помог Ленину укрыться в Сестрорецке от Временного правительства. Находясь в подполье, Ленин продолжал настаивать на вооруженном восстании.
В 1938 году Сталин преподнес своей дочери Светлане в качестве подарка только что изданную «Историю Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)». Вероятно, тот же подарок он сделал людям из своего ближайшего окружения и, безусловно, от них услышал самую блестящую аттестацию этому коллективному труду своих борзописцев. Но что могла понимать девочка-подросток в скучной книге? Вряд ли отца всерьез интересовало ее мнение. Но все же ему хотелось, чтобы дочь прочитала хотя бы страницы, посвященные подготовке октябрьского переворота, ведь именно в эти месяцы он близко сошелся с ее матерью Надеждой, дочерью своего боевого соратника Сергея Аллилуева. Однако Светлана книгу не осилила, чем заслужила недовольство отца.
Вот что в «Истории…» написано об октябрьских днях 1917 года:
«16 октября состоялось расширенное заседание ЦК партии. На нем был избран Партийный центр но руководству восстанием во главе с тов. Сталиным. Этот Партийный центр являлся руководящим ядром Военно-революционного комитета при Петроградском Совете и руководил практически всем восстанием.
На заседании ЦК капитулянты Зиновьев и Каменев вновь выступили против восстания, против партии. Получив отпор, они пошли на открытое выступление в печати против восстания. 18 октября в меньшевистской газете «Новая жизнь» было напечатано заявление Каменева и Зиновьева о подготовке большевиками восстания и о том, что они считают восстание авантюрой. Таким образом, Каменев и Зиновьев раскрыли перед врагами решение ЦК о восстании, об организации восстания в ближайшее время. Это была измена».
Однако вот как об этом времени рассказывается в петроградских газетах:
«16 октября. В Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРП(б) с представителями других партийных организаций. Присутствовали Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Сокольников, Ломов. Бокий из Петроградского комитета сообщает о готовности и настроениях в районах: «Боевого настроения пока нет, но боевая подготовка ведется. В случае выступления массы поддержат». Принята следующая резолюция, предложенная Лениным: собрание призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке вооруженного восстания… За резолюцию подано 19 голосов, против 2».
Эти двое, проголосовавшие против резолюции, выступили с письмом «К текущему моменту», которое, как ни странно, перекликается со статьей Сталина, напечатанной в самый канун переворота, «Что нам нужно?». Там Сталин говорит о необходимости созыва Учредительного собрания; о том же самом мечтали Зиновьев и Каменев…
Лев Троцкий считает, что «об участии Сталина в Октябрьском восстании биографу, при всем желании, нечего сказать. Имя его нигде и никем не называется: ни документами, ни многочисленными авторами воспоминаний. Чтобы заполнить как-нибудь этот зияющий пробел, официальная историография связывает роль Сталина в событиях переворота с таинственным партийным «центром» по подготовке восстания. Никто, однако, ничего не сообщает нам о деятельности этого «центра» и о времени его заседаний, о тех способах, какими он осуществлял свое руководство. И немудрено: этот «центр» никогда не существовал. История легенды заслуживает внимания.
На совещании ЦК с рядом выдающихся петроградских деятелей партии 16 октября было постановлено… организовать «Военно-Революционный центр» из пяти членов ЦК. «Этот центр, — гласит спешно написанная Лениным в углу зала резолюция, — входит в состав революционного советского комитета». Таким образом, по прямому смыслу решения «центр» предназначался не для самостоятельного руководства восстанием, а для пополнения советского штаба. Но, как и многим другим импровизациям тех лихорадочных дней, этому замыслу вообще не суждено было осуществиться.
В те самые часы, когда ЦК в отсутствии Троцкого создавал на клочке бумаги новый «центр», Петроградский Совет под председательством Троцкого окончательно оформил военно-революционный комитет, который с момента своего возникновения сосредоточил в своих руках всю работу по подготовке восстания. Свердлов, имя которого в списке членов «центра» стоит первым (а не имя Сталина, как ложно значится в новых советских изданиях), работал и до и после постановления 16 октября — в тесной связи с председателем военно-революционного комитета… Что касается Сталина, то он, согласно всей своей линии поведения, в тот период упрямо уклонялся от вхождения как в исполнительный комитет Петроградского Совета, так и в военно-революционный комитет и ни разу не появлялся на ж заседаниях…» (Л. Троцкий. «Сталин»).
Как известно, октябрьский переворот увенчался успехом.
Сталин вошел в первое советское правительство, стал народным комиссаром по делам национальностей. Он был включен почти во все революционные органы как человек второго-третьего эшелона руководства.
Уже сделавшись властелином державы, он болезненно реагировал на любые просачивающиеся в печать намеки на его более чем скромную роль в Октябре…
Но именно в этот октябрьский и послеоктябрьский период начали складываться отношения Иосифа Виссарионовича с женщиной, которая сыграет огромную роль в его жизни и станет матерью двоих его детей — Василия и Светланы.
История жизни Надежды Аллилуевой, матери Светланы, вчерашней гимназистки из Питера, интеллигентной девушки из революционно настроенного семейства, связавшей свою жизнь с героем-подпольщиком, которому суждено было стать безраздельным властелином одной шестой части мира, в чем-то глубоко типична для того времени.
Если рассматривать ее вне политического контекста, что, собственно, и делают некоторые исследователи и писатели, как историю любви молоденькой, романтической девочки к человеку, годившемуся ей в отцы, уже имевшему и семью, и большой жизненный опыт, к человеку, не слишком образованному и грубому, то и тогда эта история поражает своим драматизмом.
Но она вырастает до масштабов подлинной трагедии, если все-таки попытаться не отделять ее от истории всего народа и не выносить за скобки «большой политики».
Надежда все-таки была не обычной мечтательницей, которые, как правило, после замужества обретают житейскую мудрость, тихо жиреют в тени своих знаменитых мужей, постепенно превращаясь в махровых обывательниц и накопительниц добра. Если б в ней имелись зерна спасительного мещанства, ее муж как раз и являлся тем существом, тем человеком, который охотно дал бы им прорасти и принести значительные плоды на семейной ниве. Ему нужна была тихая, покорная жена, идеал восточного мужчины, живущая исключительно интересами мужа и детей.
Но, увы, мечтательность Надежды была замешана не на трогательных повестях Лидии Чарской и не на романах Вальтера Скотта, а на тех легендах, которые создавали сами про себя большевики и которые она, существо юное и неиспорченное, принимала за чистую монету. Главной из них, соблазнившей самые возвышенные умы, была легенда о том, что все они, революционеры, работают не для себя, а бескорыстно служат будущему, «коммунистическому далеку».
Подобная легенда, как правило, возникает в умах на разломе двух времен, когда одним людям и классам предстоит сойти с исторической арены, а другим занять освободившееся место.
В эту красивую сказку, как в широкую реку с бурным течением, вливаются мелкие легенды и семейные предания, одно из которых, скорее всего, сыграло роковую роль в жизни юной Надежды.
Как-то еще в 1903 году двухлетняя Наденька, играя на набережной в Баку, вдруг упала в море. Нерадивая мать, отпустившая девочку от себя, страшно растерялась. Но ее собеседник — им был Иосиф Джугашвили, — ни минуты не размышляя, бросился в воду. И не успели волны сомкнуться над головой ребенка, как он подхватил Наденьку и вынес ее на берег…
Такая история всегда оставляет неизгладимый след во впечатлительных душах. И Надя всегда помнила о том, что обязана жизнью «горному орлу», «чудесному грузину».
Снова им встретиться довелось лишь в марте 1917 года, в Петрограде, куда тридцативосьмилетний Коба вернулся из сибирской ссылки. Он приехал прямо к Аллилуевым, не задумываясь, поскольку все эти годы регулярно переписывался с отцом Надежды, Сергеем Яковлевичем.
Аллилуевы жили тогда в четырехкомнатной квартире, имели дачу, куда летом Надю, ее сестру и братьев отправляли отдыхать. Надежда училась в гимназии, музицировала, много читала и переписывалась с друзьями своих родителей А. И. и И. И. Радченко. Эти письма сохранились. В них нет никакого намека на глубокую внутреннюю жизнь души и сформировавшийся ум, умеющий выделять из потока впечатлений важные события. И немудрено — в ту пору Наде было только шестнадцать лет.
«…Завтра из-за холода не пойду в гимназию. Только что вернулась с урока музыки, очень озябла. 3 января выдержала экзамен на «5»! Я очень довольна, что мои труды не пропали зря; мне немного трудно, но бросать я все же не хочу» (январь 1917 года).
«А теперь занятия на четыре дня прекращены ввиду неспокойного состояния Петрограда, и у меня теперь есть время. Настоящее положение Петрограда очень и очень нервное, и мне очень интересно, что делается в Москве… Занятий у нас после Рождества очень мало, то было холодно, то я болела, а теперь на улицу не выйдешь. Написала бы подробнее, в чем дело, но, думаю, в письме не стоит распространяться. Все эти дни буду читать Чехова, а то очень скучно» (27 февраля 1917 года).
Пока Надя читала Чехова, произошла февральская революция. Царь отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству.
Летом Надежду, как всегда, отправили на дачу, а ее комнату занял скрывавшийся от Временного правительства Ленин.
Из развернувшейся травли в печати против Владимира Ильича стало ясно, что над ним готовится расправа. Здесь же, у Аллилуевых, состоялось совещание между Лениным, Ногиным, Орджоникидзе, Сталиным и другими соратниками Ильича, рассматривался вопрос, надо ли ему реагировать на требования властей отдать себя в руки правосудия. Мнения разделились. И тогда Сталин, до сих пор не обнаруживший своей позиции, вдруг произнес:
— Товарищу Ленину надо скрыться. Юнкера не доведут его до тюрьмы. Убьют по дороге.
Он так веско произнес это, что с ним решили согласиться.
На Сталина и была возложена эта задача — проводить Ильича, переодетого и загримированного, на вокзал и посадить в поезд, идущий в Сестрорецк.
К осени братья и сестры Аллилуевы возвратились домой, чтобы продолжить учебу. Надежда продолжает аккуратно писать супругам Радченко письма.
«У нас теперь такая спешка с занятиями, да у меня еще часа два в день отнимает музыка. Вот я Вам пишу — уже 12-ый час, а я еще не выучила французский. И так каждый день, раньше часа не ложусь. Уже все лягут, а я все сижу, долблю…
Уезжать из Питера мы никуда не собираемся. С провизией пока что хорошо. Яиц, молока, хлеба можно достать, хотя дорого… Вообще, жить можно, хотя настроение у нас (и вообще у всех) ужасное, временами прямо плачешь; ужасно скучно и никуда не пойдешь. Но на днях с учительницей музыки была в Музыкальной драме и видела «Сорочинскую ярмарку», остались очень довольны. В Питере идут слухи, что 20 октября будет выступление большевиков, но это все, кажется, ерунда…»
Надю, конечно, нельзя обвинить в недальновидности, когда она называет будущую Великую Октябрьскую социалистическую революцию «выступлением большевиков». В те времена даже наиболее проницательные умы не понимали, что вот-вот свершится государственный переворот, который ввергнет Россию в пучину страшных несчастий.
Надежда продолжает добросовестно описывать события:
«…я теперь в гимназии все воюю. У нас как-то собирали на чиновников деньги, и все дают по два, по три рубля. Когда подошли ко мне, я говорю: «Я не жертвую». Меня спросили: «Вы, наверное, позабыли деньги?» А я сказала, что вообще не желаю жертвовать. Ну и была буря! А теперь все меня называют большевичкой, но не злобно, любя. Мне очень интересно, к какой партии принадлежит Алеша, он-то, наверное, большевик» (декабрь 1917 года).
«Занятия в гимназии идут страшно вяло. Всю эту неделю посещаем Всероссийский съезд Советов Раб. и Солд. и Крест, депутатов. Довольно интересно, в особенности когда говорят Троцкий или Ленин, остальные говорят очень вяло и бессодержательно. Завтра, 17 января, будет последний день съезда, и мы все обязательно пойдем» (16 февраля 1918 года).
«В Питере страшная голодовка, в день дают восьмушку фунта хлеба, а один день совсем не давали. Я даже обругала большевиков. Но с 18-го февраля обещали прибавить. Посмотрим!.. Я фунтов на двадцать убавилась, вот приходится перешивать все юбки и белье — все валится. Меня даже заподозрили, не влюбилась ли я, что так похудела».
В 1918 году Надежда вступает в партию и начинает работать секретарем-машинисткой в управлении делами Совнаркома в Москве. Началась Гражданская война, в которой Сталину суждено сыграть заметную роль. Его посылают в Царицын как чрезвычайного уполномоченного по продовольственному снабжению Восточного фронта. Надежда Аллилуева входит в состав секретариата Сталина и вместе со своим отцом сопровождает его в Царицын.
Поезд двигался медленно, подолгу застревая на полустанках. Неторопливое путешествие способствовало сближению Надежды со Сталиным. Прогуливаясь на промежуточных станциях или попивая чай в купе, они подолгу беседовали. Сталин довольно скупо рассказывал о себе. В его немногословии она видела не сухость и сердечную черствость, открывшиеся ей позже, а сдержанность много повидавшего на своем веку человека, много испытавшего и передумавшего. То, чего не успел поведать Наде Иосиф Виссарионович, дорисовывало девическое воображение.
Кто может расплести прихотливые нити впечатлений, из которых впоследствии складывается узор любви? Но известно, что самые крепкие из этих нитей те, на которые нанизывается сострадание. Надя, девушка из благополучной семьи, не могла не сочувствовать Сталину, рассказывающему ей о своем тяжелом детстве, о жестоком отце, избивавшем мать и его, ребенка…
Она узнала историю его первой женитьбы, романтическую историю молодой любви, завершившуюся ранней смертью прекрасной супруги. Она узнала, как однажды юного бунтаря Иосифа жандармы схватили за подпольную работу и прогнали сквозь строй солдат. О том, как он был в ссылке, и о его побегах…
— А почему вас называют Кобой? — однажды полюбопытствовала Надежда.
— Я позаимствовал это имя из рассказа Александра Казбеги «Отцеубийца», — объяснил Сталин. — Один из героев, бесстрашный Коба, сражался в отрядах Шамиля и совершил множество подвигов… Это был очень мужественный человек.
И это объяснение запало в душу Нади. Оно свидетельствовало о том, что ее избранник — человек впечатлительный… В конце концов, она полюбила его. Они стали близки.
Об отношениях Сталина и Надежды Аллилуевой ее сестра Анна рассказывает совсем иначе.
«В одну из ночей отец услышал душераздирающие крики из купе, где находилась Надя. После настойчивых требований дверь отворилась, и он увидел картину, которая ни в каких комментариях не нуждалась: сестра бросилась на шею отцу и, рыдая, сказала, что ее изнасиловал Сталин. Будучи в состоянии сильного душевного волнения, отец вытащил пистолет, чтобы застрелить насильника, однако Сталин, поняв нависшую над ним серьезную опасность, опустившись на колени, стал упрашивать не поднимать шума и скандала и заявил, что он осознает свой позорный поступок и готов жениться на дочери.
Сестра долго сопротивлялась браку с нелюбимым человеком, к тому же старше ее на двадцать с лишним лет, но вынуждена была уступить, и 24 марта 1919 года был зарегистрирован брак между Сталиным, которому шел сороковой год, и 18-летней Надеждой Аллилуевой.
Тем не менее Сергей Яковлевич, презиравший Сталина, описал это глубоко возмутившее его событие, оставившее неизгладимый след в его душе, а рукопись, отлично зная характер и повадки своего зятя, закопал на даче под Москвой. Эту тайну он доверил лишь мне, своей старшей дочери».
Этот рассказ не вызывает большого доверия по двум причинам.
Во-первых, трудно представить, чтобы такая цельная и волевая девушка, как Надя, простила бы своего обидчика, за совершенное над нею насилие.
Во-вторых, Анна Сергеевна имела причину люто ненавидеть своего деверя, ибо она, как и многие родственники, была, в конце концов, арестована и провела несколько лет в одиночной камере.
Те, кто знал Надежду в то время, утверждают, что она не была красавицей, но в ней, в ее облике заключалось какое-то трогательное очарование. У нее были красивые карие глаза, ослепительная улыбка, матовая кожа, мягкие, шелковистые волосы, разделенные пробором.
В 1921 году у Сталиных родился сын Василий, а спустя несколько месяцев к ним в Москву переехал сын Иосифа Виссарионовича от первой жены Яков. Сталин принял его довольно прохладно, зато Надежда постаралась сделать все, чтобы он прижился у них, в новой квартире в Кремле, которую молодым предоставили по просьбе Ленина. Кроме того, Сталину была выделена дача в Зубалове.
Надежда работала в секретариате Ленина до 1923 года. Ильичу импонировала ее исполнительность в работе и педантизм, с которыми она до глубокой ночи просиживала над машинкой, занимаясь шифровкой и дешифровкой телеграмм. Обычно, давая какое-то особо важное поручение, он говорил: «Пусть это сделает Аллилуева, она все сделает хорошо».
Но и муж загружал Надю своими делами. Диктовал статьи, требовал, чтобы она как следует принимала его гостей… Л. А. Фотиева, секретарь Ленина, рассказывала, что однажды Надя пришла к ней и сказала, что решила уйти с работы. Сталин так «ей велел. Не оставалось у нее времени для него. Я пошла к Владимиру Ильичу и рассказала ему. Владимир Ильич сказал:
— Если завтра не выйдет на работу, сообщите мне, а я с ним поговорю.
Однако она вышла. Я сказала об этом Владимиру Ильичу. Он произнес:
— Азиат».
Первые размолвки у супругов начались сразу после рождения Василия, но о них знали лишь самые близкие люди. Им было известно, что Сталин целый месяц не разговаривал с супругой. И она, как ни билась, долго не могла узнать, в чем провинилась перед ним. Позже выяснилось, что причина ее «вины» состоит в том, что Надя обращалась к мужу на «вы», а он хотел, чтобы она говорила ему «ты». Они помирились, но для Надежды эта первая большая ссора оказалась большим испытанием, из которого она вышла, утратив свои прежние идеалистические представления о муже.
Но пока внешне все выглядело довольно безоблачно. Супруги вместе бывали в театре, принимали гостей, родственников. Надя исправно писала письма свекрови, из которых можно было сделать вывод, что они с мужем вполне счастливы. Она и старалась по мере сил выглядеть счастливой, не замечать вспышек гнева, которым довольно часто предавался Сталин. Няня Василия — Шура Бычкова вспоминала, как она была поражена, когда однажды Иосиф Виссарионович, ни слова не говоря, выбросил за окно блюдо с жареными курами — куры, оказывается, ему надоели. В Москве в это время был голод, и Шура едва не заплакала, но, взглянув на побледневшее лицо Надежды Сергеевны, удержалась от слез… Много было и других безобразных сцен, которые приводили Надю в ужас. Было бы легче для нее, если бы она охладела к мужу, но ее дочь Светлана утверждает, что этого так и не произошло.
«Ты все-таки немножко любишь меня!» — сказала она отцу, которого она сама продолжала любить, несмотря ни на что… Она любила его со всей силой цельной натуры однолюба, как ни восставал ее разум, — сердце было покорено однажды, раз и навсегда. К тому же мама была хорошей семьянинкой, для нее слишком много значили муж, дом, дети и ее собственный долг перед ними…»
«ЕЕ называли «строгой», «серьезной» не по годам, — она выглядела старше своих лет только потому, что была необычайно сдержанна, деловита и не любила позволять себе «распускаться»…
«…жаловаться и плакать — она же этого не терпела» («Двадцать писем к другу»).
Да, жаловаться она не любила, хотя, случалось, у нее прорывались горькие слова. В письме к Марии Анисимовне Сванидзе, жене Алеши Сванидзе, Надежда пишет:
«Вы пишете, что скучно. Знаете, дорогая, везде также. Я в Москве решительно ни с кем не имею дела. Иногда даже странно; за столько лет не иметь приятелей близких, но это, очевидно, зависит от характера. Причем странно, ближе себя чувствую с людьми беспартийными (женщинами, конечно). Это объясняется, очевидно, тем, что эта публика проще.
Я очень жалею, что связала себя опять новыми семейными узами (Надежда в это время была беременна. — В. С.). В наше время это не очень легко, т. к. вообще страшно много новых предрассудков, и если ты не работаешь, то уже, конечно, «баба»…
О том, как Надежда Сергеевна была одинока, вспоминает и секретарь Сталина Борис Бажанов.
«Когда я познакомился с Надей, у меня было впечатление, что вокруг нее какая-то пустота — женщин-подруг у нее в это время как-то не было, а мужская публика боялась к ней приближаться, — вдруг Сталин заподозрит, что ухаживают за его женой, — сживет со свету. У меня было явное ощущение, что жена диктатора нуждается в самых простых человеческих отношениях…»
«Домашняя ее жизнь была трудная. Дома Сталин был тиран. Постоянно сдерживая себя в деловых отношениях с людьми, он не церемонился с домашними. Не раз Надя говорила мне, вздыхая: «Третий день молчит, ни с кем не разговаривает и не отвечает, когда к нему обращаются; необычайно тяжелый человек». Но разговоров о Сталине я старался избегать — я уже представлял себе, что такое Сталин, а бедная Надя только начинала, видимо, открывать его аморальность и бесчеловечность и не хотела сама верить в эти открытия.
Через некоторое время Надя исчезла, как потом оказалось, отправилась проводить последние месяцы своей новой беременности к родителям в Ленинград. Когда она вернулась и я ее увидел, она мне сказала: «Вот, полюбуйтесь моим шедевром». Шедевру было месяца три, он был сморщенным комочком. Это была Светлана…»
Надо сказать, что детьми Надежда Сергеевна занималась мало. Ей хотелось заниматься «делом», чтобы чувствовать себя достойной своего «великого» мужа. Семья «делом» для нее не стала, в чем иногда укорял жену Сталин. После смерти Ленина она стала работать в редакции журнала «Революция и культура», горячо мечтала об учебе — для самой себя и для своих подрастающих детей.
«Маму больше заботило другое, — пишет Светлана в книге «Двадцать писем к другу», — наше образование и воспитание. Мое детство с мамой продолжалось всего лишь шесть с половиной лет, но за это время я уже писала и читала по-русски и по-немецки, рисовала, лепила, клеила, писала нотные диктанты. Моему брату и мне посчастливилось; мама добывала откуда-то замечательных воспитательниц… Вся эта образовательная машина крутилась, запущенная маминой рукой, — мамы же никогда не было дома возле нас. В те времена женщине, да еще партийной, вообще неприлично было проводить время около детей…»
Любил ли Сталин свою жену? Скорее всего, любил, хотя и постоянно подвергал унижениям, иногда изощренным… Об одном таком случае поведал Назым Хикмет. Дело происходило на банкете для членов Политбюро, наркомов и видных военачальников. На нем присутствовали и жены.
Женщины пришли в вечерних платьях, некоторые в открытых. Сталин пришел с Аллилуевой, но сел не во главе стола, как предполагалось, а в середине. Против него сидел Тухачевский со своей необыкновенно красивой женой. Ее платье было с глубоким вырезом, и в течение всего вечера Сталин развлекался тем, что скатывал мякиш хлеба в шарики и довольно ловко бросал их в ложбинку декольте жены маршала. Женщина пребывала в полном смятении. Все видели, что его игра раздражает и озлобляет Аллилуеву. Она даже пыталась отнять у него хлеб, но Сталин упорно продолжал кидать катыши. Аллилуева несколько раз что-то раздраженно говорила ему, но он не обращал на нее никакого внимания. Наконец, не выдержав унижений, она встала из-за стола и ушла. Сталин даже головы не повернул в ее сторону.
Между тем до нас дошла переписка между Сталиным и Надеждой Сергеевной в 1929–1931 годах. В бархатный сезон Сталин обычно уезжал на юг. Надежда не всегда его сопровождала, и они писали друг другу письма — довольно регулярно.
В этих письмах Надежда Сергеевна куда более сдержанна, чем Сталин. В его строках иногда прорывается неподдельная нежность, доходящая до сюсюканья: «Целую крепко много, очень много». Тон ее писем спокоен, деловит, суховат. Скорее всего, Сталин своим поведением отучил Надежду от излишней чувствительности.
«Москва нас встретила холодно. Приехали в переменную погоду — холодно и дождь. Пока никого не видела и нигде не была. Слыхала как будто Горький поехал в Сочи, наверное, побывает у тебя, жаль, что без меня — его очень приятно слушать. По окончании моих дел напишу тебе о результатах (Надежда Сергеевна сдавала экзамены в Промышленную академию. — В. С.). Тебя же очень прошу беречь себя. Целую тебя крепко, крепко, — как ты меня поцеловал на прощанье». (Из письма Надежды 28 августа 1929 года.)
«28-го августа послал тебе письмо по адресу: «Кремль, Н. С. Аллилуевой». Послал по аэропочте. Получила? Как приехала, как твои дела с Промакадемией, что нового, — напиши. Думаю принять ванн 10. Погода хорошая. Я теперь только начинаю чувствовать громадную разницу между Нальчиком и Сочи — в пользу Сочи. Думаю серьезно поправиться.
Напиши что-нибудь о ребятах.
Целую.
Твой Иосиф». (Из письма Сталина 29 августа 1929 года.)
«Без тебя очень и очень скучно, как поправишься, приезжай и обязательно напиши мне, как себя чувствуешь. Мои дела пока идут успешно, занимаюсь очень аккуратно. Пока не устаю, но ложусь в 11 часов. Зимой, наверное, будет труднее…» (Из письма Надежды 27 сентября 1929 года.)
«Как твое здоровье. Приехавшие т.т. (Уханов и еще кто-то) рассказывают, что ты очень плохо выглядишь и чувствуешь себя. Я же знаю, что ты поправляешься (это из писем). По этому случаю на меня напали Молотовы с упреками, как это я могла оставить тебя одного…» (Из письма Надежды 19 сентября 1930 года.)
«Попрекнуть тебя в чем-либо насчет заботы обо мне могут только лишь люди, не знающие дела. Такими людьми и оказались в данном случае Молотовы. Скажи от меня Молотовым, что они ошиблись насчет тебя и допустили в отношении тебя несправедливость. Что касается нежелательности твоего пребывания в Сочи, то твои попреки так же несправедливы, как несправедливы попреки Молотовых в отношении тебя…» (Из письма Сталина 24 октября 1930 года.)
«Направляю тебе «семейную корреспонденцию». Светланино письмо с переводом, т. к. ты вряд ли разберешь все те важные обстоятельства, о которых она пишет…
Здравствуй папочка, приезжай скорее домой фчера ритка токой пракас зделала уж очень она азарная целую тебя твоя сятанка». (Из письма Надежды 21 сентября 1931 года, автограф Светланы.)
«Здравствуй Иосиф.
В Москве льет без конца дождь. Сыро и неуютно. Очень много заболевших гриппом. Ребята, конечно, уже болели гриппом и ангиной, а я спасаюсь, очевидно, тем, что кутаюсь во все теплое. За город так и не выбралась. В Сочи, наверное, прекрасно, это очень и очень хорошо.
У нас все идет по-старому однообразно — днем заняты, вечером дома и т. д…» (Из письма Надежды 26 сентября 1931 года.)
Может, если бы Надежда Сергеевна знала о том, что муж действительно по-настоящему любит ее, судьба ее сложилась бы иначе… Но Сталин умел скрывать свои чувства и тогда, когда это было совершенно не нужно, не выгодно ему. Он как будто специально старался показать грубость, жестокость, приучить к ней близких, особенно старшего сына Якова, который даже пытался наложить на себя руки. На Надежду Сергеевну это событие произвело огромное впечатление… И все же Сталин по-своему очень любил жену, о чем свидетельствует запись из «Дневника» М. А. Сванидзе.
«…Заговорили о Яше. Тут И. (Сталин. — В. С.) вспомнил его отвратительное отношение к нашей Надюше, вновь его женитьбу, все его ошибки, его покушение на жизнь, и тут И. сказал: «Как это Надя, так осуждавшая Яшу за этот его поступок, могла сама застрелиться. Очень она плохо сделала, она искалечила меня»… Что дети, они ее забыли через несколько дней, а меня она искалечила на всю жизнь…»
«У нее был череп самоубийцы…»
С определенной степенью вероятности можно представить, как Надежда Сергеевна, мать Светланы, провела два последних дня своей жизни, ибо об этом сохранились достаточно достоверные свидетельства.
7 ноября 1932 года она, по словам H. С. Хрущева, была на демонстрации. Он стоял рядом с нею, в стороне от Мавзолея — в группе «актива».
Был сухой, пасмурный день. Торжественно маршировали колонны военных. Везли пушки. Командиры ехали на конях. В микрофон, как положено, кричали: «Да здравствует!..» Толпы мощным ревом отзывались: «Ура!»
«Аллилуева была рядом со мной, мы разговаривали. Было прохладно, Сталин на Мавзолее, как всегда, в шинели. Крючки шинели были расстегнуты, полы распахнулись. Дул ветер.
Надежда Сергеевна глянула и говорит:
— Вот мой не взял шарф, простудится и опять болеть будем.
Вышло очень по-домашнему и никак не вязалось с представлением о Сталине, о вожде, уже вросшем в наше сознание…»
Светлана стояла рядом с матерью с красным флажком в руке. Никита Сергеевич то и дело приподнимал девочку над толпой, чтобы она могла все как следует разглядеть…
«Я помню первый в моей жизни парад на Красной площади, куда меня взяла мама. Мне было шесть лет и детские впечатления были яркими. На следующий день наша гувернантка сказала, чтобы мы описали то, что видели на площади. Я написала: «Дядя Ворошилов ездил на лошади». Мой 11-летний брат высмеял меня, сказав, что надо писать: «Товарищ Ворошилов скакал на коне». Он довел меня до слез, а мама смеялась. Она на минуту заглянула в детскую в пестром махровом халате и ушла…» (С. Аллилуева. «Только один год»).
Светлане запомнился последний разговор с матерью. «Она позвала меня в свою комнату, усадила на свою любимую тахту (все, кто жил на Кавказе, не могут отказаться от этой традиционной тахты) и долго внушала, какой я должна быть и как себя вести. «Не пей вина! — говорила она. — Никогда не пей вина!» Это были отголоски ее вечного спора с отцом, по кавказской привычке всегда дававшего детям пить хорошее виноградное вино. В ее глазах это было началом, которое не приведет к добру. Наверное, она была Отрава, — брата моего Василия впоследствии погубил алкоголизм. Я долго сидела у нее в тот день на тахте, и оттого, что встречи с мамой вообще были редки, хорошо запомнила эту, последнюю» («Двадцать писем к другу»).
…Что же произошло дальше?
В ночь на 8 ноября Надежда Сергеевна с мужем присутствовали на вечеринке по случаю 15-й годовщины Октября в кремлевской квартире Ворошилова. Позже ее подруга Полина Семеновна Жемчужина, жена Молотова, рассказывала, что, когда «вечеринка» подходила к концу, Сталин, проходя по залу, бросил окурок папиросы в лицо Аллилуевой, сидевшей на диване рядом с Жемчужиной. Надежда Сергеевна кинулась к выходу, Жемчужина — за ней.
Она рыдала навзрыд, говорила, что больше не в силах жить с этим человеконенавистником, отравившим всю ее жизнь, что не может без боли думать о детях, но дальше терпеть все это — выше ее сил. Полина Семеновна утешала Надежду, как могла, звала к себе, чтобы они вместе провели остаток ночи. Но Аллилуева не согласилась и ушла к себе.
Н. С. Хрущев также упоминает о том, что оскорбление Надежды Сергеевны имело место, но в подробности не вдается.
«Она умерла при загадочных обстоятельствах. Но как бы она ни умерла, причиной ее смерти были какие-то действия Сталина, и Светланка, должно быть, знала об этом. Ходил даже слух, что Сталин застрелил Надю. Согласно другой версии, которая представляется мне более правдоподобной, Надя застрелилась из-за оскорбления, нанесенного ее женскому достоинству. Светланка, несомненно, что-то знала о том, почему погибла ее мать, и она очень сильно переживала».
…Что могла знать Светлана? О событиях той роковой ночи она могла узнать только от отца, но кто может поручиться за его правдивость?..
«А повод был не так уж и значителен сам по себе, — и ни на кого не произвел особого впечатления, вроде «и повода-то не было». Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. «Всего-навсего» отец сказал ей: «Эй ты, пей!» А она «всего-навсего» вскрикнула вдруг: «Я тебе не — ЭЙ!» — и встала, и при всех ушла вон из-за стола» («Двадцать писем к другу»).
О том же пишет Антонов-Овсеенко в книге «Сталин без маски».
«Последним в жизни Надежды Аллилуевой стал банкет, устроенный генсеком вечером 8 ноября 1932 года в Большом театре (? — В. С.) после спектакля. Столы накрыли в просторной комнате за сценой. Сталин вел себя вызывающе, нарочито открыто ухаживал за молодой актрисой. Надежда Сергеевна замкнулась, не притронулась к яствам. «Эй ты, пей!» — приказал супруг. Бухарин, сидевший близ Надежды Аллилуевой, вспоминал позднее, что Сталин бросал в нее мандариновые корки и грубил ей, не стесняясь в выражениях. Обеспокоенная поведением Сталина, Екатерина Давыдовна Ворошилова сказала супругу: «Пойдем домой, Клим. Видишь, хозяин не в духе». Надежда Сергеевна ушла домой одна».
Существуют две версии гибели Надежды Аллилуевой. Первая — ее застрелил Сталин. Вторая — она покончила с собой. И обе эти версии рассматриваются в свете множества различных причин убийства или самоубийства, которые мы считаем нужным привести читателю.
1. Сталин убил Надежду Сергеевну из-за ревности к своему старшему сыну Якову. Так, киевлянин В. И. Фец на которого ссылается в своей книге «Хроника жизни семьи Сталина» А. Колесник, утверждает: «Некоторые авторы пишут, что Аллилуева имела связь с первым сыном Сталина, Яковом, и что на этой почве Сталин заколол ее кинжалом». На этих же домыслах, в которые не верил никто из знавших близко жену Сталина, основаны некоторые страницы книги В. Успенского «Тайный советник вождя».
«Василий ворвался в комнату матери, няня вошла следом и обнаружила там Надежду Сергеевну и Якова в положении несколько странном для обычной беседы».
2. Сталин убил жену из-за Крупской. Бывший член ЦК комсомола тридцатых годов Элеонора Эго, пишущая об этом, основывается на показаниях безымянной узницы Карлага, которая познакомилась там с Фаиной Борисовной Гамарник, работавшей в санитарном управлении Кремля. Гамарник как высокопрофессионального врача вызвали в Кремль для оказания медицинской помощи Надежде Аллилуевой.
«Ей, врачу, сразу стало понятно, что это несчастный, тем более роковой случай.
В Аллилуеву стреляли — спасти ее было уже невозможно. Истекающая кровью женщина сказала: «Кто! Это Иосиф, Фаина… Не простил, что я заступилась за Надю Крупскую, когда она просила миловать… Своей рукой, сам…»
Академик Б. И. Збарский, известный биохимик, бальзамировавший тело Ленина, также уверен, что Надежда Сергеевна была убита. Он рассказывал актрисе А. П. Петрушанской:
«Я видел мертвую Надежду Сергеевну. Она лежала, прижав, обеими руками окровавленную подушку к груди». «Как же вы там очутились?» — спросила Анна Петровна. «Вот так, очутился…» — «Все говорят, что это было самоубийство». — «Это было не самоубийство. Это было убийство. Не расспрашивайте меня больше ни о чем, пожалуйста… Что бы ни случилось потом, его я бальзамировать не буду».
Дочь А. А. Иоффе передает свидетельство подруги одного охранника Сталина, который в ночь на 8 ноября дежурил «в доме генсека и задремал в прихожей на стуле. Квартира Сталина находилась в левом крыле бывшего Потешного дворца: большая гостиная (она же служила столовой), с книжным шкафом у правой стены, слева — диван, круглый стол с телефонными аппаратами, посредине — большой обеденный стол. Из гостиной длинный коридор вел к другим комнатам — спальням Сталина и Надежды Сергеевны. Разбудил охранника странный звук, будто сильно хлопнула внутренняя дверь. Он заглянул в коридор и увидел Сталина, выходившего из спальни супруги. Лицо Сталина было хмурым… Сталин надел шинель и покинул дом».
Доктор И. Н. Казаков, у которого лечилась вся кремлевская знать, вызванный Ворошиловым 9 ноября для того, чтобы подписать медицинский акт о самоубийстве, отказался это сделать Он считал, что выстрел был произведен не в упор: убийца находился от жертвы в 3–4 метрах…
Но большинство людей, хорошо знавших Надежду Аллилуеву, среди которых есть и враги Сталина (Ф. Ф. Раскольников), были уверены в том, что она наложила на себя руки. И они также приводят ряд причин, из-за которых Надежда Сергеевна могла покончить с собой.
Первая из них личного характера; роковой выстрел прозвучал в результате ссоры между супругами.
Вторая причина — ревность. О ней говорит Молотов: «Ревность, конечно. По-моему, совсем необоснованная. Парикмахерша была, к которой он (Сталин. — В. С.) ходил бриться. Супруга этим была недовольна. Очень ревнивый человек. Как это так, почему? Такая молодая…
У нас была большая компания после 7 ноября 1932 года на квартире Ворошилова. Сталин скатал комочек хлеба и на глазах у всех бросил этот шарик в жену Егорова. Я это видел, но не обратил внимания. Будто бы это сыграло роль.
Аллилуева была, по-моему, немножко психопаткой в это время. На нее все это действовало так, что она уже не могла держать себя в руках. С этого вечера она ушла вместе с моей женой Полиной Семеновной. Они гуляли по Кремлю. Это было поздно ночью, и она жаловалась моей жене, что вот то ей не нравилось, это не нравилось… Про эту парикмахершу… Почему он так вечером заигрывал… А было просто так, немножко выпил, шутка. Ничего особенного, но на нее подействовало.
Она очень ревновала его. Цыганская кровь. В ту ночь она застрелилась.
Пустили слух, что он ее убил. Я никогда не видел его плачущим. А тут, у гроба Аллилуевой, вижу, как у него слезы покатились…»
О ревности говорит и Н. С. Хрущев, основываясь, правда, не на собственных наблюдениях, а на показаниях начальника охраны Сталина Н. С. Власика.
«После парада все, как всегда, пошли обедать к Ворошилову. В Кремле у него большая квартира была. Туда пришли прямо с Красной площади командующий парадом (по-моему, Корк) и некоторые члены Политбюро, самые близкие Сталину. Тогда демонстрации надолго затягивались. Там они пообедали, выпили, как полагается и что полагается в таких случаях. Надежды Сергеевны там не было.
Все разъехались, уехал и Сталин. Уехал, но не домой. Было уже поздно. Надежда Сергеевна стала беспокоиться, стала его по телефону искать. Прежде всего позвонила на дачу. Они жили тогда в Зубалове. На звонок ответил дежурный. Надежда Сергеевна спросила, где товарищ Сталин.
«Товарищ Сталин здесь», — сказал дежурный. «Кто с ним?» — «С ним жена Гусева». Утром, когда Сталин приехал, Надежда Сергеевна уже была мертва.
Гусев был военный, и он тоже был на обеде у Ворошилова. Когда Сталин уезжал, он взял жену Гусева с собой. Я Гусеву не видел никогда, но Микоян говорил, что это очень красивая женщина».
Светлана считает, что в жизни их семьи самую зловещую роль сыграл Берия.
«Отвращение к этому человеку и смутный страх перед ним были единодушными у нас в кругу близких. Мама еще давно (году в 29-м), как говорил мне сам отец, «устраивала сцены, требуя, чтобы ноги этого человека не было у нас в доме».
Отец говорил мне это позже, когда я была уже взрослой, и пояснял: «Я спрашивал ее — в чем дело? Приведи факты! Ты меня не убеждаешь, я не вижу фактов! А она только кричала: я не знаю, какие тебе факты, я же вижу, что он негодяй! Я не сяду с ним за один стол! Ну, — говорил я ей тогда, — убирайся вон! Это мой товарищ, он хороший чекист, он помог нам в Грузии предусмотреть восстание мингрельцев, я ему верю. Факты, факты мне надо!»
Бедная моя, умная мама! Факты были позже…» («Двадцать писем к другу»).
Нет, не позже. Надежда Сергеевна не могла не знать о том, как обошелся Берия с мужем ее сестры Анны — Станиславом Редерсом в ту пору, когда Редерс был главой Закавказского ГПУ, а Лаврентий Павлович — его заместителем. Берии хотелось столкнуть шефа и самому оказаться на его месте. Однажды он хорошенько напоил Редерса и отпустил одного, без охраны… В результате Редерс устроил пьяный скандал, его забрали в милицейский участок, о чем Берия быстро донес Хозяину, и тот снял его с поста.
Но некоторые люди, близко знакомые с Надеждой Аллилуевой, уверены в том, что не ревность и не скверное отношение мужа подтолкнуло ее к самоубийству.
Известно, что летом 1932 года она передала Сталину обращение Всесоюзной конференции союза «Защиты ленинизма», в котором говорилось, что он завел страну в тупик. «По своему объективному содержанию роль Сталина — это роль Азефа ВКП(б) пролетарской диктатуры и социалистического строительства. Он губит ленинизм под видом ленинизма, пролетарскую диктатуру под флагом пролетарской диктатуры, социалистическое строительство под флагом социалистического строительства…» На Надежду Сергеевну это обращение произвело самое тяжелое впечатление, которое уже не могло рассеяться.
А вот что вспоминает Борис Бажанов: «Ее трагический конец известен, но, вероятно, не во всех деталях. Она пошла учиться в Промышленную академию. Несмотря на громкое название, это были просто курсы для переподготовки и повышения культурности местных коммунистов из рабочих и крестьян, бывших директорами и руководителями промышленных предприятий, но по малограмотности плохо справляющихся со своею работой. Это был 1932 год, когда Сталин развернул гигантскую всероссийскую мясорубку — насильственную коллективизацию, когда миллионы крестьянских семей в нечеловеческих условиях отправлялись в концлагеря на истребление. Слушатели Академии, люди, приехавшие с мест, видели своими глазами этот страшный разгром крестьянства. Конечно, узнав, что новая слушательница — жена Сталина, они прочно закрыли рты. Но постепенно выяснили, что Надя превосходный человек, добрая и отзывчивая душа, увидели, что ей можно доверять. Языки развязались, и ей начали рассказывать, что на самом деле происходит в стране (раньше она могла читать только лживые и помпезные реляции в советских газетах о блестящих победах на сельскохозяйственном фронте). Надя пришла в ужас и бросилась делиться своей информацией к Сталину. Воображаю, как он ее принял — он никогда не стеснялся называть ее в спорах дурой и идиоткой. Сталин конечно же утверждал, что ее информация ложна и что это контрреволюционная пропаганда. «Но все свидетели говорят одно и то же». «Все?» — спрашивал Сталин. «Нет, — отвечала Надя, — только один говорит, что все это неправда. Но он явно кривит душой и говорит это из трусости; это секретарь ячейки Академии — Никита Хрущев». Сталин запомнил эту фамилию. В продолжавшихся домашних спорах Сталин, утверждая, что заявления, цитируемые Надей, голословны, требовал, чтобы она назвала имена: тогда можно будет проверить, что в их свидетельствах правда. Надя назвала имена своих собеседников. Если она имела еще какие-либо сомнения насчет того, что такое Сталин, то они были последними. Все слушатели, оказавшие ей доверие, были арестованы и расстреляны. Потрясенная Надя наконец поняла, с кем она соединила свою жизнь, да, вероятно, и что такое коммунизм, и застрелилась. Конечно, свидетелем рассказанного здесь я не был, но я так понимаю ее конец по дошедшим до нас данным».
Светлана знала о существовании предсмертного письма матери, но никогда в глаза его не видела. Она не называет фамилий людей, державших это послание в руках Но они рассказывали ей, что это было не просто личное письмо оскорбленной жены к мужу, оно имело политический характер. Вот почему его уничтожили.
Сестра Надежды Анна Сергеевна, напротив, уверена, что никакого письма жена мужу не оставила, ибо она собственными глазами видела, как жаждал Сталин найти хоть какую-то записку в комнате супруги. Эта записка послужила бы подтверждением тому, что Надежда Сергеевна покончила с собой, а не была убита мужем. «Пойди к ней и собери все бумаги!» — приказал Анне Сергеевне Сталин, как только увидел ее. Но ведь он сам побывал в ее комнате раньше, чем туда вошла сестра жены!..
Светлане запомнился тот страшный день потому, что утром вдруг детей быстро одели и в неурочное время отправили гулять, С ними никто не разговаривал, на их вопросы не отвечали, хотя они поняли, что что-то произошло. Воспитательница Наталия Константиновна не беседовала с детьми, как обычно, на какую-то познавательную тему, а утирала платком глаза.
Они походили по Александровскому саду, затем детей отправили в Соколовку, еще одну дачу Сталина. К вечеру осиротевших детей навестил Ворошилов. Он, вероятно, не собирался сначала сообщать им о смерти матери, попытался затеять какую-то игру, но не выдержал: слезы покатились из его глаз, и на встревоженный крик Василия: «Дядя Клим! Что произошло?» — Ворошилов ответил: «Умерла ваша мама…»
Пока происходила эта драматическая сцена, в редакции газеты «Известия» шли дебаты, каким образом следует для широкой общественности объяснять смерть Аллилуевой. Главный редактор, И. М. Гронский, так и не получив никаких указаний из канцелярии генсека, поехал к начальнику канцелярии Поскребышеву.
Тот сказал, что он и сам ничего не знает, кивнул в сторону кабинета генсека и произнес: «Иди и спроси его сам…» Но Гронский, в свою очередь, не отважился сделать это. В конце концов он решил о причине смерти Надежды Сергеевны ничего не писать, ограничиться одним некрологом.
«Преждевременно ушла от нас Надежда Сергеевна Аллилуева, еще молодая, в полном расцвете сил и энергии. Тов. Аллилуева родилась в 1901 г., 22 сентября, в семье рабочего, старого большевика-подпольщика, и еще совсем молодой, в 1918 году, вступив в ряды ВКП(б), со всей энергией отдавалась партийной и советской работе.
Тов. Аллилуева работала с 1919 года в секретариате Ленина. В период Гражданской войны — на Царицынском фронте. Позже т. Аллилуева работала в журнале «Революция и культура» при «Правде», откуда была партией откомандирована на учебу в Промышленную академию. 1 декабря с. г. Надежда Сергеевна должна была закончить Всесоюзную промышленную академию и Менделеевский институт искусственного волокна. Болезненное состояние не могло приостановить ее большевистского упорства в учебе».
О «болезненном состоянии», о том, что покойная была человеком с весьма неуравновешенным характером, написал Владимир Бонч-Бруевич. Писался этот опус, скорее всего, с одобрения Сталина. Но Гронский, зная, каким ровным и спокойным человеком была Надежда Сергеевна, отказался печатать статью и вернул ее автору.
Между тем М. А. Сванидзе записала в своем «Дневнике»: «Канель (врач. — В. С.) мне сказала, после смерти Нади, что при просвечивании рентгеном установили, что у нее был череп самоубийцы»…
9 ноября Светлану и Василия привезли в Москву, чтобы они смогли проститься с матерью. Нет нужды говорить о том, какое потрясение испытала шестилетняя девочка, когда увидела самого родного ей человека в гробу, со всех сторон уставленного цветами. Она страшно испугалась, когда ей сказали: «Подойди!» — и заплакала. Подруга матери Зинаида Орджоникидзе взяла ее на руки и поднесла к гробу. Светлана в ужасе отпрянула от мертвого лица, закричала, и тогда ее кто-то поскорее унес в соседнюю комнату.
Как ни странно, в этом жесте она как будто повторила отца, который на гражданской панихиде подошел ни минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь.
11 ноября в газетах появилась хроника похорон Надежды Сергеевны:
«— 9 ноября, вечером, тело Н. С. Аллилуевой было перенесено из Кремля в здание ГУМа;
— 8 часов вечера, почести покойной отдали члены ЦК ВКП(б), ЦКК, ЦИК, Коминтерна, МК и др. партийных и советских организаций;
— 10-го утром открылся свободный доступ для всех;
— непрерывный людской поток с 8 утра до позднего вечера лился в большой белый зал заседаний, где среди зелени, венков, траурных знамен лежит тело Надежды Сергеевны Аллилуевой;
— тысячи рабочих, работниц, учащихся в глубоком безмолвии прошли мимо гроба. Двойная цепь желающих проститься с покойной протянулась по Красной площади, завернувши на улицу 25 Октября;
— вчера днем в почетном карауле у гроба стояли коллективы «Правды», слушатели и профессура Промакадемии, Комакадемии, института Красной профессуры, Свердлова и других организаций…»
…Скорбно льются звуки оркестра. Меняется почетный караул коммунистов, в среде которых работала Надежда Сергеевна. Вот слушатели Промакадемии, где она училась. Вот близкие друзья и товарищи: Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Орджоникидзе, Киров, Калинин, Енукидзе. Тянется лента людей… Газеты тех дней пестрят соболезнованиями. Как правило, они начинаются словами: «Дорогой друг и учитель тов. Сталин!», «Дорогой Иосиф Виссарионович!», «Дорогой тов. Сталин!»
На следующий день «Правда» писала о похоронах: «С утра сюда, в зал, к гробу течет с Красной площади людская волна. Ее истоки — на московских заводах, фабриках, в учреждениях, в вузах и красноармейских казармах. Все, спешат отдать долг Надежде Сергеевне. Ведь скоро, в час дня, доступ в зал будет прекращен. Красная площадь постепенно заполняется партийными, рабочими и вузовскими организациями. Знамена перевиты черными траурными лентами. Доступ к гробу прекращен. В зале остаются родственники, ближайшие товарищи и друзья покойной, представители партийных и советских учреждений. Входят тт. Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе, Постышев, Киров, Андреев, Микоян, Енукидзе, Литвинов, Сулимов, Яковлев, все члены Реввоенсовета. В почетном карауле в последней смене: Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян.
2 ч. 30 мин. С гроба снимают венки. Траурный марш оркестра сменяется «Интернационалом»…»
А. П. Ларина в книге «Незабываемое» воспроизводит рассказ Н. И. Бухарина о том, что было перед тем, как вынесли гроб к катафалку.
«Перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать.
— Чего стоят эти поцелуи, — с горечью сказал Бухарин, — он погубил ее!
В печальный день похорон он вспоминал, как однажды случайно приехал на дачу Сталина в Зубалово в его отсутствие. Они гуляли с Надеждой Сергеевной возле дачи, беседовали. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Бухарину, произнес страшное слово: «Убью!»
Светлана в своей первой книге пишет, что отец на похороны не пошел. Но некоторые свидетели опровергают это утверждение. Им запомнилась скорбная фигура Сталина в распахнутой шинели без головного убора. Он шел рядом с гробом. Кавалькада лошадей везла роскошный постамент под бордовым бархатным балдахином. Похоронная процессия двигалась сначала по Манежной, потом по Волхонке, Кропоткинской, Зубовской, Большой Пироговке — к Новодевичьему кладбищу. Улицы, переулки были запружены народом.
Когда гроб стали опускать в могилу, Сталин наклонился и взял в руки горсть земли. Он стоял с опущенной головой у ямы, дожидаясь, пока гроб опустят в нее. Потом подошел ближе, бросил горсть земли и тут сразу уехал…
Скорее всего, эти свидетели заблуждаются, а Светлана права. Григорий Морозов, будущий муж Светланы, знавший семью Сталина с детства, считает, что с Иосифом Виссарионовичем спутали Алешу Сванидзе, который был похож на Сталина.
«Я думаю, что смерть мамы, которую он воспринял как личное предательство, унесла из его души последние остатки человеческого тепла. Он был теперь свободен от ее смягчающего, и тем мешавшего ему, присутствия. Теперь он только сильнее укрепился в том скептически-недобром взгляде на людей, который был естественным для его несентиментальной натуры» (С. Аллилуева. «Только один год»).
Вряд ли бедная Надежда Сергеевна могла оказывать на Сталина «смягчающее» влияние. Светлана идеализирует отца. Если бы это влияние в какой-то степени имело место, Надежда Аллилуева не ушла бы из жизни. Но в том-то и дело, что, очевидно, любя жену, Сталин в принципе любить не умел. Как пишет А. Ларина в книге «Незабываемое», Сталин по-своему любил Надежду Сергеевну — и одновременно мог «издеваться над ней, губить ее». Эта любовь ничего, кроме муки, тому, на кого она была направлена, принести не могла.
Бухарин рассказывал Анне Юрьевне, что Сталин не может забыть Надю, «с горечью говорил, как ему ее не хватает». У него появилась потребность с кем-то о ней говорить, хотя окружающие, зная, что «кончина ее темна», избегали этого разговора. Он это чувствовал и часто не шел дальше того, чтобы просто лишний раз произнести вслух имя загубленной им жены. Поздравляя Бухарина с женитьбой, Сталин вдруг сказал: «Хорошая жена, красивая жена, молодая — моложе моей Нади!» Федору Раскольникову он с гордостью говорил: «Какая Надя у меня мужественная была. Она имела в себе силы покончить с жизнью. Ни у кого нет такой жены…»
Со Светланой Сталин впервые заговорил о матери лишь осенью 1948 года. «Мне было не по себе; я не знала, как говорить на эту тему с отцом, — я боялась ее. Мы сидели одни, был долгий завтрак — как всегда, много фруктов, хорошее вино. «И ведь вот такой плюгавенький пистолетик! — сказал он вдруг в сердцах и показал пальцами, какой маленький был. — Ведь — просто игрушка! Это Павлуша (брат Надежды. — В. С.) привез ей. Тоже, нашел, что подарить!»
Примерно к тому же времени относится воспоминание Серго Берии, который по возвращении с фронта подарил Светлане трофейный вальтер. «…Проходит время, и в академию, где я учился, приезжает генерал Власик, начальник личной охраны Сталина.
— Собирайся, — говорит, — вызывает Иосиф Виссарионович.
Приезжаю. Никогда раньше такого не было, чтобы вызывал.
Поговорили немного о моей учебе, а потом и говорит:
— Это ты Светлане револьвер подарил? А знаешь, что у нас дома с оружием было? Нет? Мать Светланы в дурном настроении с собой покончила.
Я обалдел. Знал, что мать Светланы умерла, но о самоубийстве никто у нас в доме никогда не говорил.
— Ладно, — сказал Сталин. — Иди, но за такие вещи вообще-то надо наказывать…»
…Владимир Аллилуев, племянник Надежды Сергеевны, в книге «Хроника одной семьи» пишет:
«У многих членов нашей семьи, и у меня в том числе, было убеждение, что обида на Надежду за самоубийство была так глубока, что Сталин никогда так и не приходил на ее могилу. Но оказалось, что это не так.
Есть свидетельство очевидца, что в октябре 1941 года, когда судьба Москвы висела на волоске и предполагалась эвакуация правительства в Куйбышев, Сталин приехал на Новодевичье кладбище проститься с Надеждой. Сотрудник охраны Иосифа Виссарионовича А. Т. Рыбин, долгие годы бывший рядом с ним, утверждает, что Сталин несколько раз ночью приезжал на Новодевичье и подолгу молча сидел на мраморной скамейке, установленной напротив памятника».
После похорон жены Сталин просил Николая Ивановича Бухарина поменяться с ним квартирами. Он не мог оставаться жить в том месте, где всякая мелочь напоминала ему о Надежде Сергеевне. Естественно, Бухарин выполнил его просьбу.
Часть II МАЛЕНЬКАЯ «ХОЗЯЙКА» БОЛЬШОГО ДОМА
«Если папа скажет мне полезть на Луну — я полезу»
Сталин как-то пожаловался М. А Сванидзе, что Василий и Светлана «преступно быстро забыли мать». Обратим внимание на эти слова — «преступно быстро». Точно речь идет о его врагах, к которым он был беспощаден вплоть до физического их уничтожения.
Светлану он любил. Эту любовь никто не ставит под сомнение, как и его чувства к жене, матери, к обоим сыновьям. О том, что Сталин любил Дочь, свидетельствуют буквально все — родные и близкие, друзья и соратники, недоброжелатели и явные враги. Он любил ее в те годы, когда Светлана была ребенком, так, как не любил никого в жизни.
«Заговорили о Светланочке, — пишет Мария Анисимовна, — и Иосиф весь засиял. Стали вспоминать ее разговоры, манеры, настроения, и стало за столом теплей…» «Очень он был счастлив ее видеть, целовал, ласкал…» (из «Дневника» М. А. Сванидзе).
Любовь эта — взаимная, о чем также свидетельствует Сванидзе. «Светлана все время терлась около отца. Он ее ласкал, целовал, любовался ею, кормил со своей тарелки, любовно выбирал кусочки получше…»
В те времена Сталин называл ее «Сетанкой-хозяйкой». Вернее, «Сетанкой» называла себя она сама, а уж «хозяйкой» любовно величал ее отец. Это было время, когда в стране один человек мог что-либо «приказывать» Сталину, хотя «приказы» эти делались понарошку, но все же…
Так у, них повелось еще при жизни Надежды Сергеевны. Светлана пишет свои детские приказы секретарям, первый секретарь — папа, за ним идут Каганович, Молотов, Орджоникидзе и особенно любимый в те времена и отцом, и дочерью Киров. Сталин подписывает эти приказы, затем в столовой около телефонов прикрепляет их кнопками к стене, чтобы все могли видеть, какую власть имеет над отцом маленькая дочь.
Иногда в этих «приказах» содержатся угрозы — «пожаловаться на секретаришку повару». И Сталин шутливо реагирует на них: «Только не говори ничего повару, а то я пропал…»
«Приказываю, разрешить мне пойти с тобою в театр или в кино», — пишет «Сетанка» «1-ому моему секретарю тов. Сталину», который с большой готовностью отвечает: «Что ж, подчиняюсь».
«Приказываю тебе разрешить мне провести праздники в «Липках», на что следует резолюция: «Разрешаю».
В Липках было чудесно — удобный, комфортабельный дом, вокруг которого — изумительный английский парк, перед домом — огромный пруд, по которому Светлана любила кататься на лодке, с мостиком и водопадом, два огромных бассейна. Там же Светлана пишет еще один приказ:
«Приказываю разрешить мне переночевать в «Липках». На что папа, как всегда, ответил: «Разрешаю».
…Захотелось поехать в Зубалово:
«Приказываю тебе позволить мне поехать завтра в Зубалово».
…Захотелось посмотреть «Чапаева»:
«Приказываю тебе позволить мне пойти в кино, а ты закажи фильм «Чапаев»…
И на это, как правило, следует: «Слушаюсь». «Покоряюсь». «Согласен». «Будет исполнено».
Сталин обожал играть в эту игру, которая как бы возвращала его к невинности и непритязательности детства. Он требовал все новых и новых «приказов», а Светлана, не понимавшая этой настойчивости, сердилась:
«Приказываю тебе позволить мне писать приказ один раз в шестидневку»…
«Ладно», — скрепил своей подписью огорченный отец и этот приказ маленькой дочери.
«Приказываю тебе покатать нас на метро»…
Строительство одной ветки метро тогда было завершено, и публика уже каталась вовсю.
Любящий отец мигнул — и сейчас же перед ним возник Л. М. Каганович с десятью билетами для гостей и чиновником для сопровождения. Сталин, Каганович, Мария Сванидзе с детьми, Орджоникидзе с женой, Василий и Светлана уселись в автомобили. Каганович был бледен от страха, как бы чего не случилось в метро его имени…
Хотели поехать в 12 часов, когда прекращалось катание публики, но Сталин настоял на немедленной поездке. Подъехали к метро, спустились вниз, ждали поезда. Пахло сырой известью… Тут же, ожидая очередного рейса, стояли люди. Подъехала охрана, и наконец публика заметила вождей.
Начались громкие приветствия. Иосиф Виссарионович стал выражать нетерпение, потому что произошла задержка: не успели на соседней станции освободить состав. Наконец подошел переполненный, но тут же освобожденный вагон, и при криках «ура» стоявшей на перроне публики знатные гости вошли в вагон. В Охотном вышли посмотреть вокзал и эскалатор. Снова поднялась суета: восторженная публика кинулась в вагон вождя и его гостей. «Все было очень трогательно, — рассказывает Мария Анисимовна Сванидзе, — Иосиф все время улыбался, глаза у него были добрые, добрые и ласковые. Думаю, что его при всей его трезвости все-таки трогала любовь и внимание народа к своему вождю. Тут не было ничего подготовленного и казенного…»
Став чуть постарше, признается Светлана, она стала несколько разнообразить свои требования.
«Папа!! Ввиду того, что сейчас уже мороз, приказываю носить шубу.
Сетанка-хозяйка. — 15 декабря 1939 года».
«Дорогой мой папочка!
Я опять прибегаю к старому, испытанному способу, пишу тебе послание, а то тебя не дождешься.
Можете обедать, пить (не очень), беседовать.
Ваш поздний приход, товарищ секретарь, заставляет меня сделать Вам выговор.
В заключение целую папочку крепко-крепко и выражаю желание, чтобы он приходил пораньше.
Сетанка-хозяйка».
На этом послании начертано рукой растроганного отца:
«Моей воробушке. Читал с удовольствием. Папочка».
Последнее шуточное послание Светлана написала отцу перед самым началом войны:
«Мой дорогой секретаришка, спешу Вас уведомить, что Ваша хозяйка написала сочинение на «отлично»! Таким образом, первое испытание сдано, завтра сдаю второе. Кушайте и пейте на здоровье. Целую крепко папочку 1000 раз. Секретарям привет.
Хозяйка».
Внизу резолюция отца: «Приветствуем нашу хозяйку! За секретаришек — папка И. Сталин».
Когда Светлане было шесть лет — еще была жива ее мама, — она как-то спросила няню:
— А почему это так: вот из бабушки и дедушки я больше люблю дедушку, а из папы и мамы — больше люблю маму?
Но вот прошло три года после гибели матери, и она признается:
«Пусть меня весь свет ненавидит, лишь бы меня любил папа. Если папа скажет мне полезть на луну — я полезу».
Минуло еще десять лет, и Сталин с горечью сказал Светлане:
— Скажи Ваське — Васька, прыгай в огонь! — он прыгнет не думая. А ты — не-ет! Будешь раздумывать. У-у, дипломатка! Все думает что-то, никогда сразу не ответит!
Эволюцию, которая произошла в отношениях между отцом и дочерью, можно заметить по их переписке.
Это уже не приказы, это письма. Первые из них датированы примерно 1930–1931 годами. Еще жива мать Светланы, от которой не дождешься с юга письма, зато отец более внимателен к дочке, он пишет ей послания печатными буквами, так чтобы кроха могла сама их прочитать.
«Сетанке-хозяйке.
Ты, наверное, забыла папку. Потому-то и не пишешь ему. Как твое. здоровье? Не хвораешь ли? Как проводишь время? Лельку не встречала? Куклы живы? Я думал, что скоро пришлешь приказ, а приказа нет, как нет. Нехорошо. Ты обижаешь папку. Ну целую. Жду твоего письма.
Папка».
«Здравствуй, Сетанка!
Спасибо за подарки. Спасибо также за приказ. Видно, что не забыла папку. Если Вася и учитель уедут в Москву, ты оставайся в Сочи и дожидайся меня. Ладно? Ну, целую.
Твой папа».
Это письмо Сталиным прислано из Москвы, — даже по нему можно заметить о том, как по-разному он относится к сыну и дочери.
На следующий год Светлана снова поджидает отца в Сочи — но как все изменилось. Матери ее уже нет в живых.
«Здравствуй, дорогой мой папочка! Как ты живешь и как твое здоровье? Письмо твое я получила, очень рада, что ты мне позволил остаться здесь и ждать тебя. Я беспокоилась, что я уеду в Москву, а ты поедешь в Сочи и опять я тебя не видала бы.
Дорогой папочка, когда ты приедешь, ты не узнаешь меня, я очень загорела. Я каждый вечер слышу крики шакалов, жду тебя в Сочи.
Целую тебя твоя Сетанка. 5/V1II.33 г.»
Кажется, что это письмо написано под диктовку няни или Каролины Васильевны, оно не по-детски гладкое. Зато следующее письмо «хозяйки» должно было доставить отцу гораздо больше удовольствия.
«Здравствуй милый дорогой мой Папочка, как ты живешь и как твое здоровье, доехала я хорошо, только няня в дороге сильно заболела, но теперь все хорошо. Папочка обо мне не скучай, а хорошо поправляйся и отдыхай, а я буду стараться тебе на радость учится по ударному.
Папочка, Вася после твоего письма притих, целую тебя крепко, твоя Сетанка. 15/IX.33 г.»
Очевидно, Сталину нажаловались на сына, может, это сделала и сама «Сетанка». Во всяком случае, по тону ее письма чувствуется, что она рада тому, что «Вася притих». Она ревновала отца к брату.
Следующее письмо тоже пестрит ошибками — очевидно, и его Светлана послала по собственному почину.
«Здравствуй, милый дорогой мой Папочка, как ты живешь и как твое здоровье, дорогой мой папочка я хожу в школу мне там очень нравится ребят там очень много в школе скоро будет кино.
Ко мне ходит учительница я учусь по немецки и играю на пианино, Папочка мне хотя и скучно без тебя но я хочу чтоб ты там хорошо отдохнул, целую тетя крепко твоя Сетанка.
Все шлют тебе привет 1/Х.33 г.»
Можно себе представить, какое удовольствие доставляли отцу эти коротенькие неграмотные послания! Позже Светлана начнет писать более длинные и содержательные письма Но из них уйдет детская непосредственность и выветрится та нерассуждающая любовь к отцу, ради которого она готова полезть на луну…
Наступило следующее лето.
«Привет с Кавказа!
Здравствуй милый папочка!
Как ты живешь? Как твое здоровье? Мы 6-го числа были на скачках (там состязались лошади, бегали какая лошадь быстрей), а сегодня были у подножья горы «Змейки», там был конский завод.
Там были Арабские лошади. 1-му коню было 27 лет. 2-му жеребцу 23 года остальные лошади (Арабские) были чистокровные лошади.
Целую тебя крепко! (Сетанка). 17 июля 1934 г.»
«Здравствуй милый папочка!
Как ты поживаешь? Здоров ли ты?
Мы уже приехали в Сочи, мы выехали из Железноводска 7/VII, а приехали в Сочи сегодня 8/VII.
Целую тебя крепко (Сетанка-хозяйка). 8 Июля 1934 г.»
Следующее письмо — из Москвы — оно написано достаточно грамотно; возможно, Каролина Васильевна исправляла ошибки в этом послании.
«Дорогой папа!
Спасибо за письмо и персики. Персики очень вкусные. Ем их каждый день. Папа, ты спрашиваешь, что мне еще прислать. Мне ничего не надо. Здесь все есть. Учусь я хорошо. Уроков нам стали задавать больше, и в школе я теперь бываю больше потому, что у нас каждый урок продолжается 50 минут. Вчера мы всем классом ездили на агробазу. С нами занималась другая учительница, агроном. Рассказывала нам про овощи. Овощи мы должны нарисовать и отдать в школу.
Под выходной день ездила в Зубалово. Весь выходной день гуляла в лесу. Погода была очень хорошая. Здесь все время было хорошо — только сегодня погода нехорошая, холодно и часто шел дождь.
До свидания, милый папа.
Целую тебя крепко.
Твоя Сетанка. 14 сентября 1934 г.»
Спустя десять дней:
«Здравствуй, папочка!
Как ты живешь? Как твое здоровье? Я живу хорошо. У нас последние дни погода стала плохая, но все выходные дни погода была очень хорошая. И я в выходные дни ездила в Зубалово.
Учусь я хорошо. Недавно у нас был сбор октябрят и пионеров в редакции «Известий». «Известия» — это наш шеф.
На этом сборе я выступила с обращением к пионерам, чтобы они нам октябрятам помогали в работе. На этом сборе народу было много и взрослые были. Я сначала испугалась, не хотела даже выступать, но потом выступила и сказала хорошо. Совсем даже не страшно было.
Писать больше нечего, милый папа. Целую тебя крепко.
Твоя Сетанка. 25 сентября 1934 г.».
Примерно к этому времени относится упрек Сталина дочери в том, что она забыла свою мать… Что он мог знать о чувствах своего ребенка, которого атмосфера, созданная отцом в доме, призывала к скрытости, к демонстрации излишней инфантильности, которая нравилась отцу. Это он мог свободно встать среди застолья и предложить тост за Надюшу… Возможно, в этом был свой расчет: он как бы хотел лишний раз напомнить гостям, что «Надюша» умерла своею смертью…
Безусловно, девочка тосковала по матери, боясь лишний раз напомнить о ней взрослым. Наверное, такое напоминание вызывало слезы на глазах у няни или у подруги матери Зинаиды Гавриловны Орджоникидзе, возможно, «дядя Клим» сморкался в большой носовой платок… Светлане же, неведомо как пережившей трагедию утраты матери, предлагалось быть резвым, забавным ребенком.
«Здравствуй, папа!
Я живу ничего хожу в школу и вообще жизнь идет весело. Папа. Я играю в первой школьной команде по футболу но каждый раз когда я хожу играть бывают по этому вопросу разговоры, что мол без папиного разрешения нельзя и вообще.
Ты мне напиши могу я играть или нет, как ты скажешь так и будет…» — это письмо Светланиного брата Василия — обратим внимание на фразу «как ты скажешь, так и будет». Брат тоже изо всех сил демонстрирует сыновью покорность отцовской воле, как и сестра.
«Здравствуй дорогой папочка!
Сегодня М. И. Калинин принес мне от тебя письмо. Спасибо за него. Спасибо так же за персики и гранаты. То и другое я очень люблю и ем охотно.
В Москве настоящая осень. Теплых дней больше нет.
В последний выходной день была плохая погода, и я не ездила в Зубалово. Ходила днем в Большой театр. Смотрела балет «Красный мак». Мне понравился этот балет.
Учусь я по-прежнему хорошо. Сейчас напишу тебе письмо и буду писать письмо пионерам за границу. У нас сегодня был сбор звездочки и мы решили написать письма за границу, октябрятам и пионерам.
Желаю тебе всего хорошего.
Целую тебя крепко.
Твоя Светлана. 2 октября 1934 года».
Впервые она подписывает письмо как взрослая — Светлана. И впервые в тоне послания чувствуется некоторое принуждение, как будто ее заставили написать отцу. Возможно, так и было. Возможно, она начала чувствовать некоторую искусственность в отношениях с отцом, раздражение оттого, что ее заставляли коверкать язык и лепетать — этого не было у них с матерью. Никто не знал, когда в Светланиной душе начался тот процесс, о котором она напишет в своей второй книге:
«Я была воспитана в беспрекословном послушании и уважении к отцу. Дома, в школе, везде я слышала его имя только с эпитетами «великий», «мудрый». Я знала, что он любил меня больше моих братьев, был доволен, что я хорошо училась. Я видела его мало, он жил отдельно на своей даче, но все же после маминой смерти, вплоть до начала войны, он старался уделять мне возможно больше внимания. Я уважала его и любила, пока не выросла.
Но пришла пора «юности мятежной», когда все авторитеты подвергаются критике, и прежде всего — авторитет родителей. И я вдруг почувствовала некую абсолютную правду в облике мамы, в том, что я помнила и что говорили мне о ней другие, а отец этого авторитета неожиданно лишился. И дальше все только сильнее и сильнее развивалось именно в этом направлении; мама все больше вырастала в моих глазах, чем больше я узнавала о ней, а отец только терял свой ореол».
Но пока все довольно безмятежно. Снова наступило лето — лето 1935 года. Девятилетняя девочка пишет отцу из Тифлиса, где она побывала у бабушки. Она знала, что этим угодит отцу, ибо он часто с восхищением восклицал: «Как ты похожа на мою мать!»
«Здравствуй милый папочка!
Как ты живешь? Доехала я хорошо. В Тифлисе мне понравилось. Пробыли мы там два дня. Несколько раз мы были у бабушки. Бабушка мне очень понравилась. Я ее полюбила и еще к ней приеду.
Пока всего хорошего. Тороплюсь писать, потому что через 10 мин. уезжает тов. Власик.
Целую тебя крепко.
Твоя Светлана».
…Лето 1935 года. В это лето в Сочи произошло маленькое и как будто незаметное событие, но довольно симптоматичное для отношений Светланы с отцом. Во всяком случае, оно запомнилось ей, и она его описала в своей первой книге:
«…отец, поглядев на меня (я была довольно крупным ребенком), вдруг сказал: «Ты что это, голая ходишь?» Я не понимала, в чем дело. «Вот, вот!» — указал он на длину моего платья — оно было выше колен, как и полагалось в моем возрасте. «Черт знает что! — сердился отец, — что это такое?» Мои детские трусики тоже его разозлили. «Безобразие! Физкультурницы! — раздражался он все более, — ходят все голые!» Затем он отправился в свою комнату и вынес оттуда две своих нижних рубахи из батиста. «Идем!» — сказал он мне. «Вот, няня, — сказал он моей няне, на лице которой не отразилось удивления, — вот, сшейте ей сами шаровары, чтобы закрывали колени; а платье должно быть ниже колен!» — «Да, да!» — с готовностью ответила моя няня, вовек не спорившая со своими хозяевами. «Папа! — взмолилась я, — да ведь так сейчас никто не носит!»
Но это был для него совсем не резон… И мне сшили дурацкие длинные шаровары и длинное платье, закрывавшее коленки, — и все это я надевала, только идя к отцу…»
Что это — проявление пуритантизма или нежелание замечать то прискорбное для Сталина обстоятельство, что его «воробушка» выросла? Выросла, а значит, вскоре окажет ему сопротивление, и не только в вопросе длины платья? Важно здесь другое: Светлана уже знает, что должна прилагать чисто внешние усилия к тому, чтобы нравиться отцу, — до внутренней ее жизни ему и дела нет.
«Но он не раз еще доводил меня до слез придирками к моей одежде; то вдруг ругал, почему я ношу летом носки, а не чулки, — «ходишь опять с голыми ногами!». То требовал, чтобы платье было не в талию, а широким балахоном. То сдирал с моей головы берет — «Что это за блин? Не можешь завести себе шляпы получше?». И сколько я ни уверяла, что все девочки носят береты, он был неумолим, пока это не проходило у него и он не забывал сам».
Поневоле припомнишь слово Ленина об Иосифе Виссарионовиче: «Азиат!» Ни Этери, дочь Серго Орджоникидзе, ни Марфа Пешкова, внучка Горького, ни другие подружки Светланы не получали таких упреков от родителей.
Однако, возвратившись из Сочи, покорная дочь пишет отцу:
«Здравствуй дорогой мой папа!
Шлю тебе привет из Москвы. Доехала я хорошо. С вокзала поехала прямо в Зубалово. На другой день ко мне приехала Рая. Погода здесь очень хорошая. Дни теплые и солнечные. Это я с собой с юга солнца привезла.
Незаметно прошли три дня в Зубалово. 31-го к обеду я приехала в Москву. 1-го сентября у нас начались занятия.
Учительница у нас та же, которая учила нас в 1-ом и во 2-ом классе. У нас прибавились новые предметы: география, физкультура, а со 2-ой половины учебного года будет история. Вчера нам выдали учебники, но занятий не было. Учительница только беседовала с нами. А сегодня уже начались настоящие занятия и уроки заданы.
Я, милый папочка, в этом году хочу быть тоже первой ученицей и получать только «отлично», но может быть когда-нибудь и «хорошо», только «посредственно» у меня не будет, а «плохо» у меня не было никогда и постараюсь, чтобы за все время пока учусь у меня его не было.
Сижу с Марфой Пешковой.
До свидания, милый папочка! Желаю тебе всего хорошего, а главное здоровья.
Постараюсь писать тебе почаще и побольше.
Целую
тебя
крепко!
Твоя Светлана».
Чувствуется, что это письмо Светлана буквально по предложению выжимает из себя. Она еще не понимает, что отец начинает ревновать девочку к ее же собственной становящейся личности.
Инстинктивно она еще пытается держаться за ту давнюю игру с приказами, из которой уходит ее умилительное, нежное содержание, пытается удержаться на плаву своей детской невинности и детского неразумения, которые в ней так любит отец. Она не подозревает о том, насколько он страшный человек…
Пока длится вся эта возня с приказами, подручные Иосифа Виссарионовича старательно готовят процессы с новоиспеченными врагами народа. У Сталина начинает развиваться маниакальная подозрительность, которая к концу жизни буквально душит его. Он жалуется Хрущеву: «Несчастный я человек, никому не верю». Подобно Нерону, который уничтожал всех вокруг себя, но пытался сберечь душу в своей маленькой дочери Клавдии, рано умершей, Сталин видит в Светлане единственную отдушину. Но она, его дочь, предает его уже одним тем, что растет.
Подростком она посылает отцу свою фотографию. «Реакция была для всех неожиданной: отец вернул мою фотографию со злобным письмом: «У тебя наглое выражение лица, — было написано его острым почерком, синим карандашом. — Раньше была скромность, и это привлекало». В веселой фотографии девочки в пионерском галстуке, с улыбкой во весь рот, ему почудились вызов, независимость. Это ударило его, как током, и он назвал это «наглостью». Ему хотелось потупленных глаз, покорности, того, что называл он «скромностью», пишет Светлана в книге «Только один год» и там же развивает свою «семейную» мысль более подробно:
«В семье, где я родилась и выросла, все было ненормальным и угнетающим, а самоубийство мамы было самым красноречивым символом безысходности. Кремлевские стены вокруг, секретная полиция в доме, в школе, в кухне. Опустошенный, ожесточенный человек, отгородившийся стеной от старых коллег, от друзей, от близких, от всего мира, вместе со своими сообщниками превративший страну в тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее; человек, вызывавший страх и ненависть у миллионов людей, — это мой отец…
Если бы судьба дала мне родиться в лачуге безвестного грузинского сапожника! Как естественно и легко было бы мне, вместе с другими, ненавидеть того далекого тирана, его партию, его дела и слова. Разве не ясно — где черное, а где белое?
Но нет, я родилась его дочерью, в детстве — любимой…»
Поневоле задумаешься над тем, что если так тяжко было «любимой дочери», действительно любимому ребенку вождя, то каково же пришлось другим его детям — старшему сыну Якову и родному брату Светланы Василию?..
Старший брат
Если младшие дети, Василий и Светлана, любимцы отца, унаследовали его неукротимый нрав, честолюбие, упрямство, властность, то Якову ничего не досталось от Иосифа Джугашвили, кроме миндалевидного разреза глаз. И фамилии. Младшие дети с рождения были записаны под псевдонимом.
Первая жена Сталина Екатерина Сванидзе, прачка, зарабатывала на жизнь поденкой. Она тяжело заболела и умерла, когда Якову было всего два года. В его метрике записан не год рождения, а дата крещения — 1908-й. На самом деле Яков на год старше. Когда это позднее обнаружилось, тут же поползли слухи — Яков не сын Екатерины Сванидзе, а незаконнорожденный, кто же его мать? На самом деле, бабушке Якова хотелось, чтобы в будущем внук получил годовую отсрочку от службы в армии, вот она и уговорила священника изменить дату рождения.
До четырнадцати лет мальчик воспитывался в семье родной тетки Александры Сванидзе. И был вполне счастлив. Но его дядя Александр Сванидзе решил, что только в Москве, рядом с отцом Яков сможет получить хорошее образование и кем-то стать. В 1921 году мальчика посадили в поезд и отправили в столицу.
Говорят, Сталин был очень недоволен его приездом. Он любил маленьких детей, из которых можно, по его мнению, вылепить все, что угодно, любой характер. А тут ему на голову свалился подросток, почти сложившийся человек. И внешностью, и характером Яков пошел в мать — спокойный, медлительный, мягкий. С первых же дней он очень раздражал отца.
Даже мачеха была к нему добрее и внимательнее.
Яков чувствовал себя одиноким, чужим и ненужным в этой семье. Закончилось его беззаботное детство. Он замкнулся, сделался угрюмым и нелюдимым.
К тому же первое время он плохо понимал по-русски, и учеба в русской школе стала для него сущей мукой. Но Яков был очень трудолюбив и старателен. Как и многие мальчишки, он начал втайне покуривать со сверстниками в школе и часто бывал нещадно бит за это отцом. Однажды он провел ночь в коридоре вместе с охранниками, потому что отец учуял запах табака и выгнал его из дома.
Все родственники и знакомые замечали, как сурово, порой жестоко Сталин обращался со старшим сыном. Но он бывал невыносимо груб и с женой, не говоря уже о соратниках и подчиненных. И все же Яков не был изгоем в семье. Как и младших детей, его возили в школу на автомобиле, ему полагалась охрана.
Яков долго жил в большой дружной семье, с двоюродными братьями. Ему очень нужны были близкие люди, внимание и забота. Мачеха была занята маленькими детьми. Яков вначале тянулся к отцу, пытался ему угодить, добиться от него похвалы. Но всякий раз отец отвечал ему равнодушием или презрительной усмешкой. Сталин был невероятно подозрителен и не делал исключения для детей: если Яшка ластится к нему — значит, ему что-то нужно.
В доме его так и звали — Яшкой. Со временем Яков Привык жить сам по себе. И стал очень самостоятельным, в отличие от брата и сестры. Эта самостоятельность проявилась в том, что после окончания школы он сам выбрал себе институт, отнес документы в приемную комиссию и стал сдавать экзамены. Никто за него не хлопотал, никто не звонил из приемной Сталина ректору МИИТа. А в институте никто не обратил внимания на скромного абитуриента Джугашвили.
И только после экзаменов ректору позвонил сам Сталин и осведомился, правда ли, что Яков Джугашвили успешно сдал экзамены и зачислен в институт. Перепуганный ректор пролепетал, что это правда.
В институте Якова любили за простоту и непритязательность. Он никогда не выпячивал свою принадлежность к кремлевской элите, всегда держался в тени, в отличие от младшего брата Василия. Характеристикам того времени едва ли можно доверять, но все характеристики Якова эти его качества подчеркивают. Он принимал посильное участие в общественной жизни института, писал заметки в институтскую стенгазету. И не раз становился победителем в шахматных турнирах.
Светлана Аллилуева вспоминает старшего брата с любовью. Яков мог бы стать ее единственным лучшим другом на всю жизнь. К сожалению, отношения с родственниками, племянниками и даже собственными детьми нельзя назвать близкими и теплыми. Но с Яковом они могли сложиться по-другому. Он был так «очаровательно спокоен», мягок, терпелив.
Но даже покладистого, тихого Яшу можно было вывести из себя. «В нем был внутренний жар, — отмечала Светлана. — Я видела раз или два, что он может и взорваться. Это всегда происходило из-за Василия, из-за привычки последнего сквернословить в моем присутствии, и вообще при женщинах и при ком угодно. Яша этого не терпел, набрасывался на Василия как лев, и начиналась рукопашная» («Двадцать писем к другу»).
Несмотря на эти редкие потасовки между братьями, Василий не держал на Яшу зла. Между ними существовала большая разница в возрасте. Когда Светлана с Василием были еще малышами, Яков охотно играл с ними и снисходил до их детских интересов, хотя у взрослого молодого человека могли найтись занятия более важные. За это они любили старшего брата. Его трудно было не любить. Якова опекали даже родственники Надежды Аллилуевой, в общем, чужие ему люди.
Якову едва исполнилось девятнадцать, когда он не на шутку влюбился и собрался жениться на своей бывшей однокласснице Зое. Оказалось, в мягком, медлительном юноше таилась страстная натура. Разыгралась трагедия, потому что родственники, конечно, и слышать не желали о браке. Мачеха, дядя пытались убедить Яшу, что заводить семью можно только после института, крепко встав на ноги и обеспечив себя и жену.
А «отец не хотел ему помогать и вообще вел себя как самодур», — вспоминала по этому поводу Светлана, которая не часто позволяла себе такие высказывания об отце. «Он хочет посадить мне на шею свою семью», — говорил Сталин. К тому же Зоя оказалась дочерью священника, а бывший семинарист Иосиф Джугашвили терпеть не мог попов.
После нескольких безобразных скандалов и ссор Яков решил покончить с собой. Вернее, влюбленные обсудили свое положение и пришли к выводу, что у них нет другого выхода — они должны вместе, как Ромео и Джульетта, уйти из жизни. Яшу и Зою, как и влюбленных из Вероны, разлучали жестокие родители. Об этом трогательном и романтическом эпизоде рассказала в своих воспоминаниях дочь Якова Галина Джугашвили.
Яков вел себя твердо и непреклонно. Вернувшись с последнего свидания, он выстрелил в себя из револьвера в маленькой комнате рядом с кухней. Пуля прошла навылет, но все же рана оказалась довольно опасной, и Яков долго болел. Зоя почему-то не сдержала слова: то ли воли не хватило, то ли помешали родители.
Мачеха осуждала Якова за этот легкомысленный поступок. Кто бы мог подумать тогда, что через несколько лет Надежда Аллилуева таким же путем уйдет из жизни. Отец нисколько не смягчился. Наоборот — стал относиться к Якову еще хуже. «Ха! Он даже застрелиться как следует не сумел!» — так отреагировал Сталин, узнав о неудачном самоубийстве.
Яков, когда поправился, оставил институт и уехал вместе с Зоей в Ленинград. Его приютил дедушка Светланы Сергей Яковлевич Аллилуев. Он все-таки поступил по-своему — женился на любимой девушке. Через год у них родилась дочь, но прожила недолго. После смерти ребенка брак Якова и Зои быстро распался.
Личная жизнь у Якова Джугашвили была довольно бурной. Он нравился женщинам и имел у них успех. С Ольгой Голышевой он познакомился в Урюпинске, в доме родственников Аллилуевой. В январе 1936 года у Ольги родился сын Евгений. Яков дал ему свое имя, но на его матери так и не женился. Еще до появления на свет малыша Яков познакомился с танцовщицей Юлией Мельцер и серьезно увлекся ею.
Узнав об этом, дамы из семейства Аллилуевых — Сванидзе, окружавшие в то время Сталина, переполошились. Об этом много лет спустя писала в своих воспоминаниях дочь Якова Галина Джугашвили. «Дамы» даже уговаривали Иосифа повлиять на сына: Юлия была старше Якова, успела побывать замужем, и не однажды.
Сталин на это отвечал: «Мужчина любит ту женщину, которую любит. Да и вспомните, что уже было?» Он имел в виду неудачную попытку Якова покончить с собой. Что касается опереточного прошлого новой невестки, «дед отшучивался, ссылаясь на всеобщее «брожение умов», пытался объяснить даже, что мужчина не меняется от того, в какую женщину влюблен: принцессу или белошвейку, монахиню или певицу в кабаре».
Насколько можно доверять этим воспоминаниям? Ведь Галины тогда еще не было на свете, и узнать об этом разговоре за чаем она могла от своей тетки Светланы, которая несколько лет ее опекала, или от матери. Мария Анисимовна Сванидзе, одна из «дам», подтверждает в своем дневнике: «Были у И. (Иосифа. — В. С.). Он уже знает о женитьбе Яши и относится лояльно-иронически. Конечно, стоит ли заниматься Яшиными увлечениями, в конце концов Яше двадцать семь или двадцать восемь лет, и он сам может отвечать за свои деяния».
Галина несколько раз виделась с дедом. Он, по многочисленным отзывам, относился к ней внимательней и теплее, чем к другим внукам. Он даже попросил Светлану позаботиться о девочке, когда ее мать была арестована. Во всяком случае, у Галины остались довольно теплые воспоминания о деде, где он предстает человечным, умеющим остроумно пошутить, снисходительно иронизировать над слабостями легкомысленного чада. И даже пофилософствовать на вечную тему о любви мужчины к женщине. Яков как-то пожаловался Светлане: «Отец говорит только тезисами». Осталось немало, других свидетельств о том, что «вождь народов» изъяснялся суконным языком и любил крепкие выражения.
В 1935 году, когда Яков познакомился с Юлей, он уже примирился с отцом и вернулся в Москву. В Ленинграде он работал на ТЕП инженером-электриком и в Москве устроился на электростанции завода имени Сталина в той же мирной должности.
И вдруг в 1938 году Яков решил поступить в Артиллерийскую академию имени Дзержинского. Этот поступок брата так и остался загадкой для Светланы. Яков не был тщеславен и по своей натуре словно предназначался для гражданской, тихой жизни. В том же году у них с Юлей родилась дочь Галина. Он и мечтал только о дочери, а не о сыне, как большинство отцов.
Этот поступок можно объяснить только тайным желанием угодить отцу, хотя бы раз заслужить его одобрение. Все знали об особом расположении Сталина к армии и военным. И к мундиру. При всей его неприхотливости в одежде он иногда, облачившись в мундир наркома обороны, долго любовался своим отражением в зеркале. И не скрывал, что хотел бы видеть сыновей и внуков кадровыми военными.
Как относились дети Сталина к отцу? Эти отношения — запутанные клубки противоречивых чувств и эмоций. Превалируют, несомненно, страх, почитание, преклонение. Но порой вспыхивали и ненависть, и обида. Многие люди, близкие вождю, например его секретарь Б. Бажанов, С. Гинзбург, утверждали, что «он был очень жестоким отцом и еще более жестоким дедом: «его дети никогда его не занимали… Его занимал только он сам. Сделав несчастными миллионы людей, он сделал несчастными и своих близких».
Несмотря на равнодушие и грубость (даже со своей любимицей Светланой Сталин порой бывал крут), дети его любили. Любил и «пасынок» Яков. Неизвестно, как отнесся отец к его решению стать военным. В мае 1941 года Яков получил диплом и стал командиром артиллерийской батареи.
В книге «Хроника одной семьи» Владимир Аллилуев, двоюродный брат Якова, вспоминает июнь, последние дни перед войной и последнюю встречу с Яковом: «…все шло своим чередом. В школах закончились экзамены. Мы продолжали жить в Зубалове. Произошел очередной скандал, учиненный Юлией, и мать с бабушкой поругались из-за нее с Яшей… В начале июня пошли маслята. Их было невероятно много, и старые люди говорили, плохая примета — к войне. Буквально накануне ее начала в Зубалово приехал Яков, поздним вечером зашел к нам в комнату и попросил прощения у бабушки и мамы за прошлый скандал. В тот вечер никто еще не знал, что мы видим Яшу в последний раз».
Мама — это Анна Сергеевна Аллилуева-Редерс, бабушка — Ольга Евгеньевна Аллилуева. Женщины не очень жаловали жену Якова, потому что «с ее появлением в нашей семье начались бесконечные склоки и раздоры, — пишет Владимир Аллилуев. — Эта женщина всегда ассоциировалась у меня с пиковой дамой, она даже внешне была похожа на нее».
Но уже через несколько дней мелкие семейные дрязги были забыты. В конце июня артиллерийский полк, в котором старший лейтенант Джугашвили командовал батареей, был отправлен на фронт, в самое пекло, в Белоруссию. Недолго довелось Якову воевать. 4 июля его батарея попала в окружение. И уже в августе немецкие самолеты сбрасывали на позиции Красной Армии тысячи листовок с фотографией Якова и кричащим текстом:
«Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. По приказу Стали на учат вас Тимошенко и ваши политкомы, что большевики в плен не сдаются. Однако красноармейцы все время переходят к нам. Чтобы запутать вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен. Потому что всякое сопротивление германской армии отныне бесполезно. Следуйте примеру сына Сталина — он жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Зачем вам приносить бесполезные жертвы, идти на верную смерть, когда даже сын вашего верховного заправилы уже сдался в плен? Переходите и вы!»
Сохранился протокол допроса Якова Джугашвили профессиональным разведчиком капитаном Штрикфельдом, который пытался завербовать сына Сталина, но безуспешно. Яков держался спокойно, с достоинством, отказался написать отцу и жене, заявил, что не верит в падение Москвы. Немцы уже подходили к столице. Больше всего беспокоило Якова, как бы отец не поверил в его предательство! На допросе он признался, что их захватили слишком стремительно и он не успел покончить с собой.
— Как узнали, что вы сын Сталина, ведь у вас не было обнаружено никаких документов? — спросил у него переводчик.
— Меня выдали некоторые военнослужащие моей части, — отвечал Яков.
Действительно, в истории его пленения было много таинственных, необъяснимых моментов. Скорее всего, лейтенанта Джугашвили заманили и предали, и операция эта была спланирована заранее. Болезненно подозрительному Сталину кто-то «нашептал», не причастна ли к этой «акции» жена Якова Юлия Мельцер? В то время подозрений было достаточно для того, чтобы Юлию арестовали, и она провела под следствием целых два года. В конце концов выяснили, что она ни при чем.
Пока Юлия была в лагере, за Галей «присматривали» Светлана и ее нянька. Так пожелал сам Сталин. Он проявил непонятную для окружающих заботливость к дочери Якова. Обычно он был довольно равнодушен к своим внукам и из восьмерых видел только Галю и детей Светланы.
Галина Джугашвили вспоминала, что шестнадцатилетней тетушке Светлане очень нравилась роль наставницы, и она играла ее с удовольствием. Семья с нетерпением ждала вестей о Якове, и вести эти были неутешительны.
Якова несколько раз переводили из одного лагеря в другой. После того как не удалось завербовать его и превратить во второго генерала Власова, немцы попытались его обменять на Паулюса. И тогда Сталин произнес свою ставшую крылатой фразу: «Я солдат на маршалов не меняю».
Последние свои дни Яков провел в лагере Заксенхаузен. В архиве мемориала музея хранятся воспоминания бывших узников, по которым можно восстановить картину его гибели. «Яков Джугашвили постоянно ощущал безысходность своего положения. Он часто впадал в депрессию, отказывался от еды, особенно на него подействовало не раз передававшееся по лагерному радио заявление Сталина о том, что «нет военнопленных, есть изменники Родины». Возможно, это и подтолкнуло его на безрассудный шаг…».
Историк Александр Колесник много лет посвятил изучению темы «Сталин и его окружение». Ему удалось отыскать немало ценных, труднодоступных документов. Таких, как воспоминания бывшего военнопленного Александра Салацкого, опубликованные в первом номере «Военно-исторического обозрения» за 1981 год в Варшаве. Они добавляют новые штрихи к истории самоубийства Якова.
В лагере русские офицеры жили в одном бараке с англичанами. Отношения между ними были напряженными. Не только потому, что англичане получали продуктовые посылки и даже денежное довольствие. Причиной стычек были идеологические разногласия. Англичане отдавали честь немецким офицерам, отношение к ним было не в пример мягче, чем к русским. За это наши военнопленные их презирали, называли трусами и подхалимами. В ответ англичане высмеивали национальные недостатки своих «однобарачников».
14 апреля 1943 года после обеда вспыхнула особенно безобразная ссора. Один из англичан обозвал русских «большевистскими свиньями». Завязалась драка, и в драке кто-то из английских офицеров ударил Якова по лицу. Салацкий уверен, что именно эту пощечину Яков не смог пережить, она стала последней каплей в цепи его страданий.
Вечером Яков отказался войти в барак и потребовал встречи с комендантом. Вероятно, ему невыносимо было видеть человека, впервые в жизни так унизившего его. Едва ли кто-то бил его, кроме отца. Комендант отказался с ним встретиться. Тогда Яков быстрым шагом направился в сторону забора из колючей проволоки. В тот вечер дежурил офицер СС Конрад Харфих. Ему пришлось писать отчет, потому что застрелил он не совсем обычного заключенного.
Харфих докладывал: «Джугашвили пролез через проволоку и оказался на нейтральной полосе. Затем он поставил ногу на полосу колючей проволоки… схватился за электрический провод… и закричал: «Часовой! Вы же солдат, не будьте трусом, застрелите меня!» Харфих выстрелил из пистолета Пуля попала в голову. Смерть была мгновенной. Часового оправдали — он действовал по инструкции. Тело Якова сожгли в крематории. В день в лагере умирали от голода и болезней по сорок — пятьдесят человек.
В 1945 году лагерь освободили американцы. К ним в руки попали все документы и лагерные архивы. И немцы, и американцы долго скрывали, что сын Сталина погиб. На это были причины. Чиновник британского МИДа в письме к американскому коллеге просил не докладывать об этом Сталину: «Несомненно, было бы плохо обращать внимание на то, что смерть его сына вызвана англо-русской ссорой». Англичане и американцы решили «не огорчать» Сталина, особенно накануне Потсдамской встречи.
Но у Сталина были свои, тайные каналы, по которым он получал любую информацию. И судя по воспоминаниям близких к нему людей, судьба Якова не была ему безразлична. Как-то маршал Г. К. Жуков спросил у него, есть ли сведения о судьбе Якова? «На этот вопрос он ответил не сразу, — вспоминал Георгий Константинович. — Пройдя добрую сотню шагов, сказал каким-то приглушенным голосом: «Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты. По наведённым справкам, держат они его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине». Чувствовалась, он глубоко переживает за сына. Сидя за столом, И. В. Сталин долго молчал, не притрагиваясь к еде».
Светлане даже показалось, что отец слишком поздно, когда Яша уже погиб, почувствовал к нему какое-то тепло и осознал несправедливость своего отношения к нему. Сталин несколько раз в разговорах с дочерью вспоминал старшего сына и при этом всегда приходил в волнение, «ему было тяжко». И все же в «Двадцати письмах к другу» Светлана упрекает отца за то, что он отказался обменять брата и «тем самым бросил его на произвол судьбы. Это весьма похоже на отца — отказываться от своих, забывать их, как будто их и не было. Впрочем, мы так предали всех своих пленных».
Если бы Яков Джугашвили знал, что отец не считает его предателем, что семье известно о его достойном поведении в плену, возможно, его судьба сложилась бы иначе. Отчаяние и страх толкнули его на колючую проволоку. Посмертно лейтенант Джугашвили был награжден орденом Отечественной войны. Этим Сталин как бы полностью реабилитировал сына.
После войны имя Якова стало обрастать чудесными легендами и мифами. Говорили, что он жив-здоров, отец все-таки обменял его на генерала и отправил в Америку. Находились «очевидцы», которые видели Якова «своими глазами»… в Грузии, где он и доныне живет под чужой фамилией. Итальянские газеты писали, что сын Сталина бежал из лагеря, воевал вместе с партизанами в отряде, женился на итальянке, которая родила ему двоих детей. По другой версии, Яков бежал из лагеря в Турцию или Ирак и Садам Хусейн — его сын. Другие «небылицы» настолько нелепы, что не заслуживают внимания.
Но долгие годы после войны семья продолжала надеяться. Вот о какой загадочной истории упоминает Галина Джугашвили в своей книге. «Светлана стала получать странные посылки (я училась тогда на пятом, последнем курсе). Она часто приходила к нам и подолгу болтала с Ма, сидя за тяжелым, дубовым столом… Как-то я увидела на ее ногах необычные босоножки: два широких скрещенных ремня, — такую обувь у нас не носили. На мой вопрос она ответила, что это подарок и ей прислали из-за границы. Потом был летний пестрый костюм, какие-то салфетки и скатерть, мужской галстук (она готовилась к свадьбе с двоюродным братом моего отца Джонридом Сванидзе). Посылки шли от неведомого друга, не называвшего себя, но хорошо знавшего ее жизнь (хотя бы галстук, явно адресованный будущему мужу) и которого она, возможно, тоже знала. Она подолгу, растягивая подробности, говорила о неизвестном друге…»
«Посылки от Яши!» — решила потрясенная Юлия. К этому выводу ее медленно и верно подвела Светлана. Здравомыслящая Галина повела настоящую войну с матерью и теткой. Приводила неопровержимые доводы: если отец жив, то почему нашел Светлану, а не нас? Но мать была создана для веры, безоглядной, слепой и неистребимой, а Светлана говорила вкрадчиво: «Вы, молодежь, — циники, а мы, старое поколение, романтичны!»
В конце концов решили послать письмо Доре, двоюродной сестре Якова, в Тбилиси. Ее муж тоже попал в плен, но после войны не вернулся домой, а остался в Западной Германии и теперь жил в Мюнхене. Ответ пришел через несколько месяцев. Муж Доры, оказывается, давно искал Якова. В каждой стране есть грузинская община, и если бы Яков Джугашвили остался в живых, то он не смог бы затеряться в мире. Никто не видел его живым и никто ничего не слышал о нем.
Правда, в разных странах мелькали в газетах и журналах статьи о чудесных спасениях сына Сталина. Варианты предполагались разные — от побегов до выкупов, от романтических историй до псевдо-точного изложения событий и дат. Родственники и знакомые бросались на поиски, но «встречали только недоумение и пустоту». Удалось ли Галине убедить мать и Светлану в том, «что он мертв и он верен нам»? Об этом она не пишет. Но, кажется, на этот раз доводы были такими убедительными, что последние надежды не могли не угаснуть. К тому же после войны минуло уже двадцать лет…
У Якова Джугашвили нет ни могилы, ни памятника. Но разве слова, сказанные о нем сестрой, не дороже мраморного надгробия: «Благодарной памяти Яши заслужил, разве быть честным, порядочным человеком в наше время — не подвиг?» («Двадцать писем к другу»).
Василий
Владимир Аллилуев в «Хронике одной семьи» рассказывает о Василии и Светлане с родственной теплотой и снисходительностью. Это подкупает, потому что потомков кланов Аллилуевых, Сванидзе, Джугашвили едва ли можно назвать дружными.
От родителей им достался нелегкий характер, жесткий, неуравновешенный, признает В. Аллилуев, но Василий «был намного проще и, я бы сказал, мягче Светланы». О Василии двоюродный брат пишет с особой симпатией, подчеркивая его простоту, демократичность, широту души.
Другие родственники, знакомые, сослуживцы Василия не скрывали его многочисленных пороков и пытались найти объяснения, почему у него сложился такой неуравновешенный характер, почему он так рано начал пить и к двадцати двум годам стал хроническим алкоголиком.
Жизнь в семье, несмотря на все удобства и привилегии, не была безоблачной. Незадолго до смерти Надежда Аллилуева говорила сестре, что собирается уехать от мужа в Куйбышев и начать новую жизнь. Анна Сергеевна иначе как «мученицей» не называла бедную Надюшу. Неурядицы в семье не могли не сказаться на детях.
Чрезмерная нервность и неуравновешенность Василия объяснялась дурной наследственностью. Мария Анисимовна Сванидзе в своем «Дневнике» вспоминает, как они ездили осматривать новые станции метро. Это было в 1934 году. Шумная толпа, грохот поездов, всеобщее возбуждение так взвинтили Василия, что, вернувшись домой, он бросился на кровать и истерически разрыдался. Мария Анисимовна недолюбливала Аллилуевых и не упускала случая напомнить, что Федор, брат Надежды, сошел с ума, Павел, по ее мнению, медленно впадал в маразм, да и Анна была психически неполноценной. Надежду Мария Анисимовна Сванидзе любила и с горечью писала, что та в последние месяцы часто впадала в черную меланхолию. В этом состоянии она, возможно, и решила уйти из жизни…
Что касается пристрастия к алкоголю, то в этом несчастье Василия биографы винили его отца. Сталин считал, что хорошее виноградное вино полезно детям. Как ни противилась Надежда Сергеевна, муж постоянно угощал детей вином. У Василия это переросло в пагубную привычку…
В сущности, он был предоставлен самому себе. Отец и мать слишком заняты. Детей пестовали и воспитывали няня, экономка, учителя, обслуга, охрана. Позднее Василий жаловался, что именно охранники, грубые солдафоны, научили его пить и сквернословить. Он пытался бороться со своими пороками, но у него был слишком слабый характер.
Василий не раз повторял, как сильно любил мать и каким ударом для него была ее смерть. Мария Анисимовна Сванидзе пишет по этому поводу: «Светлану отец считает менее способной, но сознающей свои обязанности. Обоих он считает (Светлану и Василия) холодными, ни к кому не привязанными, преступно скоро забывшими мать. Очень неровными в отношении к окружающим». Мария Анисимовна считала эту характеристику очень точной и, как обычно, восхищалась проницательностью дорогого Иосифа. «Он знает их до мелочей. Он прав всегда во всем. Какой это аналитический ум, какой он исключительный психолог. Будучи таким занятым человеком, как он, знает всех окружающих до мелочей!»
У Марии Анисимовны был только один кумир — Иосиф. К окружению «великого человека», даже к его детям, она относилась очень критически. Ей принадлежат самые жесткие и нелицеприятные характеристики Василия, тогда еще подростка.
«Обстановка создана идеальная, чтобы учиться, развиваться и быть хорошим, — рассуждала она. — Ужас в том, что дети чувствуют привилегированность своего положения, и это их губит навеки. Никогда у великих родителей не бывает выдающихся детей».
После смерти матери Василий становится совершенно неуправляемым. Он плохо учится, грубит учителям, прогуливает занятия на футбольном поле. С ним не справляются ни воспитатели, ни учителя, ни обслуга. И все обращаются с жалобами на невыносимого Васю в последнюю инстанцию, к высшему судие — отцу. Только его Василий боялся и признавал. Отец, как мог, его вразумлял.
Светлана вспоминает, что в первые годы после смерти матери отец был очень внимателен к ним, сам проверял дневники, интересовался учебой. Вот что пишет Сталин коменданту дачи в Зубалове осенью 1933 года: «Следите хорошенько, чтобы Вася не безобразничал. Не давайте волю Васе и будьте с ним строги. Если Вася не будет слушаться няню или будет ее обижать, возьмите его в шоры. Держите Васю подальше от Анны Сергеевны, она развращает его вредными и опасными уступками».
Большинство наставлений касалось Васи, Светлана не доставляла стольких хлопот. Но и дочери Сталин посвящал несколько строк: «Светлану надо немедленно определить в школу, иначе она одичает вконец».
В «Дневнике» за 17 ноября 1935 года Мария Анисимовна Сванидзе рассказывает о семейном ужине в Зубалове. За столом, как обычно, говорили и о детях. Сталин, выведенный из терпения, пригрозил сыну выгнать его из дому, а вместо него взять на воспитание троих способных парней. На исправление Василию был дан срок — два месяца. Родственники притихли, они не верили, что мальчик сумеет исправить двойки за два месяца, и считали угрозу уже осуществившейся.
«Конечно, Васю надо привести в порядок, — пишет Мария Анисимовна. — Он зачванился тем, что сын великого человека, и, почивая на лаврах отца, жутко ведет себя с окружающими». Прошло всего две недели, и в том же «Дневнике» Мария Анисимовна отмечает не без тайной иронии, что Вася уже прощен и допущен к отцу. И продолжает: «Я очень рада. Вася — мальчик чрезвычайно жизнеспособный и хитрый, он умеет обходить даже собственного отца и являть себя прямым и искренним, не будучи таковым на самом деле».
О хитрости и склонности к интригам в характере Василия упоминали впоследствии и его сослуживцы и близкие. Светлана не раз в сердцах называла брата «невозможным», невыносимым, и тут же замечала, каким он становился паинькой при появлении отца. Впрочем, эти чудесные превращения замечали и за ней наблюдательные родственники.
Владимир Аллилуев уверяет, что Василий терпеть не мог подхалимов и льстецов, а сестра пишет, что только подхалимы его и окружали. Но всегда находились мужественные и принципиальные люди, которые смело давали отпор зарвавшемуся сынку. Они были и среди учителей, и среди сослуживцев, и среди командиров Василия Сталина.
Директор элитарной школы, где он учился, во всем мирволил и потакал детям всесильных чиновников, в особенности сыну самого Сталина. Но вот учитель истории, возмущенный наглостью избалованного недоросля, написал письмо Сталину, в котором рассказал и о двойках, и о прогулах, и о грубости Василия. И заодно о том, как развращает детей подхалимство таких учителей, как директор И. В. Моисеев.
Нетрудно представить, с каким нетерпением учитель ждал ответа или какой-либо реакции на свое письмо. Это было в 1938 году. И вот ответ пришел.
«И. В. Сталин — В. В. Мартышину. 8. 6. 1938 г.
Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо. Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работой. Прошу извинения.
Василий — избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких «руководителей», нередко нахал, со слабой — вернее — неорганизованной волей. Его избаловали всякие «кумы» и «кумушки», то и дело подчеркивающие, что он — «сын Сталина».
Я рад, что в Вашем лице нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в школе. Василия портят директора, вроде упомянутого Вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если наглец — Василий не успел еще погубить себя, то это потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку.
Мой совет: требовать построже от Василия и не бояться фальшивых шантажистских угроз капризника насчет «самоубийства». Будете иметь в этом мою поддержку.
К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от времени брать его за шиворот.
И. Сталин».
Это письмо было опубликовано в «Учительской газете», товарищ Мартышин испытал сильное потрясение, а миллионы советских граждан еще долго умилялись гениальной простоте и справедливости вождя. Но если заглянуть на несколько лет вперед, умиление исчезнет. За эти годы Сталин много раз «брал сына за шиворот», распекал, сажал в карцер под арест, прогонял с глаз долой, но, несмотря на все эти меры, Василий продолжал пить, безобразничать, делать стремительную карьеру. Он по-прежнему ни с кем не считался.
Наконец, Василий расстался с ненавистной школой. Раньше он мечтал стать кавалеристом, как Буденный. Любил лошадей. Но после знаменитых перелетов Валерия Чкалова, когда все мальчишки помешались на самолетах, твердо решил стать летчиком. В 1938 году он поступил в Качинскую военную школу, которую окончил в 1940 году. Первое время Василий жил в училище на особом положении, в отдельной комнате, а не в казарме. Даже еду ему готовили отдельно, и он мог заказывать свои любимые блюда. Часто получал посылки, но надо отдать ему должное, всегда делил их с курсантами.
Когда Сталин узнал об этих привилегиях, начальник школы был снят с должности, а Василий переведен в казарму на тридцать человек «на общие харчи и махорку». Но он перенес эти перемены легко, потому что был «своим парнем, компанейским», по воспоминаниям сокурсников. Правда, на махорку он так и не перешел, а щедро делился со всеми курильщиками «Казбеком».
А. Колеснику, биографу семьи Сталина, не удалось обнаружить документов, подтверждающих получение Василием диплома и квалификации летчика ВВС после окончания училища. Интересные подробности военной службы Василия сообщили А. Колеснику бывшие сослуживцы, инструктора и командиры сына Сталина. Оказывается, он вышел из Качинской авиашколы в звании младшего лейтенанта без диплома. Ему была выдана справка о прохождении курса… и только. Причина все та же — пристрастие к алкоголю.
Войну Василий начал младшим лейтенантом без диплома, а окончил генерал-лейтенантом авиации. За какие заслуги он получал высокие звания, посты? На этот вопрос ответить трудно, хотя можно проследить основные этапы и ступеньки его головокружительной карьеры. Ни на одном посту он подолгу не задерживался. Всегда что-нибудь случалось, разражался скандал, и обычно Иосиф Сталин сам выгонял сына с должности, сажал на гауптвахту или отправлял в ссылку.
Личная жизнь Василия была довольно бурной. Уже в 1940 году он женился на Галине Бурдонской. Светлана Аллилуева вспоминала, что Галю за ее веселый и легкий характер быстро приняли и полюбили в их семье. От первого брака у Василия было двое детей — сын Александр и дочь Надежда. Но ни женитьба, ни отцовство не остепенили его. Он оставался таким же грубым, безответственным, неуправляемым и нетерпимым к чужому мнению.
В 1941 году его назначили на должность летчика-инспектора Управления ВВС КА, чтобы держать подальше от фронта. Сталин запретил ему участвовать в боях, боялся, как бы младшего сына не постигла участь старшего. Но Василий, несмотря на запреты, все равно летал. За войну он сделал двадцать семь боевых вылетов и сбил один самолет. Сослуживцы подтверждали, что трусом он не был, порой отличался какой-то безрассудной смелостью.
Должность инспектора, а потом начальника инспекции ВВС позволяла Василию часто прилетать в Москву, навещать родных. Он с удовольствием возвращался в мирную жизнь, любил шумные застолья, многолюдные компании. Вот как вспоминает об этом периоде его жизни Светлана:
«Возле него толпилось много незнакомых летчиков, все были подобострастны перед молоденьким начальником, которому едва исполнилось двадцать лет. Это подхалимничание и погубило его потом. Возле него не было никого из старых друзей, которые были с ним наравне. Эти же все заискивали, жены их навещали Галю и тоже искали с ней дружбы… В доме нашем была толчея. Кругом была неразбериха — и в головах наших тоже. И не было никого, с кем бы душу отвести, кто бы научил, кто бы сказал умное, твердое, честное слово… В дом вошел неведомый ему дух пьяного разгула. К Василию приезжали гости: спортсмены, актеры, его друзья — летчики. И постоянно устраивались обильные возлияния, гремела радиола».
Василий жил так, как будто не было войны. Изредка он попадал на фронт и окунался в нее, потом снова возвращался к привычному образу жизни. Через два года после начала службы он получил звание полковника — и лишился должности начальника инспекции ВВС после кратковременного, но безумного романа с женой известного кинорежиссера. Василий увез свою новую возлюбленную, правда, с ее согласия, и они отсутствовали, неизвестно где, несколько дней.
В это время обманутый и оскорбленный муж метался, искал жену и вынашивал план мести. Его приятель генерал Власик посоветовал пожаловаться самому Сталину. Муж так и сделал, написал письмо, а Власик письмо собственноручно передал Сталину. Резолюция была наложена такая: «Василия посадить на гауптвахту, ее вернуть домой». Что и было исполнено.
«Ни один случай, известный И. В. Сталину о поведении Василия, не прошел без внимания, сурового наказания», — утверждает полковник запаса И. П. Травников. И в доказательство приводит неопровержимые факты, — действительно, на гауптвахте Василий Сталин сиживал не раз. Но любопытно, как полковник И. П. Травников объяснит нам подобный казус: в январе 1943 года по приказу Сталина Василий освобожден от должности начальника инспекции ВВС, а спустя всего две-три недели (после отбытия наказания на гауптвахте) он же назначается командиром 32-го гвардейского истребительного авиаполка!!! С соответственным повышением в чине.
На этой должности Василий продержался совсем недолго. Уже в апреле он попадает в кремлевскую больницу с осколочными ранениями щеки и стопы.
Сохранились отчеты доктора генералу Власику об операции по извлечению осколков. Их было немало. Ранение оказалось не столько опасным, сколько болезненным и неприятным. И получил его молодой командир полка не на полях сражения.
Вот что рассказал на допросе один из адъютантов Василия. Он всегда появлялся в сопровождении адъютантов и телохранителей.
«Я, будучи адъютантом, принимал участие в рыбной ловле, которая была организована Василием Сталиным в районе города Осташково Калининской области. Эта рыбная ловля закончилась тем, что авиаснаряд «PC», которым мы глушили рыбу, взорвался в руках полкового инженера. Взрывом инженер был убит, а летчик Котов и В. Сталин ранены».
По-видимому, «рыбная ловля» была не единственным прегрешением Василия за четыре месяца пребывания в полку, потому что последовал специальный приказ наркома обороны СССР:
Командующему ВВС Красной Армии маршалу авиации тов. Новикову А. А.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Немедленно снять с должности командира авиационного полка Сталина Василия Иосифовича и не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения.
2. Полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул и за то, что он портит и развращает полк.
3. Исполнение донести.
Народный комиссар обороны И. Сталин. 26 мая 1943 г.Этот косноязычный и грозный приказ обрушился на злосчастный полк, а его командир отправился в восьмимесячную ссылку на дачу во Внуково. Там он восстанавливал здоровье и изнывал от тоски. Безудержная энергия бурлила в нем, не находя применения. «Этими бы руками чертей душить! — жаловался он близким. — А я тут сижу». Кстати, месяцы этой тихой ссылки Василий зачел себе в воинский стаж. В его автобиографии черным по белому записано, что с января по декабрь 1943 года В. Сталин командовал 32-м гвардейским истребительным авиаполком.
А с января 1944 года, не без ведома наркома обороны, он назначается командиром уже не полка, а дивизии! Дивизий Василий Сталин сменил несколько — Брянскую Краснознаменную, Нежинскую ордена Суворова, прежде чем стать командиром авиационного корпуса. В июле 1947 года он становится помощником командующего военно-воздушными силами Московского военного округа. Двадцатишестилетний генерал-майор авиации увешан орденами и медалями, как новогодняя елка. Он получил сразу два ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Это неправдоподобное возвышение «лейтенанта без диплома» отдает хлестаковщиной. Между тем биографы семьи Сталина продолжали утверждать, что он никак не способствовал военной карьере сына, что Василия развратили Берия и Маршал Советского Союза Булганин, которые давали «сынку» должности, чины и ордена. Действительно, приказ о назначении В. Сталина на этот раз на пост командующего ВВС Московского военного округа подписал в июне 1948 года маршал Н. А. Булганин. Но подпись И. Сталина сохранилась на постановлении Совета Министров СССР о присвоении Василию звания генерал-лейтенанта авиации. За какие заслуги?
В аттестациях В. Сталина разного времени отмечаются его хорошие профессиональные качества. Но к концу войны он уже не мог летать, потому что постоянно бывал пьян. Вот одна из характеристик, подписанная маршалом Г. К. Жуковым и генерал-полковником С. И. Руденко:
«Состояние здоровья — слабое — болезнь ноги, позвоночника, особенно при перегрузке, переутомление и расстройство нервной системы. В личной жизни допускает поступки, не совместимые с должностью командира дивизии. В обращении с подчиненными груб, крайне раздражителен». И тут же вывод — «занимаемой должности соответствует».
Несмотря на подобные характеристики, Василия Сталина назначают комкором, избирают депутатом Верховного Совета и посылают повышать теоретическую подготовку в Академию ВВС. В академию его зачисляют без экзаменов, преподаватели приезжают к нему на квартиру. Но, несмотря на все поблажки, учеба комкору не далась и академию он не окончил.
Эти годы — с конца сороковых до смерти И. Сталина — Василий прожил в угаре, совершенно потеряв чувство реальности. Он несся под уклон, как поезд без тормозов. Окончательно деградировал как личность, стал деспотичным, жестоким. Мог отхлестать по лицу старшего офицера, посмевшего сделать ему замечание. Мог выскочить из машины прямо на дороге и избить шофера, не уступившего ему дорогу.
Бесшабашность уживалась в нем с хитростью и склонностью к интригам. По воспоминаниям маршала авиации Е. А. Савицкого, под началом которого Василий служил в Германии, они вначале считали молодого генерала всесильным, пока не разобрались в нем. В то время отец был им недоволен и редко приглашал к себе. Зато Василий старался почаще видеться со Светланой и от нее узнавал «придворные тайны». Светлана и рассказала ему о том, что главкома ВВС Вершинина вскоре собираются убрать. Василий вернулся в дивизию и принялся открыто главкома ругать: Вершинин-де плохой, пора его снимать. Через несколько дней Вершинина снимают, и «у всех сложилось впечатление, что это Вася Сталин его снял».
Светлана очень беспощадно пишет о брате в «Двадцати письмах к другу». Упоминает и о том, что он «позволял себе все: пользуясь близостью к отцу, убирал немилых ему людей с дороги, кое-кого посадил с тюрьму». Маршалы авиации А. А. Новиков и А. Н. Шахурин действительно провели несколько лет в тюрьме, якобы именно по доносу Василия. Но сам Василий всегда это отрицал, и документальных подтверждений его участия в этом деле нет.
После войны личная жизнь Василия становится все более беспорядочной. Брак с Галиной Бурдонской продолжался всего четыре года. В 1944 году супруги расстались врагами, и, пользуясь своей неограниченной властью, Василий отнял у жены детей. Они не видели мать целых восемь лет, до 1953 года, когда Василий Сталин был осужден. Не оформив развода с Бурдонской, он женился на Екатерине Тимошенко, дочери маршала С. К. Тимошенко, которая родила ему сына и дочь. Но этот брак тоже был непродолжительным.
В пору увлечения спортом, когда Василий содержал за счет ВВС целые команды, он сошелся с пловчихой Капитолиной Васильевой. Сам он небрежно называл ее «моя сожительница». На самом деле Капитолина была ему женой, другом, всеми силами пыталась помочь выбраться из ямы. Но помочь ему было уже невозможно.
«Отец был для него единственным авторитетом, — пишет Светлана в «Двадцати письмах к другу». — Остальных он вообще не считал людьми, стоящими внимания. Какие-то темные люди: массажисты, спортивные тренеры, толпились вокруг него, подбивая его на разные аферы, на махинации с футбольными и хоккейными командами, на строительство за казенный счет каких-то сооружений, бассейнов, дворцов культуры и спорта. Он не считался с казной, ему было дано право распоряжаться в округе огромными суммами, и он не знал цены деньгам… Жил он на своей огромной казенной даче, где развел колоссальное хозяйство, псарню, конюшню. Ему все давали, все разрешали».
1 мая 1952 года было пасмурным и туманным, поэтому командование решило отменить участие авиации в военном параде. Но Василий, игнорируя распоряжение свыше, приказал поднять самолеты в воздух. «Авиация прошла плохо, вразброс, чуть не задевая шпили Исторического музея. А на посадке несколько самолетов разбилось… Отец сам подписал приказ о снятии Василия с командования авиацией Московского округа», — вспоминала Светлана Аллилуева о последнем в жизни Сталина первомайском параде. И о конце военной карьеры брата. Это была его последняя должность в армии.
Но генерал-лейтенант не мог остаться без места, его нужно было куда-то определить. И отец направил его на учебу в Академию Генерального штаба! Но учиться чему-либо Василий уже физически не мог. В академии он так и не появился, сидел безвылазно на даче и пил.
И на даче в Кунцеве 2 марта 1953 года он появился пьяным. Болезнь и смерть отца его напугали, потрясли. Он скандалил, обвинял правительство, врачей в том, что отца неправильно лечили, а может быть, «убрали». По словам сестры, «он вел себя, как наследный принц».
Тогдашний министр обороны Булганин предложил ему «утихомириться» и уехать куда-нибудь командовать округом. Василий и слышать не хотел о провинции: только Москва и авиация Московского округа, не меньше. Тогда его за невыполнение приказа уволили из армии в запас.
Весь апрель 1953 года Василий провел в кутежах и пьяных оргиях. Грозился всех разоблачить, высказал пожелание встретиться с иностранными корреспондентами и дать интервью… В «Двадцати письмах к другу» Светлана довольно подробно рассказывает о жизни брата в эти месяцы. И все-таки непонятно, за что он был арестован 28 апреля 1953 года и почему ни с того ни с сего началось следствие? «Всплыли аферы, растраты, использование служебного положения и власти сверх всякой меры. Всплыли случаи рукоприкладства при исполнении служебных обязанностей. Накопилось столько обвинений, что хватило бы на десятерых обвиняемых».
И все же очевидно, если бы Василий вел себя смирно, согласился уехать, ни ареста, ни процесса не было бы. И. П. Травников уверен, что «Василия убрали по злому умыслу Хрущева», потому что он слишком много знал. Сомнительно, что он мог стать политическим конкурентом Хрущева или серьезно навредить ему. Вероятно, Василий слишком вызывающе вел себя и своими пьяными оргиями компрометировал правительство и память И. Сталина, которого продолжали еще оплакивать в народе.
Почему-то раньше никому и в голову не приходило обвинять Василия Сталина за грубость и рукоприкладство. И за финансовые злоупотребления, которые оказались чудовищными. Только на посту главкома ВВС Московского округа он разбазарил более двадцати миллионов рублей. В те скудные и голодные времена это были огромные деньги.
Вот небольшие выдержки из протокола допросов Василия Сталина военной коллегией Верховного суда: только «на дооборудование» своей личной дачи Василий истратил 635 тысяч рублей вместо выделенных ему 296 тысяч. Кроме того, на благоустройство территории дачи и хозяйственные постройки было истрачено еще два миллиона рублей. Как и его отец, Василий во всем любил размах и монументальность. Зачем-то соорудил возле дачи мощную водокачку за полмиллиона, которая могла бы обеспечить водой маленький город.
Скромная оранжерея обошлась всего в 300 тысяч. Забетонированный берег реки влетел в копеечку — полмиллиона. Дача разрослась в настоящее поместье — с собственной телефонной станцией, холодильной установкой, баней, конюшней, большим фруктовым садом. На обустройство усадьбы командующего ВВС были потрачены деньги, предназначавшиеся на ремонт аэродромов.
Увлечения Василия спортом и охотой тоже обходились недешево государственной казне. На территории переяславль-залесского полигона, где он охотился и отдыхал со своей свитой, было создано целое охотничье хозяйство, построены домики, куплены и завезены олени, фазаны, куропатки и бобры. Все это сказочное Берендеево царство обошлось в 842 тысячи рублей.
Интересно, кто там охотится сейчас, какие нынешние баловни судьбы?
Протоколы допросов Василия Сталина свидетельствуют о том, что многие обвинения в растратах, злоупотреблении служебным положением он признал и раскаялся. Правда, пытался переложить часть вины и на чужие плечи. О строительстве бассейна он высказался так: «Моя сожительница Васильева Капитолина Васильевна меня подбивала на сооружение водного бассейна, и, желая угодить ей, а также рассчитывая популяризировать себя сооружением бассейна, я поставил перед собою задачу осуществить эту затею».
Василий лукавил. Все было как раз наоборот. Бассейн стал его страстью, но денег на эту дорогую «затею» не хватало, а обращаться к отцу он побаивался. Иосиф Сталин в последние годы стал особенно раздражителен и груб, мог при всех обругать непутевого сына «неучем и дураком». А к Капитолине он относился дружелюбно, даже представил ее своему окружению как невестку. Поэтому Василий заставлял свою «сожительницу», пловчиху, то и дело заводить с отцом разговоры о необходимости бассейна, без которого Москва просто не сможет прожить.
Василий не отрицал, что на валюту, выделяемую казной для ВВС, закупали для его семьи ценные сервизы, одежду, автомобили и другие вещи, не имеющие к военно-воздушным силам никакого отношения. Себя он считал человеком непритязательным и скромным, у него даже парадного костюма не было, не хватало денег! Но зато его жены были алчными и ненасытными. «Когда моя первая жена Бурдонская уходила от меня, то увезла с собой семь чемоданов барахла, — поведал он на допросе судьям. — Вторая жена тоже себя не обидела».
Здесь уместно будет привести отзыв о Василии, его «исключительной доброте и бескорыстии» Владимира Аллилуева, двоюродного брата: «Он мог спокойно отдать последнюю рубашку товарищу. На моих глазах он подарил прекрасную «татру» одному товарищу, который просто не мог скрыть своего восхищения машиной… Хорошо зная эти его качества, я никогда не поверю, что он мог присвоить какие-то казенные деньги, спекулировать заграничными шмотками» («Хроника одной семьи»).
В те годы заграничные автомобили можно было купить только за валюту, они были большой редкостью. Но Василий мог позволить себе время от времени поменять «авто» и сделать щедрый подарок другу. При этой широте души он был уличен следователями в мелких кражах: будучи командующим, вместе со своими адъютантами присвоил 69 тысяч рублей фиктивными приказами о награждении сотрудников ВВС Московского округа денежными премиями.
Военная коллегия Верховного суда приговорила Василия Сталина к восьми годам тюремного заключения. Отбывал он его во владимирской тюрьме. Светлана с Капитолиной Васильевой навещали его. «Этого мучительного свидания я не забуду никогда, — писала она впоследствии. — Василий требовал от нас ходить, звонить, говорить о нем где только можно, вызволить из тюрьмы. Он был в отчаянии и не скрывал этого. Он метался, ища, кого бы попросить, кому бы написать. Он писал всем членам правительства, вспоминал общие встречи, обещая, уверяя, что будет другим».
А Василий обвинял сестру в том, что она ни разу не навестила его в тюрьме. Отношения между ними в эти годы совсем испортились. Василий не мог простить сестре, что она не хлопотала за него. «Мы с Капитолиной, конечно, никуда не ходили», — не скрывала Светлана. Почему? Может быть, она предвидела, что Василий не сумеет тихо жить на воле, снова начнет пить, скандалить? Так оно и случилось.
Хрущев, зная об ухудшающемся здоровье Василия, отпускал его из тюрьмы в госпиталь подлечиться. А в январе 1960 года его освободили досрочно. Наверное, боялись, что он может умереть в тюрьме. Это вызвало бы нежелательные толки… Но на свободе Василий не пробыл и трех месяцев. Снова вокруг него завертелись какие-то «темные» люди, грузины, которые настоятельно рекомендовали ему поселиться в Грузии, где свято чтили память его отца.
«В Москве он быстро почувствовал себя тем, кем был раньше», — пишет Светлана. Василию Сталину вернули все — квартиру на Фрунзенской набережной, дачу в Жуковке, генеральское звание, пенсию, машину, партийный билет. Но он всем был недоволен и стремился в Грузию, где ему обещали создать подобающие сыну великого человека условия жизни.
Он вел себя по-прежнему шумно, скандально, грозился всех разоблачить и очень любил поучать окружающих. Со Светланой он в эти дни едва ли встречался. В апреле до нее дошли вести, что Василия снова арестовали и отправили «досиживать» свой срок во Владимир. Поводом послужила автомобильная авария, в которую Василий подал вместе с представителем иностранного посольства.
Через год он вышел на свободу. Ему предложили поселиться в любом городе, только не в Москве и не в Грузии. Он выбрал Казань и уехал туда вместе с медсестрой Машей, с которой познакомился в госпитале. Ему предоставили однокомнатную квартиру и генеральскую пенсию.
Сдержанно и суховато поведала Светлана о смерти брата в «Двадцати письмах к другу»: «19 марта 1962 года он умер, сутки не приходя в сознание после попойки с какими-то грузинами. Вскрытие обнаружило полнейшее разрушение организма алкоголем. Ему был всего лишь сорок один год». На похороны в Казань она не поехала.
По воспоминаниям дочери Василия Нади, отец после тюрьмы мечтал работать директором бассейна. Может быть, незадолго до смерти он смутно предчувствовал свое истинное предназначение. Многие отмечали его незаурядные способности хозяйственника и организатора. Он мог бы стать замечательным директором бассейна и счастливым человеком. Василий Джугашвили прожил не свою жизнь. Бездарно и неубедительно играл чужую роль «наследного принца», генерала Сталина, которого судьба вознесла на головокружительную высоту, а потом сбросила на самое дно…
Счастливое детство
Счастливое детство искупает тяжелые испытания, выпавшие в зрелые годы. Оно закаляет душу ребенка для будущих невзгод. Счастливое детство и тихая старость, а между ними — что кому выпадет. Но что бы ни выпало, за такую судьбу нужно благодарить Бога.
У Светланы Аллилуевой было счастливое детство. «Двадцать писем к другу» — довольно мрачное повествование, полное трагедий, смертей, горечи и разочарований. В книге только несколько безмятежных страниц, посвященных Зубалову, няне и немногим близким, родным людям, которые были с ней рядом в первые годы ее жизни, а потом исчезли навсегда.
Зубалово — осколок старой России, богатая усадьба, принадлежала до революции нефтепромышленнику из Баку. Когда-то, в девятисотые годы, Иосиф Джугашвили и Анастас Микоян вели кружки и устраивали стачки на заводах братьев Зубаловых. И спустя двадцать лет они со своими семьями по-хозяйски расположились в усадьбах бывших нефтяных магнатов.
Светлана Сталина росла и воспитывалась как настоящая помещичья дочка в уютном деревенском Зубалове. И воспоминания ее до смешного напоминают ностальгические записки старорежимной гимназистки о «сказочных, солнечных годах, веселом солнечном доме, полном детских голосов, веселых радушных людей, полном жизни, где хозяйствовала моя мама, а отец был в нем не бог, не «культ», а просто обыкновенный отец семейства».
В соседней усадьбе поселился Микоян со своей семьей. Там все оставалось неизменным, как при старых хозяевах — «мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии, на стенах — старинные французские панно, в окнах — разноцветные витражи, парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня». Наверное, и Зубалово поначалу было таким же. Но, к сожалению, Иосиф Сталин был болен зудом преобразований. По его планам постоянно что-то строилось, сносилось и перестраивалось. Все эти архитектурные сооружения отличались крайним уродством. Так что дому в Зубалове очень не повезло с новым хозяином.
Зато в самой усадьбе, по воспоминаниям Светланы, отец завел много полезных нововведений. Например, пасеку, а «рядом с ней две большие поляны, которые каждое лето засевались гречихой для меда… В отдалении от дома отгородили сетками небольшую поляну с кустарником и развели там фазанов, цесарок, индюшек, в небольшом бассейне плавали утки».
Кроме того, разбили большой фруктовый сад, посадили в изобилии клубнику, малину, смородину.
Еще в детстве Светлана подметила в отце чисто практический интерес к природе. Он не мог просто созерцать природу, любоваться ею. Ему нужно было хозяйствовать, преобразовывать ее. Светлана объясняла эту жажду деятельности крестьянскими генами в крови отца. Сам Иосиф Сталин никогда не работал в саду, только подрезал сухие ветки. Но любил обходить владения, окидывать их хозяйским взглядом, подмечая недостатки и упущения.
Именно отцу обязана Светлана тем, что росла в маленькой помещичьей усадьбе с ее уютным деревенским бытом — сенокосами, сбором грибов и ягод, качанием меда, «своими соленьями и маринадами». Хозяйство занимало только отца, а мать посадила возле крыльца несколько кустов жасмина и сирени. Этим ее вклад в обустройство усадьбы ограничился. Но почему-то после ее смерти зубаловский уют быстро сменился казенным чиновничьим духом.
К хозяйству Надежда Сергеевна была равнодушна. Зато она очень заботилась о воспитании и образовании детей. У них были хорошие гувернеры и гувернантки. Правда, это слово даже не произносилось. У детей советских руководителей могут быть только воспитатели и учителя! Брат Василий с раннего детства прослыл трудным ребенком. «Возле него находился чудесный человек, Александр Иванович Муравьев, — г пишет Светлана, — придумывавший интересные прогулки в лес, на реку. Были ночевки у реки в шалаше с варкой ухи, походы за орехами, грибами. Происходило это вперемежку с занятиями».
Наталья Константиновна, «воспитательница», очень талантливый педагог, занималась с детьми немецким. В шесть лет Светлана уже писала и читала по-русски и по-немецки. Кроме языка, Наталья Константиновна учила их с братом рисовать, лепить из глины, выпиливать из дерева.
Надежда Аллилуева обладала редким даром — умением искать, «подбирать» и иногда переманивать талантливых педагогов для своих детей и умелую старорежимную обслугу.
Домом ведала Каролина Васильевна Тиль из рижских немок. Сама Надежда Сергеевна не занималась ни кухней, ни семейным бюджетом, ни даже детьми. В те времена партийные женщины отдавали себя работе или учебе. Слишком погружаться в семейные проблемы, быт, воспитание детей считалось мещанством и буржуазными пережитками.
Светлана видела мать редко, но сиротой себя не чувствовала. Рядом с ней всегда была няня или «бабуся», Александра Андреевна, всю жизнь согревавшая ее ровным теплом, как огромная добрая печь. Бабусю тоже подарила дочери Надежда Сергеевна. Крестьянка из Рязанской губернии Александра Бычкова много лет служила горничной и няней в лучших интеллигентных семьях. Хозяева относились к ней не как к прислуге, а как к члену семьи, научили ее читать, по-городскому одеваться и причесываться.
Ни об одном человеке в своей жизни Светлана Аллилуева не писала с такой любовью. Бабуся отличалась необыкновенным терпением и снисходительностью, никогда ни с кем не ссорилась и умела ладить с самыми невыносимыми людьми. «Бабусю даже отец уважал и ценил», — заметила Светлана, и это была высшая похвала няне. Ведь из всей обслуги, подобранной Надеждой Сергеевной для кремлевской квартиры и Зубалова, уцелела одна бабуся. Остальные были изгнаны или из-за не совсем безукоризненного происхождения, или из-за подозрительных родственников.
Ретивые чекисты и в прошлом Александры Андреевны сумели «открыть» изъян: оказалось, до революции ее бывший муж служил писарем в полиции. Няню собрались выгнать, но Светлана заревела от горя, и сам Сталин приказал оставить няньку в покое. Она доживала свой век не с родным сыном, а со Светланой и похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Надеждой Аллилуевой по ходатайству самого Ворошилова.
«У нас был дом как дом, с друзьями, родственниками, детьми, домашними праздниками, — вспоминала много лет спустя Светлана. — Так было и в городской квартире, и особенно летом в Зубалово». Только няня до последних своих дней оставалась рядом с ней. А многочисленные друзья и родственники вдруг стали таинственным образом исчезать. И Светлана не могла понять и долго не знала — куда? Большинство из них умерли не своей смертью.
Но в те счастливые годы, казалось, ничего еще не предвещало будущих трагедий. Родители окружены друзьями и родными. Пикники, долгие застолья, вечерние чаепития были обычным времяпрепровождением. Светлане запомнилось, что взрослые часто веселились, должно быть по праздникам. В Зубалове подолгу гостили Г. Орджоникидзе с женой, Н. Бухарин, С. Киров и А. Енукидзе, крестный отец Надежды Сергеевны.
Няня из всех гостей больше любила Николая Ивановича Бухарина. Его «все обожали, — пишет Светлана. — Он наполнял весь дом животными, которых очень любил. Бегали ежи на балконе, в банках сидели ужи, ручная лиса бегала по парку. Я смутно помню Бухарина в сандалиях, в толстовке, в холщовых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с моей няней, учил ее ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья. С ним всем было весело. Через много лет, когда его не стало, по Кремлю долго еще бегала «лиса Бухарина» и пряталась от людей в Тайнинском саду».
Семейный клан Аллилуевых — Сванидзе был очень многолюдным. В то время Иосиф Сталин еще окружал себя родственниками, любил семейные обеды и ужины, на которых присутствовали несколько поколений, — шумели дети, чинно восседали старики, мужчины играли в бильярд, а женщины судачили о своем.
В сущности, Иосиф Джугашвили вырос бобылем, без братьев и сестер. Любил только мать, которую видел очень редко. Грузины — народ семейственный, клановый. Даже вождю народов, вознесенному до небес, нужны были близкие. Этот недостаток кровных родственников восполняли ему родители, братья, сестры его жен — Екатерины Сванидзе и Надежды Аллилуевой.
Все они были людьми непростыми. Только Надежде Сергеевне, умной и дипломатичной женщине, удавалось объединять своих разнохарактерных родственников. Светлана любила своих теток, дядей и кузенов. И о каждом из них сказала доброе слово в своих воспоминаниях «Двадцать писем к другу».
Александр Семенович Сванидзе, которого Светлана назвала «европейски образованным марксистом», был крупным финансовым деятелем, много лет работал за границей — в Лондоне, Берлине и Женеве. В молодости он увлекся революционной работой, познакомился с Иосифом Джугашвили и получил партийную кличку Алеша. С тех пор его так и называли. И для Светланы он был дядей Алешей, хотя родным дядей Сванидзе приходился только Якову.
В памяти Светланы дядя Алеша и тетя Маруся остались очень красивыми, интеллигентными, всегда прекрасно одетыми людьми — настоящими европейцами. Внешне они очень выделялись из толпы их знакомых и родственников, которые в большинстве своем не отличались ни вкусом, ни воспитанием, ни хорошими манерами. У кремлевских дам в то время, в начале тридцатых, еще не укоренилась привычка к роскошной жизни. Надежда Сергеевна Аллилуева всегда одевалась скромно, неприметно, не любила выделяться среди сослуживцев.
Поэтому чета Сванидзе была, конечно, белыми воронами. Их «широкий дом, полный дорогих красивых вещей», привлекал своим гостеприимством. Они «любили светскую жизнь и знали в ней толк». Мария Анисимовна, в прошлом оперная певица, слыла большой общественницей, не пропускала ни одного приема, вечера, театральной премьеры. Своего единственного сына Джонрида, Джоника, они воспитывали как барчука. Он изучал с гувернанткой языки, музыку, рисовал и лепил.
Светлана была еще слишком мала и не могла ни увидеть, ни почувствовать подводные скрытые течения, недоброжелательства, интриги в отношениях между родственниками. Но Мария Анисимовна Сванидзе вела «Дневник», бесценный документ, запечатлевший кусочек домашней жизни Сталина и его семьи. Как и всякий личный дневник, который ведут для себя, а не для возможных читателей в будущем, он полон бытовых мелочей, обид, претензий на близких, женских сплетен и домыслов.
Мария Анисимовна была очень тщеславна и претендовала на одну из главных ролей в окружении «великого человека», особенно после смерти Надежды Сергеевны, когда он так нуждался в заботе и утешении. Поэтому она очень ревниво относилась к другим родственникам, по ее мнению, людям мелким и недалеким, недостойным общества «дорогого Иосифа».
Мария Сванидзе считала себя близкой подругой Надежды Аллилуевой, умной, интеллигентной женщины. Но ее сестру Анну и братьев Павла и Федора недолюбливала. Всем Аллилуевым она дала очень жесткие, не всегда справедливые характеристики. Не раз намекала на дурную наследственность: Федор еще в молодости сошел с ума, долго болел; Павел и Анна, по ее мнению, тоже с возрастом впадали в маразм.
Аллилуевы по природе были натурами впечатлительными, тонкими, одаренными и простосердечными. Вот почему они так раздражали Марию Анисимовну, твердую, решительную, непреклонную. Она не упоминает, почему заболел Федор Аллилуев. Этот талантливый юноша должен был стать кабинетным ученым, математиком, физиком. Но война и революция распорядились его судьбой иначе. Он попал в отряд Камо, настоящего разбойника, который любил испытывать своих людей жестокостью. И слабая психика Федора не выдержала этого «испытания» кровью и насилием. Он сошел с ума.
Все это, конечно, было непонятно и чуждо Марии Сванидзе. Вот что записала она в своем «Дневнике» о процессе троцкистов: «Крупное событие — был процесс троцкистов — душа пылает гневом и ненавистью. Их казнь не удовлетворяет меня. Хотелось бы их пытать, колесовать, сжигать за все мерзости, содеянные ими. Торговцы родиной, присосавшийся к партии сброд. И сколько их! Ах, они готовили жуткий конец нашему строю, они хотели уничтожить все завоевания революции, они хотели умертвить всех наших мужей и сыновей. Они убили Кирова, они убили Серго». Мария Анисимовна искренне негодует и столь же искренне восхищается величием «дорогого Иосифа», непогрешимость которого не вызывает у нее сомнений.
Тем не менее ее критический глаз отмечал все неполадки в его семье, явные ошибки и промахи в воспитании детей. Василия она считала избалованным, испорченным мальчишкой. Но винила во всем «челядь». Это они портили детей, постоянно напоминали детям о привилегированности их положения. «В конце концов всем обслуживающим детей такого великого человека эпохи, каким является И. (Иосиф. — В. С.), выгодно, чтобы эти дети были в исключительных условиях, чтобы самим пользоваться плодами этой исключительности», — рассуждала Мария Анисимовна.
Сашико и Марико Сванидзе, родных сестер мужа, Мария Анисимовна считала особами недалекими и навязчивыми. Они суетились, вечно что-нибудь просили у Иосифа и пристраивали многочисленных родственников. И тут возникает вопрос, очень деликатный, — об искренности и бескорыстии сталинского окружения. Мария Сванидзе заботилась о карьере мужа, болезненно переживала, когда его обходили по службе. А такое случалось, конкуренция среди приближенных была острой, порой перерастала в грызню.
Случалось ли самой Марии Анисимовне обращаться с просьбами? Она делала это более дипломатично, чем прямодушные до бестактности золовки. Но порой срывалась и жаловалась на обидчиков и интриганов: «Я все же сказала, что Алексей работает лучше всех, и зря на него все нападают. В результате у меня было угрызение совести, что я закатила истерику, но Иосиф был бесконечно добр…»
Сталин до поры до времени действительно был добр к родственникам жены, щедро оделял их видными постами, приглашал в свой дом. Мария Анисимовна, не скрывая, гордилась своей избранностью: им выпало счастье жить рядом с величайшим человеком эпохи! Ей казалось, что это продлится вечно…
Но великие люди капризны и непредсказуемы. Почему вдруг Сталин так резко переменился к родственникам? Загадка? Но об этом — в другой главе, уже не о счастливом детстве, а о том времени, когда Зубалово вдруг обезлюдело, и Светлана, первые десять лет росшая в дружной, любящей семье, в окружении дядей, теток и кузенов, почувствовала вокруг пустоту и одиночество.
Брат Павел был самым близким человеком Надежды Сергеевны Аллилуевой. Нередко отмечали их внешнее сходство. Только женщины в этой семье, как правило, были более твердыми, решительными и принципиальными. А мужчины отличались мягкостью характера.
Как и брату Федору, Павлу пришлось воевать — и с англичанами под Архангельском, и с белогвардейцами, и с басмачами. Он стал профессиональным военным. «В конце двадцатых годов дядя Павлуша был послан советским военным представителем в тогдашнюю еще не фашистскую Германию. Официально он был прикомандирован к нашему торговому представительству», — пишет о нем Светлана в «Письмах к другу». Надежда Сергеевна навещала брата и его семью в Берлине, когда ездила в Карловы Вары для лечения и консультации с врачами. Она страдала от сильных головных болей.
Павел вернулся в Москву только после смерти сестры и работал в бронетанковом управлении. Вернее, служил в генеральском чине. Светлана вспоминает, как дядя с женой и детьми навещал их на даче: «Отец любил Павлушу и его детей. За столом было весело, как у всех обыкновенных, очень близких людей».
У Павла Сергеевича и его супруги Евгении Александровны Земляницыной было трое детей — Кира, Сергей и Александр. О Евгении Александровне нужно сказать особо… Она была дочерью священника, крупная, красивая и яркая женщина. Обладала качествами, редкими для кремлевских жен, — говорила все, что думала, не выносила лицемерия и отличалась чувством справедливости.
Сталин не скрывал своих симпатий к Жене. В «Дневнике» Марии Сванидзе находим загадочную запись, помеченную 1935 годом: «Иосиф шутил с Женей, что она опять пополнела. Теперь, когда я все знаю, я их наблюдала».
Чувствуется, что ревность ее слегка гложет, но тем не менее она признает достоинства Жени, ее ум, красоту. Эта женщина заслуживает благосклонность великого человека. Ни одного ядовитого замечания или укола в адрес Евгении Александровны мы в «Дневнике» не найдем. Ясно, что она не добивалась внимания Сталина. Скорее всего, просто ответила на его настойчивые ухаживания.
После смерти Павла Сергеевича в 1938 году Берия предложил Евгении Александровне стать сестрой-хозяйкой в доме Сталина. Наверное, это предложение было сделано ей не без пожеланий самого Хозяина. Но Евгения Александровна от такой чести почему-то отказалась и поспешила выйти замуж за своего старого знакомого, вдовца с двумя детьми. Это странное замужество было похоже на бегство. Родителей Павла Сергеевича оно даже обидело: подумать только, еще башмаков не износила после похорон мужа! Наверное, Евгения Александровна, в отличие от Марии Сванидзе, мудро рассудила: «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь…»
Анна Сергеевна Аллилуева была воплощением доброты и самоотверженности. Она жила для мужа и сыновей, родных и знакомых и всего человечества, почти не вспоминая о себе. Занималась чужими делами, за кого-то просила, хлопотала, переживала чужие беды, как свои.
«Отец всегда страшно негодовал на это ее христианское всепрощение, называл ее «беспринципной дурой», говорил, что ее доброта «хуже всякой подлости». Мама жаловалась, что «Нюра портит детей и своих и моих». Тетя Аничка всех любила, всех жалела и на любую шалость и пакость смотрела сквозь пальцы. Это не было каким-то сознательным, обоснованным поведением ее, просто такова ее природа, она иначе не могла бы и жить» («Двадцать писем к другу»).
«Тетя Аничка» ничем не напоминала свою строгую, собранную сестру. Одевалась кое-как, неряшливо и бестолково. И дом свой вела безалаберно и неумело. Впрочем, у нее была замечательная старая няня, которая занималась и детьми и кухней. Нетрудно представить, как должны были раздражать такую светскую даму, как Мария Анисимовна Сванидзе, непосредственность и простодушие Анны Сергеевны. Она писала в своем «Дневнике», как наполнялись слезами глаза Анны Сергеевны, когда отец отчитывал или наказывал Василия. Для Марии Анисимовны эта преступная доброта была синонимом глупости и полного отсутствия воли.
Но эти же качества почему-то притягивали к себе людей, Анну Сергеевну любили, у нее было много друзей, которые не отвернулись от нее в трудные дни. Среди этих друзей были люди, одно упоминание о которых приводило в трепет простых смертных. Но для Анны Сергеевны они были просто Климентом Ефремовичем, Лазарем Моисеевичем, Вячеславом Михайловичем.
Своего мужа, Станислава Францевича Реденса, Анна Сергеевна обожала, считала самым благородным и порядочным человеком на земле. Случалось, «доброжелатели» нашептывали ей на ухо, что супруг ей изменяет, но Анна Сергеевна не умела ревновать и верила своему Стасу безгранично.
Реденс — польский большевик, был сподвижником Дзержинского. После революции работал в ЧК Грузии. Берия его сразу невзлюбил. Может быть, видел в Реденсе конкурента. А от конкурентов он умел избавляться…
С начала тридцатых Реденс работал в Московском ЧК. Незадолго до своего ареста был избран депутатом Верховного Совета СССР. Светлане дядя Стас запомнился высоким красивым человеком с ослепительной улыбкой. Ее двоюродные братья, сыновья Анны Сергеевны, «выросли добрыми и мягкими — в мать и изящными — в отца».
Может быть, это детское желание — приукрасить своих близких, но ее дяди, тети и кузены маленькой Светлане казались очень красивыми людьми. А ранняя пора ее детства — солнечной, березовой, зубаловской. Она словно оправдывается перед читателем за то, что так подробно, любовно повествует о каждом из своих близких: «Я все время хочу воскресить старые годы, прежние солнечные годы детства, поэтому говорю о всех тех, кто был участником нашей общей, многолюдной жизни в те годы в Зубалово, в Кремле».
Участницей этой многолюдной жизни была и двоюродная сестра Светланы Кира, дочь Павла Сергеевича и Евгении Александровны. Кира Павловна тоже вспоминает с удовольствием зубаловское приволье. Правда, у взрослых были свои сложности в отношениях, но дети этого не замечали и не чувствовали. У них был свой мир, с играми, развлечениями.
Но в наши дни, читая много домыслов об окружении Сталина и его частной жизни, Кира Павловна осмысливает свое детство с позиций взрослого человека: «Я недавно прочитала книжку о Сталине, и там написано, что когда стало известно о самоубийстве Надежды Сергеевны, то Сталин нас разогнал, боясь, что мы ему отомстим. На самом деле он сделал все наоборот, он нас взял к себе на дачу в Зубалово. И мы все с 1932 года, и бабушка, и дедушка, и Сережа, и Саша, и папа с мамой, которые приезжали на субботу и воскресенье, все жили у него… Нам казалось, что он очень переживает, что ему страшно одному. Когда это случилось, они даже ночевали в Кремле и домой не приходили, оберегали его, дежурили там: то Анна Сергеевна, то мама, то Сванидзе. Думали тогда, что он руки на себя наложит или свихнется. Он очень переживал» (К. Политковская. «В доме на набережной»).
Светлана уверена, что ее близкие составляли круг людей, который связывал отца с обыденной жизнью, «служили источником неподкупной, нелицеприятной информации». Все ее дядья и тетушки приносили Сталину новости, иногда он сам просил женщин «посплетничать». После тридцать седьмого года этот круг стал исчезать, и Сталин оказался полностью отгороженным от жизни.
После тридцать четвертого, когда участились аресты, Павел Сергеевич и Анна Сергеевна осмеливались просить за друзей и знакомых. «Папа приходил очень расстроенный, потому что стали сажать его друзей, с которыми он жил и работал в Германии, Англии, — вспоминала Кира Павловна. — Он говорил Сталину: «Иосиф Виссарионович, раз вы сажаете моих друзей, знакомых, и меня вы должны тоже посадить». Он был человек очень справедливый, порядочный. А Сталин спрашивал: «Почему я вас должен посадить?» Папа отвечал: «Это мои друзья, значит, я такой же, как и они, враг?» И тогда их освобождали… Несколько раз так было, их освобождали, и, видно, Сталину это надоело…»
Берия сумел так изолировать вождя народов от реальной жизни, что близкие порой поражались его неосведомленности и наивности. Кира Павловна по этому поводу вспоминает один эпизод: «Сталин часто терял чувство реальности не только в политике, но даже в быту. Вот он как-то сказал маме: «Светлана просит денег, а мы жили на гривенник». Мама говорит: «Это вы жили, Иосиф, вы просто не понимаете, на каком вы свете». А он говорит: «Как я не понимаю?» — «А потому что сейчас совсем другие цены». Он был очень удивлен. Понятия у него были отсталые, восточного человека, все-таки не европейского…»
Евгения Александровна никак не могла избавиться от дурной привычки говорить правду. Она даже полагала, что обязана ее говорить Иосифу. И за это приобрела смертельного врага в лице Лаврентия Берии. Аллилуевы — Сванидзе недаром ненавидели его еще с Грузии и с тех времен, когда он начал появляться в Москве. Он уничтожил добрую половину их клана.
Но почти все родственники верили в неведение Иосифа Сталина. Слишком высоко он взлетел от земли и ее мелких, насущных проблем. Занимался большой политикой и довольствовался газетами и докладами своих чиновников, заверявших, что народ счастлив и вполне доволен. Этот вопрос — о ведении и о неведении — обсуждается и мусолится уже давно. Действительно, обязан ли глава государства знать, сколько стоит фунт говядины и буханка хлеба? Должен был Иосиф Сталин знать, что страна в разрухе, народ обнищал, цены в магазинах катастрофически выросли? Мария Анисимовна Сванидзе, женщина практичная и наблюдательная, часто писала об этом в «Дневнике», особенно незадолго перед арестом. Вероятно, эти насущные вопросы — о ценах, о пустых магазинах и уровне жизни — все-таки затрагивались, когда семья собиралась за столом, женщины «сплетничали» и судачили. Конечно, Сталин знал, как живут люди, но не хотел слышать об этом от родственников.
Светлана во всем винит Берию: «этот ужасный, злобный дьявол» сумел завладеть волей отца, внушить ему, что вокруг «личные недоброжелатели, враги». Это по его вине в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах счастливое детство Светланы Аллилуевой оборвалось довольно резко. Родственники исчезли, Василий уехал в училище, и Светлана осталась одна со своей няней. Одиночество для нее тягостно. Ведь она росла в большой семье, под крылом и заботой многочисленных близких людей.
От природы Светлана была очень «семейственной». Всю жизнь тосковала по семье, мечтала жить в кругу многочисленной родни. Но эта мечта по разным причинам не сбывалась. Не суждено! Через много лет, когда Светлана Иосифовна во второй раз покидала Москву и Россию в 1987-м, она в последний раз сидела за столом со своими братьями и думала о том же: «Мои братья так хороши собой, так напоминают мне тетю Аню, сестру мамы, и дядю Павлушу, ее брата. Я с ними в семье — как не была с самого детства… И я их никогда больше не увижу. Буду только хранить память об этих последних днях, проведенных вместе» (С. Аллилуева. «Книга для внучек»).
«Под надзором неусыпного ока»
«Это были годы, когда спокойно не проходило месяца, — все сотрясалось, переворачивалось, люди исчезали как тени, — вспоминает Светлана о конце тридцатых. — Это были годы неуклонного искоренения и уничтожения всего, созданного мамой. Это я видела, это понимала».
Едва ли девочка-подросток могла понять, почему застрелился дядя Серго (Орджоникидзе), близкий друг семьи. Его смерть объяснили вредительством врачей. И врачи Плетнев и Левин были осуждены, причем их обвинили еще и в смерти Горького. Арестовали мужа Анны Сергеевны чекиста Реденса, и он исчез навсегда. «Смутные рассказы о том, что дядя Стас оказался нехорошим человеком, не доходили еще до моего сознания во всей полноте», — признавалась Светлана.
Но уже тогда она почувствовала, как меняется характер отца: он становится все более мрачным, нелюдимым, подозрительным и жестким. Ему тяжело было приезжать в Зубалово, где все напоминало о погибшей жене. Нестерпимо было видеть ее братьев и сестер. Светлана пытается объяснить для себя эту неприятную перемену в отце: смерть матери он расценивал «как предательство, как удар ему в спину. И он ожесточился. Должно быть, общение с близкими стало для него тяжким напоминанием о ней, и он стал избегать этого общения».
Еще в тридцать четвертом году архитектор Моржанов построил для Сталина дачу в Кунцеве. Ближняя. «дача стала любимым жилищем угрюмого затворника, невзлюбившего уютное солнечное Зубалово. В огромном мрачном доме, который по его задумкам без конца перестраивался, Сталин по существу жил в одной комнате: на диване спал, за столом и работал и обедал, если не было гостей. Светлана видела отца все реже и реже.
После ареста Реденса Анна Сергеевна, ее любимая тетушка, перестала допускаться в дом и в Зубалово. Исчезла и чета Сванидзе. Кира Павловна рассказывает об этом в своих воспоминаниях «В доме на набережной». Аллилуевы и Сванидзе действительно жили тогда в доме на набережной в соседних подъездах.
«Мы переехали на другую квартиру и устроили новоселье, к нам пришел Алеша Сванидзе со своей женой Марьей Анисимовной (он был директором банка государственного, а она певицей, первый муж ее был какой-то фабрикант, от него сын Толечка). У нас подъезды были рядом — 10 и 12. Мы отпраздновали новоселье, она накинула пальто на свое красивое бархатное платье, он застегнул пиджак, и они пошли к себе. Прошло часа два-три, и вдруг прибегает их сын Толя с совершенно белым лицом и говорит: «Евгения Александровна, вы знаете, что маму арестовали. Вот так пришли, взяли маму, взяли папу, квартиру опечатали, их увезли в тюрьму». Мы были убиты, папа — совершенно потрясен».
Павел Сергеевич продолжал ходить к Сталину, просить за Реденса и чету Сванидзе. Но это было бесполезно. Вероятно, он раздражал своего всесильного зятя. Умер Павел Сергеевич при загадочных обстоятельствах. Кира Павловна, его дочь, не сомневается, что отца убрали.
Светлана писала в «Двадцати письмах к другу», что дядя Павлуша отдыхал летом в Сочи, а это было противопоказано для его слабого сердца. Когда он после отпуска «вышел на работу в свое бронетанковое управление, то нашел там пустые кабинеты. Сотрудников словно метлой повымело, столько было арестов». Это стало последней каплей в цепи потрясений, Павел Сергеевич скончался прямо на работе от сердечного приступа.
А по воспоминаниям Киры Павловны, отец умер в больнице несколько часов спустя и все время звал жену, хотел что-то ей сказать… Хоронили его пышно, с почестями. Гроб с телом был выставлен в ГУМе. Там был особый зал для гражданских панихид. Шесть лет назад в этом же зале прощались с Надеждой Сергеевной Аллилуевой.
Как знать, может быть, Павлу Сергеевичу повезло: его не заклеймили «шпионом», не отправили умирать в лагерь, не расстреляли. Не пытали, как Александра Семеновича Сванидзе. Но Алеша недаром был революционером со стажем, он держался на допросах очень мужественно и не подписал ни одного обвинительного документа. Тогда следователи вдруг сменили тактику и предложили ему написать письмо Сталину, покаяться, попросить прощение. Вдруг помилует по-родственному… Сванидзе удивился:
— За что мне просить у него прощения? Я ни в чем перед ним не виноват.
Эти слова были переданы Сталину и почему-то разозлили его. «Какой гордый!» — процедил он сквозь зубы. Сванидзе был расстрелян в 1942 году.
Его жене, Марии Анисимовне, было предъявлено странное обвинение. Не шпионаж, не вредительство, а антисоветские высказывания. Это Марии-то Сванидзе — самой восторженной и искренней почитательнице «великого человека». Анна Сергеевна, например, и другие родственники относились к Иосифу как к члену семьи, товарищу по партии, обыкновенному человеку.
Когда начались аресты, Мария Сванидзе негодовала и готова была своими руками пытать и расстреливать предателей. Она почти ликовала, когда арестовали крестного отца Надежды Сергеевны Енукидзе и его секретаря, родную сестру мужа Марико. Этих людей она не любила и с готовностью поверила в их «вредительство».
Но за несколько месяцев до ареста тон ее «Дневника» несколько меняется — возмущение сменяется недоумением и растерянностью. «Беспрерывное изъятие людей с именами, которые много лет красовались наряду с лучшими людьми нашей страны, которые вели большую работу, пользовались доверием, много раз награждались — оказались врагами нашего строя, предателями народа, подкупленными нашими врагами…»
Мария Анисимовна была настоящей светской дамой, жила в условиях привилегированных, была избавлена от кухонных забот, носила платья, купленные мужем в Париже и Берлине. Но при этом не утратила способности интересоваться жизнью «обыкновенных» людей, ценами, оглядываться вокруг себя на улице. То, что она видела при этом, ей не нравилось. «Толпа, которая производит впечатление оборванцев. Где работа легкой промышленности? Где стахановцы? За что ордена? Почему цены взлетели на сто процентов, почему ничего нельзя достать в магазинах, где хлопок, лен и шерсть, за перевыполнение плана по которым давали ордена?»
Скорбела Мария Анисимовна и об уничтожении старой прекрасной Москвы. Сносили старинные здания и вместо них строили мрачные, уродливые громадины, которые мы спустя десятилетия назвали «сталинскими». Вырубали зеленые скверы и на их месте лепили бараки. Во всех этих злоупотреблениях Мария Анисимовна винила «вредителей», иногда злостных, иногда просто невежественных, некультурных людей, назначенных на высокие посты. По характеру женщина горячая, нетерпеливая, она не могла не поделиться своими наблюдениями с «дорогим Иосифом». Тем более что раньше он сам просил женщин «посплетничать» и, казалось, с интересом слушал их рассказы о жизни своего народа. Мария Анисимовна Сванидзе упустила момент, когда эти рассказы стали раздражать Иосифа и превратились в «антисоветскую пропаганду». Зато Берия чутко улавливал настроения патрона. Этот злодей был всего лишь исполнителем его тайной воли.
Мы не знаем, о чем думала несчастная женщина в лагере, удалось ли ей убедить саму себя, что она тоже «вредительница»? Ведь она и мысли не допускала, что «великий человек» может хоть в чем-то ошибаться. Ей удалось с оказией переправить письмо Евгении Александровне. Письмо было отчаянное: Мария Анисимовна, с детства привыкшая к роскоши и комфорту, медленно умирала в ссылке от голода и лишений.
Евгения Александровна, которая еще допускалась иногда в Зубалово и Кремль — Сталин продолжал к ней благоволить — как-то дождалась, когда у него было хорошее настроение, и показала письмо Марии Анисимовны. Он прочел и вернул ей со словами: «Женя, никогда больше этого не делайте!» После этого неудачного заступничества Марию Анисимовну отправили еще дальше, в такие глухие места, где в невыносимых условиях она вскоре погибла. По другой версии — ее расстреляли. До Светланы дошли слухи, что тетя Маруся умерла от разрыва сердца, когда узнала о смерти мужа.
Но преследования Аллилуевых — Сванидзе на этом не прекратились. Если бы остатки семей затаились, жили тихо и неприметно, о них бы забыли. Но Анне Сергеевне вздумалось писать мемуары-впечатления гимназистки о революции и революционерах. «Книга вышла в свет в 1947 году и вызвала страшный гнев отца, — писала Светлана в «Двадцати письмах к другу». — Была опубликована в «Правде» разгромная статья (рецензия Федосеева, недопустимо грубая, потрясающе безапелляционная и несправедливая). Все испугались, кроме Анны Сергеевны. Она даже не обратила на рецензию внимания, поскольку восприняла как несправедливую и неправильную. А то, что отец гневается, ей было не страшно: она слишком близко его знала. Он был для нее человеком со слабостями и заблуждениями. Она смеялась и говорила, что свои воспоминания будет продолжать. Ей не удалось это сделать…»
Что же так разозлило Сталина в этих невинных мемуарах? Уже одно то, что «великий вождь» был выведен обыкновенным, простым человеком. К тому же Анна Сергеевна сделала всеобщим достоянием некоторые эпизоды из прошлого, которые Сталин предпочел бы не вспоминать. Например, то, как в 1916 году Иосифа Джугашвили забраковали для службы в армии, потому что у него левая рука не сгибалась в локте. Позднее рука все хуже действовала и почти совсем отказала владельцу.
В 1948 году лавиной прокатилась новая волна арестов. Были арестованы Анна Сергеевна, жена Молотова Полина Жемчужина, Евгения Александровна. Вдову Павла Аллилуева обвинили в отравлении мужа спустя девять лет после его смерти. Была проведена эксгумация, которая не обнаружила следов яда, но Евгению Александровну так и не выпустили из тюрьмы до смерти Сталина.
Кире Павловне запомнился тот день, когда пришли за матерью. В то время она уже закончила театральное училище, работала в театре, недавно вышла замуж. Ей предложили сняться в фильме, и она как раз репетировала в своей комнате, когда в дверь позвонили. Евгения Александровна пошла открывать и уже на пороге все поняла, увидев двух бравых молодцев в штатском. «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — упавшим голосом молвила она. Спустя несколько лет, вернувшись домой, Евгения Александровна призналась дочери, что хотела выброситься с восьмого этажа, но что-то ее удержало.
Шесть лет они провели с Анной Сергеевной в одной тюрьме, причем в одиночных камерах. Евгения Александровна была более сильной и жизнестойкой. «Настоящая новгородская баба, — с любовью говорила о ней дочь Кира. — Румянец во всю щеку, так что в гимназии ей постоянно делали замечания: «Земляницына, умойся!», думали, что она румянится.
Для Анны Сергеевны одиночество было губительно. Ей как воздух нужны были люди, общение, какая-нибудь деятельность, работа. «Сказалась дурная наследственность со стороны бабушкиных сестер, — предполагает Светлана, — склонность к шизофрении. Анна Сергеевна не выдержала всех испытаний, посланных ей судьбой». В последнее время она все чаще попадала в тюремную больницу.
Через три недели после ареста Евгении Александровны забрали ее дочь. Арестовали и Джонрида Сванидзе, сына Александра Семеновича и Марии Анисимовны. Остальные дети были еще малы для тюрьмы, иначе их постигла бы та же участь. Это была особенность сталинско-бериевских «чисток» — после уничтожения «врагов народа» подчищали их детей, иногда совсем подростков. Сколько загублено молодых жизней в ссылках и тюрьмах! Это невозможно ни постигнуть, ни оправдать.
Светлана Аллилуева упорно избегает этой темы — был ли ее отец психически нормальным человеком? Почему так резко стал меняться его характер примерно в начале — середине тридцатых? Он и раньше был раздражительным и подозрительным, но за несколько лет после смерти жены стал угрюмым, злым и жестоким.
Сохранилось много документов из истории болезни В. Ленина, но о Сталине — ни одного медицинского свидетельства. А ведь его не раз обследовали врачи. Почему так тщательно уничтожались все заключения врачей? А вместо документов множились слухи и предположения.
Будто бы еще знаменитый психиатр В. М. Бехтерев поставил жесткий диагноз — паранойя. К сожалению, документальных свидетельств тому не сохранилось. Но симптомы паранойи были настолько очевидны, что не только врачи, но и близкие не могли их не заметить. Это и глубокие депрессии по временам, нежелание общаться с людьми, подозрительность, и отказ принимать пищу из чужих рук.
Няня Светланы, Александра Андреевна Бычкова, которая относилась к Сталину по-домашнему, как-то простодушно поведала своей бывшей хозяйке, жене врача, что Иосиф Виссарионович, человек строгий, очень справедливый, но по странности иногда ничего не ест, словно боится, ест только то, что приносит ему дочь Светлана или она, нянька, то есть люди, которым он полностью доверял…
Нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. И сколько бы ни было написано документальных исследований, воспоминаний и биографий, в истории Кремля и его обитателей все равно останется много «белых пятен». Почему, например, Сталин патологически ненавидел и боялся врачей? Он последовательно уничтожал их и сажал в тюрьмы всю свою жизнь. Что это — еще одна навязчивая идея или страх разоблачения?
В последние годы жизни врачи уже почти не допускались к «вождю народов». В Кунцеве его обслуживал какой-то полуграмотный фельдшер из охраны, зато «свой человек». В 1952 году готовился еще один громкий процесс над «врачами-вредителями». Задуманы были даже публичные казни на площадях крупных городов! Только смерть вождя помешала осуществить этот грандиозный проект.
В «Письмах к другу» еще заметно желание Светланы Аллилуевой оправдать отца и свалить большую часть вины на «ужасного злобного дьявола» Берию. Эта попытка выглядит очень наивной и неубедительной. С годами позиция дочери становится более определенной и жесткой. В своей книге «Всего один год», которая вышла на Западе в 1970 году, Светлана писала: «Он дал свое имя системе кровавой единоличной диктатуры. Он знал, что делал, он не был ни душевно больным, ни заблуждавшимся. С холодной расчетливостью утверждал он свою власть и больше всего на свете боялся ее потерять. Поэтому первым делом всей его жизни стало устранение противников и соперников». О Берии уже не упоминается, но и признать отца психически больным автор отказывается. Впрочем, могло ли это обстоятельство служить хоть каким-то оправданием или смягчить груз вины и ответственности за миллионы жизней.
«Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними». К этому высказыванию Талейрана хочется добавить: если бы только мелкие люди стремились в политику, но нами правили и патологические злодеи, и психопатические личности. Впрочем, не только нами, историки найдут не один пример в прошлом. Хотя бы Карл Безумный, который правил Францией более сорока лет.
Некоторые серьезные исследователи вообще отрицают факт безумия Сталина. Во-первых, потому, что границы между психопатическими отклонениями и так называемой нормальной личностью очень размыты. Это значит, что и мы с вами, и любой человек под влиянием каких-то обстоятельств может впасть в эти отклонения, на время или навсегда. Во-вторых, если считать Сталина психически больным, тогда почти всех диктаторов и единоличных правителей можно смело относить к этой категории.
Если историки и психиатры не могут прийти к единому мнению, то нам остается только гадать, что было бы, если бы вовремя обнаружили и предали огласке психическое заболевание Иосифа Джугашвили, вызванное, возможно, травмой черепа? В детстве на него наехал фаэтон. Много лет спустя самоубийство жены настолько потрясло Сталина, что его психическое состояние стало резко ухудшаться. Это замечали близкие. Советовали ему обратиться к врачам. Но было уже поздно.
Второму поколению семей Аллилуевых и Сванидзе повезло уже потому, что «дядюшка» хотя бы даровал им жизнь. Киру Аллилуеву сослали в Шую, где она работала в театре и в детском доме для умственно отсталых детей. Все же на воле, не в тюрьме. Ее карьеру актрисы, конечно, загубили, разрушили семью, но оставили жить и дышать.
Иван Александрович Сванидзе, Джоник, не приходился Светлане кровным родственником. Он был двоюродным братом Якова Джугашвили. Тем не менее в «Двадцати письмах к другу» Светлана рассказывает о нем тепло, как о близком человеке: «Несмотря на врожденную неврастению, несмотря на страшную перемену в жизни, бросившую его из роскоши на самое дно, в тюрьму с уголовниками, затем в ссылку в Казахстан, он все-таки стал человеком, достойным своих чудесных родителей. За одиннадцать лет его счастливой жизни в семье они успели ему привить много хорошего, многому научить… И когда в 1956 году, вернувшись из Казахстана, он получил, наконец, возможность поступить в Московский университет на исторический факультет, то уж учился он на одни пятерки. Аспирантура и защита кандидатской диссертации в Институте Африки АН СССР были для него нетрудным делом».
Испытания, выпавшие на долю Джона Сванидзе, начались еще до того, как он попал в тюрьму. После ареста родителей всю заботу о нем взяла на себя его бывшая гувернантка, добрая интеллигентная старушка Лидия Трофимовна. Она пошла работать на швейную фабрику, но не отдала своего воспитанника в детский дом.
Талантливый юноша сумел быстро наверстать время, потерянное в ссылке. Но, к сожалению, нельзя наверстать утраченное здоровье. Светлана очень деликатно и осторожно намекает, что «нервы его многого не смогли перенести и часто отказывают, для близких он — трудный, тяжелый человек».
Но студенты, сослуживцы, избиратели его любят и считают отзывчивым, душевным. Иван Александрович был избран депутатом райсовета, хлопотал, выбивал жилье для бездомных, каждый раз вкладывая в свои обязанности все силы и страсть, весь свой «грузинский темперамент». Так писала о нем Светлана, зная об этом периоде его жизни не понаслышке. Она встретилась с Джонридом через двадцать пять лет после ареста его родителей. Об этой встрече и об их отношениях речь пойдет впереди…
Весной 1954 года вернулись домой Евгения Александровна и Анна Сергеевна. Кира Павловна Политковская рассказывает об этом дне в своих воспоминаниях. Утром позвонили из тюрьмы и как-то просто, буднично предложили приехать и забрать маму и тетю. Кира даже не поверила, решила, что это первоапрельская шутка. Она сама только недавно вернулась из ссылки и еще не привыкла к забытому ощущению свободы и безопасности. Чиновника тюрьмы даже обидело ее недоверие. «Какие шутки! Разве такими вещами шутят?» — выговаривал он Кире.
В тюрьме предупредили, что Анна Сергеевна — в тяжелом состоянии и поэтому родственники могут пока не забирать ее из больницы. Но близкие решили, что тюремная больница не самое лучшее место для душевнобольного человека. Анну Сергеевну привезли домой.
Светлана не объясняет, откуда она узнала о возвращении теток. Может быть, позвонили сыновья Анны Сергеевны. Но в тот же день она уже повидалась с ней. «Тетя Аня» сидела в комнате, не узнавая своих уже взрослых сыновей, безразличная ко всему. Глаза ее были затуманены. Она смотрела в окно, равнодушная ко всему, ко всем новостям: что умер мой отец, что скончалась бабушка, что больше не существует нашего заклятого врага Берия. Она только безучастно качала головой».
Но прошло время, и домашняя обстановка, внимание родных благотворно сказались на здоровье Анны Сергеевны. Исчез бред, боязнь запертых дверей, только по ночам она продолжала разговаривать сама с собой. Ее восстановили в Союзе писателей. Как и в прежние времена, вокруг нее образовался круг знакомых и друзей. Как и прежде, она кому-то помогала, за кого-то хлопотала. Такой образ жизни полностью соответствовал ее деятельной и отзывчивой к чужим бедам натуре.
Именно Анна Сергеевна долго уговаривала, убеждала племянницу взяться за перо и описать все, что помнит о своем детстве, близких и интересных людях, с которыми ей посчастливилось познакомиться в те годы. Но Светлана была слитком застенчива и неуверена в себе. Ей казалось, что у нее ничего не получится, что она не имеет права навязывать читателям свои воспоминания. И только в 1963 году, летом на даче в Жуковке, она написала «Двадцать писем к другу».
Когда арестовали Анну Сергеевну и Евгению Александровну, Светлана была уже взрослой девушкой. Её мучили сомнения, и она осмелилась спросить у отца, в чем их вина? «Болтали много, знали слишком много. А это на руку врагам», — ответил тот. И добавил серьезно и зло: «У тебя тоже бывают антисоветские высказывания». Я не стала ни возражать, ни спрашивать, откуда у него такие сведения…
Но мне хотелось уйти из этого дома хоть куда-нибудь», — жаловалась Светлана.
Интересно сравнить этот эпизод «заступничества» с аналогичным в воспоминаниях Киры Политковской. Она дает более жесткий вариант, то ли поведанный много лет спустя самой Светланой, то ли пришедший к Кире Павловне через вторые-третьи руки, по рассказам матери, тети Ани или других родственников. Светлана будто бы с упреком спросила у отца, почему он посадил ее теток, которые заменяли ей мать. Сталин ответил раздраженно: «Будешь адвокатничать, я и тебя посажу!»
Но в каких бы вариантах ни доходили до нас истории из прошлого — в мемуарах, воспоминаниях, письмах и дневниках, мы интуитивно чувствуем истину, подлинность или придуманность какого-то события. Светлане действительно не хватало родных, без них не было чувства семьи и опоры в жизни. Но мучили ее не только бесприютность и одиночество…
По рассказам Киры Павловны, вечером того же дня, когда вернулись из тюрьмы ее мать и тетя Аня, в дверь к ним позвонила Александра Андреевна Бычкова, Светланина няня. «Светочка очень переживает, Светочка очень переживает», — несвязно бормотала няня. Почему Светлана не осмелилась прийти сама, сначала прислала няню? Сомневалась, что они не захотят видеть ее? Чувствовала и свою ответственность за их несчастья, толику и своей вины?
Но вернемся в тридцать седьмой — тридцать восьмой годы, переломные в жизни Светланы, когда у нее отняли не только родственников, счастливое детство, но отняли и Зубалово. Дух уютной старинной усадьбы начал исчезать после смерти Надежды Сергеевны. Однажды приехав на воскресенье в Зубалово, Светлана не нашла в лесу свою детскую площадку с качелями, кольцами и домиком Робинзона. Площадку словно метлой вымели. Исчезла любимая воспитательница Наталья Константиновна, интеллигентная старая гувернантка. Скорее всего, ее выжили. Учителю Василия Александру Ивановичу тоже «отказали». Он был слишком строг и требователен к своему подопечному. Может быть, Василий на него нажаловался. Он с детства умел добиваться своего, хитростью и маленькими интригами.
Выгнали экономку Каролину Васильевну. Только в тридцать седьмом вспомнили, что она «из немок», хотя Каролина Васильевна проработала в семье уже десять лет. Сначала удалили из Зубалова интеллигентных воспитателей, старорежимных слуг. Сталин, недоучившийся семинарист, недолюбливал интеллигенцию. Со временем эта нелюбовь переросла в ненависть. Власик, комендант и сотрудники КГБ (тогда еще ГПУ) убирали старых, «ненадежных» людей и подбирали новую «обслугу» для Зубалова и кремлевской квартиры. Это были люди с собачьим нюхом. Они угадывали настроения Хозяина, его тайные пожелания. Именно такими «преданными» Сталин себя и окружил.
Уютный семейный дух усадьбы быстро сменился казенным, государственным. Светлана так об этом пишет: «Сменилась вся система хозяйства в доме. Раньше мама сама набирала людей, понравившихся ей своими человеческими качествами… Сразу же колоссально возрос штат обслуживающего персонала или «обслуги», как его называли в отличие от прежней буржуазной прислуги. На каждой даче появились коменданты, штат охраны со своим особым начальником, два повара, двойной штат подавальщиц и уборщиц… Все эти люди, попав в обслугу, становились сотрудниками ГПУ.
Когда не удалось выжить из семьи вождя няньку Александру Андреевну, ее тоже оформили младшим сержантом. С того времени бабуся и повар обязательно при встрече козыряли друг другу и говорили: «Слушаюсь, вашество!», «Есть!» Эти добродушные простые люди так и не осознали себя сотрудниками грозного управления и воспринимали свои звания как шутку.
Кстати, свою любимую бабусю Светлана все-таки сумела отстоять. Как ей это удалось, мы не знаем. Но, наверное, все средства пошли в ход — просьбы, слезы, жалобы… Когда ей очень чего-то хотелось, она умела добиваться своего. То же самое можно сказать и о Василии. Но далеко не всегда Светлана проявляла такую настойчивость и упрямство. Почему, из страха перед отцом? Родственники Светланы утверждали, что такое чувство ей было неведомо: «Она никого не боялась, наоборот, все боялись ее». Эта черта характера — бесстрашие и упорство еще не раз проявятся в критические моменты жизни.
Кроме бабуси среди многочисленной «дворни» было не так уж много людей, сохранивших что-то человеческое, домашнее, не казенное. И о каждом из них Светлана считает долгом сказать доброе слово. О коменданте Зубалова и Ближней Сергее Александровиче Ефимове она писала, что он всегда относился тепло к детям и к уцелевшим родственникам, «вел себя скромно в отличие от прочих чинов охраны, у которых было лишь одно стремление — побольше хапануть себе, прижившись у теплого местечка. Все они понастроили себе дач, завели машины за казенный счет, жили не хуже министров и самих членов Политбюро».
Скрытая ирония все же чувствуется в похвалах бескорыстному коменданту: Сергей Александрович не был хапугой, «хотя по своему высокому положению тоже пользовался многим, но в меру. Словом, до уровня министров не дошел, но член-корреспондент АН СССР мог позавидовать его квартире и даче. Это было с его стороны, конечно, очень скромно». Сергей Александрович дослужился до генеральского звания, но в последние годы лишился расположения Сталина и был отстранен. По выражению Светланы, «его съел свой «коллектив», другие генералы и полковники, превратившиеся в своеобразный «двор» при отце».
О другом генерале Светлана упоминает без всякого удовольствия. Но приходится это делать, потому что Власик продержался возле Сталина более двадцати лет, стал не только начальником всей охраны, но и всесильным вельможей. Светлана называет его Николаем Сергеевичем. Это или ошибка памяти, или желание самого Власика облагозвучить свое «деревенское» отчество, потому что по документам он Николай Сидорович. И в охране Сталина он служил с 1931 года, а не с 1919-го, как пишет Светлана в «Двадцати письмах к другу».
При жизни Надежды Сергеевны Власика было не слышно и не видно, он даже в дом не смел заходить. Вскоре он стал главным управителем всех резиденций Сталина, которые росли как грибы, — кроме Зубалова и Кунцева, в Липках, Семеновском, дачи в Рице, Крыму, на Валдае. Сталин мог появиться в Семеновском всего один раз за год, но многочисленный штат «обслуги» всегда был наготове.
Светлана характеризует любимца отца как «малограмотного, глупого, грубого» и чрезвычайно наглого сатрапа. Власть так развратила его, что «он стал диктовать деятелям культуры и искусства «вкусы товарища Сталина», так как полагал, что он их хорошо знает и понимает. А деятели слушали и следовали этим советам. Ни один праздничный концерт в Большом театре или Георгиевском зале не проходил без санкции Власика».
Историк Александр Колесник считает, что Светлана недооценила зловещую фигуру Власика, видя в нем только малокультурного, тупого и грубого солдафона. Это был хитрый и тонкий интриган, лицемер и угодник. Он якобы настраивал Сталина против собственных детей, доносил на них. И в то же время во всем угождал Василию, тратил огромные суммы на его капризы, потакал его пьяным разгулам. Светлана впоследствии обвиняла Власика в том, что он и его сподручные из охраны приучили Василия пить и сквернословить и внушили ему пагубную мысль, что он сын великого человека, чуть ли не наследный принц, а потому может жить по другим законам, чем обыкновенные смертные.
Предположение о тайных кознях Власика против детей вождя кажется неубедительным. Никаких подтверждений этому мы не нашли ни в воспоминаниях, ни в письмах членов семьи Сталина. Подчиненные Власика, конечно, следили за детьми и докладывали отцу о каждом их шаге и даже слове. Но зачем было Власику так рисковать, интригуя против Василия и Светланы? Наоборот, он всячески добивался расположения избалованного сынка, чтобы в случае опалы Василий заступился за него перед отцом.
Власик был единственным человеком в окружении и охране, который прослужил до самой смерти Хозяина и не был изгнан. Он да няня Бычкова, но та была на особом положении, под защитой Светланы. Порой и на Власика обрушивались громы и молнии. Светлана вспоминает, как отец кричал на Власика и комендантов: «Дармоеды! Наживаетесь здесь, знаю я, сколько денег у вас сквозь сито проходит». Но в действительности он ничего не знал, он только интуитивно чувствовал, что улетают огромные средства… Генерал Власик распоряжался миллионами от его имени — на строительство, на поездки специальных поездов — но отец даже толком выяснить не мог, где, сколько, кому…»
В который раз Светлана пытается убедить своего безымянного друга и прочих читателей в удивительной доверчивости и беспомощности отца против мощной бюрократической машины, выросшей вокруг него. В тех же письмах к другу она не раз упоминает о редкой проницательности Сталина: он видел людей насквозь, угадывал их слабости и тайные пороки. Слабости и пороки Власика он действительно знал прекрасно. Не раз бранил его за чрезмерную любовь к прекрасному полу, за то, что начальник охраны крал и продавал на сторону продукты и вино из кухни!
И такой человек все-таки оставался при Сталине долгие годы, в то время как другие, честные и порядочные, впадали в немилость и изгонялись? Очевидно, именно власики его и устраивали. Ведь генерал и всю охрану подбирал по своему образу и подобию, поэтому Светлана писала, что о власиках ей даже неприятно вспоминать.
Правда, об одном из своих «дядек», Михаиле Никитиче Климове, она отозвалась сочувственно. По распоряжению Власика всех детей сопровождали охранники, куда бы они ни шли — в школу, позднее в университет, в театр, к друзьям. Михаил Никитич «топал» за Светланой с 1940 по 1944 год. Своего «хвоста» она страшно стыдилась перед друзьями, но с «дядькой» даже подружилась. Ведь он был человек подневольный, «беззлобный, не вредничал и по-своему жалел меня, так как видел всю эту мою несуразную жизнь».
Василий привык к телохранителям и, когда возрос в чинах, нигде не появлялся без трех-четырех охранников. А Светлана, когда поступила в университет, умолила отца отменить этот порядок. «Отец, очевидно, понял абсурдность ситуации и только сказал: «Ну черт с тобой, пускай тебя убьют». И только в семнадцать с половиной лет Светлана обрела головокружительное чувство свободы! Она могла пройти по улице совсем одна!
Каково это — постоянно жить «под наблюдением», ходить в школу с «дядьками», нам этого не понять. А дома со Светланы не спускала глаз Александра Николаевна Никашидзе, дуэнья, «сестра-хозяйка», лейтенант, а потом майор госбезопасности. На это теплое местечко пристроил Сашу Берия, ее родственник.
«Сестра-хозяйка» не умела ни готовить, ни вести дом. Плохо говорила по-русски, хотя пыталась проверять тетрадки Светланы. Главной ее обязанностью было — соглядатайство! Она шпионила за всеми — Анной Сергеевной, Евгенией Александровной, детьми и «стучала» Берии и Власику.
Саша была молода, смешлива, довольно добродушна и вначале понравилась Светлане. Стукачкой, доносчицей она стала позднее, когда Светлана влюбилась. Никашидзе слишком ретиво исполняла свои обязанности — подслушивала телефонные разговоры своей подопечной, рылась в ее столе, читала письма. Светлана ее возненавидела.
Это только несколько лиц из многолюдного и пестрого окружения Светланы в конце тридцатых — начале сороковых годов. Семьи уже не было. Василий уехал в училище, родственников разогнали, отец все реже появлялся дома. Жили они вдвоем с бабусей, как на необитаемом острове.
Штат казенной обслуги и охраны непомерно разрастался не только в семье Сталина, ни и у соседей по Зубалову Микоянов, и в домах членов правительства и членов Политбюро. «Но нигде так не властвовал казенный полувоенный дух, ни в одном доме не было такой полной степени подведомственности ГПУ — НКВД — МГБ, как у нас, — вспоминала Светлана, — потому что у нас отсутствовала хозяйка дома, а в других присутствовала и несколько смягчала и сдерживала казенщину. Но по существу система была везде одинаковая: полная зависимость от казенных средств и государственных служащих, державших весь дом и его обитателей под надзором своего неусыпного ока».
Часть III ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Война. Первая любовь
В «Двадцати письмах к другу» не запечатлелся первый день войны с его волнениями, страхами и растерянностью. Война оставляла в памяти Светланы вехи и маленькие вешки всякий раз, когда происходили события, связанные с ее близкими, перемены в однообразном существовании школьницы и редкие встречи с отцом.
Так, вскоре отправился на фронт брат Яков, в самое пекло, в Белоруссию, а уже 16 июля попал в плен. Конечно, Яков без труда мог устроиться где-нибудь в тылу. И ему, как и Василию, придумали бы какую-нибудь мифическую должность «инспектора». Но он был болезненно порядочным человеком и желал воевать, как все, без поблажек.
Осенью Светлана с няней, «дядькой» и всей домашней свитой из Саши Никашидзе, подавальщиц, поваров, охраны эвакуировалась в Куйбышев. Для них наспех отремонтировали старинный особнячок, бывший музей. С большим трудом семья и «обслуга» в нем разместились. При этом бабушка воевала и ссорилась с экономкой Никашидзе. Дедушка, предвидя всю эту суету и неразбериху, предпочел остаться в Тбилиси и не жалел об этом.
Светлана тосковала по Москве. Но не только по этой причине невзлюбила Куйбышев. В город приехала вся московская каста, привыкшая к столичному комфорту и развлечениям. Местные жители встретили их враждебно. Во-первых, «беженцы» заняли все дома и заставили горожан потесниться. Но главное — тут же взлетели цены на продукты и товары.
А что касается привилегированных беженцев, то их вскоре дружно возненавидели и местные, и приезжие. Даже школу для детей московских вельмож организовали «специальную». И «эти знатные московские детки, собранные вместе, являли столь ужасающее зрелище, что некоторые местные педагоги отказывались идти в класс и вести уроки», — вспоминала Светлана в «Двадцати письмах к другу». Уже в первой своей книге она стала яростной обличительницей «касты», хотя сама к ней принадлежала.
По отзывам учителей и одноклассников, она училась хорошо и не доставляла особых хлопот, в отличие от многих избалованных «сынков и дочек». Но все же за ней ходил по пятам «дядька», пальто она снимала в особой комнате и завтракала на перемене отдельно от остальных детей. Эта изолированность Светлану очень раздражала. Ей так хотелось быть, «как все», вместе со всеми. К тому же было стыдно перед одноклассниками.
Молодая жена Василия Галя тоже эвакуировалась в Куйбышев. В октябре она родила сына Сашу, и Василий прилетел на несколько дней проведать семью и посмотреть на первенца. Светлана уговорила его взять ее в Москву. Самолеты часто летали в Москву и обратно в Куйбышев, но отец не позволял ей возвращаться. Осень сорок первого была тяжелой, напряженной. И когда Светлане удавалось дозвониться к отцу, тот всегда пребывал в хмуром, раздраженном настроении и сердито отвечал, что ему некогда с ней разговаривать.
Москву бомбили. В тот день, когда Светлана с братом прилетела в город, одна бомба попала в Большой театр, другая — в университет на Моховой. Для Сталина в Кремле построили бомбоубежище, в точности скопировав комнаты любимой его кунцевской дачи — те же панели, та же мебель.
В большом кабинете, куда привели Светлану, толпились военные. Повсюду на столах были разложены карты, все были возбуждены. Обсуждалась обстановка на фронтах. Отец долго не замечал Светлану, а когда заметил, рассеянно задал ей несколько вопросов: как они устроились в Куйбышеве, как школа. Светлана почувствовала, что мешает ему, что он и слушает ее вполслуха.
Она начала рассказывать отцу про свою «специальную школу». «Отец вдруг поднял на меня быстрые глаза, как он делал всегда, когда что-либо его задевало: «Как специальную школу?» Я видела, что он постепенно приходит в ярость. «Ах вы! — он искал слова поприличнее. — Ах, вы! Каста проклятая! Ишь правительство, москвичи приехали, школу им отдельную подавай! Власик подлец! Это его рук дело». Он был в гневе, и только неотложные дела и присутствие других отвлекали его от этой темы.
Он был прав. Приехала каста. Приехала столичная верхушка в город, наполовину выселенный, чтобы разместить все эти семьи, привыкшие к комфортабельной жизни. Но поздно было говорить о касте. Она уже успела возникнуть и теперь, конечно, жила по своим кастовым законам» («Двадцать писем к другу»).
Светлана не раз вспоминала, как «гневался» отец, когда речь заходила о привилегиях «кремлевской знати» и их семей, как ругал Власика за непомерные траты на обустройство их быта. Но гнев утихал — и все продолжалось по-старому. Светлана объясняет это тем, что отец был слишком загружен делами и не мог вникать в такие мелочи.
Между прочим, в Куйбышеве были затрачены огромные средства для подготовки «помещений» для самого Сталина и правительства. Там построили огромное бомбоубежище, отремонтировали несколько дач на берегу Волги и бывшее здание обкома. Все с тревогой ожидали завершения битвы под Москвой. Но Москва выстояла, и бомбоубежище и дома так и пустовали всю зиму.
В июне 1942 года Светлана с няней и всей свитой вернулась в Москву. Здесь ее поджидало первое огорчение: когда немцы уже были на подступах к городу, ее любимое Зубалово взорвали. Прожили все лето во флигеле, а рядом все лето кипела стройка — спешно возводили новый дом, который сразу невзлюбила Светлана. Разве можно было сравнить это «несуразное» строение с прежней, уютной барской дачей.
Чего еще ждать от войны, кроме горя и утрат. Конечно, это не самая страшная потеря. Но Светлана переживала исчезновение старого Зубалова. Вместе с домом навсегда ушел в прошлое его дух — счастливого детства, воспоминаний о близких, семейного тепла. Осталась просто казенная дача.
Еще одна небольшая вешка осталась в памяти Светланы от осени сорок второго. В Москву приезжал Уинстон Черчилль. Как-то вечером Саша Никашидзе велела Светлане непременно быть дома к обеду. Отец почему-то захотел показать ее Черчиллю. Светлана, по природе очень робкая, всю дорогу размышляла: «прилично ли будет сказать несколько слов по-английски или уж лучше помалкивать?»
Она немного волновалась, но все прошло благополучно. Только очень быстро, и Светлана так и не осмелилась что-нибудь сказать. А ведь она все-все понимала! Но проклятая застенчивость помешала ей немного блеснуть своим английским.
«Отец был очень радушен. Он был в том самом гостеприимном расположении духа, которое очаровывало всех. Он сказал: «Это моя дочь». И добавил, потрепав меня рукой по голове: «Рыжая». Уинстон Черчилль заулыбался и заметил, что он тоже в молодости был рыжим, а теперь вот — он ткнул сигарой себе в голову. Потом он сказал, что его дочь служит в королевских военно-воздушных силах… Со мной было покончено, разговор пошел по другому руслу — о пушках, самолетах… Мне не дали слушать долго — отец поцеловал меня и сказал, что я могу идти заниматься своими делами.
Почему ему захотелось показать меня Черчиллю, мне тогда не было понятно, а впрочем, теперь мне это понятно — ему хотелось хоть немного выглядеть обыкновенным человеком. Черчилль был ему симпатичен, это было заметно» («Двадцать писем к другу»).
Конечно, жизнь Светланы в эти годы не была безоблачной. Старший брат в плену, и о нем не было никаких известий. Из американских журналов Светлана узнала, что ее мать не умерла своей смертью, а покончила с собой. И все же ее несчастья и в сравнение не шли с теми бедами, которые переживали миллионы людей. Светлана училась в десятом классе, увлекалась уроками литературы. Все было почти как до войны, только в школе плохо топили. «Но уроки Яснопольской, лучшей в Москве преподавательницы литературы, согревали и сердце и ум, — не без патетики пишет Светлана в своих воспоминаниях. — Я жила тогда в мире искусства, музыки, литературы, живописи, которой только начала интересоваться. Мы все тогда упивались стихами и героикой».
Но не только литературой и музыкой увлекалась в это время Светлана Сталина. Ее бабушка и мать в шестнадцать лет уже вышли замуж. И в Светлане рано пробудилась «жизнь сердца». Она обещала стать очень влюбчивой и страстной. Появились первые увлечения. Кремлевские дамы судачили, что она явно неравнодушна к Серго Берии и даже не умеет этого скрывать, бедняжка. Но Серго уехал с матерью в Свердловск, в эвакуацию. А «сердце забывает то, что не видит глаз». Да и не мог этот мальчик стать героем романа такой взыскательной девушки.
Первая любовь оставляет трогательные и светлые воспоминания. А для Светланы она стала первой трагедией, незаживающим шрамом на душе. Может быть, эта несчастная любовь искалечила ей жизнь. Слишком походили два ее последующих брака, страстные и поспешные, на неумелые попытки сбежать от прошлого, наверстать несбывшееся.
Шестнадцать лет — самое счастливое и беззаботное время в жизни девушки. Первые тайны и влюбленности, открывающийся мир чувств, подруги-наперсницы… Но Светлана Сталина — не совсем обычная девушка. Квартира в Москве казалась ей холодным склепом. Большой дружной семьи не стало, близкие подруги и друзья почему-то не появлялись. Да и как могла Светлана ходить в гости к друзьям, приглашать их к себе, если телохранители следовали за ней по пятам, ни на минуту на оставляя одну!
Брат Василий, видя, что сестра скучает, приглашал ее на свои шумные вечеринки, где собирались знаменитые актеры, писатели, спортсмены и его друзья-летчики.
Об этих вечеринках Светлана отзывалась позднее очень неодобрительно. «Жизнь в Зубалово была в ту зиму необычной и неприятной. В дом вошел неведомый до той поры дух пьяного разгула. К Василию приезжали гости… И постоянно устраивались обильные возлияния гремела радиола. Шло веселье, как будто не было войны. И вместе с тем было предельно скучно — ни одного лица, с кем можно было бы серьезно поговорить, ну хотя бы о том, что происходит в мире, в стране, у себя в душе. В нашем доме всегда было скучно, я привыкла к изоляции, к одиночеству. Но если раньше было скучно и тихо, то теперь стало скучно и шумно».
Эти суровые, чуть презрительные высказывания о «зубаловском обществе» вызывают недоумение. Столько интересных людей вокруг — и не с кем поговорить? Поневоле приходит мысль о том, что гостям Василия и в голову не приходило сближаться с дочерью Сталина и заводить серьезные разговоры с его разгульным сыном, молодым генералом. В то время люди говорили «о том, что происходит в стране, в мире и у себя на душе», только в своем кругу, с близкими и друзьями.
Светлана часто жаловалась на одиночество, которое преследовало ее с детских лет. Но в то же время признает, что подруги у нее были, а в школе любимые учителя. Она часто гостила в семье Пешковых, где ее считали умной, хорошенькой девушкой. Тем не менее жизнь казалась Светлане безрадостной, серой и однообразной… до появления Алексея Каплера.
Впервые Василий привез его в Зубалово в октябре 1942 года. Был задуман фильм о летчиках, и Василий взялся его консультировать. Так появились «киношники» в его окружении. При первых встречах знаменитый сценарист и писатель Каплер не произвел на Светлану никакого впечатления. В глазах школьницы он был всего лишь сорокалетним «добродушным толстяком». Разве таким грезится молодой девушке мужчина, способный покорить ее сердце?
Так и остался бы Алексей Каплер в толпе неинтересных друзей брата, не заслуживающих внимания взыскательной «гимназистки». Но он сам сделал первый шаг навстречу. Люся Каплер, как все его звали, был очень любопытным и жадным на людей. Новые знакомства завязывал стремительно и быстро приобретал расположение людей. Особенно женщин… Трудно было удержаться, когда судьба свела его с таким редким экземпляром — дочерью вождя.
В своих воспоминаниях Светлана пишет, что вскоре они все вместе ездили в Гнездниковский переулок и в зале Комитета кинематографии смотрели американские фильмы. Ей не понравился боевик, зато она пришла в восторг от «Королевы Христины» с Гретой Гарбо. Каплер похвалил ее вкус и обещал привезти в Зубалово «хорошие» фильмы по своему выбору.
Лесть — это ключик, открывающий любые сердца. «Толстяк» тут же был переведен из разряда скучных, неинтересных в привилегированное общество умных и тонких людей.
На ноябрьские праздники в Зубалове намечалась грандиозная вечеринка. Приехали Симонов с Валентиной Серовой, Войтелов с Целиковской, Кармен с женой, красавицей Ниной, летчики и знакомые. После застолья, как обычно, начались танцы. Светлана сидела в уголке и только наблюдала за чужим весельем.
Она была в том угрюмом и безысходном расположении духа, которое в последнее время находило все чаще. В этот день дурное настроение было почти оправданным — годовщина смерти матери.
Впервые Светлане сшили нарядное платье у знаменитой портнихи. Она приколола к нему мамину гранатовую брошку, взглянула на себя в зеркало и осталась довольна. Зато туфли, о ужас! Полуботинки без каблуков ехидно напоминали ей, что она еще школьница. Каблуки отец категорически запретил, как и всякие другие излишества. Порой его раздражали совсем невинные вещи, например, берет.
Светлана не сомневалась, что в таких туфлях, как у Валентины Серовой и Целиковской, она и сама выглядела бы иначе. И главное — была бы уверенней в себе. Как ей мучительно хотелось немедленно повзрослеть, стать настоящей женщиной, притягивать взгляды мужчин, ощущать себя хорошенькой, привлекательной…
— Вы танцуете фокстрот? — вдруг раздался над ее головой тихий голос.
Она очнулась от своих невеселых и горьких мыслей, подняла глаза — Каплер. Хотя бы один человек заметил ее в этом многолюдье и удостоил внимания. Светлана была тронута.
Видя ее неловкость и смущение, он пытался партнершу ободрить:
— Вы замечательно танцуете, легко, непринужденно.
— Правда? — удивилась Светлана.
— А зачем мне кривить душой, — лукаво улыбнулся он.
И Светлана мгновенно оттаяла. Ей вдруг стало так легко и спокойно рядом с этим человеком. Хотелось положить голову ему на грудь и закрыть глаза.
— Что вы невеселая сегодня? — мягко и доверительно шептал он, наклонившись к ее уху.
«И тут я стала, не выпуская его рук и продолжая переступать ногами, говорить обо всем, — пишет Аллилуева. — Как мне скучно дома, как неинтересно с братом и с родственниками. О том, что сегодня десять лет со дня смерти мамы, а никто не помнит об этом и говорить об этом не с кем — все полилось вдруг из сердца…»
Алексей Каплер, не теряющийся ни в каких обстоятельствах, был смущен и озадачен. Он приготовился к легкой болтовне с девчонкой-школьницей, хотел разыграть роль снисходительного доброго дядюшки. Вместо этого на него обрушился страстный монолог, полный жалоб на одиночество, непонимание, отчаяние.
Они проговорили весь вечер, не замечая, как рядом танцуют, смеются, меняют пластинки. Так казалось Светлане. Скорее всего, говорила больше она, а Каплер выслушивал, утешал, давал советы. Он быстро настроился на ее тональность, как умел «настраиваться» на любого человека.
Едва ли Алексей Каплер понял тогда, какой вулкан он разбудил. Он сам сделал первый шаг, но с того вечера Светлана стала ведущей в их отношениях, а он превратился в ведомого. Уже в первом романе проявилась безудержность ее натуры. Та самая безудержность, которая в брате Василии, при полном отсутствии сдерживающего начала, стала разрушительной, гибельной стихией.
Светлана ликовала: у нее появился друг! Такой знаменитый человек обратил на нее внимание! Ей казалось, что между ними протянулись незримые, но крепкие нити, что их неудержимо тянет друг к другу. С того дня они встречались не только в Зубалове, но и в городе. Ходили в Третьяковку, гуляли по улицам.
Она допридумывала его, осмысливала на свой лад. Ей так хотелось, чтобы он принадлежал ей без остатка, только ей. Стал бы ее собственностью, хотя бы в мелочах. Конечно, он так же одинок, как она, и они нужны друг другу.
Близкие друзья Каплера только посмеялись бы над таким предположением: Люся и одиночество — явления взаимоисключающие. В нетопленном номере гостиницы «Савойя», где он жил, с утра до вечера толпился народ. Он всегда жил в гуще событий и в густом многолюдье. Для деятельных натур одиночество — страшное наказание.
«Члены царской семьи» часто интересны не сами по себе, а своим окружением. В окружение Светланы Аллилуевой нередко попадали люди знаменитые, яркие, значительные.
Алексей Каплер в жизни Светланы — одна из самых занимательных глав. Его человеческая исключительность не только и не столько в таланте, сколько в счастливом характере, избытке жизненных сил, умении увлекаться, рисковать и приспосабливаться к любым обстоятельствам, порой невыносимым.
В молодости он постоянно горел, кипел, увлекался, бросался в новое дело, готов был ехать на край света. Молодость его продолжалась очень долго.
Но самым страстным увлечением Алексея Каплера было Кино. Он заразился кинематографом еще в детстве в Киеве и твердо решил посвятить ему жизнь, всю без остатка. Учился в литературных студиях вместе со своими друзьями Григорием Козинцевым и Сергеем Юткевичем. Перепробовал множество кинематографических специальностей.
Начал с актерской. Снялся в нескольких ролях, в том числе в экранизации «Шинели» режиссера Козинцева. Но быстро понял, что на актерском поприще ему не прославиться. А Каплер был не из тех, кто довольствуется скромным положением, скромной судьбой, ролью второй или третьей скрипки в оркестре.
Потом он работал в Одессе ассистентом Александра Довженко и ждал своего часа. И дождался. Когда кино стало звуковым, Алексей Каплер начал писать сценарии. Он верил, что с обретением голоса профессия сценариста из подсобной, второстепенной превратилась в центральную.
Однако в «Истории киноискусства» французского критика Жоржа Садуля он остался актером, снявшимся в эпизоде «Шинели». О его действительности сценариста даже не упомянуто, потому что его сценарии растворились в «картинах Ромма и картинах Эрмлера». «История кино — это история кинорежиссуры», — с горечью писал сам Каплер в 1958 году. Такая несправедливость его очень удручала.
Но жаловаться на недостаток славы ему было бы грешно. Славой его не обошли и даже наделили с избытком. В 1937, юбилейном году, был объявлен конкурс на лучший фильм о революции.
Алексей Каплер написал сценарий и впервые посмел ввести в него образ Ленина! Это была неслыханная дерзость. Вождя все привыкли видеть только в бронзе, а не на экране. Невозможно было представить запуганному советскому обывателю, что он говорит обычным человеческим языком, что его может играть простой смертный, обычный актер…
Каплер отправил сценарий на конкурс и затаился. Последовала долгая, мучительная и угрожающая тишина. Но все обошлось. Где-то там, наверху, вначале опешив от подобной наглости, обсудили и, получив высочайшее дозволение, разрешили.
Сценарий был признан лучшим. Режиссер Ромм поставил по нему фильм «Ленин в Октябре». Каплер рискнул — и выиграл. Слава обрушилась на него как водопад. Даже если бы он больше ничего не написал, то остался бы в истории советского кино как первый творец образа вождя.
За «Лениным в Октябре» последовал в 1939 году «Ленин в 1918 году». Через два года Каплер получил звание лауреата Государственной премии СССР.
Но слава его не портила. Он по-прежнему оставался Люсей Каплером, легким, обаятельным, беззаботным и веселым. Охотно помогал друзьям и знакомым, когда мог. Помогать он любил. Ему ничего не стоило замолвить доброе слово или рекомендовать кого-то своим высокопоставленным знакомым.
В своей «киношной» среде Алексей Каплер чувствовал себя как рыба в теплом илистом пруду. Но слава подарила ему еще и знакомства с первыми людьми в государстве, с сильными мира сего. Ему очень льстила эта близость к первым людям — крупным политикам, чиновникам и их семьям. Порой он увлекался и забывал, как страшны «и барский гнев, и барская любовь».
Еще одна слабость Люси Каплера давала богатую пищу для пересудов и шуток. Его слава преуспевающего журналиста и кинодраматурга, пожалуй, меркла перед славой покорителя женских сердец.
Только злобные завистники могли бы назвать его примитивным бабником. Да и опытным обольстителем он не был. Трудно сказать, чем Каплер покорял женщин. Скорее всего, задушевностью. Смотрел в глаза, слушал, понимал, сопереживал.
Многие женщины любят ушами, а не глазами. Люся никогда не был красавцем, даже в молодости. А к сорока превратился в «добродушного толстяка». Зато он умел говорить. И как!
Когда Алексей Каплер познакомился со Светланой, он был в зените славы, познал вкус успеха. Казалось, судьба обласкала его и теперь подвела к новой ступеньке. Стоило только шагнуть и подняться на нее. На головокружительную высоту, о которой он никогда не смел и мечтать.
Только близкие друзья знали, что беззаботный, легкомысленный и веселый парень честолюбив и азартен…
Из «Двадцати писем к другу» трудно понять, как вспыхнул этот скоротечный роман, ровно ли горело пламя и кто подбрасывал поленья в огонь. Еще труднее делать предположения, каким могло стать его завершение?
Большинство «театральных и кинороманов» постепенно затухали и незаметно переходили в новые. Иногда вспыхивали скандалы, завершающиеся разводами и новыми браками. В этой истории все было странно, непредсказуемо и чуть-чуть опасно…
Конечно, самой Светлане ее первое увлечение виделось неповторимым, романтическим, чудесным. Они бродили по улицам и часами разговаривали. О чем?
«Люся приносил мне книги: «Иметь и не иметь», «По ком звонит колокол» Хемингуэя… Огромная «Антология русской поэзии от символизма до наших дней, которую Люся подарил мне, вся была испещрена его галочками и крестиками около его любимых стихов. С тех пор я знаю наизусть Ахматову, Гумилева, Ходасевича. О, что это была за антология, она долго хранилась у меня дома, и в какие только минуты я не заглядывала в нее».
Алексей Каплер открывает для невежественной советской школьницы новые миры, знакомит с настоящим, «хорошим» кино и с такими же настоящими книгами. Он формирует ее вкусы. Они часто бывают в театрах, даже в опере. О пьесе Корнейчука «Фронт», ставшей гвоздем того сезона, Каплер говорил, что «искусство там и не ночевало».
Какое-то время Люся Каплер оставался мудрым и добрым наставником избалованной «гимназистки». Тем более что за ними по пятам следовал «дядька» Михаил Никитич Климов, очень недовольный сложившейся ситуацией. Но Люся и к нему сумел подобрать ключик, уважительно здоровался и давал прикурить. Естественно, «дядька» сразу же доложил «кому следует» об их свиданиях, но его отношения со странной парочкой оставались вполне дружелюбными.
Если их роман и напоминал в начале трогательную, платоническую полу-дружбу, то страстная натура Светланы не могла с этим долго мириться. Ей хотелось «взрослых» отношений, любви, а не дружбы и покровительства. Ей хотелось, чтобы за ней ухаживали, ради нее совершали безумства и глупости, как ради других женщин, красавиц и актрис. Такие истории часто случались в их окружении, и она жадно выслушивала подробности и сама следила за перипетиями семейных драм. В то время Василий соблазнил жену режиссера Кармена Нину. Из-за его бесшабашности и полного отсутствия такта этот роман вскоре сделался всеобщим достоянием.
Светлана прекрасно понимала, что и за ними с Люсей уже давно пристально наблюдают. Ведь они чуть ли не ежедневно появлялись на выставках, в театрах — на людях. Светлана отнюдь не была скрытной и с удовольствием делилась своими секретами с подругами. Мысль о том, что они очутились в центре всеобщего внимания, приятно будоражила кровь и наполняла ее ликованием.
В такие минуты она совсем теряла голову. Не вспоминала ни об опасности, ни об отце. Звонила Люсе, назначала свидание. И он обязательно приходил.
Лауреат Государственной премии, знаменитый писатель, сорокалетний мужчина, как мальчишка, прятался в подъезде дома рядом со школой, время от времени воровато выглядывая на улицу, не появилась ли Светлана. «А у меня радостно сжималось сердце, так как я знала, что он там», — признается она.
В тонкостях женской психологии Люся разбирался прекрасно. Он понял, что нужны безумства — и охотно их совершал. Накануне большого сражения он уехал в Сталинград, откуда посылал материалы в «Правду».
Как-то в конце ноября Светлана развернула газету и прочла в ней статью спецкора Каплера «Письмо лейтенанта А. из Сталинграда». Безымянный лейтенант в форме письма к своей любимой рассказывал обо всем, что происходило в городе. Но не только это. Лейтенант вспоминал их прогулки по городу, походы в Третьяковку. Все было так ясно, узнаваемо, что сердце ее бешено забилось.
Светлана была потрясена этим «рыцарским и легкомысленным поступком». Возможно, статья так и запомнилась бы ей, оставив счастливое волнение, если бы не заключительные строки. Свое письмо «лейтенант А.» закончил претенциозно и кокетливо: «Сейчас в Москве, наверное, идет снег, из твоего окна видна зубчатая стена Кремля…»
Впервые Светлана словно очнулась и почувствовала легкую тревогу. Отец читает «Правду» каждый день и, конечно, поймет, кому посылал письмо лейтенант А. Он уже знал о свиданиях с Люсей и однажды вечером недовольно проворчал, что она ведет себя недопустимо.
В те дни до Светланы едва ли могли дойти его замечания. Она уже неслась в бурном потоке первого сильного увлечения. «Я оставила этот намек без внимания и продолжала вести себя так же», — пишет она. То есть звонить Люсе и встречаться с ним.
Хотя до брата Василия ей было далеко, но Светлана тоже была избалованной и своенравной. Не умела отказывать себе ни в чем, особенно в удовольствиях, которых и так было не слишком много в ее жизни. Казалось, зрелый и умудренный богатым опытом мужчина должен был сдерживать ее порывы, учить благоразумию.
Даже шестнадцатилетняя школьница в тот день поняла, что письмо в «Правде» — это слишком, и испугалась. Словно Люся сгоряча решил все тайное сделать явным и рассказать об их отношениях всей стране.
Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные во многом были очень созвучны друг другу. Светлана в тот же день принесла газету в класс. Ей не терпелось похвастаться подругам. Марфа Пешкова читала статью прямо на уроке, положив газету на колени и приподняв крышку парты.
Вернувшись в Москву в канун новогодних праздников, Алексей Каплер сразу понял, что «Письмо лейтенанта А.» получило всенародную огласку. Если у кого-то и оставались сомнения, то теперь они развеяны таинственной возлюбленной лейтенанта, из окна которой видна зубчатая стена Кремля, могла быть только одна особа.
Где бы он ни появился — в редакции, на киностудии, у знакомых, — на него смотрели с ужасом, восторгом или завистью. Казалось, он слышит шепот у себя за спиной, пересуды тянулись за ним шлейфом. Он играл с огнем. Мог выиграть крупный приз, а мог разом всего лишиться…
Его приятельницы-актрисы лукаво допрашивали: «Люся, ты вправду в нее влюблен или это обаяние власти, дочка Сталина всегда первая красавица?» Люся даже горячился, убеждая, что влюблен по-настоящему, что его так закрутило впервые в жизни. Убеждать он умел, и многие женщины ему верили: Люся на их глазах не раз влюблялся очертя голову и делал глупости.
Но некоторые его друзья из здравомыслящих только снисходительно усмехались: «Ну в кого там влюбляться — маленькая, рыжая…»
Теперь все судили-рядили, чем история закончится. Мнения разделились. Одни пророчили Люсе дальнюю дорогу в те места, куда Макар не гонял своих телят. Другие были уверены, что Каплер поставил на верную карту, быть ему сталинским зятем. Все знали, что у вождя есть только одна слабость — его дочка. Светлане ничего не стоит убедить отца в чем угодно. Заранее восхищались — в сорок лет лауреат Госпремии, прославленный кинодраматург, писатель, да еще муж Светланы Сталиной. Ну и карьера!
Алексей Каплер привык к везению. Возможно, везение вскружило ему голову и притупило чувство опасности. Он любил рисковать и даже позднее, в лагере, случалось, рисковал по-крупному, проигрывал и снова выигрывал.
В одном человеке часто уживаются, казалось бы, несовместимые качества. Добродушный, легкомысленный, обаятельный Люся Каплер был не только честолюбив, но и расчетлив. В душе он надеялся на успех. И на то были основания.
Сталин вмешивался в личную жизнь своих детей, но не слишком настойчиво. Он попытался было воспрепятствовать женитьбе Якова, но тот все равно поступил по-своему… Вскоре развелся и снова женился. О Василии и говорить нечего: в свои двадцать с небольшим он был дважды женат. Дети словно унаследовали неистовый характер отца, бороться с которым было бесполезно.
Самым серьезным препятствием мог стать только возраст Светланы, через месяц ей должно было исполниться семнадцать. Ее вулканический характер порой подавлял. Люся пассивно подчинялся ее воле даже тогда, когда следовало бы проявить твердость. Она привыкла получать все, что хотела, не знала отказов и не выносила слово «нельзя».
Но Алексей Каплер недостаточно хорошо понимал свою юную возлюбленную. В ней тоже уживались противоположности: капризная требовательность — со страхом перед отцом, нетерпение — с равнодушием к чужой судьбе и пассивностью. Вскоре она поведет себя довольно странно для влюбленной девушки…
«Последний Дон Кихот»
Любую женщину могло бы осчастливить «Письмо лейтенанта А.», напечатанное в центральной газете. И все же Светлана упрекнула Каплера за безрассудство. «Он сам был обескуражен, говорил, что статью посылал не для «Правды», что его подвели друзья». В это неуклюжее оправдание спецкора невозможно поверить.
До трагической развязки оставалось чуть больше месяца. Можно только предполагать, чем она была вызвана. «Двадцать писем к другу» очень туманно и скупо повествуют об этой истории, Светлана Аллилуева имела на это право: ведь речь шла о ее первой любви, о чем-то сокровенном и интимном.
Но допустим, нас не интересуют альковные подробности. Непонятно, почему влюбленные постоянно пребывали в тревоге и предчувствии беды. Светлана часто об этом напоминает, злоупотребляя словом «ужасно»: «я чувствовала, что все это может закончиться ужасно», «мои домашние были в ужасе».
Светлана впервые в жизни страстно влюбилась. Почему это вызывало такой ужас окружающих? Ее избранник — не первый встречный, а знаменитый Каплер. Правда, он женат, но с женой давно расстался и хочет развестись. Появлялись они со Светланой в театрах и опере. Он встречал девушку у школы, таким образом демонстрируя серьезность и чистоту своих намерений.
Пьяные дебоши и безобразия Василия стали привычным явлением в «царской семье». Отец регулярно его распекал, сынок клялся начать новую жизнь, но хватало его от силы на несколько дней. По сравнению с братом Светлана была образцом благоразумия. Чего она могла бояться? Приступы гнева у отца были страшны, но никогда еще они не обрушивались на дочь. Настоящая опасность могла грозить Каплеру.
Светлана якобы умоляла его больше не видеться и не звонить друг другу. «Он согласился, что нам надо расстаться», — писала она. Наверное, Каплеру уже звонили из управления генерала Власика. Может быть, друзья убедили его быть осторожнее. Как на самом деле назрело это мудрое решение, неизвестно. Тем не менее влюбленные расстались «навсегда» — не виделись и не звонили друг другу две или три недели.
Все это время Светлана не находила себе места. Она не сомневалась, что Люся тоже думает неотступно только о ней, с утра до вечера. Позднее он признался ей, что ждал звонка, целыми днями лежал на диване и смотрел на телефон. Но все-таки не позвонил. И не позвонил бы первым, и жизнь его потекла бы и дальше по накатанной колее.
«Наконец, я первая не выдержала и позвонила ему, — призналась Светлана. — И все закрутилось снова». Их пытались образумить. Светлану — близкие, Люсю — генерал Румянцев, предложивший ему уехать в командировку, куда-нибудь подальше от Москвы. Каплер сказал, что послал генерала к черту, и бросил трубку. Но командировку все-таки оформил. В Ташкент, где начинались съемки фильма по его сценарию «Она защищает Родину».
В последний день февраля Светлане исполнилось семнадцать лет. Люся написал ей длинное и нежное, прощальное письмо. Они решили в этот вечер где-нибудь посидеть вместе, перед его отъездом и, может быть, настоящим прощанием.
Светлана не раз сетовала, что им негде было уединиться, они не могли пригласить друг друга к себе домой. Но возле Курского вокзала пустовала квартира, куда иногда Василий привозил своих друзей. Сразу после школы Светлана и Каплер направились туда. Перепуганный «дядька» следовал за ними.
«Он сидел в смежной комнате, делая вид, что читает газету, а на самом деле старался уловить, что же происходит в соседней комнате, дверь в которую была открыта настежь, — вспоминала Светлана, — мы не могли больше беседовать. Мы целовались молча, стоя рядом. Мы знали, что видимся в последний раз. Люся понимал, что добром все это не кончится, и решил уехать… Нам было горько и сладко. Мы молчали, смотрели в глаза друг другу и целовались. Мы были счастливы безмерно, хотя у обоих наворачивались слезы».
Когда они вернулись домой, Светлана не уточняет. Предчувствие беды ее так и не покинуло, хотя они расстались, как и желали того ее родные и генерал Власик. И «дядька» почему-то дрожал от ужаса, «от мысли, что теперь ему будет». Второго марта Алексея Каплера, уже собравшего вещи и готового отправиться в Ташкент, увезли на Лубянку, обыскали и предъявили обвинение — связи с иностранцами.
Действительно, Каплер был знаком почти со всеми иностранными корреспондентами в Москве. И не раз бывал за границей. Раньше никто не усматривал в этом состава преступлений. На допросах имя Светланы Аллилуевой даже упомянуто не было. «Английский шпион» был осужден и сослан на пять лет в Воркуту.
Утром следующего дня, когда Светлана собиралась в школу, к ней в комнату стремительно вошел отец. «Обычно сдержанный и на слова, и на эмоции, он задыхался от гнева, он едва мог говорить».
В своих воспоминаниях Светлана Аллилуева нередко противоречит самой себе. Часто упоминает о взбучках, которые устраивал Сталин брату, генералу Власику за то, что тот слишком много тратил на содержание «двора», другим чиновникам и приближенным.
Приступы гнева, наводившие ужас на близких и свиту, Сталин не мог или не находил нужным сдерживать. Светлана с болью писала о том, как страдала от грубости и несдержанности отца ее мать.
И вдруг мы узнаем, что «отец был обычно сдержанным». Безобразная сцена, которая за этим последовала, полностью опровергает это заблуждение. Отец потребовал немедленно отдать ему все письма «писателя», с особой ненавистью напирая на это слово. Светлана покорно достала из стола письма и фотографии, записные книжки Каплера и последнее «длинное, печальное, прощальное письмо».
— Мне все известно! — многозначительно и угрожающе сообщил Сталин дочери. — Все твои телефонные разговоры — вот они здесь! — Он похлопал себя рукой по карману. — Твой Каплер английский шпион, он арестован.
Тут Светлана обрела, наконец, дар речи и сказала тихо, но твердо, что в эти драматические минуты походило на бунт:
— Я люблю его!
— Любишь? — «выкрикнул отец с невыразимой ненавистью к самому этому слову, и я получила две пощечины — первые в своей жизни».
Но гораздо сильнее пощечин оскорбили Светлану слова, которые она даже не чаяла никогда услышать от отца, «грубые мужицкие слова»: «идет война, а ты занимаешься…»
На «английского шпиона» Светлана не обратила внимания, эта фраза словно мимо ее ушей пролетела. Она ждала, что отец и его сподручные попытаются очернить Люсю в ее глазах. Что ж, им это не удастся. Она никогда не поверит, что ее любимый может стать предателем, врагом, иудой. Для нее он всегда был самым светлым, интеллигентным и порядочным человеком.
Но Иосиф Сталин с полным правом презирал людей: он хорошо понимал психологию обычного человека, женскую психологию. Наверное, неплохо знал собственную дочь. Он сказал именно то, что мгновенно излечило ее от любви, отравило душу ревностью, горечью и сомнением.
— Я все знаю! — еще раз повторил он. — «Ты бы посмотрела на себя — кому ты нужна? У него кругом бабы, дура!»
Отец повернул ее лицом к зеркалу, собрал Люсины письма и ушел к себе в кабинет. А Светлана долго смотрела на свое отражение. Она была раздавлена, унижена, убита. «Лучше б живую в землю закопали», — пела няня в одной из своих песен. Это про нее.
Сомнения и раньше предательски закрадывались в душу: «действительно, разве Люся мог всерьез полюбить меня, зачем я была нужна ему?» Светлана считала себя дурнушкой, несмотря на протесты няни и подруг. Но почему-то рядом с Люсей она всегда забывала об этом. Он словно обволакивал ее нежностью и вниманием. Когда он смотрел на нее, она чувствовала себя любимой, единственной.
«У него кругом бабы». Ревность ужалила ее в самое сердце. Никогда еще она не испытывала такой боли. Слухи о многочисленных Люсиных романах и раньше доходили до нее. Но любовь застилала ей глаза. Она даже верила, глупышка, что вытеснила из его сердца знаменитых красавиц, актрис и писательниц.
Светлана привыкла к угодничеству и лести окружающих. С некоторых пор она стала понимать, что одноклассники и знакомые добиваются ее дружбы и расположения отнюдь не потому, что она им нравится. Просто им что-то от нее нужно. Голый расчет правил миром. Это открытие отравило ей душу. Она стала презирать людей, как отец.
Отец преподал ей жестокий урок. Его циничные слова попали точно в цель. Светлана заподозрила даже Люсю, которому еще вчера верила безгранично. Ему нужна была дочь Сталина, а не маленькая смешная школьница.
В тот день Светлана все-таки пошла в школу. Продолжала жить по привычке, чисто механически. Даже отвечала на чьи-то вопросы, терпеливо высидела все уроки. Вечером отец позвал ее к себе. Он рвал и выбрасывал в корзину письма и фотографии Каплера, при этом ворча:
— Писатель! Не умеет толком писать по-русски. Уж не могла себе русского найти.
«То, что Каплер — еврей, раздражало его, кажется, больше всего, — вскользь заметила Светлана. — Мне было все безразлично. Я молчала, потом пошла к себе. С этого дня мы с отцом стали чужими надолго».
Но первый муж Светланы, за которого она вышла всего лишь через год после ареста Люси, тоже был евреем. Тем не менее отец только устало махнул рукой вместо родительского благословения — выходи за кого хочешь. И к ухаживаниям Каплера он очень долгое время относился снисходительно. Что же привело его в ярость и заставило так жестоко расправиться с бедным Люсей?
Слухи и толки — источник информации, к которому всегда относились с предубеждением. Но в них скрыто гораздо больше истины, чем в официально обнародованных воспоминаниях, мемуарах, письмах, авторы которых с полным правом интерпретируют события на свой лад, скрывают, умалчивают, а то и просто лгут.
Слухи просачивались даже сквозь толстые стены Кремля. Алексей Каплер всегда вел себя безукоризненно, по-джентльменски, не хвастался своими победами, оберегал имена женщин, которых любил, от злословия. Тем не менее кое-кто из его друзей не сомневался в том, что его отношения со Светланой Аллилуевой не были платоническими.
Не сомневались, что легкомысленный и беспечный Люся собственной рукой вычеркнул десять лет из своей жизни. Утром первого марта «дядька» доложил о том, что его «поднадзорная» провела вечер («посвященные» утверждают, что всю ночь) в квартире возле Курского вокзала вместе с Каплером. Донесение было передано по цепочке и вскоре вместе с записями телефонных разговоров Светланы легло на стол Самому. Какой отец не пришел бы в ярость от такой новости!
Сама Светлана с горечью обмолвилась по этому поводу: «они знали о нас даже то, чего не было…» Возможно, Каплер пострадал безвинно. Генерал Власик и его штат судили об этой любовной истории в меру своих солдафонских, примитивных представлений о чувствах и отношениях.
С легкой руки западных журналистов, которые много писали о дочери Сталина в шестидесятые и семидесятые годы, она стала «жертвой режима». Теперь уже не только в России, но и за ее пределами читатели с сочувствием обсуждают судьбу Светланы, первая любовь которой была растоптана тираном-отцом. Предполагают, что Иосиф Сталин просто не в силах был вынести аналогии: ведь в 1917-м он, сорокалетний мужчина, соблазнил шестнадцатилетнюю Надежду Аллилуеву.
И все-таки настоящей жертвой этой истории стал Алексей Каплер. Он пострадал больше всех. Переживания Светланы, крушение девичьих грез и в сравнение не идут с тем, что выпало на его долю.
Жизнь Светланы после ареста Люси потекла так же уныло, скучно и одиноко, как раньше. Она словно угасла, ушла в себя. И все же от влюбленной девушки с таким страстным, неровным характером можно было ожидать непредсказуемых поступков. Она не хлопотала за Люсю, как просила за всех близких ее тетка Анна Аллилуева. Она не пыталась узнать от друзей о его судьбе в лагере, написать ему, отправить посылку, в которой он на первых порах отчаянно нуждался. Это можно было сделать через вторые-третьи руки, если она опасалась гнева отца.
Сколько женщин в те страшные годы жили слухами Оттуда, редкими весточками, беспокоясь о судьбе сына, мужа, возлюбленного… Актриса Ангелина Степанова не побоялась переписываться с драматургом Эрдманом, которого горячо любила, и даже отправилась к нему в ссылку — просто увидеть, поддержать.
Кому-то покажется нелепым это сравнение. Ангелина Степанова — личность, незаурядная женщина, к тому же зрелая и сложившаяся. А Светлана Аллилуева — девчонка, капризная и безвольная, выросшая в густой зловещей тени своего отца.
И все же Светлана всегда добивалась своего, если хотела. Всего год спустя она вышла замуж, несмотря на то что отцу очень не нравился ее новый избранник. Прояви она настойчивость тогда, в марте 1943-м, как знать, чем могла бы закончиться эта история.
Не страх заставил ее так малодушно забыть Люсю, почти предать, а скорее уязвленное самолюбие, ревность, бессердечие и непонятное для влюбленной девушки равнодушие.
Уже в то время стали понемногу проявляться черты характера Светланы. С годами они только усугублялись. Изначально Бог заложил в женскую природу жертвенность, преданность и постоянство. Но как и все великие замыслы, этот многое потерял при конкретном воплощении. Светлана органически не была способна на жертвенность.
Она не жертвовала ничем не только для мужей, возлюбленных, но даже для детей. Может быть, в этом причина того, что все ее браки очень быстро рушились. Она не умела уступать, быть терпеливой и снисходительной к недостаткам близких. Почти любая семья держится на ежедневных компромиссах и мудрой женской «политике». Никто из близких не отмечал в Светлане мягкости и женственности. Она была вся — порыв, напористость, упрямство и страсть.
Только через двенадцать лет Светлана неожиданно столкнулась с Алексеем Каплером на съезде писателей. И забытое чувство вспыхнуло вновь…
Но тогда, весной 1943-го, когда Светлана вернулась к своему ненавистному, однообразному существованию, Алексей Каплер попал в совершенно иной мир и вынужден был к нему приспосабливаться. Казалось бы, его личная судьба, карьера — все рухнуло. Со многими заключенными так и случалось. Даже те, кому посчастливилось выжить, возвращались домой сломленными людьми.
Но к Алексею Каплеру это не относится. В нем было столько жизненных сил, воли, энергии, что хватило бы на несколько человеческих судеб. Мало кому это удавалось, но он и в ссылке ухитрялся жить в полную силу, влюбляться, работать, строить планы на будущее, стойко перенося неудачи.
В начале своего пятилетнего заключения он решил, что самый разумный для него выход — это фронт. Лучше погибнуть от пули, чем тихо угаснуть от голода и непосильного труда. Он пишет письмо самому Сталину, очень смелое для заключенного. Это послание человека не только не сломленного, но осмеливающегося напомнить о былых своих заслугах:
«Уважаемый Иосиф Виссарионович, я осужден Особым совещанием за антисоветские высказывания. Не признавал их и не признаю! Награжден орденом Ленина и удостоен Сталинской премии первой степени. Причастен к фильмам «Она защищает Родину», «Котовский». Я могу признать только у себя нескромность. Позвольте мне отправиться на фронт, умоляю Вас об этом.
Алексей Каплер».
Многие заключенные писали тогда самому Сталину, умоляли восстановить справедливость. Те, кто в справедливость уже не верил, просились на фронт. Едва ли эти письма доходили до вождя народов, но просьбы об отправке на фронт иногда удовлетворялись. Появились особые батальоны смертников из заключенных, проявлявшие чудеса храбрости и самоотверженности. Им нечего было терять.
Письмо Каплера Сталин читал или был ознакомлен с его содержанием. Он поручил Берии разобраться. Берия быстро разобрался и доложил: о фронте не могло быть и речи — у Каплера сестра во Франции.
В Москве он приятельствовал с американскими и английскими корреспондентами. Это означало, что Каплер мог сдаться в плен и найти покровительство у родственников или зарубежных друзей.
Наверное, отказ был для Каплера большим ударом. Но он не пал духом. Теперь ему приходилось надеяться только на свое, обаяние и былую громкую славу. Вскоре он уже работал в фотографии и пользовался относительной свободой передвижения в отличие от других заключенных. Таких счастливчиков можно было по пальцам перечесть. Что ж, Алексей Каплер любил жизнь, и она отвечала ему взаимностью. Он умел завязывать знакомства и добиваться расположения даже самых неприступных людей, например лагерного начальства.
И все же поневоле приходит мысль о каком-то тайном покровительстве заключенному Каплеру. Хочется верить, что Светлана робко просила за него — не отца, а Берию или других всемогущих чиновников, в чьих домах она бывала и дружила с их детьми. Она могла замолвить словечко кому-нибудь из жен или детей. Такие семейные заступничества часто оказывались более успешными, чем официальные ходатайства. Женщины из их круга, конечно, слышали эту романтическую историю и сочувствовали Светлане, хотя не все верили в искренность Люси, этого известного московского донжуана.
А может быть, за Алексея Каплера хлопотали его знаменитые друзья. Такие могущественные, как Симонов. Кому бы он ни был обязан за эти послабления — самому себе, своим талантам или тайному заступничеству, жилось ему в Воркуте несравненно легче, чем другим заключенным. Но Каплер был насильно вырван из привычной среды обитания — бурной, кипучей и блестящей. Лишен былого блестящего окружения равных себе, прославленных людей. Конечно, он чувствовал себя несчастным и обделенным.
Новая большая любовь к очень незаурядной, яркой женщине не принесла ему большое утешение. Актриса Валентина Токарская тоже отбывала срок в Воркуте. Играла в местном театре. На спектакли актеров-заключенных водили под конвоем.
И все же они как-то ухитрялись встречаться в фотографии, хотя Валентина Георгиевна очень боялась быть застигнутой «на месте преступления». Если бы вдруг нагрянули с обыском и застали ее у Каплера, ей грозили большие беды. Могли снова отправить на «общие работы». Токарская уже таскала бревна на лесоповале и знала, что это такое.
На случай облавы изобретательный Каплер придумал и сам сделал потайную дверь в шкафу. Если кто-то посторонний заходил в фотографию, Валентина исчезала в шкафу и через минуту-другую оказывалась на улице, в глухом переулке.
Друзья Каплера говорили, что до лагеря Люся по-настоящему любил только одну женщину — Тасю Златогорову. Он даже сделал ее соавтором некоторых своих сценариев, например «Ленин в 1918 году». Это была первая, юношеская любовь из далеких, счастливых и беззаботных киевских лет.
Второй «настоящей» любовью по праву стала Валентина Токарская. Третьей — поэтесса Юлия Друнина, с которой Алексей Каплер прожил последние годы своей жизни. Никому и в голову не пришло включить в этот короткий список Светлану Аллилуеву. Всего три имени из великого множества женских имен — жен, возлюбленных, кратких увлечений Люси Каплера.
Валентина Георгиевна Токарская была умной, душевно тонкой и изящной женщиной. В черной лагерной безысходности она напоминала Алексею Каплеру о прошлом. Она сама была частичкой его счастливого прошлого. Они отогрелись друг возле друга. Они верили, что, пережив Воркуту и лагерь, уже никогда не расстанутся. Каплер обещал Валентине — если они благополучно вернутся в Москву, — что будет жить только ради нее, он станет носить ее на руках. Тогда, в Воркуте, он сам в это верил. И конечно, не сдержал слова…
Алексей Каплер освободился раньше Валентины. Без права проживания в столице. Он должен был отправиться в Киев к родственникам. Но вместо этого тут же очутился в Москве! Он и сам понимал, что рискует, что это безрассудно, опасно. Но ничего не мог с собой поделать. Так хотелось пройти по московским улицам, которые не видел пять лет, повидать друзей.
Он прожил в столице три дня. Друзья принимали его радушно, обещали поддержку, работу. Со временем он надеялся получить разрешение и на приезд в Москву. Говорят, Каплер виделся с Симоновым. Симонов при желании мог вернуть его в мир кино, без которого Люся просто не мог жить.
Каплер был особенным заключенным, только что вернувшимся оттуда. Его помнили, любили, готовы были помочь. И все же кто-то из знакомых донес. А может быть, его «вели» от самой Воркуты. Кто-то упорно не желал, чтобы Каплер появился в столице.
Его арестовали, когда он садился в киевский поезд. За ослушание наказали очень сурово — еще пять лет лагерей. Он просил вернуть его в Воркуту к Валентине, но пришлось ехать гораздо дальше — в Инту. Однако Алексея Каплера и это не сломило. Вскоре его снова пристроили на легкую работу в конторе.
Он переписывался с Валентиной и считал дни. В Воркуте ждать было легче. Здесь время тянулось невыносимо медленно. Наверное, поэтому неугомонный Люся Каплер и сорвался. А ведь мог благополучно пережить оставшийся срок. Но даже в сорок пять Каплер все еще оставался безрассудным, легкомысленным Люсей. Завел роман с женой какого-то лагерного начальника, потерял теплое место и был сослан на общие работы. Общие работы — это лесоповал или стройка в любую погоду. Особенно страшны были сорокаградусные северные морозы.
Алексей Каплер до ссылки никаких жизненных тягот и забот не знал. Его киевское детство было беззаботным и обеспеченным. Отец, состоятельный человек, посылал детей учиться за границу, сумел дать им хорошее образование. И тем не менее этот баловень судьбы стойко и достойно перенес две ссылки. Не иначе как легкий нрав и мажорное восприятие мира помогли Алексею Каплеру выжить и сохранить себя от отчаяния, озлобления.
Как-то один из заключенных, бывший студент ВГИКа, недавно попавший в лагерь, спросил его, бывалого зека, уже заканчивающего срок:
— Скажите, а вы не родственник тому самому, знаменитому Каплеру?
И бывалый зек, усмехнувшись, ответил не без гордости:
— Ай эм!
Студент обомлел и вначале не поверил. Может быть, к началу пятидесятых прежнего неугомонного Люси уже и не было. Внешне Каплер очень изменился. Но далеко не к худшему. Черты лица смягчились, в глазах появилась легкая грусть. Добавить к этому благородную седину в волосах — и перед нами портрет нового Алексея Каплера, мудрого, сдержанного и доброжелательного ведущего «Кинопанорамы», на многие годы ставшей любимой передачей миллионов телезрителей.
После возвращения Каплер с прежней энергией принялся завоевывать тот мир, без которого не мог жить, — мир кино. Он был слишком деятельной натурой, чтобы довольствоваться вторыми или третьими ролями. Он всегда играл только главные, самые видные. И судьба к нему благоволила, словно искупая вину за погубленные годы ссылки.
Если это десятилетие считать своеобразной вехой в жизни, то слава Алексея Каплера «после», конечно, намного превзошла его популярность журналиста и сталинского лауреата «до». Появилось новое чудо — телевидение. Оно позволило Каплеру запросто войти в каждый дом и принесло ему известность, о которой он едва ли мечтал.
Каплер выгодно отличался от ведущих телепрограммы той поры. Почти все они сидели перед телекамерами с каменными физиономиями, словно аршин проглотив, боялись сказать лишнее слово, часто вещали по бумажке. Конечно, Алексей Каплер был среди этих истуканов самым «человечным». Он разговаривал с телезрителями мягко, доверительно, но без заискивания и панибратства. Почему мы устремлялись в пятницу, в один и тот же час к экранам телевизоров? Потому что в «Кинопанораме» звучало настоящее живое слово — редкое в те дни.
Личная жизнь сложилась тоже очень счастливо. Они поженились с Валентиной Георгиевной и несколько лет прожили очень дружно. Это была очень гармоничная и любящая пара. Мудрая Валентина Токарская не требовала от мужа невозможного, то есть верности. Хранить верность одной женщине — это было выше его сил. Жена предпочитала не замечать его многочисленные увлечения.
О встрече с Алексеем Каплером через одиннадцать лет Светлана вспоминает в «Двадцати письмах к другу»: «На втором съезде советских писателей в Кремле, в залитом огнями Георгиевском зале я встречаю Люсю…»
Они встретились, и роман на короткое время возобновился. Но Каплер уже не был прежним Люсей. И самое главное — переменилась сама Светлана. Пожалуй, десять лет скучной и благополучной жизни сильнее искалечили ее характер, чем ссылка Каплера. Все чаще проявлялись непредсказуемость поступков, неоправданные взрывы гнева и нелогичность поведения.
Зачем, например, Светлана отправилась в театр объясняться с Валентиной Токарской? «Не знаю зачем, — признается сама Светлана. — У меня было смутное чувство, что мне надо это сделать». Это «смутное чувство» все чаще ею управляло, и она не давала себе труда подумать, заслуживает ли доверия этот советник.
Встреча с женой Люси стала большим ударом для Светланы. Она поняла, что эту пару связывают слишком крепкие узы и разорвать их ей не удастся, сколько бы она ни старалась. Это открытие ее страшно уязвило. Токарская вежливо выслушала сбивчивые объяснения: она любит Люсю и потому имеет на него какие-то непонятные права…
Светлана как будто не понимала, ей и в голову это не пришло, какой чудовищный поступок она совершила: явилась к обманутой жене, чтобы сообщить — у меня связь с вашим мужем и мне он нужнее, чем вам!
«Она была очень мила со мной — немолодая, умная, изящная женщина, актриса до мозга костей. Она хотела быть доброжелательной и великодушной», — с раздражением писала Светлана. Она ожидала другого. Может быть, надеялась, что Токарская вспылит и в сердцах выгонит мужа или уйдет сама. По натуре Светлана была разрушительницей и умела вносить сумятицу и раздоры в отношения между людьми.
Но интеллигентная и мудрая Валентина Георгиевна словно стояла не рядом с ней, а на высоком пьедестале. Светлана почувствовала себя простушкой, обывательницей, которая явилась для того, чтобы разбить окна сопернице и оттаскать ее за волосы.
Токарская только улыбнулась в ответ на ее взволнованные признания и претензии и спокойно объяснила, что считает мужа свободным человеком и позволяет ему жить так, как он хочет. «Да, я всегда знала, что Люся очень неверный человек, — сказала она на прощание. — Не обольщайтесь. Он любил в своей жизни одну лишь Тасю Златогорову, но даже и ей он не был верен. Это такая натура».
Недаром Светлана Аллилуева не включила этот эпизод в первое издание книги. В слишком неприглядном свете она себя выставила. С какой горечью написаны эти строки: «Мне нечего было больше говорить. Я получила все те удары, которых искала получить. Я знала — это конец всему. Люся ополчился теперь против меня, его негодованию не было границ. Его не стало больше.
— Зачем ты сделала это? Ты можешь объяснить мне?
Нет, я не могла объяснить. Что-то двигало мной помимо моей воли» («Двадцать писем к другу»).
На этот раз произошел полный разрыв, хотя из этих строк нетрудно понять, как отчаянно хотелось Светлане удержать Люсю. Но в его голосе она уловила нотки неприязни. Трудно было вывести из себя добродушного, терпимого Люсю, но Светлана ухитрилась это сделать.
И все-таки они иногда встречались после этой ссоры. В своей книге «Дети Кремля» Лариса Васильева довольно подробно рассказывает о жизни Алексея Каплера после ссылки, хотя он никогда не принадлежал к кремлевской элите. Уже в зрелые годы он встретил свою последнюю большую любовь — поэтессу Юлию Друнину, ушел от Валентины Токарской и женился на «Юленьке». По общему мнению друзей и знакомых, это был один из тех редких браков, которые совершаются не на грешной земле, а на небесах. Супруги редко расставались даже на несколько дней, а если это случалось, они писали друг другу нежные письма и посылали телеграммы.
Конечно, до Светланы доходили слухи об этом идеальном союзе. Она всегда проявляла ревнивый интерес к личной жизни знакомых и родственников, может быть, потому, что у самой эта жизнь не складывалась. Каплер никогда не искал с ней встреч. Но Светлана не могла отказать себе в удовольствии хотя бы изредка его увидеть. Она приходила к нему домой, и они о чем-то подолгу беседовали. О чем? Юлия Друнина не была ревнива и не проявляла женского любопытства делам мужа.
Алексей Каплер прожил долгую счастливую жизнь. Громкой славы, удач, благополучия и любви ему выпало гораздо больше, чем испытаний и трудностей. Этот баловень судьбы ухитрился обмануть старость. Старости у Алексея Каплера как будто и не было. До последних дней он работал: преподавал во ВГИКе, читал чужие рукописи, по возможности их пристраивал. Он любил помогать и опекать молодежь.
Умер Каплер 11 сентября 1979 года Юлия Друнина так и не сумела оправиться после его смерти. Она называла мужа последним Дон Кихотом. И за то, что он по-рыцарски относился к женщинам, боготворил их. И за то, что он мог, не задумываясь, броситься на помощь к ближнему.
У Юлии Друниной было все — ее творчество, общественная деятельность, друзья, близкие. Тем не менее однажды, в минуту черной тоски и отчаяния, она вошла в гараж и, плотно прикрыв дверцу машины, включила зажигание. Таким странным способом она решила уйти из жизни, которая без Дон Кихота стала для нее пустой и невыносимой…
Первое замужество Светланы
(«Сионисты подбросили тебе твоего муженька»)
Весной 1943 года Сталин приказал «закрыть» Зубалово, а Василия и Светлану изгнать «за разложение», за то, что «превратили дачу в вертеп». Пострадали и ни в чем не повинные бабушка и дедушка, их отправили на лето в какой-то санаторий. Василий давно уже устраивал в Зубалове вечеринки с танцами и обильными возлияниями. На такие мелкие шалости отец не обращал внимания. За Василием водились грехи пострашнее, например, рыбалка с противотанковой миной и с человеческими жертвами. Молодой генерал в мае 1943-го попал за это в карцер, а потом отправился в ссылку. На несколько месяцев отец о нем забыл.
Гневался он на Светлану. После ее романа с Каплером опустело Зубалово. И в кремлевской квартире глава семейства устроил разгром и выставил вон Александру Николаевну Никашидзе. «Шпионство за мной, копание в моих тетрадях и письмах, подслушивание телефонных разговоров с Каплером и тому подобное — ее не спасли», — злорадствовала Светлана. А провинилась бедная Саша тем, что не смогла устеречь свою подопечную. Впрочем, она прекрасно устроилась, вышла замуж и с облегчением покинула эту сложную семейку и строптивую воспитанницу. За несколько лет своей службы «глупенькая Саша» дослужилась до майорского чина, перетащила в Москву родителей, братьев и сестер, выбила им квартиры. Целые легионы нахлебников кормились на казенный счет возле семей вождя и членов правительства.
Светлана снова жаловалась на скуку и тишину. Раньше хотя бы Василий привозил друзей, иногда очень интересных, знаменитых. Светлана осуждала его за пьянство, но очень любила многолюдное, пестрое общество. Раньше вокруг нее была большая дружная семья и друзья родителей. Теперь ей как воздух нужны были свои друзья, подруги, поклонники. Ее бабушка вышла замуж в шестнадцать лет. Мать тоже влюбилась в шестнадцать. Цыганская и грузинская горячая кровь кипела в ее жилах. Тишина и одиночество были противопоказаны Светлане.
С отцом она не встречалась и даже по телефону не разговаривала с 3 марта, того злосчастного дня, когда он влепил ей пощечину и обругал площадным словом. Но в июне Светлана сдала выпускные экзамены в школе, получила аттестат. Это было слишком важное событие, чтобы не поделиться с отцом. Она позвонила ему и сказала, что школу окончила.
— Приезжай! — буркнул он в ответ.
Просмотрел ее аттестат и поинтересовался планами на будущее. Светлана в ближайшие дни собиралась вместе с подругой подать документы на филологический факультет МГУ. Ее давно влекло к литературе, учительница-словесник Анна Алексеевна убедила Светлану, что в филологии ее призвание. Отец был очень недоволен:
— В литературу хочешь? Так и тянет тебя в эту богему! Они же необразованные все, и ты хочешь быть такой… Нет, ты получи хорошее образование, ну хотя бы на историческом. Надо знать историю общества, литературу — это необходимо. Изучи историю, а потом занимайся чем хочешь…
И Светлана снова подчинилась. Хотя могла бы спорить, доказывать и, может быть, настоять на своем. Но, по-видимому, ей было все равно — история или литература. К тому же авторитет отца был слишком велик. Светлана никогда потом не жалела, что сначала окончила исторический. Правда, из нее не вышло «образованного, образцового марксиста», как хотелось отцу. Но сама она уверена, что изучение истории общества научило ее критически и трезво мыслить, подготовило к большим переменам, которые грянули через двадцать лет.
Об учебе Светлана пишет мало. Едва ли науки ее увлекали в те годы. Как и в школе, она была добросовестной студенткой, но едва ли очень способной. Подстегивали ее в учебе большое честолюбие и желание заслужить одобрение отца. Ее очень обижало, что отец считал ее человеком средних способностей, а брата Василия талантливым, но легкомысленным. Некоторые проницательные родственники замечали это тайное соперничество с братом.
Светлана была сталинским стипендиатом. Если вспомнить, что Василий в двадцать с небольшим стал генералом, то ее успехи покажутся скромными. Впрочем, в эти годы Светлану больше занимала ее личная жизнь. Она была влюбчива и влюблялась так пылко, несдержанно, что ее чувства тут же становились заметны окружающим.
Григорий Морозов учился с Василием в одной школе и иногда бывал у него дома вместе с другими одноклассниками. Этого стройного, обаятельного юношу трудно было не заметить. Светлана сразу же выделила его из толпы дружков Василия. Как большинство ее романов, роман с Григорием вспыхнул стремительно, и влюбленные, недолго думая, к весне решили пожениться. Нетрудно догадаться, кто был ведущим, а кто ведомым в их отношениях. Не потому, что Григорий был скромным и застенчивым. Он учился в Институте международных отношений, свободно держался в любом обществе и не страдал косноязычием. Но даже будущий дипломат, умеющий ухаживать за девушками, не посмел бы приблизиться к Светлане Сталиной без очевидных авансов с ее стороны.
Не без робости ехала Светлана в Кунцево к отцу, чтобы поговорить о своем решении выйти замуж. Григорий был еврей, и она знала, что отцу это не понравится. Они виделись очень редко, и каждый разговор с отцом был трудным и мучительным. После истории с Каплером отец не раз повторял, что очень недоволен своими детьми, что они разочаровали его. У него имелись все основания быть недовольным Василием. Но единственная дочь и любимица всегда хорошо училась, покорно следовала его советам и пожеланиям… Светлану очень больно задевали эти разговоры о неудачных детях.
К ее великой радости, отец довольно равнодушно воспринял известие. «Был май. Все цвело кругом у него на даче, было тихо, пчелы жужжали. «Значит, замуж хочешь?» — спросил он. Потом долго молчал, смотрел на деревья… «Да, весна… — сказал он вдруг и добавил: — Черт с тобой, делай что хочешь…» В этой фразе было очень много. Она означала, что он не будет препятствовать, и благодаря этому мы прожили безбедно, имели возможность оба спокойно учиться» («Двадцать писем к другу»).
Правда, отец категорически заявил ей, что ее мужа видеть не желает: «Слишком он расчетлив, твой молодой человек. Смотри-ка, на фронте ведь страшно, там стреляют, а он здесь, в тылу окопался». Во второй раз уже он дал понять Светлане, что ее избранники отнюдь не бескорыстны. Год назад эти слова ударили ее в самое сердце. Наверное, со временем Светлана стала привыкать к мысли, что окружающие видят в ней не только интересную, умную девушку, но прежде всего дочь Сталина. А ей так хотелось любить, быть любимой, выйти замуж! Нет, в своем Грише она не сомневалась.
Ей дали квартиру в городе, и она была даже рада, что уехала из Кремля. Светлане всегда хотелось жить, как живут все нормальные люди — без охраны, мелочной опеки «обслуги», надзора Власика и его ставленниц.
Через полгода она сказала отцу, что ждет ребенка. Ей показалось, что он немного смягчился, и даже позволил им с мужем отдыхать в Зубалове — «тебе нужен воздух». Но виделись они все так же редко. Общение отца с дочерью в основном ограничивалось телефонными звонками. Звонила Светлана.
9 мая вместе со всеми москвичами Светлана слушала по радио объявление о конце войны. Ей показалось, что весь город забурлил от этой новости — столько было счастливых лиц на улицах, шума и веселья. Чувствуя необыкновенное волнение, она вдруг решила позвонить отцу:
— Папа, поздравляю тебя с победой! — сказала она сквозь слезы.
— Да, победа! Спасибо, поздравляю тебя. Как ты себя чувствуешь? — ответил отец.
Так и запомнился Светлане этот замечательный день — разговором с отцом и праздничной вечеринкой. В их квартире на набережной собрались друзья и знакомые, пили шампанское, танцевали, пели.
«Я снова увидела отца лишь в августе, — пишет Светлана в своих воспоминаниях, — когда он возвратился с Потсдамской конференции. Я помню, что в тот день, когда я была у него, пришли обычные его посетители и сказали, что американцы сбросили на Японию первую атомную бомбу. Все были заняты этим сообщением, и отец не особенно внимательно со мной разговаривал. А у меня были такие важные для него новости: родился сын! Ему уже три месяца, и назвали его Иосиф. Какое значение могли иметь подобные «мелочи» в ряду мировых событий. Это было просто никому не интересно».
Светлана была разочарована этой встречей и обижена полным равнодушием отца к своему малышу. Она ждала, что отец захочет увидеть внука, а увидев, обязательно полюбит. Но, увы — этого не произошло. Холодность отца Светлана объясняла интригами брата. Василий за что-то невзлюбил ее Гришу и наговаривал на него отцу.
Следующая их встреча произошла очень нескоро. Светлана даже не помнит, виделась ли она с отцом зимой 1945/46 года. Сталин тяжело заболел и отдыхал где-то на юге. Где именно — держалось в строжайшем секрете даже от его детей. Но такова была давняя традиция семьи: если глава ее уезжал на отдых, то обязательно присылал весточки жене и «Сетанке» и гостинцы, фрукты. В архиве Сталина сохранились короткие письма к жене и дочери и длинные ответы Светланы, с заботливыми расспросами о здоровье «дорогого папочки» и благодарностью за подарки. Время разметало семью. Отец не виделся с дочерью долгими месяцами, но некоторые старые привычки продолжали жить.
Спустя двадцать лет, когда Светлана писала свои воспоминания, ей казалось, что отношения с отцом в то время были холодными, сдержанными, но ее письма словно опровергают это. Это письма любящей дочери, полные нежности и тревоги за немолодого уже и перегруженного делами отца.
Многие очевидцы, наблюдавшие личную жизнь Сталина, уверяли, что он был плохим отцом, равнодушным к своим детям. Сомневались также и в искренности его детей. В письмах Светлана чувствуется судорожное желание заслужить одобрение отца, привлечь к себе и своему ребенку хотя бы крупицу его внимания.
Это письмо написано 1 декабря 1945 года.
«Здравствуй, дорогой папочка!
Я никогда еще так не радовалась, как в тот день, когда получила твое письмо и мандарины. Ты прав, я теперь не воробушка, а целая «ворона», в соответствии с этим и твое письмо с посылкой обрадовали меня намного больше, чем когда я была «воробьем». Даже сынишка попробовал апельсиновый сок, но пока он не понимает толку ни в чем, кроме каши.
Я очень-очень рада, что ты здоров и хорошо отдыхаешь. А то москвичи, непривычные к твоему отсутствию, начали пускать слухи, что ты очень серьезно заболел, что к тебе такой-то и такой-то врачи понаехали, и волей-неволей пугаешься и думаешь, не похоже ли это в какой-то мере не правду; ведь твои-то «верные стражи» и не скажут мне ничего, из всего тайны делают…»
В письме слышны отзвуки семейных распрей и интриг. Наверное, Сталин в своем письме выразил недовольство Евгенией Александровной и ее скоропалительным замужеством. Светлана мужественно защищает тетку, которую явно оговорили перед отцом. И заодно пользуется случаем пожаловаться на своих недоброжелателей:
«…K тому же дело не в Жене и ее семейной драме, а дело в принципиальном вопросе: вспомни, что на меня тебе тоже порядком наговорили! И кто?., ну черт с ними…
Все-таки я жду тебя в Москву. А может быть, папочка пришлет мне еще одно такое хорошее письмо? Целую моего папочку.
Твоя Сетанка».«Наговорщики» — это, конечно, брат Василий и Власик. Интересно, что Светлана все чаще начинает пользоваться любимыми словесными оборотами отца — «черт с тобой, черт с ними», словно они переходят к ней по наследству. Со временем в гневе и сильном раздражении она виртуозно пользовалась и ненормативной лексикой, чем не раз шокировала окружающих. Тоже семейная черта. Брат Василий с детства привык к матерным словам. А вот Яша, голубиная душа, терпеть не мог ругани.
Отношения с отцом были трудными, с братом — неприязненными. Неистовой матерью Светлана никогда не была. «Я беззаботно родила ребенка и не думала о нем — его растили моя няня и та, которая вырастила Яшину Гулю — мою племянницу», — с обезоруживающей искренностью пишет она. О том, как складывались отношения с мужем, никогда не упоминает. Очевидно, и в эти годы ее. мечта иметь семейное тепло не сбывалась.
Неожиданно и как-то буднично Светлана сообщила о своем первом разводе: «Отец никогда не требовал, чтобы Мы расстались. Мы расстались весной 1947 года по причинам личного порядка, и тем удивительнее было мне слышать позже, будто отец настоял на разводе».
Разговоров вокруг семьи вождя всегда велось много. И о том, что Сталин так и не встречался ни разу с первым зятем-евреем. И о том, что вскоре отец Григория, замдиректора научно-исследовательского института, был арестован и провел в ссылке шесть лет, до 1953 года. Обвинили его в том, что он якобы изменил фамилию Мороз на Морозова. Но на одном московском кладбище сохранилась надгробная плита на могиле деда Григория Морозова. Надпись на плите свидетельствует о том, что еще до революции глава семейства носил фамилию Морозов.
«Отец, конечно, был доволен, что я рассталась со своим первым мужем, — писала Светлана. — После этого он стал со мной несколько мягче, но не надолго. Все-таки его раздражало, что из меня получилось совсем не то, что бы ему хотелось». Об этом она не раз упоминает в дневнике с болью и горечью. Похоже, в то время недовольство отца стало для нее навязчивой идеей. Но Светлана почему-то умолчала, каким же человеком хотел видеть ее отец?
В 1947 году после денежной реформы было отменено бесплатное содержание семей членов Политбюро. Сталин как глава правительства получал зарплату и давал Светлане деньги. До этого она существовала вовсе без денег, не считая стипендии. Иногда занимала у своей няни, которая получала немалый «сержантский» оклад.
«После 1947 года отец иногда спрашивал в наши редкие встречи: «Тебе нужны деньги?», на что я всегда отвечала: «Нет». «Врешь ведь, — говорил он, — сколько тебе нужно?» Я не знала, что сказать. А он не знал ни счета современным деньгам, ни вообще, сколько что стоит. Он жил своим дореволюционным представлением, что сто рублей — это колоссальная сумма. Иногда он давал мне две-три тысячи рублей, неведомо — на месяц, на полгода или на две недели, но считал, что дает миллион» («Двадцать писем к другу»).
Но едва ли Светлана знала какие-либо материальные затруднения. После развода она снова поселилась в кремлевской квартире, которая была под «опекой» Власика, а значит, на государственном обеспечении. Как и Зубалово, где большую часть года находились няньки с ее сыном. Но сколько иронии и горечи в ее словах: «Отец, очевидно, считал, что поскольку все, что надо, для меня делается, чего еще требовать?»
Она ничего и не смела требовать, но ей так нужны были его внимание, заботы, одобрение, не говоря уже о любви. Летом 1947 года отец пригласил ее отдохнуть вместе с ним на Холодной речке. Без сына. Как обижало Светлану это равнодушие к ее Осе. Он родился в мае 1945 года, и до сих пор дед ни разу не видел внука и не изъявлял никакого желания его видеть!
Этот совместный отдых, впервые после многих лет, стал для нее мукой. «Нам с ним было трудно говорить и не о чем, как ни странно. Когда мы оставались одни, я изнемогала в поисках темы. Было такое ощущение, что стоишь у подножья высокой горы, а он наверху ее, ты кричишь что-то туда наверх, надрываясь, — туда долетают лишь отдельные слова. И оттуда долетают до тебя отдельные слова».
Когда «общение» заходило в тупик, Светлана читала отцу вслух газеты или журналы. Он был очень доволен. Или предлагала погулять, хотя он не был большим любителем прогулок на природе. Иногда они смотрели старые фильмы в кинозале. Долгие застолья с соратниками были любимым времяпрепровождением Сталина. Застолья казались Светлане изнурительными, а беседы отца с Маленковым, Ждановым и Булганиным — невыносимыми. Все эти истории она слышала не менее ста раз, «как будто в мире вокруг не было ничего нового».
Через три недели Светлана вернулась в Москву, начались занятия в университете. А отец еще долго оставался на юге. Он очень постарел и временами чувствовал себя неважно, но старался не показывать виду. Она сразу это заметила. Как-то он пожаловался ей, что хочет покоя. Порой он сам не знал, чего ему хочется.
Светлана старалась чаще писать ему длинные нежные письма, какие и должна посылать любящая дочь старику отцу. И получала в ответ весточки, типичные для Иосифа Сталина, похожие на телеграммы:
«Здравствуй, Света! Получил твое письмо. Хорошо, что не забываешь отца. Я здоров. Живу хорошо. Не скучаю. Посылаю тебе подарочек (мандарины). Целую.
Твой И. Сталин».Едва ли она обижалась на «не скучаю». Конечно, отец писал это не из желания ее уязвить, а из-за застарелой душевной черствости и равнодушия. Может быть, дочь и обижал суховатый тон письма-телеграммы, но она молча проглатывала обиду и садилась за ответ — полный нежности и заботы об отце:
«Здравствуй, дорогой мой папочка!
Только что получила твое письмо и мандарины. Крепко тебя целую и за то, и за другое много-много раз. Слава богу, что ты здоров и хорошо отдыхаешь…
Посылаю тебе (хотя ты и не просил об этом) фотографию моего сынишки — посмотри, на что он похож.
Еще раз целую тебя, папочка, крепко, крепко и спасибо за внимание. Твоя Светлана».
Дед все-таки увидел внука, когда тому уже было около трех лет. Светлана вспоминает, как отец неожиданно заехал в Зубалово. Она со страхом ждала этой встречи. Ей казалось, что ребенок может вызвать у отца неприязненное чувство. «Но я ничего не понимала в логике сердца… Отец растаял, увидев мальчика… При его лаконичности слова: «Сынок у тебя хорош! Глаза хорошие у него», равнялись длинной хвалебной оде в устах другого человека».
«Логику сердца» действительно трудно понять. С особенной нежностью и заботой Сталин относился к Гуле, дочери «нелюбимого» сына Якова. Детей Светланы он видел всего несколько раз и не проявлял к ним особого интереса. Она утверждает, что детей Василия он вообще никогда не видел. Едва ли это так. Скорее всего, Василий привозил детей к отцу.
Светлана не скрывает, что в 1948–1949 годах встречи с отцом становятся все более редкими, а отношения между ними все тягостней. Ноябрьские праздники он проводил на юге. Не только из-за ухудшения здоровья. В ноябре была годовщина смерти матери. Эта дата отравляла Иосифу Сталину праздничные дни. Он становился особенно раздражительным, грубым и тяжелым.
В ноябре 1948 года Светлана приехала навестить отца. На юге было еще тепло и солнечно. Она с радостью гуляла по улицам без пальто, любовалась цветущими розами. Но недолго дочь вождя пребывала в светлом настроении. За столом при всех отец назвал ее «дармоедкой», «ругался, что из нее все равно не вышло ничего путного». Все присутствующие были смущены и подавлены этой безобразной семейной сценой. Светлана покорно молчала. С детства она была очень самолюбивой и вспыльчивой. Каково ей было терпеть эти несправедливые укоры, ведь она всегда старалась быть первой, лучшей, и ей это удавалось и в школе, и в институте.
Светлана не осуждает отца. Даже пытается то и дело оправдывать его. Но ее воспоминания — одно из ярких доказательств того, что к старости характер Сталина не смягчился. Наоборот — он стал еще более жестким, нетерпимым, злым.
— Сионисты подбросили тебе твоего муженька! — упрекал он дочь.
Светлана робко возражала: «Папа, да ведь молодежи это безразлично, какой там сионизм?» Но Сталин в это время уже не терпел никаких возражений: «Нет, ты не понимаешь! Сионизмом заражено все старшее поколение, а они и молодежь учат».
«Спорить было бесполезно, — грустно признается Светлана. — Он был предельно ожесточен против всего мира. Он всюду видел врагов. Это было уже патологией. Это была мания преследования от одиночества и опустошения». Но на этих же страницах Светлана оправдывает отца: во всем виноват его «двор, свита, прихлебатели». Это они отрезали отца от мира, людей, народа. «Это была система, в которой он сам узник, — пытается убедить нас Светлана. — В которой он сам задыхался от безлюдья, от одиночества, от пустоты».
Когда злобный деспот мучает свою семью и близких, мы испытываем сострадание к несчастным. Когда в руки тирана и его палачей попадает целый народ — это трагедия, катастрофа. К старости психическое состояние «вождя народов» усугубилось, появилась мания преследования — и по стране прокатилась новая волна арестов. В 1948 году разгорелась и новая кампания против «космополитов». Кажется, Светлане не приходит в голову, что эти явления как-то связаны между собой — события в стране и ухудшение здоровья отца.
Тогда, в 1948 году, она была поглощена своими страданиями и обидами. После злополучного «отдыха» с отцом дочь несколько дней приходила в себя. «Рядом с ним было трудно, затрачивалось огромное количество энергии, — жаловалась она. — Мы были очень далеки. Мы это понимали оба. Каждый жаждал уйти к себе домой, уединиться и отдохнуть друг от друга. Каждый был обижен, грустил и страдал — почему жизнь такая дурацкая? Каждый из нас обвинял в этом другого».
«Мой Юрочка лучше всех!»
Почему же так быстро распался первый брак Светланы? Друзья и близкие называют несколько причин. Едва ли решающую роль сыграло недовольство Сталина. Если бы между супругами царили мир и согласие, отец со временем смягчился бы.
И Василий вскоре невзлюбил Григория, хотя еще недавно они были друзьями. Может быть, за то, что в квартире молодоженов толпились родственники Григория, вечно о чем-то просящие и хлопочущие — пристроить детей, получить теплое местечко, протекцию. Якобы из-за этого вскоре начались ссоры между Светланой и мужем.
И Василий, и Светлана очень чутко, как барометры, улавливали фальшь, искательство и алчность своего окружения. Они не любили, когда их пытались использовать в корыстных целях. Большой клан Морозовых очень обрадовался удачной женитьбе Григория. С первых дней они одолевали Светлану бесконечными просьбами. И это тоже стало причиной развода.
Близкие и друзья замечали, что Светлана с каждым годом теряла веру в искренность и бескорыстие по отношению к себе. В отместку и она научилась относиться к людям как ко временным развлечениям, игрушкам. А игрушки можно и менять, и выбрасывать, не очень-то с ними церемонясь…
В один прекрасный день ничего не подозревающего Григория Морозова охрана не пустила в Кремль. Этим ему дали понять, что он больше не принадлежит к кремлевскому семейству. Потом Василий взял паспорт сестры и поехал в загс. А вернулся уже с чистым паспортом, словно она и не бывала замужем. Так свершился развод по-кремлевски.
Снова Светлана живет одна в пустой мрачной квартире в Кремле, похожей на склеп. Снова жалуется на одиночество и тоску. Вместо Никашидзе появился новый комендант и управитель, такой ретивый и исполнительный, что даже книги из библиотеки отца выдает Светлане не иначе как «под запись». Это не дом, а казенное учреждение. А ей так хочется домашнего уюта, тепла, дружеского общения.
«Эти годы — 1947–49, были очень тоскливыми, — вспоминала Светлана. — Я жила совсем изолированно. Каждый шаг мой был поднадзорен — хотя М. Н. Климов уже давно не ходил за мной по пятам. Ося рос на даче, деревенским дикарем, и я иногда по целым неделям не видела его. Я ходила в университет, редко в театры, очень часто — в консерваторию. Знакомых у меня было немного — расширить круг их было невозможно.
Дом Ждановых, где я особенно часто стала бывать после смерти А. А. Жданова, казался мне — по сравнению с моей унылой крепостью — очень веселым. Там бывала по воскресеньям молодежь, бывшие одноклассники Юрия Андреевича и университетские друзья.
В моей уединенной, полудикой жизни — это был оазис, мне нравилось там бывать. Молодежь чувствовала себя там вольно. Отец очень любил А. А. Жданова, уважал его сына и всегда желал, чтобы семьи «породнились» («Двадцать писем к другу»).
Юрий Жданов действительно был необыкновенным юношей. В двадцать четыре года он стал кандидатом философских и химических наук, мог сделать карьеру ученого. Но, наверное, по настоянию отца ушел на партийную работу, возглавил отдел науки и вузов ЦК ВЛКСМ.
Общий глас был такой, что именно родители поженили Светлану и Юрия. Но Андрей Александрович Жданов умер в 1948 году, а Сталин видел дочь редко и не вникал в подробности ее личной жизни. Он мог только одобрить выбор. Свахами могли быть мать и тетки Юрия. Кстати, отец сказал Светлане: «Там тебя съедят бабы, там слишком много баб» и предложил поселиться с мужем у него в Кунцеве. Сталин терпеть не мог вдову Жданова Зинаиду Александровну и ее сестер.
Это предложение Светлану только напугало. Она стала замечать, что отец с некоторых пор тяготится одиночеством и надумал пристроить к дому в Кунцеве обширный второй этаж. Это было любимым занятием Сталина — сносить постройки, потом снова строить и надстраивать. На этот раз он решил поселить у себя всех детей и внуков. Но ничего из этого не вышло. Дети почему-то уклонились от подобной чести — жить с ним под одной крышей. А Юрий Жданов и слышать об этом не хотел.
Весной 1949 года Светлана снова вышла замуж. «Без особой любви, без привязанности, а так — по здравом размышлении», — признавалась она. Но это было сказано пятнадцать лет спустя, когда еще живы были старые обиды и разочарования. А племянница Гуля, дочь Якова, запомнила ее счастливой невестой. Двенадцатилетняя девочка, конечно, не могла забыть такое знаменательное событие: тетя Света привезла роскошное белое платье и примеряла его у зеркала. А они с няней были восторженными зрительницами. Тетя Света, сияющая, счастливая, все время повторяла: «Мой Юрочка лучше всех!»
Юрочка и вправду был не только умный, талантливый, но и прекрасно воспитанный, тонкий юноша, играл на фортепьяно. Светлана влюбилась. Она принадлежала к тем женщинам, для которых любовь, жизнь сердца — главная потребность, смысл существования. И отсутствие любви для них не может восполнить ни слава, ни успехи на любом поприще, ни дети и тихие семейные радости. Светлана влюблялась часто, ей отвечали взаимностью, но она словно была обречена на одиночество. Все, кто ее знал, причину видели только в одном — в ее характере.
Светлана переехала вместе с Осей в квартиру Ждановых в Кремле. И тут словно первый звонок прозвенел — ей запретили взять с собой няню, самого близкого, родного ей человека. «Некультурная старуха» не нужна была семейству Ждановых. Няня осталась в Зубалове. Иногда Светлана навещала ее.
Несколько раз Александра Андреевна приезжала на дачу Ждановых повидать Осю, но ее принимали как «дворничиху». Бабуся очень обижалась. Даже «буржуйки», ее дореволюционные хозяйки, относились к ней с уважением, а эти «культурные советские дамы» презирали.
Отец оказался прав, вскоре вынуждена была признать Светлана. Уют, который так пленил ее в семье Ждановых, оказался мещанским. Ее родители были настоящими пролетариями, и обстановка в их квартире и в Зубалове отличалась простотой, даже аскетизмом. Недаром, когда они въехали в Зубалово, отец велел убрать из комнат дорогую мебель, гобелены, вазы, статуи — всю роскошь. У них в доме царил казенный дух, но не мещанский.
Вот что пишет Светлана о своей новой семье: «В доме, куда я попала, я столкнулась с сочетанием показной, формальной, ханжеской «партийности» с самым махровым «бабским мещанством»: «сундуки, полные добра, безвкусная обстановка сплошь из вазочек, салфеточек, копеечных натюрмортов. Царствовала в доме вдова — Зинаида Александровна, воплощавшая в себе как раз это соединение «партийного» ханжества и мещанского невежества».
Вскоре после свадьбы друзья перестали бывать у них, и Светлана снова жалуется на скуку и одиночество. Тем более что муж весь ушел в работу, возвращался домой порой к полуночи и почти не обращал на нее внимания. Вскоре Светлана разглядела, что ее Юрочка — сухарь, неспособный чутко улавливать настроение близкого человека, собственной жены. К тому же он был «маменькиным сынком», во всем полагался на вкусы, суждения матери, которую величал «премудрой совой».
Зимой 1949/50 года она тяжело болела. Если первого ребенка Светлана выносила и родила довольно легко, то Катя доставила ей немало мучений и забот. Полтора месяца она провела в больнице. Ребенок родился недоношенным. Светлану одолевали тоскливые мысли, не хотелось возвращаться в дом, который стал чужим и постылым. Она уже поняла, что второй ее брак едва ли может считаться удачным.
В одной палате с ней лежала Светлана Молотова. Она родила дочку, и ее навещал отец Вячеслав Михайлович. «Как это вообще полагается у нормальных родителей, — снова не удержалась от упрека Светлана. — Я была ужасно опечалена этим сопоставлением и в тот же вечер написала письмо отцу, полное обиды».
Вскоре пришел ответ. Это было последнее письмо к ней отца, непривычно теплое, как будто чуть-чуть виноватое:
«Здравствуй, Светочка. Твое письмо получил. Я очень рад, что ты так легко отделалась. Почки — дело серьезное. К тому же роды. Откуда ты взяла, что я совсем забросил тебя? Приснится же такое человеку! Советую не верить снам. Береги себя. Береги дочку. Государству нужны люди, в том числе и преждевременно родившиеся. Потерпи еще — скоро увидимся. Целую свою Светочку. Твой папочка.
10 мая 1950 года».Светлана была рада письму, но на скорую встречу не надеялась. Только через год отец вызвал ее в Грузию, где в то время отдыхал.
Отец и дочь видятся один-два раза в год, а встретившись, не могут прожить под одной крышей несколько дней: им мучительно, трудно вместе, они не находят тем для разговора. Кто виноват в этом? Светлана рассчитывает на понимание и сочувствие неведомого друга, которому написала свои двадцать писем. Но в одном из них она упоминала, что отец, страдая от одиночества, предложил ей с мужем и сыном поселиться у него. Она отказалась и тем, может быть, больно ранила отца.
Отец и дочь по-своему любят друг друга. Но они слишком похожи. Вернее, Светлана — слишком дочь своего отца в отличие от бесхарактерного, безалаберного Василия. У нее сильный деспотичный характер. Она всегда желает быть первой, единственной и не выносит соперников. Она мечтала быть любимицей отца, поэтому втайне ревновала к Василию. И у мужа она желала стать единственной. Но он принадлежал к большому семейному клану, любил мать и многочисленных родственников. Этого Светлана не могла ему простить. К тому же вскоре им стало ясно, что они — чужие люди, совершенно ненужные друг другу.
Непростыми были для нее эти годы — 1949–1952-й. Она окончила исторический факультет и, по сведениям некоторых биографов, сразу же поступила на филологический и будто бы окончила его. Но из ее писем к отцу ясно, что в 1952 году она уже училась в аспирантуре Академии общественных наук, писала диссертацию по историческому роману. Непонятно, когда же Светлана могла закончить филологический факультет, если в эти годы она ждала ребенка и долго болела?
В феврале 1952 года она написала отцу о том, что расстается с мужем, и попросила о помощи:
«Дорогой папочка! Мне очень хочется тебя видеть, чтобы поставить тебя в известность о том, как я живу сейчас. Мне хочется самой тебе обо всем рассказать с глазу на глаз. Я пыталась было несколько раз, но не хотела приставать к тебе, когда ты был нездоров, а также сильно занят.
Прежде всего, я очень довольна занятиями в Академии общественных наук, там у меня идут дела неплохо, и кажется, мною там тоже довольны. Это большая радость для меня, потому что при всех моих домашних неурядицах занятия любимым и интересным делом заслоняют собой все остальное. Что касается Юрия Андреевича Жданова, то мы с ним еще накануне Нового года решили окончательно расстаться. Это было вполне закономерным завершением после того, как мы почти полгода были друг другу ни муж ни жена, а неизвестно кто, после того как он вполне ясно доказал — не словами, а на деле, — что я ему ничуть не дорога и не нужна, и после того как он мне повторил, чтобы я оставила ему дочку. Нет уж, довольно с меня этого сушеного профессора, бессердечного «эрудита», пусть закопается с головой в свои книжки, а семья и жена ему вообще не нужны, ему их вполне заменяют многочисленные родственники.
Словом, я ничуть не жалею, что мы расстались, а жаль мне только, что впустую много хороших чувств было потрачено на него, на эту ледяную стенку!
В результате этого события возникли некоторые вопросы чисто материального характера, о которых мне хотелось с тобой посоветоваться, потому что больше мне ждать помощи неоткуда (на великодушии Юрия Андреевича держаться неприятно), а у меня все-таки двое детей, сынишка осенью уже в школу пойдет, да еще моя няня старая живет у меня (она теперь на пенсии).
Деньги у меня сейчас есть — еще те, что ты прислал, — так что дело не в этом только. О разных прочих вещах, которые тут происходили, я тебе расскажу тоже, они не имеют особого значения.
Так что, папочка, я все-таки очень надеюсь тебя увидеть, и ты, пожалуйста, на меня не сердись, что я тебя оповещаю о событиях post factum, ты ведь был в курсе дел и раньше.
Целую тебя крепко-крепко.
Твоя беспокойная дочь».
Сталин разрешил Светлане навестить его, и вопросы «материального порядка», о которых она писала, были вскоре решены. Она получила квартиру в городе и поселилась с детьми и няней. Отец дал ей денег на машину, велел получить права и отказаться от казенной машины и дачи. В который раз Светлане пришлось выслушать раздражительные упреки: «Дармоедкой живешь, на всем готовом!» Но она с гордостью заявила, что получает большую стипендию в академии и сама платит за обеды в столовой. Отцу это очень понравилось. Он успокоился и дал ей на прощание пакет с деньгами. При этом каждый раз напоминал, чтобы часть денег она отдала «Яшиной дочке».
Конечно, Сталин был недоволен уже вторым разводом. Но Светлана ждала худшего: боялась, что отец запретит уходить от мужа. «Делай как хочешь», — устало махнул он рукой. У Василия появилась уже третья супруга. Безалаберно и незадачливо складывалась у Василия и Светланы личная жизнь. Похоже, отец с этим смирился и не вмешивался больше в дела своих детей.
Светлану это вполне устраивало. Она становилась все нетерпимее и не любила, когда вмешиваются в ее дела, в ее жизнь. Только отцу она позволяла это делать. Отца она боялась, к его мнению прислушивалась. И в трудные минуты обращалась к нему за помощью. Он ворчал на «дармоедку», но помогал. У Светланы всегда были. скромные запросы. Она не строила многомиллионные дачи-поместья, не меняла машины, как Василий. Но все же не пришлось ей и работать в поте лица, кормить своих детей, воспитывать их. И после смерти отца она получала большую пенсию и могла позволить себе роскошь работать только по желанию, а не ходить на постылую службу изо дня в день. Она получила дачу в Жуковке и пользовалась служебной машиной, когда требовалось. Тень отца еще долго закрывала ее от материальных трудностей и невзгод, которые неизбежно выпадали на долю матери-одиночки.
Очевидно, это письмо от 28 октября 1952 года — последнее письмо Светланы отцу:
«Дорогой папа!
Мне очень хочется повидать тебя. Никаких «дел» или «вопросов» у меня нет, просто так. Если бы ты разрешил и если это не будет тебе беспокойно, я бы просила позволить мне провести у тебя на Ближней два дня из ноябрьских праздников — 8 и 9 ноября.
Если можно, я захватила бы своих детишек — сына и дочку. Для нас это был бы настоящий праздник.
У меня все хорошо, устроилась я в городе удобно и очень благодарна за помощь, которую мне оказали.
Целую тебя, папа.
Очень жду твоего согласия. Светлана».Согласие было получено, и Светлана два дня гостила с детьми в Кунцеве. Они все вместе, по-семейному сидели за столом, который ломился от праздничных блюд, фруктов, овощей, орехов. Отец выглядел здоровым и как будто был очень доволен гостями, не ворчал, потчевал внуков вином по кавказской привычке. Дети по его настоянию пригубили вино, не капризничали, вели себя хорошо. Все это было так необычно, удивительно для Светланы, давно отвыкшей от гармонии и лада в их семейной жизни, что день запомнился ей навсегда. Казалось бы, 8 ноября, двадцатая годовщина смерти ее матери, могло навеять только мрачное настроение и тяжелые воспоминания. В прошлом так всегда и было. Но в тот раз Светлана решила, что отец просто забыл дату. А она боялась напомнить, чтобы не разрушить идиллию — эту зыбкую видимость семьи.
Сталин в первый и последний раз увидел свою внучку Катю. «Ей было два с половиной годика, такая забавная, краснощекая — кнопка с большими темными, как вишни, глазами, — с умилением вспоминает Светлана. — Отец рассмеялся, увидев ее, и потом смеялся весь вечер». И все же она была слегка разочарована, ей показалось, что Катя не вызвала в отце особых чувств, хотя была из семьи Ждановых, которых отец очень любил. К Осе он отнесся гораздо внимательнее и похвалил: «Какие вдумчивые глаза, умный мальчик!» Светлана была счастлива похвалой.
Она не скрывала, что в последние годы было очень трудно договориться с отцом о встрече, поэтому эти праздничные дни, проведенные вместе, стали чудом. Но к вечеру она заметила, что отец немного устал от детей. «Мы уже были так разобщены жизнью за последние двадцать лет, — размышляла она, — что было бы невозможно соединить нас в какое-то общее существование, в какую-то видимость семьи, одного дома, даже если бы на то было обоюдное желание. Да его и не было» («Двадцать писем к другу»).
В последний год встречи отца с дочерью были наперечет, особенно такие — оставившие добрые воспоминания. Александр Колесник в своей книге «Мифы и правда о семье Сталина» рассказывает об одном шумном празднике в Кунцеве: «Во время празднования Нового года, в присутствии многочисленных гостей отец преподнес ей (Светлане. — В. С.) жестокий урок, когда она, уставшая, не захотела танцевать в кругу людей много старше ее и бывших уже изрядно пьяными. В ответ на ее отказ отец схватил ее за волосы и, дернув, затащил плачущую в круг. Его отцовские чувства, даже по отношению к дочери, имели очень своеобразную форму выражения».
Легко понять Светлану, которая не упомянула об этом случае в «Двадцати письмах к другу». Не только потому, что ей было стыдно за свое унижение. Она щадила отца. Страницы, посвященные последним месяцам его жизни, явно приукрашены дочерней любовью. Светлана рисует его больным, одиноким, но не самодуром; недоверчивым, ворчливым, но не жестоким. О многом она умолчала. Какие шрамы оставляли на ее душе эти «новогодние праздники», мы можем только догадываться.
Никита Сергеевич Хрущев еще с тридцатых годов знал Сталина, Надежду Сергеевну и их детей, очень тепло и по-доброму относился к Светлане. У него сложилось свое мнение о трудном характере Светланы, главным виновнике ее одиночества и неустроенности: «Отношения Светланки с отцом складывались сложно. Он любил ее, но проявлял свою нежность так, как это делает кошка по отношению к мышке. Вначале он травмировал душу ребенка, позже — девушки, а еще позже — женщины, ставшей матерью. Результатом всего этого явилось постепенное возникновение у Светланки психического расстройства».
Часть IV ОТЕЦ
«Неприхотливый быт семьи Сталина»
Возникновению легенды о крайней непритязательности вождя в быту способствовали в основном те, кто обеспечивал этот быт. Те, кого сам Сталин охарактеризовал словом «дармоеды», и на кого, как свидетельствует Светлана, периодически набрасывался с бранью:
«Наживаетесь здесь, знаю я, сколько денег у вас сквозь сито протекает!»
Легенда эта спустилась с парадной лестницы официоза и расцветала причудливыми, поистине умилительными картинами, которые приводят в своих воспоминаниях люди из охраны, многочисленная челядь и особо приближенные люди из сталинского окружения.
Телохранитель А. Т. Рыбин, например, вспоминает, как однажды он «обратил внимание на заношенный воротник белой шелковой рубашки. Спросил:
— Чья это такая?
— Иосифа Виссарионовича, — сказала прачка. — Он занашивает рубашки, пока не снимут под конвоем.
И далее Рыбин на примере показывает, как действовал этот самый замечательный конвой.
«Зато выходные туфли у него имелись только одни. Его довоенные. Кожа уже вся потрескалась. Подошвы истерлись. В общем, еле дышали на ладан. Всем было страшно неловко, что Сталин ходил в них на работе и приемах, в театре и других людных местах. Вся охрана решила сшить новые туфли. Ночью Матрена Бутузова поставила их к дивану, а старые унесла. Утром Сталин позвал Орлова и спокойным, мягким голосом спросил:
— Где мои ботинки?
— Товарищ Сталин, ведь вы — Генеральный секретарь нашей партии, Генералиссимус, глава правительства! Вы же постоянно находитесь в общественных местах! Каждый день принимаете иностранных послов и гостей… А сейчас, во время предстоящих юбилейных торжеств!.. — пылко наступал Орлов, уже привыкший, что вождь прислушивается к его советам.
— Лучше верните мне ботинки, — прервал его Сталин и продолжал носить их до последних дней. Благо, Матрене Бутузовой удавалось блеском крема скрывать ветхость обуви» (А. Т. Рыбин. «Рядом со Сталиным»).
Может, такая скупость вождя по отношению к самому себе проявилась лишь в конце его жизни, в старости? Нет, утверждает В. М. Молотов, редкую скромность в одежде Иосиф Виссарионович обнаружил еще в туруханской ссылке.
«В прихожей висела его фронтовая шинель, которую ему однажды попытались заменить, но он устроил скандал: «Вы пользуетесь тем, что можете мне каждый приносить новую шинель, а мне еще эта лет десять послужит!»
Поистине Акакию Акакиевичу, скромному человеку, далеко до такой непритязательности…
«Его и хоронить-то не в чем было, — далее вспоминает Молотов. — Рукава обтрепанные у мундира подшили, почистили…» Поневоле припомнишь еще одного литературного героя, пушкинского Скупого рыцаря, который ходил в обтрепанном кафтане, а внизу, в подземелье, у него стояли бочки с золотом.
«После смерти Сталина в спальне на столике Старостин обнаружил сберегательную книжку. Там скопилось всего девятьсот рублей — все богатство вождя. Старостин передал книжку Светлане». Это — Рыбин.
«Я не знаю, была ли у него сберегательная книжка — наверное нет». Это — Светлана («Двадцать писем к другу»).
«Спустя двенадцать лет кассирша в той сберкассе, где я получала свою пенсию, под строжайшим секретом сказала мне, что в другой кассе (она сообщила ее номер) есть вклад на имя моего отца, очевидно сделанный его секретарем, и что теперь его «наследники», то есть внуки и я, могли бы востребовать эти деньги. Мы написали соответствующие заявления через нотариальную контору, и нам всем выдали по 200–300 рублей. Деньги были положены в банк в 1947 году, во время первой денежной реформы, и с тех пор их количество сократилось более чем в 10 раз, в результате нескольких обменов денег» («Только один год»).
Согласно вышеназванной легенде, не только сам вождь, но и его семья жила чрезвычайно скромно. «А мама стеснялась подъезжать к Академии на машине, стеснялась говорить — кто она…» (Светлана). «Надежда Сергеевна приезжала на занятия в Академии на трамвае» (H. С. Хрущев). «Помню, когда ремонтировали их кремлевскую квартиру, она просила оклеивать стены простыми обоями», — умиляется Рыбин.
«Маме незачем было внушать пуританские правила, — она сама была предельно скромна по образу жизни и кодексу чести тех лет…» (С. Аллилуева. «Двадцать писем к другу»). И ниже: «Все дело было в том, что у мамы было свое понимание жизни, которое она упорно отстаивала. Компромисс был не в ее характере. Она принадлежала сама к молодому поколению революции — к тем энтузиастам-труженикам первых пятилеток, которые были убежденными строителями новой жизни, сами были новыми людьми и свято верили в свои новые идеалы человека, освобожденного революцией от мещанства и от всех прежних пороков…»
Светлана, конечно, не сознает, что, говоря о «пуританских правилах», она несколько преувеличивает. Пуритане проповедовали отказ от собственности, как таковой, полную нищету, бескорыстие. Про семью Сталина можно с уверенностью сказать, что она ни в чем не испытывала нужды даже в самое тяжкое для страны время.
Разве дача в имении бывшего нефтепромышленника Зубалова — не собственность? Разве замечательные воспитательницы, занимавшиеся с Василием и с его сестрой, ничего не стоили? А обслуга? Охрана? А веселые, обильные застолья, которые Светлана объясняет «чисто кавказской манерой» отца, — кому они влетали в копеечку?
Но откуда было Сталину знать это, продолжает Светлана в книге «Только один год»… «К его столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива, свежие фрукты доставлялись с юга самолетом. Он не знал, сколько требовалось транспортировок за государственный счет, чтобы регулярно доставлять все это к столу, не знал, откуда это все. Подавальщицам было велено, если он спросит «откуда вишни?» отвечать: «С базы, товарищ Сталин». Он выходил из себя и зло переспрашивал: «Это где такой город — База?», но ответа не получал…» Бедный, наивный Иосиф Виссарионович, которого не удостаивали правдивым ответом… Впрочем, вероятно, он не проявлял особой настойчивости… Идет война, кругом разруха, голод, а ему на даче в Семеновском подают молодого барашка с гречневой кашей.
«Сталин полюбопытствовал:
— Где взяли барашка?
— Доставили на самолете из Абхазии, — простодушно признался комендант Соловов.
— А самолет что, водой заправляли?» («Рядом со Сталиным»).
Действительно, вероятно, не водой, как и моторную лодку, которую Василий разбил о камни и бросил в кустах, и многочисленные машины, которые сын вождя, по словам самого Сталина, «менял как перчатки»… Ну и что из того, что он запретил Светлане пользоваться казенной машиной: «Вот тебе деньги — купи себе машину и езди сама, а твои шоферские права покажешь мне».
Сталин ел мало, рассказывает Н. С. Хрущев, но он любил угостить других. Как угостить? Известно, что в гостиной кунцевской дачи всегда имелся запас чистых тарелок, приборов, хрустальных фужеров. В разгар пирушки Иосиф Виссарионович коротко произносил по-грузински: «Новая скатерть» или: «Свежая скатерть»… И тут же обслуга с четырех концов подымала прежнюю скатерть — и все мешалось: черная икра с отбивными, недоеденная капуста по-гурийски с жареными куропатками, начиненный грибами фазан с пюре, хрусталь с фарфором… Приносилась чистая скатерть, и стол снова заставлялся яствами.
Не только искренние доброжелатели Сталина, но и те, кто его не любил, тем не менее указывали на его скромность в быту.
«У руководителей партии тогда не было ценных вещей, и даже разговоры о чем-то подобном были признаком дурного, мещанского, даже антипартийного тона. Сталину долгое время был присущ внешний аскетизм. После смерти у него фактически не оказалось личных вещей, кроме нескольких мундиров, подшитых валенок и залатанного крестьянского тулупа. Он любил не вещи. Любил власть. Только власть!» (Д. Волкогонов. «Триумф и трагедия»).
«В те времена (20-е годы. — В. С.) Сталин ведет очень простой образ жизни. Одет он всегда в простой костюм полувоенного образца, сапоги, военную шинель. Никакого тяготения ни к какой роскоши или пользованию благами жизни у него нет. Живет он в Кремле, в маленькой, просто меблированной квартире, где раньше жила дворцовая прислуга… Конечно, для него, как и для других большевистских лидеров, вопрос о деньгах никакой практической роли не играет. Они располагают всем без денег — квартирой, автомобилем, проездами по железной дороге, отдыхами на курортах и т. д. Еда приготовляется в столовой Совнаркома и доставляется на дом» (Б. Бажанов. «Воспоминания бывшего секретаря Сталина»).
Сколько у него было дач? В Зубалове, Соколовке, Кунцеве, Семеновском, Липках, Сочи, под Гагрой — на Холодной речке, в Мюсерах (около Пицунды), в Цхалтубо, в Кисловодске, на озере Рица, в устье реки Лашунсе — вот далеко не полный их перечень…
Самая любимая дача — так называемая ближняя, в Кунцеве. Рыбин вспоминает: «Сталин предпочитал постоянно жить в Кунцеве — ближе всех от Кремля. Построили там кирпичную дачу очень быстро еще в 1931 году. Застеклили две просторных террасы. На крыше сделали солярий с будкой от дождя. В отдалении поставили кухню и небольшую баню с хорошей каменкой. В соседней с баней комнате поместился биллиардный стол.
Забор был обыкновенный — из досок. Без всякой колючей проволоки сверху. Правда, высотой в пять метров. А в 1938 году появился второй — внутренний. Трехметровой высоты, с прорезями смотровых глазков…»
В. М. Молотов описывает эту дачу более подробно.
«Большое фойе, справа комната одна, там он болел однажды. Большая столовая, где мы собирались ужинать. Обедали редко. Назывался обед, но какой обед в 10–11 вечера. Здесь большой стол. Патефон. Часто он приводился в действие. Пластинки разнообразные, но он был любителем классической музыки. Часто в Большой театр ходил, на середину оперы, на кусок из оперы. Хорошо относился к Глинке, Римскому-Корсакову, Мусоргскому — к русским преимущественно композиторам. Ему нравились песни хора Пятницкого.
За столом помещалось человек пятнадцать — двадцать. Здесь у него вроде кабинета. Здесь идет коридор к кухне.
В фойе карты по всем странам… он очень карты любил географические…
На второй этаж мы никогда не ходили. Только после смерти его я как-то был.
В кабинете стол стоял небольшой. Здесь мы часто беседовали, но больше в столовой. Когда ждали обеда, вот тут на диванах сидели, говорили. Обсуждали у карт на предварительной стадии всякие хозяйственные вопросы. А здесь спальня, небольшая, — по-моему, в этой комнате я ни разу не бывал. А умирал он в этой большой комнате. Здесь у стенки было пианино. Жданов играл. Он немного пианист, домашнего типа.
Был биллиард у Сталина…» (Объяснения эти Молотов давал, рисуя план дачи Сталина.)
Относительно дачи Иосифа Виссарионовича следует добавить к «обыкновенному» «без проволоки» забору следующее свидетельство Антонова-Овсеенко:
«На трассе, ведущей к даче, и в ее окрестностях круглые сутки, в три смены, дежурила армия телохранителей, по 1200 агентов в смену».
Откуда это все — дачи, машины? Ответ, исчерпывающий, надо сказать, ответ, мы находим в воспоминаниях Молотова.
«Зарплата у нас, конечно, была. Видите, в отношении нас это нарушалось, потому что зарплата, а кроме того, все обеспечивалось. Фактически на государственном обеспечении. Я сейчас точно не могу сказать, сколько мне платили, — менялось это несколько раз. После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги — военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны…»
Борис Бажанов подтверждает, что в двадцатые годы Сталин вел скромный образ жизни… Вот что об этом говорит историк Сергей Кулешов:
«В том же 1922 году, когда по России прокатывался смерч голода, специальная медицинская комиссия обследует состояние здоровья «ответственных товарищей». Результаты неутешительны — почти все больны: у Сокольникова — неврастения, Курского — невралгия, Зиновьева — припадки на нервной почве… Здоровы — Сталин, Крыленко, Буденный… Но важны не столько диагнозы, сколько предложения о лечении — Висбаден, Карлсбад, Киссинген, Тироль… Что это — целебный пир во время чумы? О какой нравственной основе партийных лидеров можно вообще говорить?»
«Медицинской темы» касается немного и Светлана в книге «Только один год»: «…специальные врачи подвергали химическому анализу на яды все съедобное, поставлявшееся к нему (Сталину. — В. С.) на кухню. К каждому свертку с хлебом, мясом или фруктами прилагается специальный «акт», скрепленный печатями и подписью ответственного «ядолога»: «Отравляющих веществ не обнаружено». Иногда доктор Дьяков появлялся у нас на квартире в Кремле со своими пробирками и «брал пробу воздуха» из всех комнат…
Отец не знал, сколько стоили его обеды, дачи, «анализы на яды», потому что никогда ни за что не платил денег. Его жизнь целиком обеспечивалась государством…»
А во что государству обходились общественные мероприятия, официальные поездки — это видно из докладной записки Берия, который подготавливал поездку Сталина и других вождей в побежденную Германию.
«НКВД докладывает об окончании подготовки приема и размещения предстоящей конференции: 62 виллы (10 000 кв. метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина: 15 комнат, открытая веранда, мансарда 400 кв. метров). Особняк всем обеспечен. Есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки. Созданы три подсобных хозяйства в 7 км от Потсдама с животными и птицефермами, овощными базами, работают две хлебопекарни. Весь персонал из Москвы. Наготове два специальных аэродрома. Для охраны доставлено семь полков войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Организована охрана в три кольца…
Подготовлен специальный поезд… Обеспечивают безопасность пути 17 тысяч войск НКВД, 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии следования будут курсировать 8 бронепоездов НКВД.
Для Молотова подготовлено 2-этажное здание (11 комнат). Для делегации — 55 вилл, в том числе 8 особняков…»
Светлана во всех своих книгах дает понять, что она-то мало пользовалась теми привилегиями, которые давало ей положение дочери главы государства. В общем-то это правда. Об этом свидетельствуют буквально все ее знакомые. Серго Берия не раз высказывал удивление по поводу скромности ее запросов. И тем не менее… «Отец разрешил мне жить в городе, а не в Кремле, — пишет Светлана в «Двадцати письмах…», — мне дали квартиру…» В первой книге она только упоминает об этой квартире, во второй описывает ее более подробно.
«Четырнадцать лет я жила с детьми в квартире на набережной, где был мой первый, настоящий дом. Я переехала туда в 1952 году, еще до смерти отца, когда разошлась со Ждановым и не хотела возвращаться в Кремль. Мой семилетний сын пошел отсюда в школу, потом в ту же школу стала ходить Катя. Сначала у нас была прислуга и няня детей; позже, когда подросли дети, мы сами вели свое нехитрое хозяйство. Здесь я научилась пользоваться газовой плитой, готовить, шить, стирать — до того все делали за меня другие…
Две комнаты принадлежали детям, у меня в спальне стоял письменный стол, а гостиной редко пользовались: мы любили близких друзей, но не собирали гостей. Пожалуй, нашей главной комнатой была кухня со столом у окна, выходившего во двор, где чудом сохранилась белая церковка 16 века…
За четырнадцать лет мы потихоньку обжили свой дом. У каждого был удобный угол для работы и отдыха, свои необходимые книги, простая удобная мебель. Мы въехали в пустую квартиру, я ничего не хотела брать из Кремля, который никогда не любила, и мы постоянно покупали необходимое. Только в 1955 году я просила премьера Булганина, чтобы мне отдали небольшую часть огромной библиотеки отца, которую начала собирать еще мама…»
Книги Светлане не отдали. Неизвестно, какие она хотела забрать, наверное, что-то в память о матери. Но какой литературой интересовался ее отец и как он собирал библиотеку — об этом кое-что известно.
Дмитрий Волкогонов пишет:
«В мае 1925 года Сталин поручил Товстухе подобрать для себя хорошую личную библиотеку. Товстуха, поколебавшись, спросил:
— Какие книги должны быть в библиотеке?
Сталин, начавший было диктовать, внезапно остановился, сел за стол и в присутствии помощника почти без раздумий, в течение 10–15 минут, написал простым карандашом на листе бумаги из ученической тетради следующее:
«Записка библиотекарю. Мой совет (и просьба):
1) Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам: философия, психология, социология, политэкономия, финансы, промышленность, сельское хозяйство, кооперация, русская история, история других стран, дипломатия, внешняя и внутренняя торговля, военное дело, национальный вопрос, съезды и конференции (а также резолюции), партийные, коминтерновские и иные (без декретов и кодексов законов), положение рабочих, положение крестьян, комсомол (все, что имеется в отдельных изданиях о комсомоле), история революций в других странах, о 1905 годе, о февральской революции 1917 года, о Октябрьской революции 1917 года, о Ленине и ленинизме, история РКП и Интернационала, о дискуссиях в РКП (статьи, брошюры), профсоюзы, худ, критика, журналы политические, журналы естественно-научные, словари всякие, мемуары.
2) Из этой классификации изъять книги (расположить отдельно): Ленина, Маркса, Энгельса, Каутского, Плеханова, Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Лафарга, Люксембург, Радека.
3) Все остальное склассифицировать по авторам (исключив из классификации и отложив в сторону: учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и т. п.».
В 1935 году заведующий отделом печати и издательств ЦК Б. Таль сообщил членам Политбюро:
«Просьба сообщить, какие из нижеперечисленных белоэмигрантских изданий выписывать для Вас в 1936 году:
1. Последние новости.
2. Возрождение.
3. Соц. Вестник.
4. Знамя России.
5. Бюллетень экономического кабинета Прокоповича.
6. Харбинское время.
7. Новое русское слово.
8. Современные записки.
9. Иллюстрированная Россия.
Ознакомившись с этим списком, Сталин заявил своему помощнику:
— Все, все выписать!»
Еще задолго до 70-летия вождя по инициативе Маленкова на заседании Политбюро рассмотрели длинный перечень всех мер и шагов по достойному празднованию юбилея. Его решено было отметить с размахом. Председателем по организации подготовки и проведения празднеств назначили Н. Шверника. По предварительным подсчетам, «стоимость» юбилея должна была обойтись государству в сумму 6,5 миллиона рублей.
Эта колоссальная сумма и была утверждена.
Со всех концов огромной страны Сталину посылали подарки. Это были расшитые шелком знамена, изысканные вазы, дорогие альбомы, резные шкатулки, статуэтки, оружие…
Светлана вспоминает: «Еще не бывало такой проституции искусства, как художественная выставка в честь 70-летия отца в 1949 году. Огромная экспозиция в залах Третьяковской галереи была посвящена одной теме — «Сталин». Со всех картин взирало на вас лишь одно лицо, то в виде одухотворенного грузинского юноши, возведшего очи горе, то в виде седовласого генерала в мундире царской армии с погонами. У армянских художников это лицо выглядело армянским, у узбеков он походил на узбека, на одной картине было даже некоторое сходство с Мао Цзэдуном — они были изображены рядом в одинаковых полувоенных кителях и с одинаковым выражением лиц.
На многочисленных пирах, среди цветов и плодов, он сидел меж румяных женщин и тянувшихся к нему детей, как добрый седоусый дедушка. Во главе Политбюро, состоявшего из чернобровых витязей, он был впереди всех, как чудо-богатырь из русских былин, широкоплечий и могучий. И вся эта псевдонародная эстетика основывалась на том, чтобы угодить вкусу «вождя», а вождь стремился польстить далеко не лучшим традициям народа, поддержка которого была ему нужна…»
«Не было ни счастья, ни покоя. Он строил все новые и новые дачи на Черном море — в Новом Афоне, в Сухуми, на озере Рица и еще выше, в горах. Старых царских дворцов в Крыму, бывших теперь в его распоряжении, не хватало; строили новые дачи возле Ялты. Я не видела всех этих новых домов, я уже не ездила с ним на юг, не видела и новый дом на озере Валдай, возле Новгорода».
И многим тогда казалось, что этот человек может жить вечно. Вполне возможно, у Иосифа Виссарионовича и у самого было такое намерение. Ведь слишком много он имел, чтобы устать от жизни, пресытиться ее благами.
А между тем времени у него оставалось совсем немного…
Смерть Сталина
О событиях тех далеких мартовских дней, изменивших — без преувеличения можно сказать — судьбы всего мира, их очевидцы вспоминают по-разному. Что это — абберация памяти или же проявление заинтересованности свидетелей последних дней жизни Сталина, норовящих подправить факты и высветить их в выгодном для себя свете?..
На этот вопрос мы не найдем ответа. Например, те, кто видел вождя накануне рокового удара, как будто задались целью противоречить друг другу.
Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях пишет:
«Сталин был навеселе после обеда, но в очень хорошем расположении духа, и физически ничего не свидетельствовало, что может быть какая-то неожиданность. Распрощались мы со Сталиным и разъехались.
Я помню, когда мы вышли в вестибюль, Сталин, как обычно, вышел проводить нас. Он много шутил и был в хорошем расположении духа. Он замахнулся, так вроде, пальцем или кулаком, толкнул меня в живот, назвал Микитой. Когда он был в хорошем расположении духа, то он меня всегда называл по-украински Микита. Ну, мы уехали тоже в хорошем настроении, потому что ничего за обедом не случилось, не всегда обеды кончались в таком хорошем тоне».
Ему вторит телохранитель вождя Алексей Трофимович Рыбин:
«В полночь прибыли Берия, Маленков, Хрущев и Булганин. Остальные в силу возраста предпочли домашние постели. Гостям подали только виноградный сок, приготовленный Матреной Бутузовой. Фрукты, как обычно, лежали на столе в хрустальной вазе. Сталин привычно разбавил водой стопку «Телиани», которой хватило на все застолье. Мирная беседа продолжалась до четырех часов утра уже 1 марта. Гостей проводил Хрусталев. Потом Сталин сказал ему:
— Я ложусь отдыхать. Вызывать вас не буду. И вы можете спать. — Подобного распоряжения он никогда не давал. Оно удивило Хрусталева необычностью. Хотя настроение у Сталина было бодрым…»
Зато Дмитрий Волкогонов в своей книге «Триумф и трагедия», основываясь на показаниях других очевидцев, описывает последнее застолье соратников совсем в иных красках:
«Сидели до четырех утра 1 марта. К концу ночной беседы Сталин был раздражен, не скрывал своего недовольства Молотовым, Маленковым, Берией, досталось и Хрущеву. Только в адрес Булганина он не проронил ни слова. Все ждали, когда Хозяин поднимется, чтобы они могли уехать. А Сталин долго говорил, что, похоже, в руководстве кое-кто считает, что можно жить старыми заслугами. Ошибаются. Сталинские слова звучали зловеще. Его собеседники не могли не знать, что за этим раздражением вождя скрывается какой-нибудь новый замысел. Может быть и такой: убрать всех старых членов Политбюро, чтобы свалить на них свои бесчисленные прегрешения. Сталин понимал, что судьба не даст ему много времени. Но даже он не мог знать, что эта гневная тирада была последней в его жизни. Песочные часы были уже пусты. Из сосуда вытекали последние песчинки… Оборвав мысль на полуслове, Сталин сухо кивнул всем и ушел к себе. Все молча вышли и быстро разъехались…»
Картина, нарисованная Волкогоновым, представляется более реалистичной, чем идиллические воспоминания Хрущева и Рыбина. Вряд ли Сталин, если и не предчувствовал близкую кончину, но постоянно ощущая недомогание в последние месяцы жизни, мог находиться в «хорошем» и «бодром» расположении духа.
Находясь на закате своей жизни, он не мог не думать о том, о чем беспокоились все владыки держав, — о преемнике.
Убирая из своего окружения людей умных, дальновидных и инициативных, он в конце концов оказался среди раболепствующих исполнителей, трусливых подхалимов, ничтожных льстецов.
Из своего окружения он всегда выделял Жданова, несмотря на то что тот слишком уж злоупотреблял спиртным. Но Жданов умер, и Берия утверждал, что до смерти его довели врачи.
Вождь не заблуждался относительно самого Берии. В последние годы он сильно охладел к нему и, скорее всего, ждал подходящего момента, чтобы избавиться от своего подручного. Это чувствовал и сам Берия.
Маленкова, которого Сталин называл «Маланьей» за его женоподобную внешность, он не раз упрекал в мягкотелости и бесхребетности. Этот рыхлый человек был, как все прочие, послушен Сталину. Может, даже еще более послушен. Он позволял вождю спаивать себя до такой степени, что, когда охрана привозила его домой, три-четыре человека несколько часов кряду в огромной ванной приводили его в чувство.
К Кагановичу Сталин остыл после того, как в Москве стала набирать силу кампания против «безродных космополитов». И хотя сам Каганович в это время повел себя как ярый антисемит, он уже не вошел в лично отобранную Сталиным «пятерку» наиболее доверенных лиц.
К Ворошилову вождь стал выказывать пренебрежение после одного из послевоенных заседаний Политбюро, на котором обсуждался вопрос о путях развития Военно-Морского Флота. Мнение Ворошилова тогда не совпало с мнением большинства, и это не понравилось Сталину.
Микояна Хозяин невзлюбил после того, как на свой вопрос, кого члены Политбюро могли бы назвать его преемником, Анастас Иванович ответил: «Молотова».
Сталин заметил, что Молотов, безусловно, человек достойный, но сказал это таким тоном, что присутствующие решили, что дни Молотова и Микояна сочтены. Оба они были старейшими членами Политбюро, и вождь не мог не видеть в них свидетелей его темных дел.
Шверник, Булганин и другие никогда не рассматривались Сталиным как руководители первого плана.
Но если во всех этих людях вождь не видел достойного преемника, то уж мысль о Хрущеве просто не приходила ему в голову. «Микитка» — шут, «Микитка» здорово отплясывает гопак во время попоек, «Микитка» — фигура несерьезная…
Итак, главное, что беспокоило вождя в те последние дни его жизни, — вопрос о преемнике.
Второе — Сталин чувствовал, что сильно сдал физически, и это страшило его. Участились обморочные состояния, два раза он падал прямо в собственном кабинете. То и дело подскакивало давление. Сталин был вынужден бросить курить. У него случались провалы в памяти. Но когда профессор Виноградов во время своего последнего визита к вождю сказал, что находит его состояние здоровья неудовлетворительным, Сталин взорвался и выгнал профессора. Виноградова скоро арестовали. Возможно, Сталин жалел об этом. Наблюдать теперь за его здоровьем было некому.
…Словом, настроение у вождя в те дни не могло быть оптимистичным… Но как бы то ни было — достоверно одно: в 4 часа утра 1 марта после очередного застолья Иосиф Виссарионович остался один.
Что же случилось потом?.. Об этом можно только гадать.
Вся обслуга Ближней — дачи в Кунцеве — утверждает, что в быту вождь был исключительно неприхотлив. Часто спал не раздеваясь. Случалось, его заставали уснувшим на скамейке в саду или на любимой им западной террасе, укрытым солдатской шинелью. Иногда он укладывался спать на узкой кушетке. Иногда дремал в кресле. Никому заранее не было известно, в какой из многочисленных комнат Ближней Сталин устроится на ночлег. Последнее время он спал прямо в столовой, где еще стояла неубранная после ночного кутежа посуда…
О чем он думал в эти последние часы, когда случившийся с ним удар еще не затуманил его сознание?
За три года до смерти на письменном столе вождя появилась фотография его жены Надежды. Известно, что в последние дни он перечитал почти полтора десятка ее писем, к которым прежде не прикасался. Он уже не вспоминал о ней с прежним ожесточением, как о «предательнице», вонзившей нож в его спину. Все чаще упоминал о ней в разговоре с детьми, особенно с дочерью. Телохранители в один голос утверждают, что после гибели Надежды Сергеевны Сталин жил «как монах», они умилялись аскетическим образом его жизни.
Может, он думал о своем беспутном сыне, которого безуспешно пытался спасти от алкоголизма? Или о незадачливой дочери, не сумевшей устроить личную жизнь? О своей запущенной, заброшенной семье, принесенной в жертву политической жизни? Возможно, запоздалое раскаяние, острое желание что-то исправить на старости лет, горькое недовольство жизнью и спровоцировали этот удар?
В этот воскресный день 1 марта Светлана безуспешно пыталась дозвониться до отца.
Возможно, она испытывала какую-то безотчетную тревогу. Говорят, люди, связанные родственными узами, способны почувствовать на расстоянии, что с родным человеком что-то произошло. Если бы она отважилась потребовать, чтобы отца подозвали к телефону, не исключено, что на этот раз его удалось бы спасти. Может, именно в ту минуту, когда прозвучал ее звонок, он почувствовал, что нуждается в помощи, но не захотел обнаружить перед людьми свою слабость.
…Встретиться с отцом Светлане было не так просто. Позвонить ему непосредственно дочь не могла. Трубку брал «ответственный дежурный». Он же ставил Светлану в известность, есть ли в доме «движение» или «движения пока нет». Последнее означало, что Сталин еще спит или читает. Беспокоить его было категорически запрещено. И в тот момент дежурный не счел нужным поделиться с дочерью вождя той тревогой, которой был уже охвачен весь дом…
Дело в том, что обычно в полдень в комнатах возникало движение, после чего следовал сигнал, которым Сталин приглашал к себе кого-то из охраны.
Но на этот раз в доме было тихо. Шел час за часом, охрана недоумевала, а затем уже тревожно переглядывалась, прислушивалась, гадая, что могла бы означать эта тишина.
Наконец в половине седьмого вечера в кабинете вспыхнул свет.
Все с облегчением вздохнули, ожидая приглашения к вождю.
Но его не последовало.
Охрана не могла ни на что решиться. Телохранители заспорили, кому из них следует войти в кабинет, не дожидаясь вызова. Ни один не решался взять на себя эту ответственность. Наконец, когда в 22.30 из ЦК привезли свежую почту, телохранитель Лозгачев решил воспользоваться ею, как предлогом, чтобы войти к Сталину. Взяв в руки корреспонденцию, он прошел сквозь череду темных комнат. Никого. Из полуотворенной двери столовой пробивался свет. Там Лозгачев и обнаружил Сталина.
Он лежал на огромном персидском ковре, неловко опираясь на руку, подмяв под себя газету «Правда», за которой, видимо, и зашел в столовую. Другой рукой Сталин, приподнявшись, сделал знак Лозгачеву, словно призывал его на помощь. В глазах его светились мольба и ужас.
Лозгачев, бросившись к нему, крикнул:
— Что с вами, товарищ Сталин?
Ответом было невразумительное бормотание.
Лозгачев вызвал по внутреннему телефону остальных.
Вождя перенесли на диван. Видно было, что он озяб — вероятно, пролежал на полу несколько часов, не в силах позвать на помощь.
Позвонили шефу КГБ Игнатьеву. Тот, растерявшись, посоветовал разыскать Берию, без распоряжения которого нельзя было вызвать врачей. Только в три часа ночи Маленков нашел подвыпившего Берию, и они вместе приехали на Ближнюю.
Они увидели Хозяина в пижамных брюках и нижней рубашке, лежащего на диване навзничь и издающего какие-то нечленораздельные звуки.
Берия, обернувшись к перепуганной охране, крикнул:
— Что вы паникуете! Не видите, товарищ Сталин крепко спит! Марш все отсюда и не нарушайте сон нашего вождя! Я еще разберусь с вами!
Этого грозного окрика было достаточно, чтобы все на цыпочках вышли из столовой, оставив Хозяина на произвол судьбы. Берия и Маленков тут же уехали.
…2 марта Светлану разыскали на уроке французского языка в Академии общественных наук и передали, что только что звонил Маленков. Он просит ее срочно приехать на Ближнюю.
Обычно отец, желая повидать ее, звонил сам. То, что сейчас ее приглашал на Ближнюю Маленков, было тревожным знаком. Охваченная дурными предчувствиями, Светлана быстро собралась и поехала в Кунцево.
При въезде в ворота Ближней она увидела поджидающих ее Хрущева и Булганина. У обоих были опрокинутые, растерянные и заплаканные лица, при взгляде на которые душа зашлась в Светлане от страха: она решила, что все уже кончено.
Хрущев помог ей выйти из машины. Светлана боялась подать голос, спросить, что случилось, как будто ее неведение могло продлить жизнь отцу… «Идем в дом, — сказал Никита Сергеевич. В голосе его звучали слезы. — Берия и Маленков тебе все расскажут…» — и он беспомощно махнул рукой.
Не успела Светлана ступить на порог дома, как ей на грудь бросилась Валечка Истомина, экономка отца. Сквозь рыдания она рассказала, что у отца ночью был удар и он сейчас без сознания.
— Так он жив? — чувствуя невероятное облегчение, спросила Светлана.
Но, войдя в столовую, где лежал отец, она сразу поняла, что надеяться можно только на чудо.
…Он лежал, смертельно бледный, с полуприкрытыми веками, с беспомощно свисавшей с дивана кистью руки. Дочь едва смогла разглядеть отца из-за толпившихся вокруг него белых халатов. Врачи суетились, ставили больному пиявки на затылок и шею, снимали кардиограмму, делали рентген легких, записывали на краю стола ход болезни. Но Светлана видела, что делается все это без веры в спасение больного, в какой-то панике и трепете, как будто медики думали о спасении своих собственных жизней. И эскулапов можно было понять, потому что время от времени к ним подходил Берия и, нацелив на них пенсне, требовательным, зловещим тоном говорил:
— Вы гарантируете жизнь товарища Сталина? Вы сознаете свою ответственность? Я должен вас предупредить…
Берия говорил во всеуслышание, нарочито громко, как будто и впрямь сильно тревожился о состоянии вождя. Но видно было, что он пытается скрыть радость, душившую его.
И когда он, подойдя к Светлане, положил ей руку на плечо, желая обозначить сочувствие, она увидела в глубине его желтых глаз неприкрытое торжество. Но она не посмела снять с плеча эту тяжелую руку.
Берия отошел от нее и что-то сказал Маленкову, после чего решительно направился к выходу. Хрущев угрюмо проследил за ним взглядом, и Светлана услышала, как он тихо произнес:
— Поехал в Кремль пошукать в бумагах Хозяина…
Кто-то пододвинул Светлане стул, и она подсела к отцу, взяла в ладони его вялую руку. Незнакомый врач, которому сообщили, что она — дочь Сталина, подал ей какую-то бумагу. Строки расплывались у Светланы перед глазами, но врач настойчиво твердил, что она должна ознакомиться с документом. Он как будто хотел заручиться ее одобрением, не подозревая, как мало оно может значить.
«Медицинское заключение о состоянии здоровья товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.
Консилиум в составе начальника Лечебно-санитарного управления Кремля тов. Куперина И. И., профессоров Лукомского П. E., Глазунова И. С., Ткачева Р. Л. и доцента Иванова-Незнамова В. И. 2-го марта в 7 часов утра освидетельствовали состояние здоровья тов. И. В. Сталина.
При осмотре в 7 часов утра — больной лежит на диване на спине, голова повернута влево, глаза закрыты, умеренная гиперемия лица, было непроизвольное мочеиспускание (одежда промочена мочой). При попытке врача пощупать пульс на левой кровяной артерии появилось двигательное беспокойство в левой руке и левой ноге. Дыхание не расстроено. Пульс 78 в 1 минуту с редкими выпадениями. Тоны сердца глуховаты. Кровяное давление 190/110. В легких спереди хрипов нет. В области правого локтевого сустава следы ушиба…
Больной в бессознательном состоянии. Правая носогубная складка опущена. При поднимании век глазные яблоки уходят то влево, то вправо. Зрачки средней ширины, реакция на свет снижена. Движения в правых конечностях отсутствуют, в левых временами двигательное беспокойство.
Диагноз: гипертоническая болезнь, общий атеросклероз с преимущественным поражением сосудов головного мозга, правосторонняя гемиплегия вследствие кровоизлияния в бассейн левой мозговой артерии, атеросклеротический кардиосклероз, нефросклероз.
Состояние больного крайне тяжелое.
Назначения: абсолютный покой, оставить больного на диване; пиявки за уши (поставлено 8 шт.), холод на голову, гипертоническая микроклизма (1 стакан 10 %-го раствора сернокислой магнезии). Снять зубные протезы. От питания сегодня воздержаться.
Установить круглосуточное дежурство невропатолога, терапевта и медсестры. Осторожное введение с чайной ложечки жидкости при отсутствии поперхивания».
Хрущев объяснил Светлане, что этот доклад Куперин прочитал несколько часов тому назад на заседании бюро Президиума ЦК КПСС, состоявшегося здесь же, в соседней комнате. По его словам, все были подавлены заключением врачей. Никто не проронил ни слова. Вероятно, соратники вождя не слишком верили в его выздоровление, но высказать свои мысли вслух не решились, тем более в присутствии Берии.
…Тишина, бесшумная толкотня медиков вокруг бесчувственного тела, перешептывание людей, сидящих в креслах… Ворошилов спрятал лицо в носовой платок. Он то и дело поднимается с кресла, уходит в соседнюю комнату, и оттуда слышится сдавленное рыдание. Светлана сидит, как будто окаменев. Ее мучает запоздалое раскаяние — не слишком хорошей дочерью была она своему отцу… Вдруг в эту тишину, в это оцепенение врывается возглас:
— Сволочи! Загубили отца!
Это ее брат, Василий. Светлана порывисто поднялась со своего места, сделала несколько шагов к брату. Никогда они не были особенно близки, всегда ревновали отца друг к другу, но сейчас только он один в этой зале может ее понять.
Но Василий как будто не заметил сестру. Он кричит, обращаясь то ли к насмерть перепуганным врачам, то ли к вжавшимся в свои кресла соратникам вождя:
— Сволочи! Предатели! Загубили отца!
Каганович и Маленков подхватили его под руки — еще немного, и Василий упал бы.
Светлана с горечью подумала, что его, должно быть, только что вытащили с какой-нибудь попойки.
Краем глаза она увидела, что подавальщица Матрена Бутузова внесла в залу поднос с бутербродами. К подносу со всех сторон потянулись руки — все были голодны. Светлану затошнило — как они могут есть в такую минуту!.. Медсестра со шприцем наготове нащупывала вену на руке отца.
Из воспоминаний Светланы можно сделать вывод, что в эти мартовские дни она ни на минуту не покидала отца. О том же свидетельствуют некоторые соратники вождя, которым запомнилась ее «окаменевшая фигура». Но Серго Берия в своей книге «Мой отец — Берия» утверждает обратное. Он помнит, что его мать в те дни навещала Светлану дома и утешала ее. Он даже передает впечатление Нины Берии, что Светлана была довольно спокойна и вполне владела собой.
Утверждать это, конечно, невозможно. Во-первых, человеческие чувства — область тонкая, щекотливая. Вторгаться в них под силу лишь большим знатокам душ людских, гениальным писателям или художникам. Во-вторых, по-своему Светлана безусловно была привязана к отцу. В этой ее любви было много рвущего душу, мучительного, противоречивого, но над кем еще «очарование» личности Сталина, о котором она пишет, могло иметь такую власть, как не над нею?..
Что касается Нины Берии, то в эти трагические дни роль утешительницы подходила ей как никому другому. Как Светлана ощущала себя «жертвой» своего «великого отца», так и Нина чувствовала себя жертвой собственного мужа. Ей было всего 17 лет, когда Берия женился на ней. Наверное, она знала о том, что у него были другие женщины. Она покорилась своей участи и все свои силы отдавала единственному сыну. Сталин не вполне доверял Берии, однажды даже потребовал, чтобы Светлана на ночь глядя покинула его дом, не оставалась ночевать, но Нина для него всегда была вне подозрений.
Знала ли Нина о том, что ее муж мечтает о смерти вождя не только потому, что всерьез опасался, что вскоре его постигнет участь других его предшественников — Ягоды и Ежова, но и потому, что рассчитывал после смерти Сталина стать первым лицом в государстве? Это неизвестно.
Но те, кто видел Берию в те дни на Ближней, почувствовали, что он изо всех сил навязывает себя соратникам по борьбе как преемника Хозяина.
Берия первым потребовал, чтобы было подготовлено правительственное сообщение о болезни Сталина. Он то и дело подходил к дивану, на котором оканчивала свое существование целая эпоха, и пристально всматривался в лицо умирающего, чтобы еще раз убедиться, что надежды нет. «Он был возбужден до крайности, — вспоминала Светлана, — лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были — честолюбие, жестокость, хитрость, власть…»
В ночь на 5 марта вновь заседало бюро Президиума ЦК КПСС, которое, как всегда, единогласно, приняло постановление, продиктованное Маленковым и Берией. Один пункт касался принятия мер к тому, чтобы документы и бумаги Сталина «были приведены в должный порядок». После этого Берия вновь отправился в Кремль, уже имея на руках бумагу, открывавшую ему доступ в личный сейф Сталина. Особо приближенные к вождю люди знали, что там хранится некая загадочная тетрадь в темном переплете, в которой, как подозревали, могли содержаться последние распоряжения Сталина. После того как Берия вторично побывал в Кремле, тетрадь эта исчезла.
Сразу же после отъезда Берии состояние вождя резко ухудшилось. Вот записи из дневника врачей:
«11.30. Наступило резкое побледнение лица и верхнего отдела туловища. Дыхание стало весьма поверхностным, с длительными паузами. Пульс частый, слабого наполнения. Наблюдалось легкое движение головы, 2–3 тикообразных подергивания в левой половине лица и судорожные толчки в левой ноге».
«12.00. Расстройства дыхания усилились и были особенно резко выражены во вторую половину ночи и утром 5 марта. В начале девятого у больного появилась кровавая рвота, не обильная, которая закончилась тяжелым коллапсом, из которого больного с трудом удалось вывести…»
Известно, что Сталин, несмотря на полученное им религиозное образование, был закоренелым атеистом. Он не верил ни в ад, ни в рай. Но сейчас, находясь на пороге небытия, он бессознательно цеплялся за жизнь. Душа не хотела дать покой этому измученному телу, точно она уже успела заглянуть за порог смерти и ужаснуться открывшейся там для нее перспективе. День 5 марта прошел в последней борьбе с тем самым врагом, который долгие годы был его самым надежным союзником, помогавшим ему избавиться ото всех недугов, — со смертью…
«21.30. Резкая потливость. Больной влажный. Пульс нитевидный. Цианоз усиливается. Число дыханий 48 в 1 минуту. Тоны сердца глухие. Кислород (1 подушка). Дыхание поверхностное…»
«21.40. Карбоген (4,6 % СО). 30 секунд, потом кислород. Цианоз остается. Пульс едва прощупывается. Больной влажный. Дыхание учащенное, поверхностное. Повторен карбоген (6 % СО) и кислород. Сделана инъекция камфоры и адреналина…»
Вероятно, об этой инъекции и упоминается в воспоминаниях А. Т. Рыбина, от которой все тело Сталина «вздрогнуло, зрачки расширились». Далее Рыбин пишет, что «подобный укол, способный поднять или окончательно погубить больного, полагалось делать лишь после согласия близких родных. Но Светлану и Василия не спросили. Все решил Берия».
А может, некого было спрашивать? Серго Берия утверждает, что в момент смерти Сталина ни Светланы, ни Василия рядом не было. Всем запомнились рыдания безутешной Валентины Истоминой над телом Хозяина, но про детей, как вели они себя, никто не пишет…
Присутствовала ли дочь при последних минутах отца?
Если нет — как удалось Светлане написать потрясающие строки о кончине отца, которые свидетельствуют не только о ее замечательных писательских способностях, но и об истинности ее горя?
«…Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, — очевидно в последнюю минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившимися над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, — это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть, — тут он поднял кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился… В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела».
Похороны Сталина
Итак, «король умер». Но который из «королей», из претендентов на власть, теперь «да здравствует»? Над смертным одром Сталина уже завязалась борьба. Народ о том не подозревает, не знают и сами «наследники», для кого из них борьба за власть увенчается победой.
Не успел «вождь всех времен и народов» испустить последний вздох, как его соратники устремились к выходу, расселись по машинам и отправились в Москву, чтобы сообщить остальным членам ЦК весть, которой те уже ожидали. И они, ближайшие сподвижники, и Светлана, как она признается сама, испытывали противоречивые чувства — скорбь и облегчение.
Со Светланой остались в зале, где еще недавно собирались большие застолья, только Н. А. Булганин и А. И. Микоян. Они сидели на диванах у противоположных стен, всматриваясь в побледневшее, невозмутимое и спокойное лицо того, кто долгие десятилетия вершил судьбами страны. На большом обеденном столе тихо прибиралась старая сиделка, знакомая Светлане еще по кремлевской больнице. Погасили половину всех огней, и тогда явилась прислуга, охрана — простилась.
«Вот где было истинное чувство, — пишет Светлана, которую отец давно отучил испытывать истинные чувства, — искренняя печаль. Повара, шоферы, дежурные диспетчеры из охраны, подавальщицы, садовники, — все они тихо входили, подходили молча к постели, и все плакали. Утирали слезы, как дети, руками, рукавами, платками. Многие плакали навзрыд, и сестра давала им валерьянку, сама плача. А я-то, каменная, сидела, стояла, смотрела, и хоть бы слезинка выкатилась… И уйти не могла, а все смотрела, смотрела, оторваться не могла.
Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина, — Валечка, как ее все звали, — экономка, работавшая у отца на этой даче лет восемнадцать. Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей.
Все эти люди, служившие у отца, любили его. Он не был капризен в быту, — наоборот, он был непритязателен, прост и приветлив с прислугой, а если и распекал, то только «начальников» — генералов из охраны, генералов-комендантов. Прислуга же не могла пожаловаться ни на самодурство, ни на жестокость, — наоборот, часто просили у него помочь в чем-либо и никогда не получали отказа. А Валечка — как и все они — за последние годы знала о нем куда больше и видела больше, чем я, живущая далеко и отчужденно. И за этим большим столом, где она всегда прислуживала при больших застольях, повидала людей со всего света. Очень много видела она интересного, — конечно, в рамках своего кругозора, — но рассказывает мне теперь, когда мы видимся, очень живо, ярко, с юмором. И как вся прислуга, до последних днёй своих она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой отец. И не переубедить их всех никогда и ничем.
Поздно ночью, — или, вернее, уже под утром, — приехали, чтобы увезти тело на вскрытие. Тут меня начала колотить какая-то нервная дрожь, — ну хоть бы слезы, хоть бы заплакать. Нет, колотит только. Принесли носилки, положили на них тело. Впервые увидела я отца нагим, — красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское. И меня охватила, кольнула ножом в сердце странная боль — и я ощутила и поняла, что значит быть «плоть от плоти». И поняла я, что перестало жить и дышать тело, давшее мне жизнь, и вот я буду жить еще и жить на этой земле.
Всего этого нельзя понять, пока не увидишь своими глазами смерть родителя. И чтобы понять вообще, что такое смерть, надо хоть раз увидеть ее, увидеть, как «душа отлетает» и остается бренное тело. Все это я не то чтобы поняла тогда, но ощутила, все это прошло через мое сердце, оставив там след.
И тело увезли. Подъехал белый автомобиль к самым дверям дачи, — все вышли. Сняли шапки и те, кто стоял на улице, у крыльца. Я стояла в дверях, кто-то накинул на меня пальто, меня всю колотило. Кто-то обнял за плечи, — это оказался Н. А. Булганин. Машина захлопнула дверцы и уехала. Я уткнулась лицом в грудь Николаю Александровичу и, наконец, разревелась. Он тоже плакал и гладил меня по голове. Все постояли еще в дверях, потом стали расходиться.
Я пошла в служебный флигель, соединенный с домом длинным коридором, по которому носили еду из кухни. Все, кто остался, сошлись сюда, — медсестры, прислуга, охрана. Сидели в столовой, большой комнате с буфетом и радиоприемником. Снова и снова обсуждали, как все случилось, как произошло. Заставили меня поесть что-то: «Сегодня трудный день будет, а вы и не спали, и скоро опять ехать в Колонный зал, надо набраться сил!» Я съела что-то и села в кресло. Было часов 5 утра. Я пошла в кухню. В коридоре слышались громкие рыдания, — это сестра, проявившая здесь же, в ванной комнате, кардиограмму, громко плакала, — она так плакала, как будто погибла сразу вся ее семья… «Вот, заперлась и плачет — уже давно», — сказали мне».
Что в это время делалось в Москве? Главный редактор «Правды» Д. Т. Шепилов вспоминает: «…Страна притихла, все ждали известий из Москвы, как там Сталин… Утром пятого — звонок, голос Суслова:
— Быстрее приезжайте на «уголок» (так в кремлевском обиходе именовали кабинет вождя). Товарищ Сталин умер… — и положил трубку.
В кабинете решили вопросы, связанные с организацией похорон. Мне бросилось в глаза, как вели себя члены Политбюро. Уселись за длинный стол. Кресло Сталина во главе никто не занял. Напротив друг друга, рядом с председательским местом, разместились Берия и Маленков. Оба не могли скрыть своего возбуждения. Перебивая бесцеремонно своих соратников, они говорили больше других. Берия прямо сиял»…
После смерти Сталина стали ходить слухи, что Берия отравил его. Возможно, сыграли свою роль отчаянные вопли Василия при смертном одре родителя, которые всем запомнились:
— Отца убили! Отца убили!
Возможно, эти слухи распространило ближайшее окружение вождя. Много лет спустя после рокового мартовского дня 1953 года Феликс Чуев прямо спросил Молотова:
— Говорят, его убил сам Берия?
— Зачем же Берия? Мог чекист или врач, — ответил Молотов. — Когда он умирал, были моменты, когда он приходил в сознание. Было — корчило его, разные такие моменты были. Казалось, он начинает приходить в себя. Вот тогда Берия держался Сталина! У-у! Готов был…
Не исключаю, что он приложил руку к его смерти. Из того, что он мне говорил, да и я чувствовал… На трибуне Мавзолея 1 мая 1953 года делал мне такие намеки… Хотел, видимо, сочувствие мое вызвать. Сказал: «Я его убрал». Вроде посодействовал мне. Он, конечно, хотел сделать мое отношение более благоприятным: «Я вас всех спас!» Хрущев едва ли помог. Он мог догадываться»…
«Берия, судя по всему, — пишет Дмитрий Волкогонов, — намеревался не только сохранить существовавшее при Сталине положение, но и усилить роль министерства (МВД) при решении внутри и внешнеполитических вопросов. По сути, в его руках находился аппарат, с помощью которого он мог в последующем прийти к власти…»
В «Двадцати письмах» Светлана изливает унаследованную от матери ненависть к Берии в горьких строках, повествующих об очередной низости сподручного своего отца.
«Дом в Кунцево пережил, после смерти отца, странные события. На второй день после смерти его хозяина, — еще не было похорон, — по распоряжению Берия созвали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживающих дачу и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда (неизвестно куда), а все должны покинуть это помещение.
Спорить с Берия было никому невозможно. Совершенно растерянные, ничего не понимавшие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили со слезами все на грузовики, — все куда-то увозилось, на какие-то склады… подобных складов у МГБ — КГБ было немало в свое время. Людей, прослуживших здесь по десять — пятнадцать лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу. Их разогнали всех, кого куда; многих офицеров из охраны послали в другие города. Двое застрелились в те же дни. Люди не понимали ничего, не понимали — в чем их вина? Почему на них так ополчились?..»
«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства — обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что в первую очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и паники, с тем чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики — как во внутренних делах нашей страны, так и международных делах. Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по руководству деятельностью государственных и партийных органов, Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета признают необходимым осуществить ряд мероприятий по организации партийного и государственного руководства».
Это постановление совместного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета появилось на страницах «Правды» на другой день после сообщения о смерти Сталина, но составлено оно было накануне этого события, когда Сталин еще был жив, — на всякий случай, так сказать.
На обратной стороне этой страницы газеты опубликованы постановления об установлении саркофага Сталина рядом с саркофагом Ленина, о сооружении пантеона, о трауре — шестого, седьмого, восьмого и девятого марта. Там же извещение комиссии по организации похорон о доступе в Колонный зал и времени похорон, первый репортаж из Колонного зала «У гроба И. В. Сталина».
К тому времени, когда умер Сталин, наблюдая на похоронах зрелище всеобщего горя, Светлана, в сущности, немного знала о той страшной роли, которую он сыграл в судьбах народа. Вокруг нее сгинуло столько близких людей, но это тогда казалось в порядке вещей, происходящее как бы было обеспечено каким-то высшим смыслом. И все же кое-что она знала. Знала, например, о том, как погиб директор еврейского театра Михоэлс.
«В одну из редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: «Ну, автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это: автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: «В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс». Но когда на следующий день я пришла в университет, студентка, отец которой долго работал в Еврейском театре, плача, рассказывала, как злодейски был убит в Белоруссии Михоэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщили об «автомобильной катастрофе»…
Он был убит, и никакой катастрофы не было. «Автомобильная катастрофа» стала официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении… У меня стучало в голове. Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещатся «сионизм» и заговоры. Нетрудно было догадаться, почему ему «докладывали об исполнении».
«Он был озлоблен на весь мир и никому не верил. «У тебя тоже бывают антисоветские высказывания», — сказал он мне тогда совершенно серьезно; я стала избегать встреч с ним, да и он к ним не стремился…
Зимой 1952/53 года мрак сгустился до предела. Уже были арестованы, по обвинению в «сионистском заговоре», жена Молотова Полина, бывший замминистра иностранных дел С. Лозовский, академик Лина Гтерн и многие другие. Состряпали «дело врачей», которые якобы состояли в заговоре против правительства…
Ко всему безумию добавлялось еще бряцание оружием. Из-за пустякового повода посол США Джордж Кеннан был выслан из Москвы. Один полковник, артиллерист, товарищ моих братьев, доверительно сказал мне в те дни: «Эх, сейчас бы самое время начать, чтобы отвоеваться, — пока жив твой отец. Сейчас мы непобедимы!» Об этом жутко было подумать всерьез, но, очевидно, такие настроения были и в правительстве.
И тогда умер мой отец. Молния ударила в самую вершину горы, и раскаты грома прокатились по всей земле, предвещая теплые ливни и голубое, чистое небо… Все так ждало этого чистого безоблачного неба без нависших над головой свинцовых туч. Всем стало легче дышать, говорить, думать, ходить по улицам. В том числе — и мне» («Только один год»).
Гроб с телом был выставлен в Колонном зале, но дойти туда даже человеку, имевшему пропуск с пометкой «Проход повсюду», было нелегко. Милиция и грузовики оцепили Центр, чтобы остановить людей, устремившихся сюда. Светлана, стоя у гроба отца, слышала, как один генерал возбужденно сказал другому, что «толпа безобразничает» и что «необходимо принять меры».
Константину Симонову пришлось пролезать под грузовиками, перегородившими Неглинную, он был стиснут со всех сторон толпой так, что не мог вынуть из кармана свое удостоверение, и еле выбрался из давки где-то у задов Малого театра.
В комнате позади президиума люди накладывали на рукав повязки. Одни уходили в почетный караул, другие возвращались из него… «Сначала стояли в почетном карауле, потом прошли в зал… Сменялись поочередно почетные караулы — то играла музыка, то пел женский хор»…
Симонов всматривался в лицо уснувшего навеки вождя. Оно было очень спокойным, «нисколько не похудевшее и не изменившееся. Волосы в последнее время начали у него немножко редеть (это бывало видно, когда он ходил во время заседаний и, проходя близко от тебя, поворачивался боком). Но сейчас это было незаметно, волосы спокойно лежали, откинутые назад, и уходили в подушку. Потом, когда мы сменялись, стали обходить гроб кругом, я увидел лицо Сталина справа, с другой стороны, и снова подумал, что лицо это совсем не переменилось, не похудело, и что оно очень спокойное, совсем не стариковское! еще молодое…
Когда я стоял один из самых последних караулов, вдруг по помосту, на котором стоял гроб, на две-три ступеньки вверх поднялась дочь Сталина Светлана и долго смотрела на отца, на его лицо. Повернувшись, отошла и снова села в кресло, стоявшее справа от головы Сталина» («Глазами человека моего поколения»).
А вот как об этом же пишет Светлана:
«В те дни перед похоронами я стояла у гроба многие часы и смотрела на людские потоки, проходившие через Колонный зал. Люди вели себя по-разному. Многие плакали… Кто нес цветы, кто смотрел с любопытством, чтобы удостовериться — да, правда, его больше нет. Иногда мои глаза встречались с глазами моих знакомых по школе, многих я не видела годы. Мне было страшно от того, что мои собственные чувства были противоречивы: я одновременно испытывала боль и облегчение, ругая себя за то, что я плохая дочь. В момент последнего прощания, когда следовало поцеловать лоб покойного и все вокруг ждали этого и смотрели на меня, я так и не смогла заставить себя сделать это. И ни разу не ходила потом к могиле отца у кремлевской стены».
Константин Симонов продолжает свое скорбное повествование — тогда он был опечален смертью вождя:
«Из задней двери вышли руководители партии и правительства и подошли к гробу. В эту же минуту маршалы начали брать подушки с орденами и медалями Сталина. И только тут я заметил, хотя несколько раз за эти дни стоял в карауле, лежавшие перед гробом в ногах эти подушки. Первую подушку взял Буденный, за ним стали брать другие. Гроб накрыли крышкой с полукруглым стеклянным или плексигласовым фонарем над лицом Сталина, подняли и понесли. Процессия двигалась медленно, мы шли в последних рядах ее, позади нас, еще через один или два ряда, шли дипломаты. Оглянувшись, я увидел, что некоторые из них идут в странно и даже нелепо выглядевших в этой процессии цилиндрах.
Впереди у лафета были видны покачивающиеся на головах лошадей султаны и четыре тонких солдатских штыка по четырем сторонам гроба. Напротив гостиницы «Москва», когда мы шли мимо нее, стало видно, как, поднимаясь в гору Красной площади, уже движется процессия с венками.
Траурный митинг начался, когда гроб поставили около Мавзолея…»
О самом митинге оставил воспоминания американский журналист Гаррисон Солсбери:
«Сталина хоронили в понедельник, 9 марта. На Красной площади выступали с речами трое — Маленков, Берия и Молотов. Маленков, моложавый человек средних лет, был на удивление привлекателен. Он говорил на прекрасном, культурном русском языке, слова использовал мягкие и, казалось, обещал какой-то новый, вполне интеллигентный режим. Берия был одновременно и заискивающ, и снисходителен к своим коллегам. Оно и понятно: все они были во власти его сил безопасности. Но больше всех поразил меня Молотов. Голос у него постоянно срывался, лицо было белое, как бумага. Я записал тогда в блокноте: «Такая печаль в его голосе!» Молотов единственный из присутствующих говорил так, что мне передалось ощущение утраты. Его слова, как всегда, отдавали тусклым металлом. В нем никогда не жил поэт. Я знал, что его жена находилась в сталинских лагерях. Я не знал того, что она находилась в тюрьме с 1949 г., что с этого момента Молотов был исключен из узкого крута лиц, «людей Сталина», и его не приглашали на ночные пирушки на ближней даче Я подозревал, что Сталин наметил Молотова в качестве одной из жертв в своей новой фантасмагории. Молотов все это знал. И все же его голос прерывался снова, и он едва удерживался от слез, когда говорил о своем тираническом хозяине.
В 11.50 Молотов закончил свою речь. Военный оркестр из трехсот музыкантов начал Похоронный марш Шопена. Руководители — Маленков, Берия, Молотов и остальные — сошли с трибуны Мавзолея. Задрапированный в красное и черное гроб Сталина покоился у входа в Мавзолей. Настала минута молчания. Затем стрелки часов на Спасской башне сомкнулись. Стальной салют орудий в Кремле прозвучал контрапунктом к бою курантов. Загудели все московские заводские гудки. Маленков, Берия, Молотов и другие подняли гроб с телом Сталина и внесли его внутрь. Куранты смолкли, а пушки продолжали греметь — до тридцатого залпа. Гудки умолкли. По всей России остановились все автомобили, трамваи и поезда. Наступило полное молчание. Затем прогремел голос генерала, командующего Московским гарнизоном, эхом отразившийся от серых обшарпанных стен торгового пассажа на противоположной стороне площади. Тысячи солдат начали маршировать. Оркестр грянул «Славься!» Глинки. Красный флаг над Кремлем медленно поднялся на полную высоту».
Светлана Чувствовала себя усталой и подавленной среди этого скопления народа, пришедшего проводить ее отца в последний путь. Скорее бы это кончилось, думала она. Она знала, что внешне держалась хорошо в отличие от своего брата Василия, который то и дело набрасывался с упреками и обвинениями в адрес членов правительства. Специально приставленные к нему люди еле удерживали его на похоронах. «Он совершенно утратил чувство реальности, — думала Светлана, — конечно, ведь Василий всю свою жизнь ощущал себя наследным принцем. А теперь — теперь все кончилось».
Теперь под обрезом трибуны Мавзолея было не одно, как все к тому привыкли, а два имени в мраморе. Пока длился митинг, Светлана смотрела то на Маленкова в ушанке, то на Хрущева в папахе пирожком, то на Берию в пальто, в широкополой шляпе, надвинутой по самое пенсне, закутанного по подбородок в теплый шарф, и гадала: кто из них?.. Кто из них теперь сделается наследником отца.
Она не слишком внимательно слушала речи, в том числе и речь Лаврентия Берии с его сильным акцентом, резкими, каркающими интонациями в голосе, но в ушах у нее звучали его слова, проходящие через все выступления зловещим рефреном, не понятно к чему относящиеся: «Кто не слеп, тот видит…» Светлане казалось, что все вожди, как черные птицы, слетелись над трупом отца и ждут только момента поскорее упрятать его в Мавзолей и начать решительную схватку за власть. Как и ее отцу, ей не приходило в голову, что победа выпадет на долю Никиты Сергеевича Хрущева.
Гроб подняли и понесли в Мавзолей. Поднялись по ступеням, прошли мимо саркофага, в котором лежал с привычным восковым лицом Ленин. Лицо отца по контрасту казалось Светлане особенно живым, чудилось, что он вот-вот откроет глаза, уткнется в нее своим страшным, проницательным взглядом и гаркнет, перекрыв голосом оркестр: «А ты что здесь делаешь?!!»
Гроб с телом поставили на постамент из черного мрамора рядом с саркофагом Ленина. У мертвых вождей руки были сложены совершенно одинаково поверх френча, но у Ленина были высохшие, мертвые руки, тогда как у ее отца поразительно живые. Не верилось, что эти маленькие, цепкие, жесткие руки наконец-то выпустили вожделенную власть…
Двадцатый съезд
Двадцатый съезд и доклад Хрущева не грянули как гром с ясного неба. «Ветер перемен» подул задолго до 1956 года, сразу же после смерти Сталина. О том, как забрезжило время «оттепели», хорошо сказал Федор Бурлацкий в книге «Вожди и советники»: «Первые месяцы после смерти Сталина были полны тревожного ожидания. Зловеще прозвучали в ушах произнесенные Берией на траурном митинге с Мавзолея, рефреном повторяемые слова: «Кто не слеп, тот видит…» Но первые речи Хрущева, Маленкова и других руководителей уже несли с собой элементы новизны. Стали говорить о народе, его нуждах, о том, что целью социализма не может быть только индустриальный рост, о продовольствии, о жилищной проблеме, о прощении тех, кто оказался в плену…»
Через несколько дней после смерти вождя Константин Симонов опубликовал в «Литературной газете» свою «траурную» статью. Главный придворный писатель не успел еще уловить новых веяний и призывал собратьев по перу бросить все силы на отражение исторической роли великого человека и его бессмертного образа. Это была обычная конъюнктурная статья в духе того времени, но почему-то она вызвала раздражение у многих не только рядовых читателей. Сам Хрущев позвонил в Союз писателей и потребовал убрать Симонова с поста главного редактора «Литературной газеты». Что двигало при этом Никитой Сергеевичем — обыкновенная ревность или переоценка ценностей?
Это был невинный эпизод по сравнению с тем, что последовало вскоре — арест и расстрел Берии, аресты людей, еще недавно казавшихся вечными и неприкосновенными. Таких, как Василий Сталин или главный телохранитель вождя генерал Власик. Этим людям, в отличие от «вредителей» тридцатых, предъявляли вполне конкретные обвинения — злоупотребление властью и огромные растраты государственных средств. Сталин гордился своим аскетизмом и непритязательностью, но почему-то окружал себя людьми необыкновенно алчными и ненасытными.
После ареста Власика в декабре 1953 года у него на даче были обнаружены целые склады драгоценных фарфоровых сервизов на сто персон, хрусталя, золотых украшений, ковров, рояли, фотокамеры. Генерал толком не сумел объяснить, зачем ему столько добра, ведь жил он один. Продукты и вина с хозяйской кухни он брал, как из своей кладовки, в чем чистосердечно и признался. Власик злоупотреблял спиртным и был слишком неравнодушен к прекрасному полу. Его давний приятель Стенберг устраивал шумные вечеринки у себя на квартире, знакомил генерала с женщинами. Вино развязывало язык, и главный охранник страны болтал много лишнего.
Оказалось, что Сталин, отправивший в тюрьмы и на тот свет тысячи невинных людей из-за своей болезненной подозрительности, более двадцати лет доверял такому ничтожеству, как Власик, может быть не раз его предававшему. Светлана считала отца необыкновенно проницательным, он якобы видел людей насквозь, от него невозможно было ничего скрыть. Больше всего он любил недалеких простаков. Таким простачком и прикидывался хитрый и отнюдь не глупый Власик.
Он был решением суда лишен своего генеральского звания и сослан на десять лет, но вскоре почему-то наказание смягчили. Ссылку сократили до пяти лет без поражения в правах. Кто-то заступился за Власика из бывших друзей, потому что он был типичным представителем окружения вождя. Облегчая участь генерала, это окружение заботилось и о себе.
Достоянием гласности в то время становились только суды над мелкими жуликами и ворами. Людей ранга Василия Сталина и Власика судили закрытые суды. Власть боялась компрометировать вождя и себя вместе с ним. Мирные обыватели могли еще какое-то время пожить в счастливом неведении.
В «Двадцати письмах к другу» Светлана не раз с презрением говорила о зажиревших генералах в окружении отца, которые разворовывали миллионы, и об огромном поместье брата Василия с конюшнями и псарнями, построенном за государственный счет. Наверное, она отнеслась к процессам над братом, Власиком и им подобным как к справедливому возмездию?
Сама она не упускала случая подчеркнуть свое бескорыстие и скромность. Кремлевские дамы недолюбливали ее за это, считали гордячкой, осуждали за скромные платья. Что заставило Светлану вскоре после смерти отца написать это письмо?
«Председателю Совета Министров СССР Г. М. Маленкову от Сталиной С. И.
Приношу глубокую благодарность Правительству и лично Вам за участие и внимание к моим детям и ко мне в это тяжелое для нас всех время.
Вместе с тем считаю своим долгом отказаться от некоторых предоставленных моей семье прав, как от излишних, пользоваться которыми я не считаю для нас возможным:
1. от закрепления дачи «Волынское» с обслуживанием,
2. от временного денежного довольствия в размере 4000 рублей в месяц.
Вместо закрепления за моей семьей дачи «Волынское» прошу вашего разрешения о предоставлении мне права снимать на летние периоды 2–3 комнаты в дачном поселке СМ СССР Жуковка по Рублево-Угличскому шоссе за отдельную плату.
Еще раз приношу благодарность.
С уважением.
Сталина».Это странное заявление-просьбу там, «наверху», восприняли как оскорбление, как посягательство на привилегии кремлевской элиты. Светлану вызвали куда следует и мягко пожурили за гордыню. Объяснили, что если дочери Сталина положено получать пенсию, то она и должна ее получать! Вместо двух-трех комнат ей предоставили дачу в Жуковке.
Спустя десять лет Светлане так виделось ее существование после смерти отца: «Моя странная бестолковая жизнь продолжалась — внешне одной жизнью, внутренне совсем другой. Внешне — это обеспеченная жизнь где-то по-прежнему возле правительственных верхушек и кормушек, а внутренне — это по-прежнему, и еще сильнее, чем раньше, полное отъединение от этого круга людей, от их интересов, обычаев, от их духа и дела, от их слова и буквы».
Она искренне хотела сбежать из своего «круга», отмежеваться от него. Поэтому и было послано Маленкову странное письмо с отказом от всех благ. Но куда хотела убежать Светлана? Где рассчитывала обрести новое окружение, которое дало бы ей не только душевный комфорт, но и интересное дело? После окончания аспирантуры она защитила диссертацию по историческому роману. Об этом событии упоминает ее кузина Кира Павловна Политковская в своих воспоминаниях: «А в газете тогда написали — «Светлана Иосифовна Сталина защищает диссертацию». Набежало много людей! А она так тихо говорила, что никто почти ничего не слышал. Братья мои ходили и тоже ничего не слышали» («В доме на набережной»).
Получив степень кандидата наук, Светлана начинает работать в Институте литературы имени Горького, очень престижном научном учреждении. Но дочери Сталина были открыты все пути. Волею судьбы она попала в круг ученой элиты, среди которых было немало блестящих, умных людей, так разительно отличающихся от ее прежнего убогого окружения. И некоторые из этих незаурядных людей дарили ей свою дружбу.
Светлана всю жизнь лихорадочно искала — себя, свое дело, спутника жизни, друзей. Наверное, тогда, в 1956-м, ей показалось, что она обрела свою стезю, свой избранный мир интеллигентов, ученых-литературоведов. Она была честолюбива, конечно, втайне мечтала об ученой карьере. У нее были для этого все возможности, все давалось ей без борьбы и особых трудностей. Может быть, поэтому все быстро надоедало и теряло всякий смысл. Или Светлана была достаточно честна с собой, чтобы признаться — у нее нет большого таланта и она никогда не станет хорошим ученым-исследователем?
1956 год принес Светлане большие душевные испытания. Позднее она пытается воссоздать сам дух того переломного года. «Непреодолимый процесс освобождения от старого шел гораздо сильнее и смелее «снизу». Пока «наверху» шла уродливая драка за власть, прогресс брал свое. Он рос и ширился снизу наверх, как горячий пар, заставляя власть то уступать, то сопротивляться. Остановить его было уже невозможно. Он пробивался наружу повсюду, как яркая трава между каменных плит.
И в моей душе шел такой же медленный, упорный процесс внутреннего освобождения от прошлого — от общего прошлого и от моего собственного» («Только один год»).
Светлана уверяет, что речь Хрущева не была для нее большой неожиданностью и мало повлияла на ее внутреннее освобождение. Гораздо большую роль в этом сыграли беседы с друзьями о необходимости и неизбежности перемен в стране.
В феврале Микоян прислал за ней машину. Светлана приехала в его квартиру на Ленинских горах, и там в библиотеке смущенный Анастас Иванович протянул ей «секретную речь» Хрущева:
— Прочитай это, потом обсудим, если необходимо. Не торопись, обдумай…
Несколько часов Светлана провела в библиотеке, погрузившись в этот страшный документ. Главным его содержанием была правда о сталинских репрессиях. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде, 98 человек, то есть 70 %, были арестованы и расстреляны, большинство в 1937–1938 годах. Из 1966 делегатов этого съезда 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Хрущев упомянул и о зловещей роли НКВД в сталинских репрессиях, о недопустимых методах допросов, пытках, избиениях ни в чем не повинных людей. Но все же он не сказал, да и не мог тогда сказать всей правды. Только в девяностые годы историки и социологи смогли назвать страшную цифру истинных потерь — 40 миллионов человек, включая «кулаков» и жертвы насильственных переселений целых народов в годы Отечественной войны.
Он только коснулся в своем докладе странных и подозрительных обстоятельств убийства Кирова. И тут же заговорил о другом, словно сам испугавшись своей смелости. Впервые рассказал о судьбе Постышева, Эйхе, Рудзутака. Я. Э. Рудзутак, который провел на царской каторге десять лет, тоже вынужден был подписать ложные показания, которые вырвали у него под пыткой в ходе следствия. Но на суде он от них отказался и хотел публично разоблачить методы следствия НКВД, заставляющие невинных клеветать на себя и других людей. Но суд не обратил внимания на его слова. Рудзутак был осужден и расстрелян.
Светлана была достаточно подготовлена к этим разоблачениям, и поэтому они не ошеломили ее, как многих других, свято веривших в непогрешимость вождя и его чекистов. Ей вспомнились рассказы ее теток, к тому времени вернувшихся из тюрьмы. Евгения Аллилуева, вдова дяди Павла, подписала все предъявленные ей обвинения — в шпионаже, в отравлении мужа, в связях с иностранцами. «Там все подпишешь, — говорила она, — лишь бы оставили в покое и не мучили. Ночью никто не спал от криков в камере, люди кричали нечеловеческими голосами, умоляли убить, лучше убить». Тетя Аня сошла с ума в тюрьме. Что ей пришлось пережить, об этом можно только догадываться.
«Страшней всего было то, что я верила тому, что читала, — с болью призналась она. — Не верить было невозможно… Я думала о судьбе Сванидзе и Реденса, и мое сердце проваливалось в пустоту. Если бы я могла опровергнуть, не верить, воскликнуть: «Клевета, он не делал этого!» Но я не могла. Я вспоминала разговоры с друзьями и то немногое, что было доступно из неофициальных источников. На память приходили опять послевоенные годы и мрачная зима 52–53 годов, когда я сама видела, что многое творилось по указу отца» («Только один год»).
Наконец Светлана вернулась в столовую, где ее с нетерпением поджидали Микоян с женой. Она прочла в их глазах тревогу и сказала:
— К сожалению, все это очень похоже на правду.
Микоян вздохнул с облегчением. Он боялся, что Светлана будет спорить или расплачется.
— Я надеялся, что ты поймешь, — говорил ей Анастас Иванович за ужином. — Мы хотели, чтобы тебе не пришлось неожиданно услышать это на собрании. Через неделю документ будут читать во всех партийных организациях.
Супруги Микояны поступили как истинные, старые друзья: они предупредили Светлану, дали ей неделю на размышления и подготовку к тяжкому испытанию. О том, как Светлана его пережила и какой след оно оставило в ее душе, мы не можем судить ни по ее воспоминаниям, ни по отзывам людей, наблюдавших ее в эти дни. В институте она очень скоро прослыла очень скрытной, сдержанной и непроницаемой для «чужих». С немногими близкими друзьями она, конечно, была другой.
Через несколько дней Светлана сидела на собрании в Институте мировой литературы, где обсуждался знаменитый доклад Хрущева и кипели страсти. Все говорили о необходимости перемен и с трудом сдерживали лавину эмоций. Рой Медведев в своей книге «Свита и семья Сталина» тоже упоминает об этом собрании. Присутствующие, конечно, знали, что среди них находится дочь Сталина, перешептывались и указывали на нее глазами. Внешне Светлана прекрасно сохраняла самообладание и ничем не выдала своих чувств.
Зачем она пришла на это собрание? Зачем добровольно подвергла себя истязанию? Едва ли ее заставляли это сделать строгие партийцы, которые сгоняли народ на тоскливые заседания. На этот раз неявку Светлане Сталиной охотно простили бы.
Скорее всего, Светлана пришла по своей воле. Собрание было необычным, совсем не похожим на прежние нудные и лживые сборища. Она была слишком горда, чтобы уклониться. Ее друзья и люди, мнением которых она дорожила, должны были знать, что она современный, умеющий мыслить человек. Она стремилась отмежеваться от привилегированной кучки сильных мира сего, от их детей и родственников, которых в народе называли «беспозвоночными». «Беспозвоночные» — это те, кто все получал без очереди, бесплатно, в распределителях и тех высоких инстанциях, куда обыкновенным смертным не было доступа. Все эти «бывшие», по мнению Светланы, яростно защищали не Сталина, а свою сытую, обеспеченную жизнь в нищей стране, среди обездоленного народа. Светлана никогда не упускала случая выразить свое презрение к этим партийным обывателям. Она не сомневалась, что ничем не похожа на них, потому что не корыстна, никогда не кичилась своим положением и именем отца, а мечтала жить тихой частной жизнью в своей семье.
Как всегда, в воспоминаниях Светланы много противоречий. То она утверждает, что давно уже трезво оценивала существующие порядки. В этом прозрении ей помогли друзья. Поэтому доклад Хрущева не был для нее неожиданностью. И тут же признается, что долгое время жила обманутой и обкраденной, как и миллионы ее соотечественников: «Хотя последние годы я была далека от отца, только теперь, после его смерти, мое сознание начало постепенно очищаться от мифов, от идеализации, от канонизированной лжи, от всего того, что вбивали в голову моему поколению — ложный образ «мудрого вождя», ложную историю партии, ложную картину «победоносного развития всей страны».
По раньше или позже, а «очищение сознания» все-таки произошло. И для Светланы Сталиной оно было гораздо мучительнее, чем для простых граждан. После речи Хрущева никто из друзей не отвернулся от нее. Но ведь вокруг были не только друзья. Те, кто раньше заискивал перед дочерью «великого человека», после его низвержения не упускали случая позлорадствовать. Таковы обыватели. А люди, пострадавшие от репрессий или потерявшие близких, не всегда были дружелюбными с дочерью тирана. Но Светлана никогда не рассказывала о подобных случаях в своих воспоминаниях.
Она часто умалчивает о каких-то неприятных, болезненных, унизительных эпизодах в своей жизни. Может быть, от природной сдержанности и нежелания делать достоянием публики слишком уж личные переживания. Только с близкими она позволяла себе расслабиться, иногда пожаловаться. Кира Павловна Политковская вспоминала: «Она говорила, что должна была принимать участие в этом, голосовать против него, и это на нее ужасно подействовало. «Он мой отец, а меня никто не щадил!»
«В сентябре 1957 года я сменила фамилию «Сталина» на Аллилуеву», — коротко сообщает Светлана. Что предшествовало такому решению, она опускает. Василию, например, настоятельно «советовали» сменить фамилию, но он упорствовал до последнего, когда эту фамилию у него отняли почти силой. В тюрьме к нему дошли вести, что Светлана взяла фамилию матери. Он воспринял это как предательство по отношению к памяти отца и сказал, что никогда не простит сестру.
Оказывается, еще много лет назад, сразу после окончания школы, Светлана просила отца поменять ей фамилию. «Ведь это даже не фамилия, а псевдоним?» — робко пыталась она объяснить свое желание не слишком выделяться в университете. Но она не предполагала, что отца так болезненно заденет ее просьба. Он был очень недоволен, хотя и промолчал. А Светлана больше не решалась заикаться об этом.
Светлану можно понять: после Двадцатого съезда жить с таким «псевдонимом» ей становилось невмоготу. Сделала она это по необходимости или исполнила давнюю мечту — стать обычным человеком и жить тихой частной жизнью? «Я больше не в состоянии была носить это имя, оно резало мне уши, глаза, сердце своим острым металлическим звучанием…» («Только один год»).
Светлана обратилась в канцелярию Президиума Верховного Совета с просьбой ускорить процесс изменения фамилии. И сделала это не без робости. В то время председателем Президиума был Ворошилов, старый друг семьи. Она боялась скрытого, а может быть, и явного осуждения. Но Ворошилов, выслушав ее, сказал: «Ты правильно решила».
Между прочим, у Светланы имелась возможность взять другую фамилию посредством брака. Почему она не воспользовалась ею, остается только гадать. Так же трудно понять мотивы, из-за которых она иногда очертя голову бросалась в очередное замужество. И все-таки попробуем в этом разобраться.
Первую попытку построить супружеские отношения с Каплером пресек, что называется, на корню ее суровый родитель. Чем не угодил ему этот претендент на руку его дочери? Тем, что он был прирожденный донжуан, представитель богемы или еврей? Скорее всего, Сталину не хотелось отпускать дочь в круг людей «второго сорта» — по его понятиям, — людей искусства, куда она так стремилась всей душой, желая выйти из узкого круга детей партийных функционеров. Ей казалось — там чище воздух, там есть свобода, подлинное творчество… Это был неосознанный бунтарский порыв против отца, жажда выйти за пределы Кремля, уйти от назойливого внимания кремлевских опекунов.
Во втором браке — то есть во второй своей попытке — она как будто пытается примирить два борющихся в ней начала: желание угодить отцу и выйти замуж за существо своей касты (все-таки Григорий Морозов был сыном заместителя директора НИИ) и в то же время жажду незаметной, скромной жизни с таким же, как и она сама, студентом.
Третья попытка замужества была предпринята с учетом соображений «династии» и намерением потрафить отцу. Она вышла замуж за Юрия Жданова.
Но вот отец умер, и в стремлении Светланы устроить личную жизнь начинает играть существенную роль иной мотив: она снова предпринимает попытку устроить свою судьбу. На этот раз с сыном репрессированного врага народа — Иваном (Джонридом) Сванидзе.
Думается, что это не случайно. Трудно, конечно, отчетливо представить себе чувства дочери человека, которого еще вчера величали отцом народов, великим вождем, продолжателем дела Ленина, творцом конституции, гениальным полководцем, корифеем науки и гигантом революционной мысли, а сегодня уже сделавшимся кровавым палачом, интриганом от политики, узурпатором власти. Нам трудно вообразить, что должна была испытать после всех разоблачений отца дочь, если и внукам его пришлось несладко, если и невесткам приходилось глотать насмешки и угрозы, как, например, жене Василия Екатерине Тимошенко. Не исключено, что в этом браке Светлана неосознанно пыталась искупить ту вину, которую она, вероятно, ощущала как дочь такого отца перед теми, кто пострадал по его милости.
…Джонрида (Вано, Ивана Александровича) Сванидзе Светлана знала с самого раннего детства. Его родители, Алеша Сванидзе и Мария Анисимовна Короне (Сванидзе), как уже рассказывалось, души не чаяли в сыне. Он рос в атмосфере тепла и обожания.
Можно представить, каким страшным ударом для одиннадцатилетнего подростка Вано явился арест отца, а позже и матери. Но опричники НКВД не удовольствовались этим. Мальчика привезли на Лубянку и потребовали от него показаний против отца, воспитавшего также и старшего сына Сталина Якова. Супругов Сванизде отправили в разные лагеря.
Алеша Сванидзе хорошо изучил Сталина. Его старый друг рассказал историю, которую приводит в своей книге Антонов-Овсеенко.
«По воскресеньям генсек имел обыкновение играть с ним (со Сванидзе. — В. С.) в бильярд. Однажды в понедельник Сванидзе пришел в свой кабинет на Неглинной в подавленном настроении.
— Что с тобой? — спросил его старый друг. — Неужели вчера в бильярд проиграл?
— Ты считаешь меня таким плохим человеком? — обиделся Александр. — Ведь если я выиграю хоть одну партию, он потом целую неделю будет вымещать зло на людях. — Сванидзе помолчал и добавил: — Никак не могу в себя прийти, ночь не спал. Знаешь, что было? Хозяин промазал по шару, поставил кий на пол и сказал: «А ведь русский народ — царистский народ. Ему царь нужен». Эти слова меня так потрясли, что я ушел, не доиграв партию. Больше ноги моей у него не будет. Ведь это он нечаянно высказал затаенную мысль. Вот увидишь, он что-то затеял…»
Что Сталин затеял — это уже известно.
Наверняка Алеша Сванидзе предчувствовал свою участь. Когда арестовали Авеля Енукидзе, он попытался заступиться за него. Уверял Сталина, что Авель не может быть врагом. На это Сталин ответил, что Авелю как следует «всыпят» и тогда он признается, в этом нет сомнений. Сталин не мог простить Енукидзе того, что тот издал брошюру, в которой рассказывал об организации подпольной типографии в Баку, не упоминая имени вождя…
Прежде чем расстрелять Александра Сванидзе, ему от имени Хозяина предложили попросить прощения. Но Алеша просить прощения не стал. Узнав о том, что приговор привели в исполнение, Сталин обронил:
— Смотри какой гордый…
После гибели Сванидзе его шестнадцатилетнего сына бросили в казанскую тюремную психиатрическую больницу, где он провел пять лет, а оттуда отправили на медные рудники Джезказгана. Когда истек год, Сталин приговорил юношу к вечному поселению в Сибири.
В Москву Вано вернулся лишь в 1956 году. Окончил исторический факультет МГУ и аспирантуру, поступил в Институт Африки.
Галя Джугашвили, дочь Якова, запомнила тот период, когда Светлана стала готовиться к свадьбе с Иваном Александровичем Сванидзе. В это время Светлана получала посылки из-за границы с вещами, про которые она говорила, что это от ее брата Якова… Вещи были очень красивые, таких тогда в Советском Союзе не было. Кое-что из них действительно пригодилось для очередного торжественного мероприятия в жизни Светланы — бракосочетания с Вано Сванидзе.
Но и этот брак был недолгим. В газете «Вечерняя Москва» появилось объявление: «Сванидзе Иван Александрович, проживает по улице Добролюбова, 35, кв. 11, возбуждает дело о разводе с Аллилуевой Светланой Иосифовной, проживающей по улице Серафимовича, 2, кв. 179. Дело подлежит рассмотрению в нарсуде Тимирязевского района».
Светлана снова осталась одна.
Об этом периоде жизни Светланы вспоминает Н. С. Хрущев: «Мне всегда неприятно было слышать сплетни о плохом поведении Светланы и о ее супружеской неверности. Она долгое время жила одна, без мужа. Это нельзя считать нормальным…»
Действительно, о дочери Сталина ходило много сплетен. Она то и дело давала повод посудачить о себе, о своих мужьях и увлечениях. Семейная жизнь у нее не складывалась, хотя она искренне к этому стремилась. Судя по ее избранникам, она искала в мужчинах не столько любви, захватывающих романов, сколько надежного друга, родного человека и близкую душу.
Светлане не везло не только в личной жизни. В Институте мировой литературы она проработала недолго, около полутора лет. Потом принесла справку от врача о том, что у нее нервное истощение и она нуждается в лечении. По-видимому, Никита Сергеевич Хрущев был прав: шумная кампания по разоблачению диктатора «явилась для Светланы жестоким ударом», который подорвал ее здоровье.
Она могла бы и не работать: пенсии за отца и алиментов от мужей вполне хватало на скромное существование. Но Светлана не могла жить без людей и общения, впрочем, не могла она прижиться и в «коллективе». После Института мировой литературы она сменила несколько учреждений, пыталась работать в агентстве печати «Новости», в издательстве «Детская литература».
Нельзя сказать, что она томилась от безделья. Позднее в книге «Только один год» Светлана рассказывала о том времени: «Я немного работала, делала исследовательскую работу по истории и русской филологии. Позже я делала переводы для издательства. Некоторые мои переводы опубликованы: «Мюнхенский сговор» Эндрю Ротштейна, «Человек и эволюция» Джона Льюиса. Я также работала для издательства Детской литературы в Москве, переводила с английского».
Беда в том, что работа не могла ее увлечь, заполнить важную часть ее жизни, спасти от одиночества. Светлана была права, когда писала о необычной проницательности своего отца. Сталин очень хорошо знал и понимал своих детей. В последние годы он был очень недоволен ими, часто ругал «дармоедами и тунеядцами», заставлял учиться — Василия в академии, Светлану — в аспирантуре Академии общественных наук. Он чувствовал, что после его смерти детям трудно будет жить так, как живут все обычные люди, и хотел, чтобы у них были хорошие специальности.
Так оно и случилось. После смерти отца Василий резко покатился под уклон и вскоре погиб. И Светлана оказалась мало приспособленной для жизни вне стен Кремля, хотя всегда к ней стремилась. В сущности, она жила на «отцовскую» пенсию, пользовалась казенной дачей и другими благами, хотя всегда мечтала сама зарабатывать на жизнь себе и детям.
Почему Василий и Светлана оказались такими нежизнеспособными и слабыми? Василий сломался быстро, а Светлана боролась, пыталась стать самой собой. Ее «безалаберная» жизнь и многие непредсказуемые поступки, может быть, объясняются желанием уйти от своего прошлого и начать все сначала.
Часть V СКИТАНИЯ
Заморский гость
Светлане исполнилось 35 лет, когда она вдруг ощутила полную бессмысленность своего существования. Как будто волна жизни, плескавшейся и шумевшей вокруг, вдруг вынесла ее на пустой берег. Время, приносившее новые впечатления, сгустилось, и она застыла в нем, как в янтарной смоле. Это был душевный кризис, с которым она не знала, как справиться. Все предыдущие годы прошли как бы на полном обеспечении молодости, сменяющих друг друга инфантильных чувствований, в которых так много обаяния. Тупик, полная пустота впереди.
Дети подрастали. Друзья имелись, но между ними и ею выросла прозрачная стена. Зима 1962 года длилась и длилась, казалось, ей не будет конца. Изнутри Светлану сжигала мысль о бесцветности прожитых лет, чересчур перегруженных внешними событиями, за которыми не успевали ни ум, ни сердце.
Она часто открывала окно, чтобы охладить разгоряченную голову, и ей начинало казаться, что эта мерзлая земля настойчиво зовет ее к себе. Мысль о самоубийстве теперь оплетала буквально каждый ее шаг. Она казалась Светлане естественной и даже оправданной — ведь мать ее тоже покончила с собой, а наследственность кое-что значит…
Но вот наступила весна — стремительная, ветреная. Еще снег сиял последней, слепящей глаза белизной, а в разрывы облаков ударяло горячее солнце. Небо то здесь, то там растворяло синие окна, как будто разговаривало с ней на знакомом, но уже забытом языке. Паводок еще не начался, но что-то мрачное, тяжелое бурная весна вымывала из ее души, чтобы унести в реку.
Весной в Казани умер брат Светланы Василий. Немногие знали о том, что она даже не поехала на его похороны. Позже Светлана не только уверяла, что была на них, но даже оставила картину этих похорон. Смерть брата не слишком тронула ее, тем более что в те времена она была слишком озабочена своим собственным состоянием.
По совету коллеги и товарища Светлана стала ходить в церковь. Не то чтобы она вдруг уверовала в Бога, но ей необходимо было за что-то ухватиться — за книгу псалмов Давида, за трогательное пение на клиросе «Ныне отпущаеши…».
Она окрестилась, стала бывать на исповеди. Прошел год. Однажды священник, с которым у Светланы возник душевный контакт, расспросив ее, как обычно, о детях, о работе, вдруг строгим голосом задал вопрос:
— Ты сейчас одна? Есть кто-то около тебя?
Светлана растерянно мотнула головой.
— Не спеши, — продолжал батюшка несколько смягчившимся тоном, — ты все спешишь, и от этого все твои беды… Вот подожди, скоро явится князь заморский… — и усмехнулся куда-то в сторону.
В октябре 1963 года Светлана легла в загородную правительственную больницу в Кунцеве, чтобы удалить миндалины. Она лежала в отдельной палате, выходила только в столовую и библиотеку, старалась не привлекать к себе внимания. Отделавшись от процедур, забиралась с книгой в кровать и часами читала стихи.
Выбор книги, которую она читала — это был Рабиндранат Тагор, — возможно, и подтолкнул ее к знакомству с «заморским князем».
Почему она обратила внимание на этого седого, сутулого очкарика со смешными тампонами в носу — ему только недавно удалили полипы, — в блеклой больничной пижаме?.. Проходя мимо него по коридору, она слышала, как он с кем-то беседовал то по-английски, то по-французски. Но это не могло ее удивить: иностранцев в больнице было много — из Италии, Индонезии, Индии… Ей сказали, что он — индиец. В этот период своей жизни Светлана очень интересовалась Индией, читала «Махабхарату», Веды, книги о Махатме Ганди и Неру. И ей захотелось поговорить с индийцем о том, что она прочитала.
Светлана собиралась задать ему несколько вопросов и распрощаться, но они проговорили в больничном коридоре больше часа, не замечая устремленных на них глаз.
Его звали Сингх Браджеш. Сын богатого раджи, он учился в Лондоне, где сделался коммунистом, желая послужить идеалу человеческого братства. Потом долго жил в Германии, Франции, Австрии. Со своей первой женой, индуской, он давно жил отдельно, это был традиционный брак, заключенный родителями молодых, без любви. В 1940 году Сингх вывез из Вены, куда вступили немцы, еврейскую девушку, чтобы спасти ее от нацистов. Они прожили в Индии 16 лет, после чего жена с сыном уехали в Англию, а сам Сингх не сумел тогда там найти работу. Зарабатывал он переводами. В Москве оказался случайно — каждая компартия ежегодно получает определенное число приглашений из Москвы для лечения и отдыха. Ему предложили поехать в Советский Союз, и он согласился…
Разговаривая с Сингхом, Светлана была уверена, что ему известно, кто она такая. Медперсонал уже успел растрезвонить больным, что вместе с ними лечится дочка Сталина. Светлана то и дело ловила на себе любопытные взгляды. Иногда некоторые люди, воровато оглядевшись по сторонам, пожимали ей руку со словами: «Ваш отец — великий человек!» Более смелые просили ее сфотографироваться на память. Другие упрекали ее за то, что она взяла фамилию матери…
Но из разговоров с Сингхом она сделала вывод, что ему ничего не известно о ее происхождении. На второй день знакомства он поинтересовался:
— Как вы считаете, сильно изменилась жизнь в Советском Союзе после смерти Сталина?
Светлана уклончиво ответила:
— Нет, я думаю, не слишком уж сильно… Перемены, конечно, есть, но они не носят фундаментальный характер.
Они говорили по-английски. До этого у Светланы не было случая попрактиковаться в английском языке, но, получив эту возможность, она почувствовала, как ожил в ней мертвый запас английских слов.
Сингх поднял брови.
— Вот как? А мне говорили — изменения есть и они довольно глубоки…
И тут Светлана наконец-то представилась.
Сингх посмотрел на нее поверх своих толстых очков и только произнес: «О!» Больше они на эту тему никогда не говорили.
Что поразило ее в этом немолодом человеке, иностранце, похожем не на индийца, а на итальянца или на еврея? Почему она, такая по натуре осторожная, замкнутая, испытала к нему полное, абсолютное доверие? Такого Светлана не испытывала ни к одному из своих избранников… Отчего разговаривать с ним ей было так легко, точно он знал ее с самого раннего детства?
Люди, с которыми она до сих пор имела дело, были всегда насторожены, как будто страх въелся в поры их кожи и влился в их кровь. Они боялись произнести необдуманное слово, пошутить, как будто постоянно видели неподалеку от себя канувшую в небытие фигуру топтуна или доносчика.
Сингх был великолепно спокоен, раскован, миролюбив, ровен. С его лица не сходила мягкая улыбка. Светлана физически чувствовала, как от этой улыбки у нее в душе тает напряжение, распускаются мускулы лица, постоянно стянутого маской. Хотя на них все время косились отдыхающие кондовые партийцы, изгнанные со своих теплых мест во время хрущевской «оттепели».
Сингх и Светлана не понижали голос, беседуя, — ведь они говорили на языке, который вряд ли мог быть известен невежественным функционерам. Они хохотали во весь голос. Они вели себя настолько непринужденно, что со стороны — в чопорном и заморозившем людей отечестве — это казалось неприличным. И после того как Браджеша и Светлану врачи отправили на юг в один из домов отдыха Сочи, злобное наблюдение за ними усилилось.
К ней начали подходить и прямо говорить: «Зачем вам этот индус?» Ей советовали держаться ближе к «своим». Давали понять, что все иностранцы — шпионы. Ее осуждали за то, что она пьет чай в компании индийцев. К Светлане в комнату подселили соседку, хотя она очень просила оставить ее одну. Вероятно, это явилось следствием доноса о ее «недопустимом» поведении в Москве. Но эти мелочи не могли нарушить давно забытого ощущения блаженного покоя в ее душе.
В ноябре в Сочи тепло, повсюду благоухают розы. Закаты над морем полны такой невыразимой прелести, как будто их создает фантазия великих поэтов. Ночью россыпи звезд освещают дорожки между цветущими клумбами, и со всех сторон звучит незатейливая музыка цикад.
Что из того, что, когда они вдвоем входят в номер, тут же является проинструктированная прислуга — поменять простыни среди белого дня или фрукты в хрустальной вазе? Что из того, что столик «для иностранцев», за которым они вместе пьют чай, вдруг переносят в отдельную комнату? Все это смехотворные уколы официоза, которые не могут нарушить ощущения стойкого счастья и тепла.
Сингх и Светлана часто ходят в небольшой приморский ресторанчик. Днем там обычно никого не бывает. Сингх просит накрыть им столик на балконе. Они сидят, смотрят часами на море, потягивая легкое красное вино. Заказывают что-нибудь из «даров моря» или шашлык под острым соусом, — Сингх говорит, что ему и в Европе не приходилось есть что-то более изысканное…
После ресторана они отправляются на рынок, Сингху нравится справляться о ценах на виноград, персики, груши. Прогуливаясь меж торговых рядов, он поражается изобилию этого края.
Иногда заходят в православный храм. Индиец поражен красотой и душевностью службы.
Время от времени Сингха отрывают от Светланы, чуть ли не принуждая присутствовать на каком-нибудь запланированном мероприятии. Из вежливости он не может отказаться. То его с группой других индийских товарищей отправляют в чайный совхоз, где они вынуждены слушать доклад о развитии чайного дела в районе, то привозят в образцово-показательный детский сад, где детишки повязывают иностранным гостям пионерские галстуки. Сингх переносит все это с несокрушимым спокойствием и добродушием.
В начале декабря они вернулись в Москву. Сингху пора было ехать в Индию, но он решил, что в скором времени обязательно возвратится в Москву, устроится здесь работать переводчиком в издательстве. Они со Светланой уже не представляли, что могут жить друг без друга.
Перед отъездом из Москвы Сингх часто заходил к Светлане домой. Между ним и ее детьми установилось полное взаимопонимание, что особенно радовало Светлану. Однажды он вдруг посреди разговора прикрыл глаза рукою и произнес:
— Света, а вдруг я больше никогда не увижу вас?
Эта мысль время от времени терзала и саму Светлану. Она знала, что Сингх неизлечимо болен. У него хронический бронхит. Холодный климат был ему противопоказан.
В ответ на его слова Светлана расплакалась, и Сингх тут же принялся утешать ее:
— Нет-нет. Все будет хорошо. Через несколько месяцев я буду рядом с вами!
Но на деле все оказалось не так просто, как полагал индиец.
Советские аппаратчики изо всех сил тянули с официальным приглашением переводчика-иностранца. Браджеш не мог понять, в чем дело, писал Светлане взволнованные письма.
Зато она отлично все понимала. Для властей Светлана была не простой советской гражданкой, а дочерью Сталина, поэтому каждый ее шаг рассматривался в свете возможной «провокации» со стороны иностранцев. Светлана поняла, что для того, чтобы ускорить приезд любимого человека, ей необходимо заручиться прямым согласием «верхов».
С этой целью однажды летом она отправилась к Микояну.
С Анастасом Ивановичем у нее всегда были самые добрые отношения. Да и изо всех «кремлевских жен» Светлана наибольшую симпатию испытывала к его супруге — тихой, скромной, гостеприимной Ашхен, у которой всегда проживало множество родственников из Армении.
Микоян отнесся к ее рассказу об индийском коммунисте довольно сочувственно. Но сказал, что, для того чтобы помочь ему с приглашением, необходимо переговорить с главой государства, с Хрущевым. Эти переговоры Анастас Иванович взял на себя. О том, как они проходили, вспоминает в своих мемуарах сам Никита Сергеевич.
«Позднее Микоян рассказал мне, что Светланка приходила к нему за советом. Она хотела выйти замуж за индийского журналиста. Она сказала Микояну, что любит этого человека. Он был старше ее, но она знала его в течение длительного времени, и он был порядочным человеком, коммунистом. Микоян сказал: «Она просила меня выяснить, как ты к этому отнесешься». Я был удивлен, что она спрашивает моего мнения. С моей точки зрения, это было ее личное дело. Я так и сказал Микояну: «Если она считает его достойным человеком, пусть выходит за него замуж. Что бы она ни решила, не будем вмешиваться. Тот факт, что он не является гражданином Советского Союза, не должен быть препятствием, если она действительно его любит». И она вышла за него замуж. Я был доволен. Я просто хотел, чтобы она смогла устроить свою личную жизнь».
…В октябре 1964 года, как известно, произошел «дворцовый переворот». Не кто иной, как Микоян, в те времена Председатель Президиума Верховного Совета СССР, был вынужден подписать указ об освобождении Н. С. Хрущева от обязанностей Председателя Совета Министров СССР. Первым секретарем ЦК КПСС стал А. И. Брежнев, а главой Советского правительства — А. Н. Косыгин. К власти пришли партийные консерваторы во главе с М. А. Сусловым.
И все же свое обещание относительно Браджеша Сингха Микоян выполнил. Не без его участия вожделенное приглашение было получено Сингхом, и в апреле 1965 года он снова приехал в Москву.
Сын Светланы Иосиф, который вместе с матерью встречал индийца в аэропорту, увидев, как их обоих обрадовала эта встреча, сказал ей:
— Чего уж, мама, привози его сразу к нам, все равно рано или поздно этим кончится!
Сингх же, услышав это великодушное предложение, слегка запротестовал:
— Подумайте, пока не поздно! Я болен, вряд ли проживу долго и не хочу стать для вас обузой… Я еще не подписал контракта, я могу поехать к друзьям в Югославию и работать там…
Но Светлана решительно проговорила:
— Глупости. Едемте к нам. Едемте домой!
Для Светланы наконец-то наступила пора полного и безмятежного покоя. Возможно, этот иностранец и был тем единственным человеком, с которым она могла бы прожить всю свою жизнь. Во-первых, он был намного старше нее, знал жизнь, научился понимать людей и относиться к ним терпеливо и со снисхождением к их слабостям. Во-вторых, он был воспитан в совершенно иных традициях, и, может, благородство его поступков основывалось прежде всего на другой жизненной философии.
Они решили пожениться. Навели справки о том, как это сделать. Выяснили, что в Москве есть только единственный загс, где регистрируются браки с иностранцами.
На следующий день после посещения этого Загса Светлане вдруг позвонили из приемной премьер-министра и пригласили ее на прием к А. Н. Косыгину. Она насторожилась. Светлана надеялась, что за годы хрущевской «оттепели» о ней забыли, что ей будет позволено жить как частному лицу. Но она поняла, что ошибалась… Содержание беседы с Косыгиным Светлана Аллилуева приводит в своих воспоминаниях:
«Я ждала в приемной. Уже здесь у меня сжалось сердце от тяжелого предчувствия. Опять эти унылые стены в деревянных панелях, хорошо знакомые мне, эти стандартные казенные ковры, которыми устланы все коридоры в Кремле. Эти зеленые суконные скатерти на пустых столах…
Почему я опять здесь? Зачем? Как тоскливо это ожидание! Каким холодом веет от этих стен, от этих старых сводчатых потолков! Постукивают стрелки электрических часов на стене — такие же часы были в каждой комнате нашей казенной квартиры там, внизу, и так же постукивали. Как я отвыкла от унылых кремлевских интерьеров за эти годы обычной жизни…
Косыгина я никогда не видела прежде и не говорила с ним. Его лицо не внушает оптимизма. Он встал, подал мне вялую, важную руку и немного скривил рот вместо улыбки. Ему трудно было начать, а я вообще не представляла себе, как этот человек говорит.
— Ну, как вы живете? — наконец мучительно начал он. — Как у вас — материально?
— Спасибо, у меня все есть, — сказала я. — Все хорошо.
— Вы работаете?
— Нет, сейчас я дома: дети, семья. Иногда делаю переводы, но редко.
— Почему вы ушли с работы, где были раньше?
— Я ушла по состоянию здоровья, и некому было помочь дома с детьми. Я считала, что для меня дом и дети важнее, у нас ведь есть пенсия…
— Я понимаю, вам было ч то время трудно в коллективе. Это понятно. Но мы не собираемся продолжать гнилую линию Хрущева в этом вопросе! Мы собираемся принять кое-какие решения. И вам нужно снова войти в коллектив, занять должное место в коллективе. Мы вам поможем, если что…
— Да нет, я не потому ушла. Ко мне всегда очень хорошо относились, — начала было я, но вдруг мне стало так скучно что-то говорить или доказывать. Значит, он считает, что меня «угнетали» после Двадцатого съезда. Бесполезно объяснять ему, что мне последние годы стало жить легче, чем раньше.
— Нет, ко мне все очень хорошо относились, — повторила я, — сейчас я не работаю только оттого, что много дел дома и мой муж очень больной человек.
При слове «муж» премьера будто ударило током, и он вдруг заговорил легко и свободно, с естественным негодованием:
— Что вы надумали? Вы, молодая, здоровая женщина, спортсменка, неужели вы не могли найти себе здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно против!
Я сначала оторопела и не могла не только отвечать, но даже связно думать. Все против. Кто — все — против?
— Позвольте, но как же, — начала я, — что значит «против»? Ведь я знаю, что это не вызвало никаких возражений… (Господи, я же забыла, что премьер у нас теперь другой и «линия» другая…)
Больной человек приехал сюда работать ради меня. Что ж, ему ехать обратно? — сказала я, желая сейчас лишь предусмотреть все неожиданности.
— Ну нет, это было бы нетактично, — молвил премьер. — Но мы вам не советуем регистрировать этот брак. Не советуем. И не разрешим. Ведь он тогда по закону может увезти вас в Индию? А это нищая, отсталая страна, я был там, видел. И потом — индусы плохо относятся к женщинам. Увезет вас и там бросит. У нас много таких случаев, уезжают, а потом просятся обратно…
Что-то начало постепенно поворачиваться у меня внутри.
— Мы, во-первых, не собираемся уезжать в Индию, — начала я, приходя в себя и начиная трезво соображать. — Он приехал работать здесь, в Москве. Но мы, конечно, хотели бы съездить, посмотреть Индию и другие страны.
Но премьеру было не до этих деталей. Он желал внушить мне свое:
— Оставьте вы это. Вам нужно работать, в коллектив возвращаться. Никто его не тронет, пусть работает, условия хорошие. Но вам это ни к чему.
— Теперь поздно, — сказала я резко. — Человек приехал, он живет у нас и будет жить с нами. Я его не оставлю. Он болен и приехал только ради меня. Это на моей ответственности.
— Ну, как знаете, — сказал премьер сухо. — Живите, как хотите. Но брак ваш регистрировать мы не дадим!»
Когда Светлана, вернувшись домой, пересказала содержание своей беседы с Косыгиным Сингху, он был возмущен до глубины души. Кое-что зная о жизни в СССР понаслышке, он и представить себе не мог, что в этой стране человеческая личность ничего не значит.
Ему, правда, уже приходилось изумляться, сталкиваясь с непонятными иностранцу вещами, которые советским людям казались самыми обычными, сами собой разумеющимися.
Например, он не мог скрыть удивления, когда узнал, что Светлана никогда не была за границей. «Как же так можно жить, в изоляции от целого мира, — восклицал он, — как можно всю жизнь прожить в одном городе, никуда не выезжая!»
Еще больше его потряс прошедший в сентябре 1965 года процесс против писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. Узнав о приговоре, он побледнел от негодования:
— Как! Семь лет тюрьмы за книги?! За то, что писатель пишет книги?!
Светлане приходилось просвещать индуса относительно порядков в Советском Союзе. Она рассказала ему, что существует огромный пласт литературы, не публикуемой из-за цензуры, написанной «в стол», до востребования грядущих времен. Она не скрыла от Сингха, что и сама имеет честь принадлежать к подпольным литераторам, ибо у нее хранилась рукопись «Двадцати писем к другу», написанная ею по совету одного близкого приятеля из Ленинграда. Литературовед, перепечатавший рукопись, оставил себе один экземпляр и давал читать его друзьям, не спрашивая разрешения у автора.
Узнав о существовании рукописи, Сингх посоветовал Светлане переправить ее в Индию через его давнего друга, посла Кауля, что и было сделано.
Нелегко пришлось индийцу в Советском Союзе. В издательстве «Прогресс», где он переводил английские тексты на хинди, высказывали недовольство его работой. А Сингх очень боялся ее потерять. Ведь работа была единственным формальным основанием его пребывания в Москве, раз уж зарегистрировать брак со Светланой ему не удалось.
Все эти переживания привели к тому, что состояние его здоровья стало ухудшаться. Ему периодически приходилось ложиться в кунцевскую больницу. Но Светлане казалось, что лечат его неправильно, перегружают лекарствами, от чего у Сингха случались приступы сердечной слабости и астматической одышки, которые снять можно было только уколом.
Светлана не могла не понимать, что дни его сочтены. И она ничем не может помочь любимому человеку. В отчаянии Аллилуева написала письмо Брежневу с просьбой отпустить их с Сингхом в Индию.
Но и новое обращение к властям не увенчалось успехом.
Светлану снова пригласили на Старую площадь. На этот раз у нее состоялся разговор с М. А. Сусловым. Он сразу же сказал ей, что, будь жив ее отец, он бы никогда не дал согласия на брак дочери с иностранцем.
— Но теперь-то это разрешено всем, — возразила Светлана.
Суслов окинул ее ледяным взглядом:
— Мы не выпустим вас за границу. А ваш муж… муж — пусть он уезжает, если хочет.
— Он не может уехать один! — чуть не выкрикнула Светлана. — Он нуждается в уходе. Он, может быть, скоро умрет…
— Умрет так умрет, — равнодушно бросил Суслов. — Он больной человек. А вам уехать нельзя. Представьте себе, там на вас сразу набросятся корреспонденты… Возможны всякие провокации! Вы даже не представляете, насколько это для вас опасно. Нет, вас мы не выпустим…
После этого разговора Сингх прожил еще неделю… 30 октября он сказал Светлане:
— Света, это мой последний день. Я знаю, что умру сегодня…
Всю ночь его мучили приступы удушья, а под утро он сказал Светлане, что чувствует себя лучше.
— Только здесь что-то трепещет… — он показал на сердце. — А теперь выше… — и откинулся на подушку.
Он умер на рассвете, как, говорят, умирают индийские праведники, — тихо и спокойно.
Индия. Последняя капля
«В случае моей смерти пусть тело кремируют, а прах бросят в реку. Религиозная церемония не нужна» — так написал Сингх в своей записной книжке, и Светлана за три года до его смерти прочитала эту запись. «Какую реку ты имеешь в виду, Ганг?» — спросила его тогда Светлана. Улыбнувшись, Сингх заметил, что все реки впадают в один океан; впрочем, конечно, ему хотелось бы, чтобы это был Ганг.
Теперь Светлана хотела во что бы то ни стало выполнить волю покойного. И с этого момента начинает звучать в ее жизни тема, которая в дальнейшем получит мощное развитие, — тема скитания.
Когда-то в детстве, в ранней юности она много путешествовала, меняла места жительства: то ее перевозили с дачи в Кремль, то с дачи на дачу, то из Москвы на юг, в Куйбышев. Но тогда Светлана была пассивной фигурой, совершавшей перемещения в пространстве согласно чужой, довлеющей над ней воле: решению матери, указке отца, силою сложившихся обстоятельств.
Отныне ее собственная воля сосредоточена на вечной теме побега человека от самого себя или, если хотите, отказа от самого себя. Этот мир — майя, радужная пленка действительности. Прийти к себе истинной можно, только отказавшись от мнимой реальности.
Она обращается к Косыгину, который на этот раз очень быстро, даже как-то виновато дает ей разрешение ехать в Индию, чтобы она смогла развеять прах мужа над Гангом.
1 ноября 1966 года Браджеша Сингха кремировали, а уже 11-го Светлана получила на руки паспорт с индийской визой сроком на один месяц. 28 ноября она вылетела в Дели к племяннику Сингха Динешу Сингху, который прислал ей приглашение погостить у него в столице и в Калаканкаре, где родился и жил и Бранджеш. С этого момента начинается долгий период ее скитаний.
Н. С. Хрущев в невозвращении Светланы Аллилуевой в Советский Союз обвиняет работников посольства, посла И. А. Бенедиктова, поверенного в делах Н. И. Смирнова и второго секретаря посольства Сурова. Это они своей навязчивой опекой спровоцировали бурю протеста Светланы и подтолкнули ее к решению раз и навсегда освободиться от зависимости государственных структур. Они попытались сократить срок пребывания в Индии, приставили к ней некую Кассиорову, которая должна была повсюду сопровождать Светлану и следить за каждым ее шагом. Они старались опорочить в ее глазах бывшего посла Кауля (которому Светлана передала свою книгу «Двадцать писем к другу»). Они не хотели отпустить ее в Калаканкар. Надо сказать, от этой поездки ее отговаривал и Динеш, и его жена Наггу, обещая обеспечить Светлане интересное времяпрепровождение в Дели.
Динешу она впервые и выразила свое желание не возвращаться на родину, тогда еще необдуманное, импульсивное. Когда он сказал ей, что собирается на встречу с Индирой Ганди, Светлана вдруг заявила:
— Динеш, скажи ей, что я хотела бы остаться в Индии. Возможно ли это?
Осторожный Динеш ответил, что об этом он переговорит с Индирой позже, когда приедет в Калаканкар для выборов, а Индира Ганди в то же время будет в соседнем округе. На том и порешили.
С урной, в которой был прах ее мужа, Светлана улетела за 600 миль от Дели в деревенскую глушь, куда раньше ее пребыла Наггу с шестью дочерьми и где жил Суреш, брат Браджеша, со своей женой Пракаш. Она поселилась в огромном доме-крепости — радж-бхаване — с толстыми каменными стенами и плоской крышей, с которой можно было смотреть на Ганг, с большой террасой, также выходившей на реку. Дом этот построил в конце прошлого века раджа Рампал Сингх. Во время разлива вода заливала подвальное помещение и доходила до края террасы. Дом был обставлен на европейский манер, в нем имелась огромная библиотека. Теперь дом принадлежал Динешу. Во дворе стоял огромного роста пенджабец. Он с длинным деревянным копьем осуществлял охрану, отпирал и запирал на засов калитку. Правда, эта мера предосторожности была излишней: деревенские жители к воротам этого аристократического дома не подходили, зная свое место.
Зато дом, где проживал Суреш, брат Браджеша, и его жена Пракаш, никто не охранял. Он походил на современную виллу, увитую цветущими растениями, правда пришедшую в упадок. Большая половина дома превращена была в склады. Суреш жил здесь безвыездно, занимаясь тем, что писал юмористические рассказы и книги об индийских птицах и растениях. С племянником своим Динешем у них были довольно напряженные отношения из-за какой-то имущественной тяжбы.
Дело в том, что в индийской семье титул раджи, дом, имущество и общественное положение наследует всегда только старший сын. Динеш был раджа; в Калаканкаре, своем избирательном округе, он правил, как царек. К тому же он являлся главой семейного треста, финансирующего здесь два колледжа, клинику, храм, школу. По сравнению с ним оба его дяди были совершенно бесправны, хотя и Браджеш, и Суреш всегда пользовались в этих краях уважением. У них также была сестра Даду, когда-то нарушившая законы касты, выйдя замуж по любви. Долгие годы ей запрещали переступать порог родного дома, и лишь недавно запрет был снят.
Через несколько дней после приезда Светлане удалось избавиться от Кассиоровой, отправив ее в Дели с письмом к послу, в котором она объявила о своем намерении задержаться в Калаканкаре.
«Я осталась в деревне и начала погружаться в индийскую жизнь, как в теплую, ароматную ванну, наслаждаясь ею каждую минуту. Жизнь в Калаканкаре была во всех отношениях иной, непохожей на мою прежнюю, а это сейчас мне было необходимо, как воздух. Я устала от напряжения последних дней в Дели, последних месяцев в Москве, последних трех лет и от всех сорока лет моей ненормальной двойственной жизни. Я чувствовала, что внутренне подошла к какому-то пределу, за которым может произойти глубокий внутренний перелом.
Я не могла еще найти для себя ясные и четкие решения. У меня было только желание жить иначе. Я не знала, возможно ли будет остаться в Индии, хотя надеялась на это, не отдавая себе отчета — как я стала бы жить здесь. Я ждала приезда Динеша и возможной встречи с Индирой Ганди, которую ожидали здесь, в деревне к середине января. Часами я сидела, глядя на Ганг, чувствуя только одно — как. мне необходим этот покой и свежий ветерок от реки» («Только один год»).
16 января 1967 года в Калаканкар должна была приехать Индира Ганди. Светлану не покидала мысль остаться здесь, в Индии, и Пракаш, которая знала премьер-министра, обещала переговорить с ней.
В день приезда Индиры вся деревня явилась на митинг возле здания колледжа. Вскоре подкатил лимузин, из которого вышла женщина в сари, устремив внимательный взгляд на Светлану, о которой ей уже рассказывали. Собственно, Светлана была немного знакома с этой женщиной, когда та еще не была премьер-министром: в 1965 году посол Кауль представил ее Индире Ганди в Москве.
«У нее было умное, вдохновенное лицо, острый взгляд. Она долго и горячо говорила на хинди, должно быть, что-то прогрессивное и вселяющее надежды. Кто же иначе говорит накануне выборов? Сидевшая перед ней аудитория не очень внимательно слушала, а скорее разглядывала ее». Как ни хотелось Светлане, чтобы Индира Ганди понравилась ей, в этот момент ею овладела ирония. Ей было смешно слушать Наггу, жену Динеша, «эту махарани с бриллиантом в ноздре, для которой не существует жизни за пределами касты», о том, какая замечательная вещь — социализм. Уж она-то, Светлана, знала все преимущества этого строя, о котором горячо толковала сейчас Индира Ганди.
После окончания митинга все направились в радж-бхаван, где был накрыт обед в гостиной. Отдавая дань вежливости, Индира спросила иностранку, как ей понравился Калаканкар. Светлана ответила, что ей здесь очень нравится и хотелось бы погостить как можно подольше. Инициативу разговора в дальнейшем взяла на себя Пракаш, которая подсела на диван к Индире и о чем-то заговорила с ней. Та искоса поглядывала на Светлану.
Но миссия Пракаш, увы, не увенчалась успехом. Индира сказала ей, что она смогла бы помочь Светлане, если та сумеет задержаться здесь до весны. Весной ее снова выберут премьером, и тогда они с Динешем подумают, что можно сделать для Светланы. Но Пракаш не скрыла от Светланы, что Динеш не хочет, чтобы она осталась здесь, они с Наггу просто мечтают, чтобы она поскорее уехала. Зато сама Пракаш и ее муж были в восторге от идеи Светланы и предлагали ей перебраться к ним в дом.
В свете своего возможного невозвращения на родину Светлана все чаще думала о своей рукописи, рассчитывая сначала через друзей издать ее во Франции, а потом — в Америке. «Двадцать писем к другу» Динеш, когда в очередной раз наведывался в Дели, забрал у посла Кауля. Динешу было интересно узнать содержание рукописи. Осторожная Светлана ответила, что в ней нет никаких политических «открытий и секретов», что она посвящена истории семьи.
— А в Советском Союзе знают о существовании этой книги? — спросил Динеш, подразумевая, конечно, официальные круги.
Светлана отвечала отрицательно. Кауль никому не говорил о рукописи, а она — тем более.
— Вы, вероятно, рассчитываете издать ее в Америке? — продолжал расспрашивать Динеш. — Я бы вам не советовал это делать. Конечно, за вашу книгу там ухватятся, сделают по ней фильм… Но вам-то зачем вся эта шумиха вокруг вашего имени?
Светлана поспешила заверить его, что ей это действительно ни к чему. Нет, она не собирается прибегнуть к американской помощи.
— Да-да, — поддержал Динеш, — для вас не годится этот путь.
Светлана сказала, что хочет пока лишь одного — чтобы ей продлили срок пребывания в Индии.
Динеш выразил надежду на то, что ей, скорее всего, разрешат.
После этого разговора в Калаканкар приехал второй секретарь посольства Суров. Москва отклонила просьбу Светланы. «В связи с тем, что цель визита осуществлена, дальнейшее пребывание в Индии нецелесообразно» — таков был ответ Москвы. Индийская виза была просрочена Светланой на целый месяц; МИД Индии продлил ее до 15 марта.
Светлана вылетела в Дели.
«По мере того, как возвращение домой становилось ощутимой реальностью, мне все сильнее хотелось увидеть детей. Два с половиной месяца — так надолго мы еще никогда не разлучались! Но одновременно с этим все страшнее было думать, что я вернусь к своей прежней жизни и все снова будет так, как было. Эти противоположные чувства нарастали одновременно с одинаковой силой, и я чувствовала себя разодранной надвое и какой-то парализованной, но никто не мог бы догадаться, на каком напряжении держалось это мнимое спокойствие. Я чувствовала, что все силы собраны и напряжены, как перед прыжком, и нужен только маленький толчок, последняя капля, которая вдруг перевесит и все решит…
Этой «последней каплей» оказалась встреча с советским посольством в Дели — с советским миром, от которого я уже успела отвыкнуть».
В аэропорту Светлану встречал Динеш, который уже давно мечтал избавиться от своей гостьи. Он не мог скрыть своей радости, что близится день ее отъезда из Индии. Динеш поспешил заверить Светлану, что устроит ей на будущий год приглашение в Индию, и не одной, а вместе с детьми. Он предложил ей последние дни до возвращения на родину провести в его доме, но Светлане хотелось побыть одной — в каком-то «нейтральном» месте, где никто не станет ее трогать.
Светлана решила — пусть никто как можно дольше ни о чем не догадывается. Она должна была прислушаться к самой себе, своему внутреннему голосу. Тем не менее два дня она пробыла у Динеша, встречаясь с Каулем, а утром третьего дня за Светланой приехал Суров, чтобы отвезти ее в посольскую гостиницу.
«Едва я только села в машину к Сурову и мы заговорили по-русски, как меня охватила мрачная скука. Вот опять гостиница, и все та же сестра-хозяйка с украинским говором, которую я видела здесь в декабре. Там она передала меня в руки другой такой же пухлой украинки. В столовой суетились, готовясь к вечеру по поводу Международного женского дня, о чем оповещала висевшая здесь афиша. Доклад. Художественная часть. Советская колония живет здесь своей жизнью, отделенной от Индии непроходимым барьером.
Я совсем отвыкла от этой жизни. До чего унылая эта столовая, и клуб, и этот вечный «международный женский день» — один из поводов напиться! Все напьются вечером, ведь умирают со скуки, варятся в собственном соку».
С нескрываемым отвращением пишет Светлана о том, как на нее пахнуло «родимым домом». Картины вызывают в ней чувство тошноты, протест, бешенство, которое она едва может скрыть. Все так противно, рутинно, засижено мухами… Жены и дети посольских работников на скамейках, и те и другие надменные, преисполненные чувством собственного достоинства. Все толстые, разъевшиеся. У всех лица, отвыкшие от улыбки, с уродливой мимикой, которую можно подметить у советских чиновников и их близких. Единственное их отличие от чиновников на родине — дорогая одежда. Ради этого они и стремятся за границу, мечтают о том, как бы побольше накупить шмоток, чтобы потом можно было перепродавать их в Советском Союзе на черном рынке. И при этом все они ругают капитализм! Еще бы! Социализм для них необходим как воздух, при этом замечательном строе такие типы — бездарные, лицемерные, наглые — и процветают! Партия для них — мать родная, хотя они шепотом, друг другу на ушко не стесняются, поливая грязью эту самую партию!..
«Мне становилось все мрачнее. В тягостном унынии я отправилась на ленч к послу, куда был приглашен и Суров с женой. Ленч был у посла Бенедиктова дома. Официальная дорогая безвкусица, всюду ковры, плохие картины в золоченых рамах. Все роскошное, блестящее, но не на чем остановить глаз. Такая же роскошная и тяжеловесная мадам Бенедиктова с официальной улыбкой. А вот и высокий, огромный Иван Александрович Бенедиктов, с неподвижным, как монумент, лицом…»
Светлана чувствует, что все они безмерно рады тому, что беспокойная гостья наконец собирается уехать. Потому все с ней чрезмерно, слащаво любезны, наперебой стараются ее накормить, напоить… Стол ломится от яств, а она еле сдерживает отвращение, которое переносится и на закуску, — она уже привыкла к скромной, но вкусной индийской пище, к крепкому гималайскому чаю и отвыкла от мяса, которого не было в деревне.
Светлана отказывается от всех традиционных русских яств под водочку, которую вообще ненавидит из-за своего брата-алкоголика. Бенедиктов выказывает раздражение.
— Ну, вы не очень-то поддавайтесь здешним привычкам! — с негодованием говорит он.
Супруга его также норовит изобразить перед Светланой гастрономический патриотизм.
— Мы не можем отвыкнуть от нашей, русской пищи!
«Наша, русская» — в их понимании это означает нажраться до отвала, проносится в голове у Светланы. Ее хотят накормить, приблизить «к русскому», удивляясь тому, какая она худенькая… Она и в самом деле похудела в Калаканкаре.
Ее настойчиво приглашают в клуб вечером. Супруга Сурова намерена сделать доклад о Международном женском дне, после которого будет концерт. Здесь отличная самодеятельность, говорят ей.
«Доклад! Самодеятельность!» Да неужели нельзя жить без всех этих коллективных фальшивых чувств?
Как она отвыкла от всего этого — и как быстро… Два с половиной месяца была сама собою, дышала вольно, и люди вокруг не были частями механизма… Они были нищими, голодными, имели тысячи своих забот, но каждый мог свободно говорить то, что он думает, свободен выбирать…
«Индия раскрепостила и освободила что-то внутри меня. Здесь я перестала чувствовать себя частицей «государственной собственности», которой была в СССР всю жизнь. И хотя я вполне трезво понимала, что для индийского правительства я была такой же «собственностью», — в этом у меня не было никаких иллюзий, — но внутренне я уже непоправимо освободилась от этого вечного рабства».
И буквально все подталкивает ее поскорее принять решение…
Бенедиктову хотелось показать себя радушным хозяином, но он не может найти нужную интонацию, необходимые слова, и разговор не клеится. Он напоминает, что Светлана ни в коем случае не должна чувствовать себя неудовлетворенной, ведь ей пошли на уступки, разрешив задержаться в Индии. В тоне его звучит что-то менторское. Светлана изо всех сил сдерживается, чтобы не обнаружить перед этим почтенным собранием свои истинные чувства. Ее еще раз настойчиво приглашают прийти вечером в клуб, но она, сославшись на приглашения Кауля, отказывается, берет свой паспорт и уходит в гостиницу.
«Если я лечу послезавтра в Москву, то надо отдохнуть, пойти вечером к Каулю, как условились, а завтра сделать последние покупки. Если нет… Если нет…
Я вдруг встала и начала перекладывать вещи из большого чемодана в тот, который поменьше. Не потащу же я с собой большой чемодан в посольство США…»
Заметим — это весьма символический жест в жизни Светланы Аллилуевой. Она еще не приняла окончательного решения — но руки опережают то, что сложилось в уме. Первый порыв почти всегда знаменует собою свершение. Тут ничего не поделаешь. У нее всегда в запасе есть время — месяц, неделя, день, но какая-то неведомая сила как будто подталкивает ее под руку: беги! беги! Ей бы помедлить, снова и снова перечитать письмо сына, которое она получила еще в Калаканкаре:
«Мамочка, милая, здравствуй! Получил твое письмо и телеграмму. Очень удивился тем, что ты не получила ту телеграмму, которую я послал тебе. Я думаю, она где-нибудь потерялась… У нас все прекрасно. Обеденную книжку мы получили по твоей доверенности, а в остальном все не так уж плохо, за исключением того, что Катя очень по тебе тоскует. Я тоже очень скучаю по тебе и очень хочу тебя видеть…
…Мы здесь живем так: во время Катиных каникул она ездила на дачу с Таней. А мы во время наших каникул предприняли вояж в Тбилиси… В общем все очень хорошо, за тем исключением, что мы очень скучаем по тебе. Очень нам без тебя плохо…»
Ей следовало бы вчитаться в эти строки — ведь это крик души…
И сейчас у Светланы в запасе ночь.
Ночь для размышлений, для окончательного взвешивания всех «за» и «против». На одной чаше весов — Родина, дети, друзья, родные, на другой — свобода. Разве не стоит подобный выбор того, чтобы над ним помучились еще одну ночь? Заказать крепкий кофе, выпить его в одиночестве, постоять у ночного окна — может, холодное стекло и далекое ночное небо отрезвят? Может, шаг, на который она решилась, все же не следует предпринимать? Или по крайней мере не делать его сейчас, а через год, как обещал Динеш, приехать с детьми, заранее сагитированными в пользу свободы, в Индию — и тогда?.. Но, увы, такая это горемычная душа — неизвестность манит ее, как бездна…
Взгляд Светланы падает на часы: три часа дня. День и ночь впереди, день и ночь полного одиночества. Но одиночество — это именно то, чего не переносит Светлана Аллилуева. При всех своих жалобах на сутолоку и суету, которые не дают ей возможности сосредоточиться, люди ей нужны как воздух — знакомые, незнакомые. Посольские — неподходящая компания, поищем другую…
Она быстро спустилась вниз и спросила у вахтера, как по телефону вызвать такси. Вахтер объяснил ей, и Светлана вернулась в комнату.
Тут она снова достала вещи из чемодана и положила на самое его дно папку с рукописью, которую вернул ей Кауль, думая о том, как завтра утром она вызовет такси… Большой чемодан она не возьмет с собой, чтобы дежурная по этажу не поняла, что птичка окончательно выпорхнула и клетка опустела… Светлана включила утюг, чтобы погладить зеленый индийский платок, подаренный ей Пракаш. А вот и еще один ее подарок — связанный Пракаш свитер для Кати. Его Светлана отложила в саквояж, гадая, передадут ли Кате этот свитер, если она… Передадут ли эти дутые браслеты, эти шитые золотом домашние тапочки для Оси?
И вдруг она подумала — а почему завтра? Лучше сегодня, когда стемнеет. Да, конечно, сегодня! Ведь до завтра она может раздумать, а сейчас полна решимости…
Было начало седьмого, когда Светлана вызвала такси. Она взяла в руки чемодан, подошла к воротам посольства, вздрагивая от света фар каждой машины, боясь, что ее заметят.
Подошло такси. Светлана села на заднее сиденье. Машина тронулась, свернула в боковой темный переулок. Осталось позади советское посольство. Вот и посольство Соединенных Штатов. Это было совсем близко. Другая жизнь — рукой подать…
Светлана выскочила из такси. Вошла в главный вход американского посольства, поднялась по широкой, ярко освещенной лестнице. Молодой американец, стоявший у столика, на котором были какие-то бумаги, увидев ее «серпастый и молоткастый» паспорт, что-то понял и быстро провел ее в маленькую комнату рядом с вестибюлем, сказав, что ей надо подождать.
Светлана села на предложенный ей стул и стала ждать.
Побег
«Стеклянная дверь американского посольства в Дели была для меня входом в западный мир, с которым я не встречалась до того», — вспоминала Светлана год спустя. Переступив его порог, она словно окунулась в поток, который понес ее плавно и быстро. Посол, второй секретарь и консул взяли на себя ответственность и, не дожидаясь разрешения из Вашингтона, помогли ей той же ночью вылететь в Рим.
Такая поспешность была вызвана только расписанием самолетов. У Светланы не хватило бы сил и терпения дожидаться следующего рейса. К тому же за это время все могло случиться. В посольстве ей мягко и деликатно напомнили, что вернуться она не сможет и мосты будут сожжены. Светлана отвечала, что все хорошо обдумала.
Вылет на Рим задерживался из-за неполадок в самолете. Сотрудники посольства с беспокойством оглядывались на дверь — не появится ли кто-нибудь из советского посольства? Но Светлана знала, что в родном посольстве сегодня вечеринка. Это значит, все здорово выпьют, завтра встанут с головной болью и будут долго приходить в себя.
— Вы совсем не волнуетесь? — с удивлением спросил секретарь.
— Нет! — отвечала Светлана, не в силах сдержать улыбку.
«Что это со мной? — удивилась она. — Еще сегодня утром мрак давил меня, как камень. Посол Бенедиктов, Суров, — кто станет с ними улыбаться, да и по какому поводу? Я оторвалась от этих мрачных людей, тяжеловесных, угрюмых, угнетенных и угнетающих… Я перешагнула невидимый рубеж — между миром тирании и миром свободы» («Только один год»).
Тысячи россиян могли только мечтать об этом — попасть из страны «бесконечных запретов, секретности, давления и унижения человеческого достоинства» в царство истинной демократии и свободы. Светлана увлеклась и этой иллюзией поклонению Демократии и мечтам о Свободе. Потом разочаровалась в Америке — символе демократии и свободы. Но до первых разочарований было еще далеко.
Однако в Риме Светлане пришлось провести несколько дней: ответ из Вашингтона еще не пришел. По-видимому, там решали, что делать с такой необычной перебежчицей? Наконец было найдено соломоново решение — дать мадам Аллилуевой трехмесячную туристскую визу в Швейцарию, может быть, за это время она, «успокоившись, передумает и вернется в Москву».
Но Светлана и не думала о возвращении. Куда угодно, только не домой. Она убедила себя, что почти счастлива. Все эти дни ее окружали простые дружелюбные люди. Как непривычна для нее была их непринужденность, легкость в общении, демократичность. Если все американцы таковы, то ей нетрудно будет прижиться в этой стране и найти себе друзей.
К тому же копия рукописи ее книги отправлена еще из Дели в Вашингтон. Ее прочел бывший посол США в СССР Джордж Кеннан. «Письма к другу» ему понравились. Эта новость окрылила Светлану. Еще в Москве друзья говорили ей, что ее дневниковые записки — вполне сложившаяся, интересная книга, но она не до конца верила в это. Считала, что друзья щадят ее самолюбие или судят не слишком профессионально. А Кеннан был не только дипломатом, но и автором нескольких нашумевших книг.
Мысль о том, что она сможет стать писателем, заниматься творчеством, не давала Светлане покоя. Неужели это возможно? В СССР она не могла и мечтать ни о чем подобном. Ее прошлое существование уже казалось ей убогим, однообразным, безрадостным. Если книга будет иметь успех, она построит больницу в Калаканкаре в память о Браджеше!
Больница, фонд Аллилуевой, писательство — все это еще месяц назад показалось бы смешными фантазиями. Но может быть, не все это и не поиски свободы заставили ее бежать в неизвестность. Ее заветным желанием всегда было стать кем-то, личностью, может быть знаменитостью, а не только дочерью своего отца.
Но праздник в душе продолжался недолго. В Швейцарии ее сначала поселили в маленькой горной гостинице. Но журналисты быстро пронюхали об этом. Пришлось спешно бежать. Яннер — представитель швейцарского МИДа, решил поселить Светлану в маленьком монастырском приюте в Сен-Антони под чужой фамилией.
Здесь Светлана написала письмо детям на пятнадцати страницах и передала его индийскому послу Джайпалу. Она очень надеялась, что письмо все-таки дойдет до адресата. Может быть, тоска по детям была тому причиной, но в ее настроении произошел резкий перепад. К сожалению, эти перемены в ее душевных настроениях происходили довольно часто.
В монастыре она вела дневник, почти ежедневно аккуратно отмечая, что читала, с какими людьми встречалась, куда ходила гулять. Но не только чисто внешние события. Вот запись от 20 марта, ставшего не самым счастливым днем упадка сил:
«Я бродила в маленьком дворике, обсаженном туями, думала о детях, томилась неизвестностью. В эти дни я читала «Доктора Живаго» Пастернака… — и чтение разрывало мне сердце. Я рыдала над книгой, мешая ее слова со своими, ее печаль со своей, плача о себе, о детях, о несчастной замученной стране, которую я покидаю, но люблю. Я не могла скрыть своего настроения, и сестра Флорентина испугалась, утешая меня, сказала, что будет молиться обо мне и о моих детях в часовне. Много слез было выплакано в тот день, и наутро стало легче» («Только один год»).
В воскресенье 26 марта была католическая Пасха, и Светлана горячо молилась в соборе Сен-Николя. Ей все равно было, где молиться, — в православной церкви, на берегу Ганга или в католическом соборе: ведь люди повсюду молят Бога об одном и том же, убеждала она себя, — о помощи себе и своим детям, о душевном покое. Светлана благодарила Всевышнего за все, что он дает ей, и просила милости и щедрости ее детям. «Меня душили слезы, в глазах темнело, я не могла остановиться. Пасхальная месса была пышной, долгой, торжественной, много раз все опускались на колени, — и это было то, что мне сейчас было нужнее всего» («Только один год»).
Но уже на другой день она спустилась с небес на землю и занялась делами. Джордж Кеннан посоветовал ей как можно скорее найти адвокатов, которые возьмут на себя издание книги, получением визы, гонорара… Светлана чувствовала себя деревенской жительницей, попавшей в большой город. Но нужно было понемногу привыкать к новым реалиям.
В будущем оказалось, что она не лишена практической жилки. Америка быстро научила ее самостоятельно вести свои дела, на равных общаться с адвокатами и не слишком им доверять. Но пока что Светлана покорно подписывала все документы, передававшие в руки адвокатов заботы о публикации книги, деньгах, визе. Ей ничего не говорило имя «Хапер и Роу», будущего издателя книги. Важно, что книга все-таки скоро увидит свет, причем не только в Америке, но и во многих странах мира.
«Я просто целиком доверилась в руки людей, пришедших мне на помощь в трудную минуту, — писала Светлана. — Я отправилась в долгое плавание на корабле с хорошей, дружественной командой — стоит ли думать в этот момент, что делает команда? Они знают свое дело лучше меня. Надо сказать спасибо за то, что меня берут на корабль» («Только один год»).
Уже в Швейцарии на Светлану обрушилась лавина писем. В первые же дни ее пребывания там все западные газеты, радио и телевидение оповестили о побеге дочери Сталина. Журналисты рыскали по стране в поисках ее тайного убежища. Но почту чиновники МИДа пересылали Светлане в монастырь. Эти послания часто отвлекали ее от грустных мыслей.
Русские эмигранты советовали ей поселиться в Австралии, обещали помочь с визой. Мужчины предлагали руку и сердце. Наиболее бескорыстные, не преследующие никаких иных целей, кроме желания помочь, писали только о фиктивном браке, чтобы она могла быстрее получить гражданство. Некоторые письма трогали Светлану: совершенно чужие люди тревожились о ней, желали счастья и покоя.
Но она с нетерпением ждала одного-единственного письма — из Москвы. Наконец оно пришло. Сын писал, что они с Катей три часа провели в аэропорту, дожидаясь ее самолета, и не могли поверить, что она так и не прилетела. Несколько дней они не знали, что и думать. Потом в газетах появилось сообщение ТАСС о том, что Светлане Аллилуевой продлена виза и она пробудет за границей еще некоторое время. После этого «мы более или менее успокоились, — писал Иосиф. — И жизнь вошла в свою колею. Если не считать того, что Катя до сих пор никак не может войти в эту самую колею, да и мы, честно говоря, мало что понимаем… Нас очень удивило то, что со времени твоего отъезда из Индии мы не получали от тебя никаких вестей, и я даже звонил в посольство Швейцарии и просил, чтобы мне помогли с тобой связаться… Нам бы очень хотелось написать тебе непосредственно или, что самое лучшее, поговорить с тобой по телефону обо всем. В частности, нам бы хотелось знать твои планы на будущее, как долго ты собираешься там пробыть и когда собираешься вернуться? До свидания. Целуем. Ося. Катя».
Светлана представила, как тяжело сейчас ее детям. То и дело звонят друзья, знакомые, спрашивают о ней. А Ося с Катей ничего не знают: ведь они так и не получили ее письма на пятнадцати страницах. Это письмо прочли те, кому оно не предназначалось. Похоже, в Кремле пока выжидают, замалчивают ее побег и надеются вскоре строптивую женщину вернуть на Родину. Послу в Индии Бенедиктову было дано такое задание, и когда он с ним не справился, его лишили теплого местечка и прогнали со службы.
Яннер все понимал. Он повез Светлану в маленькую гостиницу, оттуда был заказан московский номер и назвали вымышленное имя. Ждать пришлось недолго, но Светлана вся извелась от нетерпения. Наконец звонок. Сын взял трубку и, услышав ее голос, растерянно ответил: «Господи Боже мой…» Они проговорили полчаса. Светлана повторяла: «Я не вернусь, я — не туристка, ты понимаешь?» Ося все понял, но не задавал вопросов. Говорила Светлана. Советовала им мужаться, жить по-прежнему всем вместе — втроем, не отдавать Катю Ждановым. Хорошо, что Кати не было дома. Светлана не вынесла бы разговора с ней, ее вопросов, слез…
Их неожиданно прервали. Светлана так переволновалась, что к вечеру у нее поднялась температура. Снова в тоске, в слезах она писала свой «Плач». Такого жанра в литературе нет, он есть в фольклоре. И сейчас плач как нельзя лучше выражал ее состояние. К сожалению, в своем «монастырском дневнике» Светлана не оставила ни одного отрывка из этого произведения, и судьба его неизвестна.
Через несколько дней она снова пыталась дозвониться домой. Телефон не отвечал. И тогда она набрала номер подруги. Разговор получился очень тягостный. «Детям будет очень трудно», — строго сказала Берта. «Я все понимаю, но понимаете ли вы меня?» — спросила Светлана. Она пыталась что-то объяснить, рассказать, какие милые ее окружают люди, сколько у нее появилось новых друзей. «Какие там у тебя друзья, о чем ты говоришь?» — вырвалось у Берты с недоверием и возмущением.
Светлана была потрясена. Лучше бы она не звонила Берте. Похоже, ее никто не понимает — ни дети, ни друзья. Не только не понимают, но осуждают! У нее было такое чувство, что она режет по живому и теряет самое дорогое — детей, друзей, целый кусок прошлой жизни…
Наконец, к середине апреля вопрос с визой в США был решен положительно. Светлана тоже все решила для себя. Настолько окончательно и бесповоротно, что не прислушивалась к советам своих новых друзей, чиновников МИДа и самого Кеннана, мнением которого она дорожила.
Ее единственные европейские знакомые, Эммануэль и Люба Д'Астье, специально приехали из Парижа, чтобы повидаться, и поделились своим планом. План этот заключался в том, что она ни в коем случае не должна ехать в США, потому что неминуемо «попадет из одной тюрьмы в другую». Не издавать свою книгу, потому что «сейчас это вызовет сильную реакцию со стороны советского правительства», и оставаться пока в Швейцарии.
В швейцарском МИДе также советовали ей поселиться в какой-нибудь другой стране — Англии, Франции или Швейцарии. Все эти советы нельзя не признать разумными. Ей давали время на спокойное размышление. А поразмыслив, Светлана Аллилуева могла бы вернуться домой. Советское правительство недаром так долго замалчивало ее отъезд и всеми силами старалось вернуть беглянку. Она была бы прощена, в этом никто не сомневался.
Но Светлана никогда не меняла своих решений. «Я хочу прежде всего издать книгу, — откровенно объясняла она друзьям. — А на «реакцию» советского правительства я не обращаю внимания, потому что порываю с ним и с СССР… Швейцария дает убежище, но она ставит условием для всех полное невмешательство в политическую жизнь. Я не могла бы здесь публично объяснить, почему навсегда порываю с коммунистическим миром».
Да, она могла бы тихо жить в Швейцарии много лет. Но какой в этом смысл? Так же тихо и незаметно она могла существовать в Москве. Конечно, за решением Светланы крылись и другие причины. Человек непишущий не может понять, как хочется автору видеть свою рукопись напечатанной!
Но, кажется, главным мотивом ее странного поступка стала необходимость больших перемен, сильной встряски. Светлана чуть ли не с шестнадцати лет жаловалась на скуку, однообразие и бесцветность своего существования. А после смерти Сингха оно стало совсем невыносимым. «Моя жизнь в СССР была такой беспросветной, — писала она, — что казалось, ничто и никогда не выведет меня из того русла, в котором она шла». И тогда Светлана сама сделала решительный шаг…
22 апреля она уже выходила из самолета в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Настроение снова было радостное и беззаботное. Только что она впервые в жизни пересекла океан, впервые попробовала омаров, которых принесла на завтрак стюардесса. И, к сожалению, впервые ей предстояло встретиться с толпой журналистов.
«Вам предстоит тяжелое испытание: встреча с прессой в аэропорту в Нью-Йорке. Я бы хотел избавить вас от этого, но не могу», — предупреждал Светлану Кеннан. Сопровождавший ее в перелете адвокат Ален Шварц тоже волновался. Но у Светланы пока не было страха перед прессой. Она даже шутила и подбадривала оробевшего Алена.
«Микрофон и репортеры оказались у самого трапа, внизу. Я, не чуя ног под собою, сбегаю по трапу. «Хелло, я счастлива быть здесь!» — говорю я то, что чувствую всем сердцем. Фотографируйте, пишите и говорите обо мне все, что вам угодно, — я знаю, что вы сейчас не понимаете меня. Ничего, когда-нибудь поймете, как это много: сказать перед всем миром то, что думаешь» («Только один год»).
Сопровождающие постарались поскорее отнять Светлану у журналистов и увести к машине. Ей предстояла пресс-конференция, где она могла высказаться. Очень скоро Светлана утратит свое благодушие по отношению к репортерам. Они отравят ей жизнь, будут бесцеремонно преследовать дома и на улице. И главное — писать о ней глупости и откровенные измышления. У свободы немало издержек.
Кеннан ее предупреждал: «Вы неизбежно встретитесь с трудностями и неприятностями в этой стране, но некоторые из нас постараются сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Вам, и я думаю, что в нашей жизни здесь Вы найдете для себя также много радостей и удовлетворения».
Но вначале Светлана обратила мало внимания на эти предостережения. Впоследствии они часто ей вспоминались… Первое время пресса к ней благоволила, журналисты пытались создать идеальный женский образ, нечто лирическое, тургеневское. Вот такой увидели они Светлану Аллилуеву, сходившую по трапу самолета:
«Это изящная, жизнерадостная женщина сорока одного года с рыжими вьющимися волосами, голубыми робкими глазами и привлекательной улыбкой, весь облик которой светился чувствами добра и искренности».
Америка встретила Светлану приветливо. Первые дни ей все здесь нравилось — великолепное шоссе Лонг-Айленда, множество женщин за рулем, совсем молоденьких и седых старух, которые небрежно вели машины, покуривая и болтая с соседями. В Москве только у двух-трех ее знакомых актрис были машины. Женщина за рулем в России редкое явление. Все это тут же отметила Светлана — опытный водитель.
После маленькой уютной Швейцарии Америка с ее просторами так напоминала Россию! Не только множество толстых мужчин и женщин с лицами славянского типа все время бросались в глаза. Американцы на удивление напоминали русских своей открытостью, доброжелательностью и гостеприимством. Позднее многие соотечественники, попавшие в Штаты, говорили то же самое, и Светлана была рада, что ее впечатление подтвердилось.
Все складывалось как нельзя лучше. Переводчица Присцилла Джонсон уже начала переводить ее книгу на английский. Светлана поселилась пока в просторном доме отца Присциллы. Ее то и дело приглашали в гости, опекали, давали советы. Американцы очень нравились Светлане, и сама Америка казалась сказочной страной. Жена фермера-арендатора, ухоженная, с модной прической, приезжала к ним на автомобиле. Обыкновенный врач-стоматолог живет в доме, который и не снился русскому академику.
Светлана наблюдала, сравнивала и все больше восхищалась страной. Правда, Кеннан продолжал ее предостерегать. «Невозможно судить о нашем обществе в целом, — писал он Светлане в конце апреля. — Необходимо разделять и различать. На самом деле — это не единое общество, а огромное поле битвы, на котором сталкиваются проблемы, важные для всего человечества. Внешняя сторона этого часто будет отталкивать Вас — она выглядит отталкивающе и для нас. Но не забывайте, что многие из нас борются, как только могут, против всех уродств и ошибок. В каком-то смысле мы ваши братья и сестры, и Вы должны симпатизировать нам в наших трудностях».
Но Светлана по-прежнему не понимала его беспокойства, все шло странно и неправдоподобно успешно — для начала. Ее пресс-конференция в отеле «Плаза» прошла благополучно. Перед кинокамерами Светлана держалась просто и естественно, по общему мнению, очень хорошо владела собой. Сообщила журналистам, что решила порвать со своим прошлым и начать новую жизнь, что вскоре собирается начать новую книгу, где постарается объяснить, почему не может вернуться на Родину. Самым щекотливым и неприятным был вопрос о детях. «Жизнь моих детей не изменится, они уже достаточно взрослые», — ответила Светлана.
Вечером она смотрела свою пресс-конференцию по телевизору и не могла поверить, что эта передача транслируется сейчас во всех странах Европы. Ее не покидало чувство нереальности происходящего, но на душе было все так же легко и хорошо, как в день приезда. Правда, репортеры по-прежнему дежурили у ворот дома, допрашивали садовника и повара, ловили Светлану в магазине за примеркой обуви. Но она все же надеялась, что суматоха, вызванная ее приездом, схлынет и скоро ее оставят в покое.
А между тем главные испытания только приближались. Кеннан тревожился не напрасно. «Он слишком хорошо понимал Советский Союз и его возможные реакции. Он прекрасно знал свою страну. И еще — он понимал человеческую натуру и боялся, что после опьянения счастьем первых дней наступит горькое похмелье» («Только один год»),
Знакомство с «Миром свободы»
Все, что последовало за первыми счастливыми днями в Америке, сама Светлана называла «смятением». Она уже начинала уставать от суеты и многолюдья: каждые полчаса приносили корзины с цветами, кипы писем, которые она не успевала читать. Писали частные лица — доброжелатели и ругатели, общественные и религиозные организации, женские клубы, университеты и колледжи. Ее приглашали читать лекции о Советском Союзе, рассказывать о том, как она пришла к Богу, как живут женщины в ее стране.
Светлана была в отчаянии. Она не привыкла быть на виду, не привыкла к такому ажиотажу вокруг своей персоны. Ее вовсе не прельщала должность странствующего лектора «по советским проблемам». И она не представляла, как можно вещать с экрана телевизора о своих религиозных чувствах. Все были с ней доброжелательны, гостеприимны, но она отказывалась от приглашений. Светлане хотелось писать новую книгу. Общественная деятельность — не ее амплуа. Она уже начинала чувствовать какое-то мягкое, но навязчивое насилие над своей волей, и требовалось немалое мужество, чтобы устоять и продолжать быть самой собой, а не тем, кем хотели ее видеть.
Усугубило ее усталость и смятение письмо сына, полученное в это время. «Это был нож в самое сердце, — вспоминала Светлана. — Он почувствовал себя преданным, оставленным, — себя, Катю, Лену».
«…Когда мы с тобой говорили по телефону, я растерялся, услышав все то, что ты мне сказала, и не смог должным образом ответить. Мне понадобилось несколько дней для обдумывания всего этого, так как дело совсем не так просто, как это кажется тебе…
Можешь быть уверена, что твой тезис о «туризме» я понял и ни в коей мере не собираюсь уговаривать тебя вернуться, особенно после нашего разговора.
…Согласись, что после того, что ты сделала, советовать нам издалека мужаться, держаться вместе, не унывать и не отдавать Катю по меньшей мере странно. У нас здесь есть близкие люди, которые нам всегда дадут хороший совет, и не только совет, но и реальную помощь. Я считаю, что ты своим поступком отделила себя от нас, и поэтому позволь нам жить так, как мы считаем нужным.
…После твоего звонка Катя до сих пор не может прийти в себя, она переживает это гораздо тяжелее, чем мы…
…Еще раз хочу подчеркнуть, что не берусь судить о том, что ты делаешь; но уж если мы смогли довольно стойко перенести то, что ты сделала, то, надеюсь, в дальнейшем мы сможем сами устроить свою жизнь.
Постарайся все это осмыслить и понять должным образом и нас.
Ося 14 апреля 1967 г.».В эти дни окружающие видели Светлану улыбающейся и счастливой. Что это было — величайшее самообладание или легкомыслие и бессердечие? Она читала письмо сына, укрывшись от любопытных глаз, снова рыдала и молила Бога о прощении за грех перед детьми. Да, они были почти взрослыми, учились, их окружали родственники и близкие. И все же в словах сына было столько обиды и боли, что Светлана была раздавлена… Она так нуждалась тогда в совете и утешении своего мудрого наставника Кеннана, но он был далеко, в Африке. Светлана написала ему и вскоре получила ответ.
Кеннан писал: «Не позволяйте себе самой усомниться в Вашей правоте… В Дели Вы следовали тому, чего требовала Ваша натура. Если бы Вы вернулись назад в СССР, тогда, будучи врагом системы, Вы стали бы в известном смысле врагом самой себе. И все это не принесло бы ничего хорошего Вашему сыну.
…Верьте, даже перед лицом этой огромной печали, что каким-то образом, которого ни мне, ни Вам не дано осознать, Ваши мужество и вера будут в конце концов оправданны — и для Вашего сына тоже».
Неизвестно, принесло ли адресату утешение это письмо? Задумывалась ли сама Светлана Аллилуева о том, что Кеннан явно преувеличивает масштаб ее личности? Ей хотелось быть просто частным лицом, женщиной, которой хочется изменить свою жизнь, издать книгу и написать другую. А из нее упорно лепили «врага системы», героиню, бросившую вызов коммунистическому режиму, некий символ протеста против советского образа жизни. Эта роль была явно не по плечу Светлане.
На кухне в доме Джонсонов день и ночь дежурили два полицейских в штатском. Вокруг усадьбы круглосуточно курсировала полицейская машина. Боялись провокаций. Но советское посольство, как видно, не собиралось организовывать похищение перебежчицы. Москва долго не знала, что ей предпринять. И наконец грянул первый залп из тяжелого орудия. «25 июня премьер Косыгин, прибывший с визитом в США, заявил на пресс-конференции в ООН: «Аллилуева — морально неустойчивый человек, и она больной человек, и мы можем только пожалеть тех, кто хочет использовать ее для политических целей…» («Только один год»).
Брежнев, Косыгин и другие члены правительства были очень озабочены побегом дочери Сталина. После того как не удалось тихо и безболезненно вернуть ее домой, Москва попыталась воздействовать на посла США, на госдепартамент и многих влиятельных лиц, чтобы «отложить издание книги Аллилуевой, так как ее выход накануне 50-летия Октябрьской революции мог повредить советско-американским отношениям». В СССР всегда с трепетом относились к юбилеям, особенно к революционным, и пеклись больше об имидже, видимости, чем о сути.
Но издательство «Харпер энд Роу» и слышать не хотело об этом. Наоборот, издание книги решили ускорить. Потому что журнал «Штерн» в Гамбурге начал публиковать выдержки из рукописи Аллилуевой под видом «Мемуаров Светланы» с комментариями некоего Виктора Луи, корреспондента лондонской газеты, советского гражданина. Сам Луи уверял, что он был знаком с госпожой Аллилуевой и фотографии и рукопись получил от нее. Светлана это отрицала. Она считала Луи агентом КГБ и не сомневалась, что рукопись и фотографии были украдены из ее запертого стола в московской квартире.
История была довольно темной и не прояснилась до сих пор. Неясно, как попала рукопись к Виктору Луи. Очевидно, что советское правительство ему всячески покровительствовало: «дозволило» взять интервью у детей Светланы, посетить ее квартиру, завладеть фотографиями из ее письменного стола. Едва ли Иосиф впустил бы в дом пронырливого репортера без распоряжения свыше.
Светлана писала по этому поводу: «По-видимому, Москва рассчитывала, что, пока издание книги будет отложено, весь мир уже узнает о ней из «варианта» Виктора Луи с фотографиями и потеряет к ней всякий интерес. К тому же его «вариант» и комментарии развивали главные пункты советской пропаганды: «сумасшедшая с повышенной сексуальностью и ближайший помощник своего отца». Невинная история с Каплером была раздута до «страстного романа с оргиями». «Пахнущие табаком поцелуи», которыми отец награждал меня в детстве, превратились в сенсационный заголовок: «Мой отец был хорошим человеком» («Только один год»).
Адвокат Ален Шварц неузнаваемо изменился — похудел и побледнел. Его адвокатская контора судилась в Европе с браконьерами-издателями, чтобы отстоять авторские права своей клиентки. Джордж Кеннан тоже выглядел измученным, на него давили со всех сторон. Всем вокруг Светлана приносила беспокойства, неприятности и хлопоты. Но при этом сама страдала больше всех.
После знаменитого высказывания Косыгина советская пресса, словно с цепи сорвавшись, радостно бросилась ее травить. Все газеты и журналы, от центральных до провинциальных, сочли своим долгом бросить камень в отступницу. «Богоискательницей за доллары» заклеймили ее «Известия». Большинство нищих и жадных соотечественников не сомневались, что главная причина ее побега — конечно же деньги и желание разбогатеть. А сумма гонорара за «Письма к другу» просто сводила с ума — полтора миллиона долларов! Ни одна газета не заикнулась о том, что созданный благотворительный фонд Аллилуевой перечислил на строительство больницы в Индии примерно треть этого гонорара. Это совсем не соответствовало образу алчной, истеричной и распутной перебежчицы, который старательно создавали советские газеты.
Виктор Луи взял интервью у митрополита Пимена, который заявил, что «ему ничего неизвестно о крещении Аллилуевой», она вовсе не христианка, а интересуется всеми религиями сразу». «Литературная газета» писала, что Аллилуева всегда была истеричкой и параноиком. Власти позаботились о том, чтобы создать подобное мнение о ней и за рубежом. Итальянскому корреспонденту Энцо Биаджи, сочувствующему коммунистам, предложили взять интервью у «друзей» Аллилуевой, специально для этого подобранных. Ни одного из настоящих друзей Светланы среди них не было.
Друзья сообщили, что «после смерти отца и после Двадцатого съезда она была очень несчастна, старые знакомые оставили ее, былая слава померкла. Поэтому единственный выход из мрачной жизни она нашла в бегстве за границу, а публикацией рукописи надеялась вернуть себе утраченное внимание общественности…».
Общественное Мнение в СССР было соответствующим образом подготовлено. Обыватель очень легко поддается массовой пропаганде. Аллилуеву дружно ругали и осуждали «в народе» за то, что бросила своих детей, за то, что изменила Родине и напечатала за границей клеветническую книгу о СССР, хотя книжку эту никто, конечно, не читал. В «Дневниках» Корней Иванович Чуковский писал, как летом 1967 года его навещала врач и с возмущением рассказывала о перебежчице Аллилуевой. Чуковский был поражен, с какой ненавистью эта женщина и другие его знакомые относились к совершенно чужому человеку, не зная, да и не желая знать все скрытые обстоятельства ее жизни и истинные мотивы поступков. Сам он не решился бы осуждать кого бы то ни было за желание покинуть СССР.
Общественное мнение в СССР было таким же стойким и монолитным, как при Сталине. Раньше с ненавистью клеймили «врагов народа», «врачей-вредителей», а теперь «тунеядцев», диссидентов. Но и западный обыватель, впитавший демократию с молоком матери, оказался не лучше. Не только доброжелательные письма получала Светлана. Были и такие: «Америка не для красной чумы и не для сталинской семьи», «Наша кошка лучше вас — она заботится о своих детях». Какой-то американский офицер предлагал ей сдать тест на патриотизм и не сомневался, что мадам Аллилуева его не выдержит.
И «свободная» западная пресса, которая вначале отнеслась к Светлане вполне благожелательно, вдруг заразилась непонятной бациллой от советских коллег. Информацию западные газеты и журналы в основном черпали из русских изданий или получали от своих корреспондентов из Москвы. «Я узнала о самой себе из прессы много нового, — писала Светлана. — Оказалось, что я всю жизнь находилась под наблюдением психиатров; страдала необычайной сексуальностью, носила бриллианты Романовых, ела с золотой посуды и жила в Кремле — в бывшем романовском дворце; присутствовала при подписании пакта 1939 года с Риббентропом, причем уже тогда была взрослой. Что мой отец советовался со мной по каждому политическому вопросу, я вела его дом и без меня не принималось ни одно решение. Что в Швейцарию я поехала для того, чтобы взять деньги, положенные моим отцом в швейцарские банки» («Только один год»).
Виктор Луи начал печатать в лондонской газете «Дейли экспресс» фотографии, украденные из стола Светланы Аллилуевой, со своими комментариями под броским заголовком «Секретные альбомы Сталина». Даты, факты, имена в этих комментариях были перепутаны. Луи относился к так называемым «беззастенчивым» репортерам, которые ради сенсации не пожалеют мать-отца. Врал не краснея, ссылался на свое интервью с теткой Анной Сергеевной, давно умершей, цитировал слова мужей Светланы Аллилуевой, с которыми не встречался. Вместо Ростова определил Юрия Жданова на жительство в Одессу, а Григория Морозова сделал специалистом по Германии.
Но Виктору Луи верили, и Светлана понимала, что бороться бесполезно. Опытные и циничные журналисты хорошо знают этот психологический закон общественного поведения — доверчивую жадность толпы к дешевым сенсациям и интимным подробностям из жизни «великих». К тому же доверие людей к печатному слову не окончательно подорвано. Из Индии от родственников Сингха пришло письмо. Они встревожились, узнав из газет, что у Светланы «тяжелое нервное потрясение» и она находится в психиатрической лечебнице.
«Я знала, что нельзя реагировать на ложь всем сердцем, что это разрушительно, — писала Светлана. — Знала, что с клеветой мне придется встречаться теперь всю жизнь. Мир свободной прессы как обоюдоострый нож: каждый пишет, что хочет. Потратить свою жизнь на опровержение всей неправды — не стоило. Мои друзья говорили мне: «Не реагируйте. Забудьте. Привыкайте к этому, как к досадной неизбежности». Я знала, что они правы. Но переход от полнейшего молчания в СССР к миру свободного слова был так резок, что я почувствовала, как мои бедные кости трещат на этом повороте…» («Только один год»).
Андрей Синявский в лагере, многим в СССР гораздо тяжелее, чем ей сейчас, убеждала себя Светлана. Но когда она видела в газетах фотографии своих детей, самообладание ее покидало. На фоне знакомых полок для книг, привычных стен ее бывшей квартиры Катя и Ося выглядели такими беспомощными, растерянными! Ее охватывало отчаяние, когда она читала о том, как истязают журналисты ее детей. Иосифа спрашивали, «сколько еще было мужей» у матери, пытались выведать подробности их жизни и «семейные тайны». «Я могу только гордиться тем, с каким достоинством бедный мальчик выдержал все испытания, обрушившиеся на него», — говорила Светлана.
Она обладала счастливой способностью «само-восстанавливаться», прогонять тоску и дурное настроение. Природа, доброта и сочувствие людей, окружающих ее в то время, очень помогали этому самовосстановлению. Но однажды Светлане захотелось взбунтоваться, как-то выразить свой протест против безобразной кампании, развернутой против нее. Она гостила на ферме у Кеннанов. В этот день дома остались только семнадцатилетний Кристофер Кеннан и младшие дети. Светлана позвала их на веранду, где в небольшом гриле жарили мясо. Заинтригованные дети последовали за ней и с любопытством смотрели, как она положила на тлеющие угли советский паспорт и торжественно объявила:
— Кристофер! Вы все присутствуете при торжественном моменте. Я сжигаю свой советский паспорт в ответ на ложь и клевету!
«Кристофер широко раскрыл глаза. Паспорт ярко вспыхнул… Потом я вынесла вон горстку золы и дунула на нее. Она разлетелась по ветру…»
Так Светлана ответила советской «карманной» прессе, объявившей ее психопаткой, предательницей Родины, плохой матерью. Но ведь западная, демократичная пресса тоже ее не щадила. И на этот счет у Светланы сложилось свое мнение: «Свобода — бесценный дар. За нее приходится дорого платить!»
Большим утешением после всех ударов стал выход книги. Светлана испытывала настоящее счастье, когда взяла в руки первые экземпляры «Двадцати писем к другу», изданные «Харпер и Роу» по-русски и в английском переводе. Наконец она почувствовала себя писателем. Еще полгода назад в Индии издание книги представлялось неосуществимой мечтой, фантазией. И вот это чудо свершилось.
С этого дня Светлана ждала отзывов о книге, ей хотелось говорить о своем первом «детище», поделиться планами и замыслами новой книги. Но, увы — корреспонденты задавали все одни и те же нелепые вопросы, одно интервью следовало за другим, и все они были сплошной пыткой.
Критика и официальные круги встретили книгу довольно прохладно и с недоумением: они ждали громких разоблачений, серьезных исторических мемуаров, а вместо этого получили просто историю семьи. Светлана пыталась объяснить это недоразумение, но ее не слышали.
Лучшими, самыми непредубежденными читателями стали женщины. Они приняли книгу как есть — им интересна была именно семейная хроника, человеческие взаимоотношения, судьбы женщин из рода Аллилуевых, особенно Надежды и Анны Сергеевны. Письма от таких читателей приносили Светлане большую радость.
А вот рецензии официальной прессы в Европе и США больно задевали не только авторское самолюбие… Разочарованные тем, что не нашли в книге «тайн Кремля», журналисты называли ее «преданной дочерью, защищающей своего отца», «свалившей все исторические преступления на злодея Берия». Некоторые отзывы трудно было отнести к жанру рецензий, потому что они были откровенно оскорбительными. Светлана уверяла себя, что привыкнет, уже начинает привыкать к «свободной» прессе, но все же теряла самообладание, читая о себе такое: «неловкий адвокат дьявола», «слепая кремлевская принцесса, ничего не видевшая из-за стен Кремля, не ведавшая истории своей страны и страданий народа».
В это время в СССР широко отмечалось 50-летие Октябрьской революции. Книгу перебежчицы Аллилуевой могли прочесть только единицы из миллионов советских граждан, тем не менее советская пресса сочла долгом ее заклеймить. С удовольствием пересказывая содержание отрицательных рецензий на «Двадцать писем к другу» за рубежом, русские газеты подытожили: «У книги Аллилуевой нет читателей!»
И приводили подробности: сначала «Двадцать писем к другу» продавали по десять долларов, потом — по пять, потом — по пятьдесят центов за экземпляр, а теперь большая часть тиража лежит нераспроданная на складах. Итак, несмотря на рекламу, книга с треском провалилась!
Как и во всякой неправде, в этих статьях была маленькая доля правды: «Двадцать писем к другу» действительно не стали бестселлером и не оправдали надежд издателей на шумный успех. Причины очевидны: в книге было слишком мало скандального, разоблачительного. Не содержала она и интимных подробностей из жизни вождя и его окружения. Журналисты без конца терзали Светлану вопросами о любовницах, явных и мнимых, ее отца, о том, как он едва не женился на Розе Каганович, дочери Кагановича. Самое смешное, что эта мифическая Роза никогда не существовала на свете, а у Кагановича не было дочери…
Книга Аллилуевой была слишком камерной, личной и целомудренной. Она скорее соответствовала вкусам русского читателя, чем западного. Появись она в то время в СССР, то несомненно имела бы громкий успех. Одни бы отчаянно ее ругали, другие — яростно защищали. Впрочем, «Двадцать писем к другу» и появились вскоре в России — в самиздате. Помню, как в семидесятые годы мои знакомые украдкой передавали друг другу потрепанные, перепечатанные на машинке листочки, а взамен получали Солженицына, Набокова или еще что-нибудь запрещенное.
Когда в конце восьмидесятых «Двадцать писем к другу» выпустили сразу несколько издательств, она не вызвала большого ажиотажа: читателей уже «обкормили» разоблачениями и «запретным плодом»…
Светлану Аллилуеву всегда задевало равнодушие к ее книгам. Прессу интересовал только ее отец и множество подробностей, связанных с его жизнью, которые в книги не вошли. Сейчас, через тридцать лет, можно подвести некоторые итоги. «Письма к другу» есть в любой библиотеке. Судя по виду этих книжек в мягких обложках, они прошли через десятки рук. Их читают. И будут читать еще долго. Хотя они не принадлежат к той литературе, о которой много говорят, спорят с восторгом или раздражением.
Много это или мало? И способен ли такой итог удовлетворить самолюбие автора? Кажется, этого вполне достаточно, чтобы Светлана Аллилуева с полным правом могла называть себя писателем. Что касается других книг — «Только один год», «Книга для внучек», «Далекая музыка», то они изданы маленькими тиражами и менее доступны. У них свой читатель, не столь многочисленный, как у «Двадцати писем к другу». Но этот читатель, приложив некоторые усилия и старания, книги Аллилуевой найдет.
В октябре 1967 года Светлана впервые в жизни праздновала не годовщину революции, а День благодарения. Москва вдруг переменила тактику и предложила перебежчице вернуться. Это было сделано не прямо, а косвенно: в интервью для немецкого журнала «Штерн» Иосиф заявил, конечно, не от своего имени: «Если сейчас мама решит вернуться обратно, никакого наказания не последует». Но Светлана не раз с гордостью повторяла, что никогда не меняет своих решений. «Мне иногда снились по ночам московские улицы, комнаты моей квартиры, я просыпалась в холодном поту, это было для меня кошмаром», — не без вызова признавалась она.
Но и будущую жизнь в новой стране Светлана пока представляла себе смутно, хотя «год путешествия и цыганского кочевья подходил к концу. За всю свою прежнюю жизнь я не видала столько новых стран — Азия, Европа, Америка. Пора было, наконец, убрать чемоданы и попробовать перейти к оседлой жизни» («Только один год»).
Вначале у нее было много планов и замыслов. Она хотела жить в среде писателей, художников и заниматься какой-нибудь творческой работой, например фотографией. Путешествуя по Америке, Светлана была очарована ее природой, великолепными ландшафтами. Вот что ей хотелось бы снимать!
По неосторожности она поделилась своими мечтами с журналистами. И тут же ей предложили стать участницей грандиозного коммерческого шоу: она будет разъезжать по стране с группой фотокорреспондентов. И скоро во всех журналах появятся красочные снимки: «дочь Сталина на фоне водопада!» Светлана представила себя на обложке журнала, ужаснулась и решила пока отложить на неопределенное время занятия фотографией.
Еще летом она рассказывала Джорджу Кеннану и своим издателям о плане следующей книги — описать события последнего года, круто изменившего ее жизнь. Издатели одобрили замысел. Оставалось только найти тихое место, снять дом и всерьез заняться работой. Светлана выбрала Принстон, маленький университетский город, старомодный и уютный. По его улицам она ходила спокойно, не опасаясь, что ее узнают. К тому же Кеннаны жили неподалеку. И ее новый знакомый Луи Фишер, профессор, историк, который четырнадцать лет был корреспондентом в СССР, а теперь консультировал ее и помогал в работе над книгой.
Свою жизнь в Принстоне Светлана описывает как безмятежное и спокойное существование, заполненное работой и общением с друзьями. Но за каждым ее шагом пристально следили не только газетчики. О ней по-прежнему ходило много сплетен, о ее личной жизни судили и рядили все, кому не лень. Недоброжелатели утверждали, что она сама часто давала к этому повод.
Историка Роя Медведева едва ли можно отнести к доброжелателям Светланы Аллилуевой. Он писал о первом годе ее жизни в Америке: «В Принстоне у нее возник роман с писателем-советологом Луи Фишером, который помогал ей в работе над мемуарами. Ему исполнилось семьдесят лет. Луи Фишер, автор биографии Ленина, был очень польщен вниманием дочери Сталина, однако их связь вскоре распалась, главным образом из-за грубости и несдержанности Светланы. Разъяренная дочь Сталина пришла в дом Фишера объясниться, но он не открыл ей двери. Светлана целый час ходила вокруг дома своего недавнего друга, требуя, чтобы он вернул ей подарки. Когда она начала выбивать стекла в доме, Фишер вызвал полицию. Все в Принстоне знали об этом скандале, но западная печать, создавшая образ обаятельной «тургеневской» женщины, хранила молчание».
Рой Медведев несколько идеализирует западную печать. Она никогда не проявляла сдержанность «в освещении» личной жизни знаменитостей и никогда никого не щадила, смакуя интимные подробности. Газеты и журналы с удовольствием рассказывали о трагических любовных историях Светланы. «Светлана влюблялась бешено, — писал журнал «Таймс». — Скандалила, приходила к женам, разбивала окна, при разлуке отнимала подарки». «Итак, жизнь Светланы Аллилуевой выставлена напоказ для толпы! Можно не сомневаться, что некоторые заатлантические журналисты, которых не терзают угрызения совести и которые не слишком стеснительны, еще больше добавят того, что они называют «пикантными» (газета «Юманите диманш»). И добавляли, конечно, и сгущали краски, а случалось, бессовестно врали.
И русская пресса не отличалась большой достоверностью. Даже к исследованиям серьезных историков, работам публицистов нужно относиться осторожно. Рой Медведев, например, утверждал, не ссылаясь на таинственные источники этих сведений: «Светлана сняла дом в Принстоне, у нее появилась прислуга, а вместе с тем и старые привычки деспотичной и капризной хозяйки. Она грубо обращалась с чернокожим управляющим и резко отчитывала служанок. «Вы только мои слуги!» — заявила она одной из горничных, Она отказывалась от приглашений и знакомств с соседями. «Никто не может заставить меня делать то, чего мне не хочется!» — сказала она своей соседке актрисе Доротее Гринбаум» («Свита и семья Сталина»), В Принстоне Светлана сняла дом недавно умершего издателя и его жены, писательницы и музыкантши, которая любила путешествовать и редко бывала дома. Это был всего лишь дом, а не имение — без чернокожего управляющего и штата прислуги. Знакомые настоятельно рекомендовали Светлане нанять чернокожую расторопную «домоуправительницу», но она так и не сделала этого, боясь присутствия посторонних. Ей хотелось покоя и одиночества. Светлана не скрывала, что упорно избегала знакомств, особенно с соседями, ограничиваясь узким кругом своих друзей.
Это всего лишь один пример того, как разноречивы и субъективны многочисленные воспоминания, мемуары, документы и исследования. Как легко заплутать в этих лабиринтах мнений и сведений.
Если книга «Только один год» — это книга обольщений чудесной страной и ее обитателями, так непохожими на запуганных, подозрительных и мрачных соотечественников Светланы Аллилуевой, то «Далекая музыка» — опыт разочарований и несбывшихся надежд.
Но «Далекая музыка» будет написана много лет спустя. А пока что в Принстоне Светлана работала над второй своей книгой, которую закончила на очень оптимистической ноте. Год ее скитаний подходил к концу. Приближалось Рождество. Светлана собиралась встретить его в своем доме одна, при свечах, слушая кэролз — рождественские песенки. Она удивительно быстро привыкала к реалиям чужой жизни.
А 19 декабря 1967 года Светлана сидела с Кеннаном и Луи Фишером за столиком в ресторане и вспомнила: «А знаете, ведь только год назад в этот день я уезжала из Москвы… Какая вьюга мела! Мой сын провожал меня поздно ночью в аэропорт. Мог ли кто-нибудь вообразить тогда, что я поселюсь в Принстоне и буду сидеть за столом с вами?»
И все трое подняли бокалы и выпили за этот год свободы!
Последнее замужество Светланы
Может быть, самая большая тайна в жизни женщины заключается в ее способности в любви возрождаться как феникс из пепла.
Казалось бы, очередное разочарование в личной жизни выжгло в душе все надежды; сердце, источив свои сокровища на любимого, становится сухим, пустынным; ум настроен скептически.
Но так устроена женщина, что скепсис недолго владеет ею, ровно столько, сколько воспоминание о минувшей любви заставляет ее просыпаться среди ночи и плакать, проклиная свое одиночество, рисуя картины прежнего блаженства.
Но одно время души сменяется другим. Грусть понемногу оставляет женщину, горечь истаивает, новая надежда, как зимнее равноденствие, кладет рубеж между той жизнью и этой, и минуты света начинают прибывать, — вновь наступает весна.
Она может прийти в декабре и июле, среди белого дня и темной ночью, в Мордовии и в Калифорнии. Весна, которая расцвела в душе Светланы на сорок четвертом году ее жизни, совпала с настоящей, календарной весной, и совпадение это, мучительное и счастливое, потрясло ее душу до основания.
А ведь любовь приносила ей обычно сплошные разочарования, не исключая и любви самого родного мужчины — отца, который, подобно многим ее возлюбленным, любил ее не так уж долго, пока она была очаровательным рыжим ребенком.
В жизни Светлана не всегда плыла по течению. Ведь однажды она волевым усилием изменила судьбу, которая должна была катиться по установленным шпалам, — уехала за границу.
Но в любви большую роль для нее всегда играли обстоятельства, они, собственно, и правили бал. Они таким образом сплетались вокруг нее, что она как бы заранее была лишена свободы выбора и бросалась очертя голову к тому «первому встречному», которого посылала ей судьба.
Особенно если в очередную встречу с любовью вплеталось нечто мистическое. Мистика как будто сшивала суровыми нитками всю ткань ее разорванного существования. И Светлана не могла это не замечать. Многие ее встречи — и разлуки также — окрашены сумеречным светом мистики. Но ни одна ее любовь до такой степени не была заряжена ею, как чувство к Вильяму Питерсу, Вэсу, американскому архитектору.
Вэс был учеником знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта, основателя архитектурной школы и Товарищества Талиесин в пустыне Аризоны.
Четвертым браком Райт был женат на Ольге Ивановне Милиановой, внучке национального героя Черногории. Юность свою она провела в Грузии — Тифлисе и Батуми, вышла там замуж и родила свою первую дочь Светлану, которую назвала этим именем из любви к романтическим балладам Жуковского.
После революции Ольга Ивановна эмигрировала с мужем-музыкантом и обосновалась в Чикаго. Здесь эта молодая, предприимчивая тридцатилетняя женщина познакомилась с шестидесятилетним Райтом и пленила его. Вспыхнул бурный роман, в результате которого появилась на свет еще одна дочь — Иованна Райт. Все они, вместе с удочеренной Райтом Светланой, составили ядро Товарищества Талиесин. Идею этой артистической коммуны Ольга Ивановна позаимствовала от Груджиевской школы гармоничного человека во франции, где она некоторое время довольно успешно училась.
В пустыне Аризоны был спроектирован и построен кампус, который отличала изысканная архитектура. Вокруг цвели апельсиновые деревья, целые рощи. Изгороди домов оплетали малиновые цветы багульника. Уютные коттеджи утопали в зелени.
Кампус был спланирован как причудливый оазис среди этой пустыни. Его строили из местного камня. Массивные низкие постройки каменной кладки с плоскими крышами, толстыми стенами и небольшими оконцами. Для воплощения своих идей Райт кое-что позаимствовал из культуры американских индейцев.
После того как Райт скончался, Ольга Ивановна сделалась президентом фонда Райта, президентом архитектурной школы и фирмы, специализирующейся на архитектурных проектах. Руководить этим огромным делом ей помогал Вэс, женившийся на ее дочери Светлане.
Брак был исключительно счастливым. Юная Светлана горячо привязалась к мужу, и он отвечал ей самой пылкой любовью. У них родились два мальчика. Все складывалось замечательно. Вероятно, эта пара прожила бы всю свою жизнь в любви и согласии, окружив Ольгу Ивановну многочисленными внуками и внучками, если бы не случилась страшная беда. Будучи беременной в третий раз, Светлана вместе с одним из своих сыновей погибла в автокатастрофе. Старший сын, тоже бывший с ней в машине, чудом уцелел.
После произошедшей трагедии Вэс целиком и полностью ушел в работу, решив поставить крест на семейной жизни и остаться верным памяти юной жены.
Но Ольга Ивановна, подобно многим женщинам, любящим выступать в роли свахи, задумала его женить. На роль жены ее бывшего зятя не могли претендовать ни молодые, богатые аристократки, которые время от времени наезжали в кампус погостить, ни тем более ученицы той же школы. Это, по мнению Ольги Райт, было бы слишком пошлым и банальным и оскорбительным для памяти ее дочери. Она хотела отыскать Вэсу настоящую заместительницу Светланы — женщину необычайную, на которую ей укажет сама судьба.
Светлана Аллилуева подходила для этой роли как нельзя больше. Главное — совпадение имен. В Америке трудно отыскать женщину по имени Светлана. И Ольга Ивановна с глубоким интересом читала прессу, посвященную дочери Сталина, корни которой так же, как и ее собственные, тоже были в Грузии.
Но не только все эти возвышенные, мистические соображения владели Ольгой Райт, когда она села за стол и написала письмо-приглашение Светлане Аллилуевой, которая могла тогда находиться в Нью-Джерси.
Нет, все было на деле гораздо более прозаично, по-американски. Ольга Ивановна знала, что у Светланы есть капитал, а главное — слава дочери российского тирана. Ее появление в этих краях должно было способствовать оживлению работы фонда, сделать ему дополнительную рекламу.
И Вэсу, по ее мнению, годилась в жены именно такая женщина — не только богатая (слухи о богатстве Светланы раздувались американской прессой), но и знаменитая чуть ли не на весь мир.
Светлана же приняла приглашение Ольги Райт за чистую монету. В то время ей многие рассылали приглашения погостить.
Во-первых, она тогда о браке не помышляла. Во-вторых, ее по-настоящему тронула семейная трагедия Ольги Райт. В-третьих, Ольга Ивановна была родом из Грузии и ровесницей матери Светланы Надежды Аллилуевой. Почему-то наивной Светлане померещилось, что Ольга Райт в чем-то очень похожа на ее несчастную мать, и эта мысль особенно сильно запала в ее душу.
Как бы то ни было, завязалась переписка.
Светлане писала Ольга Ивановна, писала и ее дочь Иованна. Они прислали ей несколько прекрасно изданных книг об их жизни в кампусе, в коммуне. На снимках все это выглядело достаточно изысканно и привлекательно.
Наконец Светлана почувствовала себя обязанной ответить на приглашение Ольги Райт. Она снова поплыла по течению, решив, правда, ограничить срок пребывания в коммуне несколькими днями.
Но — не тут-то было. Ураган событий, а точнее сказать, чужая воля охватили Светлану и понесли ее в ту сторону, о которой она и не мыслила…
За время пребывания в Америке Светлана привыкла к американской восторженности, но так и не смогла для себя решить, стоят ли все эти изъявления чувств, которые со всех сторон расточали ей, принимать за чистую монету. В ее родной стране люди были более сдержанны в выражении своих чувств на словах — зато в деле на них можно было положиться в гораздо большей степени.
Здесь же, получая многочисленные письма, телеграммы, приглашения, она не знала, можно ли доверять всем этим словам, искренен ли прием, оказанный ей.
Вот и Иованна Райт, встретившая ее в аэропорту Финикс, сразу же заключила ее в горячие объятия, как долгожданную сестру, — и все это на глазах у публики. И не успели они усесться в красную спортивную машину этой женщины, как Иованна выразила надежду, что Светлана будет ее сестрой — не больше и не меньше.
Это была яркая, уверенная в себе женщина, которая, очевидно, привыкла подчинять себе тех, кто имел с ней дело. Но еще более властной и уверенной женщиной оказалась ее мать Ольга Ивановна — маленькая, худощавая, с морщинистым лицом и острым взглядом умных глаз, в которых было что-то кошачье…
Светлана испытывала легкое смущение и разочарование.
Ольга Райт оказалась похожей на ее отца, а не на мать, как ей грезилось в ее воображении. Да, она во многом напоминала отца, привыкшего к беспрекословному подчинению со стороны окружающих. Царственная осанка, неприступный вид — несмотря на все то радушие, с которым она встретила Светлану.
Светлана, утомленная восторженным приемом, вскоре была отведена в роскошный коттедж для гостей с маленькой уютной кухней, где она, как сказала Иованна, в любой момент могла попить кофе.
Иованна, дав ей немного побыть одной и оглядеться, вновь появилась с вопросом, который поверг Светлану в еще большее смущение: не взяла ли она с собой вечерние платья?
— Я не нашла ничего подходящего в лавках Принстона, — помедлив, отозвалась Светлана.
На лице «сестры» выразилось изумление.
— Но у нас сегодня официальный прием! — воскликнула она. — Я принесу вам свои наряды, может быть, что-то вам подойдет…
И не успела Светлана слова молвить в ответ, как она исчезла.
Светлана снова осталась одна, стараясь привести в порядок свои чувства.
Она уже привыкла к тому, что в Америке не слишком обращают внимание на то, как она одета. И в Карнеги-Холл, и на званые обеды она являлась в скромном черном платье. И всегда слышала от хозяев: «Приходите в том, что на вас сейчас есть…»
Но здесь все было иначе. Через несколько минут явилась Иованна, неся на сгибе локтя умопомрачительные яркие платья. Светлана отказалась их примерить. Она надела свое светло-зеленое короткое платье и черные туфли, после чего присланный за нею эскорт — молодые мужчины — проводили ее в большую гостиную, где ее дожидались дамы в шикарных туалетах и мужчины в смокингах.
Драгоценности, которыми они были увешаны, переливались в свете камина, как елочные игрушки.
Гости последовали в другую комнату, где под низким потолком стоял длинный красный полированный стол, изысканно сервированный золотыми приборами и причудливой формы хрустальными стаканами.
Старинные китайские вышивки украшали стены, сложенные из тяжелого, грубого камня. Гостиная напоминала пещеру Аладдина.
Хозяйка представила Светлане ее соседа, посаженного по ее правую руку:
— Светлана — это Вэс. Вэс — это Светлана.
Светлана пристально посмотрела на человека, о котором знала только одно: что он был когда-то зятем хозяйки. Высокий темноволосый человек в песочного цвета смокинге и фиалковой рубашке с оборками, на которой красовалась массивная золотая цепь с кулоном, изображающим золотую сову с сапфировыми глазами.
Глубокие, скорбные морщины прорезывали это исполненное необыкновенного достоинства лицо. Печальный взгляд темных глаз… Глянув на сову, она едва сумела подавить ироническую усмешку. Но тут же подумала, что этот Вэс, пожалуй, все-таки выглядит лучше других, разряженных в пух и прах, как райские птицы.
Обед был в мексиканском духе. За столом прислуживали молодые люди в мексиканских рубашках с оборками. Позже Светлана узнала, что это были студенты-архитекторы, которые, надо сказать, почитали для себя за честь прислуживать за столом у миссис Райт.
Разговор был достаточно оживленным — благодаря хозяйке, которая задавала всему тон, следила за тем, чтобы гости не скучали, выдавала шутки, которые присутствующими воспринимались с большим одобрением, и все это снова напомнило Светлане отца — его застолья. Она уже радовалась в глубине души, что у нее имелся билет в Сан-Франциско, куда ее пригласила одна русская художница.
Тут Ольга Ивановна торжественно произнесла: «Я так рада, что Вэс и Светлана наконец встретились!» — и завеса спала с глаз ошеломленной гостьи… Так вот как далеко смотрит хозяйка! Вот для чего ее, Светлану, пригласили сюда!.. Она выжала на лице улыбку, решив, что скоро все равно уедет отсюда, так почему же немного не поплыть по течению… понаслаждаться этой роскошью… Она не думала, что Вэс разделяет далеко идущие планы своей бывшей тещи. За весь обед он обратился к ней только один раз, предостерегая: «Этот соус, «Сальва брава», очень острый…» То есть особенных знаков внимания Светлана от чопорного американца не дождалась.
Зато на следующее утро Вэс, очевидно снаряженный Ольгой Ивановной, возник в коттедже Светланы с приглашением прогуляться по территории Талиесина и наведаться в городок Скотт-Сдэйл.
Прогулка удалась. Вэс показывал кампус, объяснял, почему он был спланирован столь причудливым образом, много и интересно рассказывал о своем учителе Райте.
Ближе к вечеру они оказались в небольшом ресторанчике, и тут-то произошел между ними, что называется, судьбоносный разговор. Вернее, говорил в основном Вэс — Светлана ему внимала. Его как будто прорвало — очевидно, эти годы Вэсу не приходилось исповедоваться перед людьми.
Он рассказал Светлане о том, как он познакомился с шестнадцатилетней Светланой Райт, как между ними сразу же возникло серьезное и глубокое чувство, как они, не откладывая дело в долгий ящик, поженились, как были счастливы. Беда, сломавшая его жизнь, была внезапной, оттого и по-настоящему страшной. Он до сих пор не представлял себе, как ему удалось справиться с этим горем. Утрата жены и ребенка оставили в его душе незаживающую рану. Для него все это как будто произошло вчера…
И в эти минуты Светлана ощущала то самое чувство, которое часто возникает именно у русских женщин, когда перед ними исповедуется переживший жизненную катастрофу мужчина. Это была смесь жалости и жажда тут же, немедленно что-то для него сделать, восторженное вдохновение пополам с состраданием и робкой надеждой.
…Этот чудесный вечер она вспоминала долгие годы спустя, когда все так нелепо окончилось. Он не изгладился из ее памяти, оставшись наиболее ярким впечатлением жизни.
Но главное — она вновь поплыла по течению. Светлана видела желание окружающих, и прежде всего Ольги Ивановны, во что бы то ни стало поженить их с Вэсом. Она понимала, что он безусловно порядочный человек, которому нужна не легкая интрижка, а прочные отношения, брак. Это подкупало. Ведь Светлане было 44 года, второй такой возможности выйти замуж по склонности сердечной может уже и не представиться.
Жениховский период у Вэса и сейчас длился не слишком долго. Всего через три недели после приезда Светланы в коммуну они поженились.
Вероятно, Ольга Райт не скрывала своего торжества, подоплеку которого Светлана увидела позже. Сначала она полагала, что Ольге Ивановне просто льстит роль устроительницы чужих судеб. Но все было несколько иначе.
На свадьбу съехалось множество гостей. Она проходила в атмосфере всеобщего праздника. Ольга Ивановна каждому гостю с гордостью представляла Светлану, называя ее своей дочерью. В этом чувствовалась явная натяжка, которую Светлана уловила своим чутким слухом, ведь она ни внешне, ни внутренне не походила на свою погибшую тезку. А это, вероятно, от нее прежде всего и требовалось — войти в образ Светланы Райт, перенять особенности ее характера, о которых ей уже рассказали. Но Светлана старалась особенно надо всем этим не задумываться. Она просто решила, что изо всех сил будет стараться угодить своему новому мужу.
«Нас засыпали цветами, письмами, пожеланиями счастья, подарками всех видов и возможностей. Что-то было от волшебной сказки в нашей встрече. Те дни никогда не забудутся, даже если позже пришли другие чувства и другие события. Но что бы ни было позже, я не могу стереть из памяти весну 1970 года. Мне лишь хотелось знать, чувствовал ли Вэс то же, что я: но этого я не могла знать. Он оставался молчаливым, как обычно, и никогда не говорил о своих чувствах ко мне. Мне это даже нравилось.
Он казался счастливым, по крайней мере, в продолжение первых месяцев после свадьбы. И только однажды, когда нашей Ольге было уже несколько месяцев от роду и мы теплой дружеской компанией сидели в доме его друзей в Висконсине, он сказал: «Ты вернула меня к жизни. Я был мертв все эти годы».
Я поразилась. Это было много больше того, что я когда-нибудь слышала. Больше, чем я могла желать» («Далекая музыка»).
Да, это было серьезное заявление. Оно давало Светлане безусловную надежду на то, что благополучие семейное будет вечно… А между тем уже были в их жизни моменты, которые повергли ее в недоумение и страх.
Спустя несколько месяцев после свадьбы Ольга Райт позвала к себе Светлану. Вместо обычной любезно-снисходительной маски она увидела на лице Ольги Ивановны озабоченность и некоторое смущение. Светлана поняла, что ее пригласили для какого-то серьезного разговора.
Ольга Ивановна сказала, что считает своим долгом кое в чем предостеречь Светлану. Дело в том, что у Вэса есть один недостаток: он бездумно, как мальчишка, тратит деньги. В его распоряжении всегда много кредитных карточек, и он обожает всем подряд накупать подарки, за что, собственно, Вэса так и любят окружающие. Щедрость его буквально не знает границ. Он обожает дарить знакомым драгоценности, предметы искусства, одежду.
— Сейчас у него колоссальный долг, — заявила Ольга Райт, — если он не выплатит его, ему грозит полное банкротство. Он продает свою ферму в Висконсине, которая ему дорога как память: его мать жила там, его дети и моя Светлана жили там многие годы. Мы не можем спасти его от долгов, так как это повторяется с ним опять и опять. Вам придется следить за ним, чтобы этого не повторялось!
Светлана была вынуждена выплатить долги мужа. Она искренне полагала, что обязана это сделать, и ничто на свете не могло остановить ее. Она выкупила и его ферму, старомодный сельский дом среди лесов и полей. Ее адвокаты в Нью-Йорке всячески отговаривали Светлану от решения перевести ее личный фонд в Аризону. Но она была непреклонна. После того как вклады были переведены, они с Вэсом открыли объединенный счет.
Ольга Ивановна надеялась, что брак между Светланой и Вэсом, широко освещенный в печати, заставит заказчиков вспомнить о фонде Райта, что увеличится поток клиентов фермы. Но этого не произошло. Вэс работал как каторжный. Он не смог позволить себе полноценный отпуск.
После свадьбы они со Светланой только на несколько дней смогли вырваться в Сан-Франциско. Это было чудесно. Они бродили по берегу залива, заходили в местные лавочки, с любопытством разглядывая товары, отдыхали в своей комнате в мотеле, читая газеты. Но и сюда просачивались деловые звонки, раздражавшие Светлану, и с этим ничего нельзя было поделать. Как-то она выговорила Вэсу, что ей не нравятся эти звонки, но он строго остановил ее, заявив, что работа для него прежде всего. Он настолько вошел в роль преданного члена товарищества, что она стала его второй натурой.
Да и была ли у него первая! Светлана скоро выяснила, что кроме работы и красивых вещей Вэса почти ничего не интересует. Она сама обожала посещать музеи, выставки, галереи, но Вэс усердно таскал ее по магазинам, приобретая для нее драгоценности, одежду, обувь. Он не одобрял пуританский вкус. Он хотел, чтобы его жена была шикарно одета. Правда, это и впрямь было необходимо — ведь Вэс общался исключительно с богатыми людьми…
Итак, весьма скоро Светлана пришла к выводу, что им с мужем попросту не о чем разговаривать. Вэса не интересовали литература, музыка, он не испытывал потребности создать вокруг себя аристократический круг, о чем так мечтала Светлана.
Когда у Светланы родилась дочь — 21 мая 1971 года, — она решила дать ей имя Ольга. Светлана уверяет, что сделала это в память своей бабушки Ольги Евгеньевны. Но, возможно, назвав дочь этим именем, она заодно хотела потрафить Ольге Райт.
Оправившись от родов — довольно легких для ее возраста, Светлана увидела, что и этому счастливому событию суждено сделаться частью рекламы.
Журналисты набежали в госпиталь в Сан-Рафаэле, где лежали они с новорожденной Ольгой. Вэс привел целую бригаду телевизионщиков. Он обожал быть на виду, всякая публичность ему импонировала. Ему нравилось, что незнакомые люди на улице останавливают его и приносят ему свои поздравления в связи с рождением дочери. И конечно, он пришел в восторг, когда Светлана решила окрестить дитя. По проекту Ф. А. Райта Вэс когда-то построил греческую православную церковь в Милиоки — церковь Благовещения. Алтарь был расписан другом Вэса, взявшим в модели для иконы Богоматери первую жену Питерса и его сына.
Предполагаемое крещение совпало еще с одним знаменательным событием — архиепископ всех американских греков Яковос приехал в Милиоки, чтобы заново освятить алтарь. Он и крестил Ольгу…
Трудные годы
Что же произошло потом, после блистательного и широковещательного мероприятия крещения? С чего начался процесс охлаждения Вэса к жене? На это наброшен покров тайны, и сама Светлана в своей книге «Далекая музыка» отделывается от этой щекотливой темы лишь констатацией факта, что они с Ольгой после Рождества 1971 года стали жить отдельно от Вэса в новом доме, «зарегистрированном на имя мистера и миссис В. В. Питерс».
Одиночество матери и дочери нарушала женщина по имени Памела, приходившая сидеть с Ольгой. Светлана не пишет о своих душевных переживаниях, напротив, с умилением говорит о том, что здесь, в их новом доме, было спокойно и уютно, исчезли бесконечные посетители, являвшиеся в товарищество. Вэс остался в Талиесине, изредка навещая жену и дочь. По словам Светланы, он был глубоко уязвлен ее решением жить вне коммуны.
Раздельное проживание супругов привлекало внимание журналистов. Через несколько месяцев после мирной и спокойной жизни у дверей дома, где жили мать и дочь, возник первый корреспондент местной газеты, которого Светлана не пустила в комнаты. Их беседа состоялась через сетчатую дверь: Светлана была не одета и не желала, чтобы ее видели босой и в утреннем балахоне.
— Почему вы здесь? — таков был первый вопрос журналиста.
— Это наша с мистером Питерсом частная резиденция, — находчиво отозвалась Светлана.
— Но до нас дошли сведения, что вы живете раздельно, — настаивал тот. — Вы хотите подать на развод? — бесцеремонно поинтересовался он.
— Конечно нет! Я только отделилась от коммунальной жизни в Талиесине! — ответила Светлана, не подозревая, какую бурю вызовут ее слова в Талиесине. Как! Ей не нравится жизнь в коммуне, в этом замечательном поселке, где собрались единомышленники! Можно представить возмущение Ольги Райт, когда она прочитала Светланино интервью в газетах.
Светлана бросила вызов Талиесину, и он был принят. Тотчас коммуна выдала свою версию: «Они разделились, и муж желает теперь только развода». Между тем муж еще ничего подобного Светлане не говорил.
Тогда Светлана решила обратиться к специалисту по проблемам брака. Она рассказала врачу свою жизнь, начиная с раннего детства. После этого специалист пригласил для беседы Вэса. Встречи врача то со Светланой, то с Вэсом продолжались в течение довольно длительного времени, — за это время супруги ни разу не виделись!
Заключение, которое он высказал Светлане, повергло ее в состояние шока. Оказывается, Вас ни в малейшей степени не желал примирения. Он хотел только одного: поскорее «выбраться» из этого брака. Доктор сказал, что это вполне обдуманное решение и Светлане придется с ним свыкнуться и думать дальше, как жить одной.
Вот когда Светлана пожалела, что не согласилась жить в Талиесине вместе с Вэсом. Но было поздно, и в скором времени она в этом убедилась.
«Однажды поздно вечером я просто больше не могла сопротивляться, села в машину и поехала в Талиесин. Было уже темно, и я остановилась вдалеке от входа. Я знала, как пройти задами к нашей комнате и террасе, смотревшей на дорогу, и никто не увидел бы меня. В это время все обычно находились в своих комнатах, уставшие от долгого дня работы. Я тихо прокралась из сада по нашей террасе и приблизилась к стеклянной двери, ведущей в дом.
Мое сердце упало. Все было в том же порядке, как я оставила, все здесь — старинное оружие на стене, иранская средневековая сабля, подвешенные растения, книги, друзы и другие минералы — все, что Вэс любил видеть вокруг себя. Я тихо прошла по гостиной и увидела Вэса, сидевшего в шелковом халате, босиком, спиной ко мне. Он смотрел телевизор и не шевелился, совсем как камень. Тогда я подошла ближе, коснулась его плеча рукой, и слезы полились из моих глаз.
Он встал с таким же точно лицом, как тогда, когда я увидела его в первый раз: печальным, с глубокими вертикальными складками вдоль щек. Он был бледен, уставший и не мог найти слов. «Ты должна уйти, — сказал он, боясь, что кто-нибудь увидит меня там. — Ты должна… Ты должна…» Больше он ничего не мог сказать, и я тоже. Он направился к двери, все еще босиком, и я последовала за ним. Он знал путь, которым я пришла сюда, и пошел со мною к моей машине, стоявшей среди кактусов и крупных камней пустыни. Вокруг никого не было. Только яркие звезды мерцали на черном небе. Мы молчали.
И я поехала обратно, все еще не в состоянии сдержать слез…» («Далекая музыка»).
В одной газетной заметке тех времен Ольга Райт была названа журналистом свекровью Светланы. Эта обмолвка не случайна. Ольга Ивановна фактически не являлась свекровью Светланы, матерью ее мужа, но в житейском и в то же время в духовном плане она действительно сыграла в жизни супругов ту зловещую роль, которую часто приписывают властолюбивой свекрови.
Она желала быть для них больше, чем свекровью, больше, чем матерью. Ольга Райт, особа амбициозная, претендовала на роль духовного гуру коммуны, и ни один ее член не мог быть свободен от ее влияния.
Это согласно ее отчетливо выраженному желанию Вэс потребовал от жены полного слияния с жизнью Товарищества Талиесин. Он хотел видеть ее в роли первой Светланы, как уже говорилось. И Ольга Райт должна была знать о каждом шаге «невестки», о каждой ее мысли. И Вэс метался между двумя женщинами, каждая из которых обладала сильным характером. Светлана не желала подчиняться Ольге Ивановне, как некогда ее мать Надежда Аллилуева не захотела подчиниться требованиям мужа — быть бессловесной рабой.
Однажды — это произошло вскоре после свадьбы Вэса и Светланы, — Ольга Ивановна почувствовала, что последняя как бы ускользает от нее, и призвала Светлану для серьезного разговора.
Светлана была настроена решительно: она приготовилась дать отпор Ольге Райт. Разговор состоялся тяжелый. Ни одна сторона не пожелала вразумительно изложить суть своих претензий к другой, разговор был полон намеков и недомолвок. Ольга дала понять Светлане, что вне Талиесина для нее не может быть жизни. Светлана в свою очередь намекнула на то, что она не привыкла к тому, чтобы ею манипулировали.
И тут Ольга Райт умолкла, устремив пристальный взор на непокорную «невестку». Она, конечно, знала, что ее взгляд обладает магнетическими свойствами. Этим взором ей уже, наверное, не раз приходилось укрощать непокорных. И он парализовал волю Светланы, она почувствовала, что как будто рассыпается изнутри. Она ощутила свое тело бескостным, ноги у нее подогнулись.
И вдруг Светлана упала перед Ольгой Ивановной на колени и, заливаясь слезами, стала целовать ей руки.
На такой эффект Ольга Райт и рассчитывала. Она могла торжествовать. Она даже в завуалированной форме похвалила Светлану.
— Теперь у вас все будет хорошо, — произнесла Ольга Ивановна.
Но такие вещи не проходят для души безболезненно. Такое надругательство над человеческой волей, позже осознанное Светланой, не могло не вызвать протест.
Светлана, очнувшись от чар, горячо корила себя за проявление слабости. Теперь она испытывала к Ольге Райт глубокое, непреодолимое отвращение.
Ее решению жить вне товарищества способствовало еще одно обстоятельство. Между Ольгой Ивановной и ее дочерью Иованной шла открытая борьба за лидерство в Талиесине. Иованна обладала также сильным характером, аналитическим умом и энергией. Она не желала быть рядовым членом товарищества, жаждала власти. А Ольга Ивановна не хотела сдавать свои позиции главы Талиесина.
Эта борьба была исполнена драматизма. Иованна, чтобы немного разрядиться, прибегала к наркотику. Между матерью и дочерью происходили чудовищные сцены, свидетелями которых были многие.
Кончилось все это тем, что у Иованны вдруг вспыхнул страстный роман со студентом-архитектором, который был моложе ее на четверть века. С ним вместе Иованна вскоре и покинула товарищество.
Кстати, на крестинах, которые широко описывались прессой, произошло событие, также приблизившее развод Вэса и Светланы. Ольга Райт закатила обоим истерику. Ей не понравилось, что здесь, в церкви, главным действующим лицом стал младенец, тогда как «мистер Райт был совсем забыт». Конечно, Ольгу Ивановну обидело не то, что никто не вспомнил словом ее покойного мужа, а то, что она сама играла в этом спектакле далеко не главную роль.
Итак, Светлана осталась одна — в который раз! — с ребенком на руках.
Соглашение о разделе имущества супругов было подписано в июле 1972 года. Светлана отказалась от претензий на ферму и земли Вэса. Ей досталась только крохотная ферма Май-Катчин, которую она тут же продала. По суду Светлана получила родительскую опеку над дочерью. Думается, Вэс и без суда уступил бы ей опеку.
По американскому закону он мог встречаться с дочерью, но Вэс делал это крайне редко. По его поручению с Ольгой виделась его сестра Мардж.
Светлана снова перебралась в Принстон, купив свой прежний дом на улице Вильсона, дом № 50.
Годом позже их с Вэсом Питерсом развели в штате Аризона. Светлана не присутствовала при разводе.
Светлана заявила журналистам, что остаток своей жизни посвятит исключительно воспитанию дочери, а книг больше писать не будет.
Но и тут она столкнулась с новыми для себя трудностями.
С первыми ее детьми, Иосифом и Катей, Светлана не знала забот и хлопот — ими занимались няньки. С Ольгой же ей пришлось заниматься самостоятельно, она была вынуждена делать всю ту незнакомую ей прежде работу по уходу за ребенком, которая изнуряет многих женщин творческого плана. Купать девочку, выгуливать ее, кормить — все эти обязанности выполняла она, хотя время от времени к ней на помощь приходили девушки-студентки.
В два с половиной года Ольга пошла в ясли при пресвитерианской церкви в Принстоне.
Светлана сделалась довольно активной прихожанкой епископальной церкви Всех Святых. Но и религия не могла унять ее тоски и беспокойства. Она все еще тосковала по Вэсу и, чтобы заглушить эту боль, уложив Ольгу спать, потягивала джин с тоником. Одно время ей даже показалось, что она стала алкоголичкой, поэтому Светлана обратилась к врачу. Врач успокоил ее, заявив, что, раз уж она не пьет по утрам, до алкоголизма ей еще далеко.
Между тем стала давать знать о себе проблема денег… У Светланы накопились большие долги. Она была вынуждена забрать дочь из дорогостоящей школы, в которую та начала ходить, и продать дом.
Узнав от друзей о том, что в Калифорнии жизнь дешевле, чем в Нью-Джерси, Светлана решила переехать туда.
Внимательно вглядываясь в жизнь нашей героини, поневоле сделаешь вывод, что Светлана Аллилуева была крайне беспокойной натурой, которая искала себя по всему миру и нигде не могла найти.
Переезжая с места на место, она всегда руководствуется каким-то веским предлогом для очередного переезда, хотя, если подумать, у нее достаточно в то же время мотивов для того, чтобы не трогаться с насиженного места.
Покидая Советский Союз, Светлана убедила себя и всех, что ей необходимо отдать последний долг мужу-индусу, развеять его прах над Гангом… Попросив политического убежища в американском посольстве, она считала, что там, за рубежом, она наконец-то обретет свободу, хотя ценой этой свободы будет вечная разлука с детьми… Уезжая из Принстона в Калифорнию, она твердила себе, что там жизнь дешевле, — но ведь перемена места жительства всегда влечет за собою большие расходы… Но и в Калифорнии ее не удержала «дешевая жизнь». Она вдруг вспомнила о пасторе епископальной церкви в Принстоне, который поддерживал своими советами ее и Ольгу, и опять поспешила вернуться в Нью-Джерси.
Все это странно! Ведь, в сущности, Светлана сидела на мешке с золотом, которым не сумела как следует воспользоваться. У нее безусловно были писательские способности, уникальная жизненная биография, которой обычно писатели не пренебрегают, обращая свои трагедии в статью дохода… Оказавшись на Западе, она могла стать биографом своего отца, к тому ее и призывали американские издатели. Это было всем интересно, именно это — ее отец, его окружение, ее детство, из которого она могла бы черпать и черпать, рыться в архивах, чтобы освежить свою память, сидеть в библиотеках — и необходимость переезжать с места на место отпала бы сама собой…
Но и в творчестве она мечется, как в жизни. Не может сфокусировать внимание на том, что единственно и интересно в ней людям.
Увы, такова неугомонная натура Светланы Аллилуевой, трагедия человека, не сумевшего обрести семью, дом, осуществить собственное призвание.
1972–1982 — это десятилетие Светлана считает самым унылым периодом своей жизни. Хотя и в это время судьба посылает ей небольшие сюрпризы.
Таким даром судьбы явилось для нее знакомство с Френсис Райт — вдовою сына Ф. А. Райта Джона. Френсис очень любила старика Райта и терпеть не могла его вдову. У них со Светланой нашлась общая тема для разговоров. Талиесин, считала Френсис, мог сломать хребет кому угодно. Она сама много потерпела от Ольги Ивановны, потому драма Светланы была ей понятна, как никому другому.
Они много говорили о Вэсе: Светлана не могла его забыть, хотя прошло уже много времени и надежд на воссоединение с ним не было никаких. Френсис, как могла, утешала ее.
После того как Френсис уехала из Калифорнии, Светлане наскучила ее «дешевая жизнь», и она опять вернулась в Принстон.
Сначала она сняла квартиру, а позже смогла купить маленький домик с садом. Ольга вернулась в школу, стала брать уроки верховой езды, французского языка, училась играть на гитаре.
До десяти лет девочка и не подозревала о том, что она — внучка Сталина. Ольга совершенно не знала русского языка, росла стопроцентной американкой. Поговаривали, что отношения между матерью и дочерью были напряженными. В письме своему другу из Кембриджа Светлана жалуется: «Я связана по рукам и ногам этой длинноногой и пустоголовой, испорченной девчонкой. В воскресенье она возвращается в школу, слава Богу! Когда она со мной, я, как никогда, тоскую о Кате и Осе, они всегда были такие милые»…
Между тем Иосиф, о котором мать тосковала, вдруг неожиданно прислал ей письмо. Он сообщал матери, что жена ушла от него, забрав сына, что теперь его ничего не удерживает на Родине и он хочет жить в Америке, где живет самое родное для него существо.
Светлана с этим письмом обратилась к послу из госдепартамента Кеннану. Она просила его похлопотать, чтобы Иосиф смог приехать к ней. Кеннан потребовал от нее обещания, что сын, погостив, вернется в Советский Союз. Но такого слова Светлана дать ему не могла. Контакт с сыном прекратился.
Желала ли она на самом деле приезда сына в Америку? Возможно, что нет, возможно, ее испугала мысль о том, что ей придется взять на себя заботы о человеке, которого она уже не знала, хоть он и был ее родным сыном. С нее достаточно было забот об Ольге.
Светлана побывала в Англии, участвовала в программе Би-би-си. После этого у нее возникла идея об очередном переезде. К тому же в Принстоне она познакомилась с Терри Уайтом, в прошлом миссионером англиканского причастия в Африке, большим подвижником, отважным и необыкновенно добрым человеком. Он сказал Светлане, что ее дочери лучше всего учиться в Англии, в пансионе квакеров, где учились дочери его друзей, и что он сам похлопочет за Ольгу.
Действительно, учеба дочери в хорошей школе — чем не предлог для очередного переезда? И Светлана вновь покидает Принстон. В августе 1982 года она перебирается в Англию, в Кембридж, где Терри Уайт помог ей отыскать квартиру.
«В Кембридже, на старой зеленой улице с профессорскими домами в викторианском стиле, ныне сдаваемыми поквартирно и покомнатно приезжим преподавателям, нашими хозяевами оказались милейший профессор аграрной экономики — веселый усатый старик, внешне скорее француз, чем «типичный англичанин», и его худенькая болезненная жена. В их громадном особняке, кроме нас, жили еще две семьи квартиросъемщиков…
По приезде мы с Олей сразу направились по крутой лестнице на самый верх, в мансарду, откуда открывался чудный вид на уже золотящиеся деревья большого сада. Хозяйка объяснила сложные приемы добывания горячей воды в ванной, которые показались мне устаревшими даже по сравнению с московскими квартирами. В гостиной и спальне я не нашла никаких отопительных приборов, кроме газового камина и чрезвычайно старомодной маленькой электропечки. А красивые большие окна, глядевшие в сад, были без вторых рам и обещали стужу зимой…» («Книга для внучек»). Позже Светлана приобретет другую квартиру в Кембридже, довольно удобную.
В Лондоне ей предложили работу на Би-би-си, но Светлана, не желая заниматься «политикой», отказалась от этого довольно выгодного места. К тому же она рассчитывала, что ей удастся третья книга, идею которой подал английский писатель.
Книга «Далекая музыка» была написана, но издатель вдруг решил, что раз она «об Америке — пусть в Америке ее и издают». Светлана переправила рукопись в Америку. Оттуда пришел ответ, в котором говорилось, что издательство хотело бы напечатать ее книгу о детстве, о Кремле, о Сталине… Светлана же считала, что обо всем этом написала уже достаточно, и не пожелала возвращаться к теме «Кремля». После долгих мытарств книгу удалось издать в Индии благодаря усилиям Тикки Кауля, который много лет тому назад увез туда первую книгу Аллилуевой «Двадцать писем к другу».
Ольга училась в квакерской школе, от которой была в восторге. Когда Светлана, принявшая католичество по приезде в Англию, попыталась устроить дочь в католическую школу, та решительно отказалась от этого.
В Кембридже Светлана познакомилась с Верой Трайл, дочерью Александра Гучкова, бывшего военного министра Временного правительства. Обе женщины быстро подружились, у обеих было весьма богатое прошлое. Светлана подарила Вере Трайл телевизор. Дружеские отношения они поддерживали до тех пор, пока Светлана не решила вернуться в Советский Союз: узнав о ее намерениях, Вера с нею поссорилась. Светлана была уверена, что больше не увидит Веру. Но по возвращении из Советского Союза она окажется в числе немногих людей, провожающих дочь Гучкова в последний путь.
Религиозные поиски Светланы продолжались. «Мне нужна была вера, способная охватить все человечество, весь земной шар, вера без «национальной гордости», без «патриотизма», без «побед» одного народа над другим…» Но, сделавшись католичкой, Светлана не оставила своей второй, после православия, любви. В Англии жил индийский философ Кришнамурти, книгами которого зачитывалась Светлана. Она решила встретиться с ним, рассказать философу о том, что она переводит его «Дневник» на русский язык. Эта встреча произвела на нее большое впечатление.
«Я говорила ему, как мне хочется вновь побывать в Индии, на что он просто сказал: «Предоставьте это мне. Я помогу вам». Я верила, что он хочет мне помочь, но также сознавала, вполне ясно, как оторван он от всех практических решений ежедневной жизни. Чтобы он смог мне помочь, нужно было, чтобы все члены колоссального Треста, который издавал его книги и владел самим автором, согласились бы с ним. А в этом я совсем не была уверена. Шла какая-то скрытая вражда с индийским обществом Кришнамурти, все еще державшим копирайты его ранних книг. Все это было так далеко от маленького смуглого святого в джинсах и синем свитере, быстро шагавшего по проселку меж полей и звавшего нас всех к миру, любви и полному слиянию с природой. Хотелось забыть о всех копирайтах и просто идти вслед за ним, наслаждаясь этими редкими моментами…»
Сюда, в Кембридж, неожиданно позвонил ей сын. Как давно она не слышала голос Иосифа, даже не сразу узнала его. А он был поражен ее английским акцентом. Разговор оказался сумбурным, но сын сказал, что Светлана теперь может беспрепятственно звонить ему в Москву.
То, что сын смог позвонить ей в Англию и высказать пожелание, чтобы и она звонила ему в Москву, явилось для Светланы свидетельством нового политического курса в СССР. К власти пришел Андропов. Наверное, Иосифу дали понять, что Кремль не станет препятствовать его сношениям с матерью. Зная немного сына, Светлана решила, что этот звонок — не его личная инициатива, что он санкционирован властями.
Теперь и она сама стала звонить в Москву. Иосиф разговаривал с Олей по-английски. Светлана беседовала с новой его женой Людмилой. О Кате Иосиф сообщил матери, что она — геофизик, живет на Камчатке, замужем, у нее растет дочь Анюта.
«Звонки туда и обратно продолжались весь 1983 год, а затем и 1984-й. Мне было неожиданно трудно сочетать эту мою обычную жизнь за рубежом, ставшую для меня давно нормой, в особенности после рождения Оли, с этими вестями «оттуда». Я сделала невероятное усилие забыть, что там что-то и кто-то существует, почти перестала говорить по-русски, и мои заботы были все здесь. Теперь я вдруг узнавала новости и подробности о моих двух внуках, немного о Кате, а главное — не переставал звучать в ушах голос сына, какой-то совсем другой… А когда прибыла его фотография, я поняла, что голос должен быть иным.
Передо мной на фото был не тоненький элегантный мальчик с короткой стрижкой и юмором в глазах, нет, на меня смотрело стареющее лицо с мешками под глазами лысоватого, но, главное, совершенно подавленного человека. Я так испугалась этой фотографии, напомнившей мне моего брата-алкоголика в последние годы его жизни, что немедленно позвонила в Москву и потребовала объяснений.
«Ты пьешь, — сказала я без предисловий. — Я узнаю эти опухшие глаза. Мы их видели предостаточно». Сын засмеялся, но ничего не объяснял. Голос его теперь был грубым, он часто сквернословил в письмах и по телефону, как это любил делать и мой брат. Что это — показная «близость к народу», как полагают сегодня многие советские интеллигенты? Он говорил, что его Люда «из простых и хорошо готовит». Так, может быть, все это, чтобы быть с ней в унисон? Он не был таким с Еленой — умной, красивой переводчицей с французского и польского языков. Вдруг стало страшно за него. Внезапное сходство с моим братом, которое раньше не обнаруживалось, было тревожным знаком.
Я предложила, чтобы мы все встретились летом 1984 года в Финляндии, в каком-нибудь курортном месте. Советским разрешали довольно легко ездить в соседнюю Финляндию. Мне так хотелось видеть его, а не только слышать. Но он сказал, что это невозможно. Тогда я предложила, чтобы он просил правительство о посещении меня в Англии: всем было известно, что мы не виделись уже 16 лет. Разрешили звонить, может, разрешат и поехать? На недельку? Я все оплачу. Нет, сказал он, это также невозможно. Значит, они полагают там оба, что я могу приехать. Но такая мысль была для меня все еще совершенно дикой».
«Путешествие на Родину»
Путешествием на Родину назвала три года спустя свою поездку Светлана Аллилуева. Хотя, уезжая, она искренне надеялась, что это будет возвращение домой!
В жизни все неожиданно, случайно и необъяснимо — в этом она давно убедилась. Может быть, кому-то, на счастье или муку, суждено стабильное, монотонное существование. Кто-то десятилетиями ухитряется прожить в одних стенах, с одним и тем же супругом, детьми, внуками. Но только не Светлана Аллилуева! Ей выпали скитания и одиночество, долгая разлука с семьей.
Она вспоминала в «Книге для внучек», что звонок сына из Москвы, первый за семнадцать лет, тоже стал неожиданностью и лишил ее душевного покоя. Но вот что рассказывал об этом сам Иосиф Григорьевич Морозов.
«В 1983 году получил письмо, в котором она просила меня помочь возвратиться на Родину, говорила, что находится в тяжелейшем положении, что если она не вернется, то жизнь ее потеряет смысл. Тогда я позвонил ей в Лондон. Для меня это было не так-то просто. Ведь она была лишена советского гражданства, а времена тогда были совсем не те, что сейчас. И тем не менее я старался понять ее, помочь ей» («Хроника жизни семьи Сталина»).
Значит, беспокойная мысль о возвращении зародилась задолго до звонка сына. Сама Светлана Иосифовна не скрывает, что не раз писала ему в Москву, но никогда не получала ответа. Почему же вдруг невыносима стала разлука с детьми и внуками? Настолько, что Светлана не могла ни думать, ни говорить ни о чем другом с близкими и с чужими. Она советовалась с приятельницей. Приятельница ей призналась, что не представляет себе жизни без детей и внуков. Даже корреспондентке «Обсервера» Светлана говорила о своей тоске. Но корреспондентка ее не поняла, интересовалась больше политикой.
Наверное, с тоской по дому связано в эти годы ее резкое неприятие и Америки, и Англии. «Мой идеализм по отношению к Америке испарился очень быстро, — не раз повторяла она друзьям и журналистам. — Попав в этот «самый свободный мир», я не была в нем свободна ни одного дня. Там я попала в руки бизнесменов, адвокатов, политических дельцов, издателей, которые превратили имя моего отца и мою жизнь в сенсационный товар».
Но и в туманном Альбионе Светлана не обрела душевный покой и счастье. Хотя она с большой симпатией описывает уютный Кембридж, их с Ольгой маленькую квартирку с видом на Ботанический сад, интересных людей вокруг. Англия слишком чопорная и «закрытая» для пришельцев страна. «В Америке вас немедленно включают в общую жизнь, и вы становитесь частью ее, хотите вы этого или нет. В Англии вам этого никто не предлагает, ибо принадлежность к британской нации священна и ее не бросают к ногам каждого приезжего». Светлана сравнивает, и сравнения не всегда в пользу их нового пристанища. Вот и Ольгу не приняли в учебное заведение «высшего класса», потому что они только для урожденных британцев, к тому же слишком дороги. А Ольгу в Англии считали какой-то «полурусской эмигранткой», и попала она только в интернациональную школу квакеров.
Ощущать себя «вторым сортом» не всегда приятно, но Светлана и Ольга сжились с этим чувством «в силу привычного интернационализма и отсутствия ложной гордости». Как никогда, Светлане сейчас нужны были друзья. Для того чтобы посоветоваться, хотя следовала она советам только в том случае, если они совпадали с ее собственным внутренним убеждением. Для того чтобы пожаловаться и излить душу.
Она позвонила Владимиру Ашкенази, который всегда находил для нее время, несмотря на занятость. Рассказала ему о том, что в Америке было хоть какое-то «чувство дома», в Англии они это чувство утеряли.
«Слушая по телефону мой довольно бессвязный монолог, — вспоминала Светлана Иосифовна, — он едко заметил:
— Ну знаете, если вам здесь не нравится и в Штатах не нравится, так не поехать ли вам обратно в Советский Союз?
Меня уязвил его тон: еще смеется! Хорошо ему: вся семья и дети с ним, живет королем в Швейцарии, повсюду резиденции… И я ответила в его же тоне: «А что, возможно, и воспользуюсь вашим советом». И повесила трубку» («Книга для внучек»).
Рассудок подсказывал ей не спешить, все взвесить, обдумать. И астрологический прогноз, с которым Светлана регулярно советовалась, рекомендовал то же самое — «не предпринимать серьезных решений, так как ясное понимание сейчас затуманено». Но она всегда безоглядно следовала только «логике сердца». Махнув рукой на прогноз — глупости, она села писать письмо советскому послу с просьбой разрешить вернуться.
В сентябре 1984 года Светлана приехала поездом из Кембриджа в Лондон и направилась в советское посольство. Долго звонила у чугунной калитки старомодного особняка, пока не появился угрюмый молодой человек, один из сотрудников. Острый критический глаз Светланы отметил все — и дурно сшитый пиджак, «москвошвеевский», на своем собеседнике, и полное отсутствие хороших манер (ее продержали у калитки, так и не впустив, пока посол по телефону не дал «добро»). И какая-то недружелюбная, полная подозрительности атмосфера внутри посольства, куда ее наконец допустили. Это была первая встреча с советским миром после семнадцати лет отсутствия.
Ее попросили зайти через неделю. Но она была уверена, что волокита затянется на долгие месяцы. За это время она успеет подготовить Ольгу. Светлану очень мучила эта проблема: «Если я все скажу ей сейчас, она не даст нам уехать. Она все остановит. В свои тринадцать лет она уже стала такой сильной. Но ей там понравится среди семьи. Я чувствовала себя противно, как будто обокрала кого-то; следовало бы все сейчас же отменить, послать ко всем чертям… Но этого я не могла уже сделать».
Вначале у Светланы была мысль не брать с собой дочь. Она послала письмо ее тетке в Калифорнию с просьбой взять девочку к себе, если «с ней случится что-либо неожиданное». В ответ Мардж потребовала от нее справку от врача о состоянии ее здоровья: так ли велика опасность? В который раз Светлана пришла в ярость от американского образа жизни и мышления, такого делового, бессердечного. Но, может быть, ей не хотелось повторять старые ошибки. Снова, как в 1967 году, весь мир будет кричать, что она кукушка, бросающая своих детей.
События развивались слишком стремительно. Советское посольство проявило невероятную расторопность: через неделю Светлану встретили с распростертыми объятиями и предложили вернуться домой немедленно, если не завтра, то в ближайшее время. Светлана растерялась: «Но мне необходимо как-то уладить это с дочерью, ведь она еще ничего не знает».
Они собирались с Олей слетать в Грецию весной или осенью. Светлана надеялась найти в этой стране сходство с Черноморьем, столь дорогим ей по воспоминаниям детства. Когда Ольга вернулась из школы на каникулы, мать сообщила ей, что через два дня они будут в Афинах, но оттуда полетят в Москву, чтобы увидеться со всей семьей. Ольга слегка встревожилась, но не возражала.
— Но потом я вернусь в школу? — спросила она.
— Да! — заставила себя сказать Светлана, решив, что позднее в Афинах откроет ей всю правду.
В Греции им пришлось провести всего три дня. Им показывали достопримечательности, Акрополь, Афины. Светлана с тревогой наблюдала за дочерью и отмечала, что Ольга ведет себя великолепно, улыбается, увлеченно покупает подарки родственникам в Москве. Она всегда любила магазины, и на этот раз выбирала кроссовки и спортивную сумку для своего племянника Ильи, сына Иосифа.
Правда, по вечерам в гостинице она продолжала донимать Светлану расспросами. И когда узнала правду — из Афин они не вернутся в Англию, — пришла в негодование, осыпала мать упреками.
«— Ну ты понимаешь ли, наконец, что я не видела их столько лет? — говорю я в полном отчаянии.
Да, она понимает это. И умолкает. Мы обе молчим. И плачем, каждая на своей постели» («Книга для внучек»).
Когда самолет уже летел над подмосковными заснеженными полями, Светлана отметила, что не волнуется, не плачет счастливыми слезами. На душе у нее было нехорошо, она нервничала, повторяя про себя: скоро я увижу отца, увижу их всех… Даже очутившись в аэропорту Шереметьево, она не могла ответить на вопрос, стал ли ее приезд на Родину «каким-то сумасшествием или, совсем наоборот, глубоко обоснованным и необходимым шагом, который судьба заставляет нас совершить вопреки «здравому смыслу», но в соответствии с мудростью Божией, которую мы часто не в силах распознать, так как не укладывается она в наши узкие земные рамки».
Светлана наотрез отказалась встречаться с сыном в аэропорту. Ее сдержанная натура протестовала против этой трогательной сцены на глазах у посторонних. И жить они с Ольгой решили в гостинице, а не у родных. Светлана за годы скитаний привыкла к гостиницам и чувствовала себя там удобно и естественно.
В Шереметьево их встретил официальный представитель, вернее, представительница с дежурной улыбкой на устах, в строгом деловом костюме. Ольга с любопытством оглядывалась вокруг, а Светлана была словно в параличе от нервного возбуждения. Хорошо, что у них в запасе целый час для того, чтобы приготовиться к встрече. Из окна автомобиля она смотрела на Москву и не узнавала ее. Еще семнадцать лет назад, когда она улетала в Индию, здесь бесконечно тянулись почти сельские окраины, теперь все было густо застроено безликими серыми коробками.
Наконец, они очутились в огромном фойе гостиницы «Советская». И навстречу идет Ося! Они обнялись и стояли молча посреди зала. Очнувшись, Светлана заметила в сторонке своего первого мужа Григория Морозова с какой-то полной, седеющей дамой лет пятидесяти.
Дама оказалась ее новой невесткой. Светлана была неприятно поражена и не сумела скрыть этого. Или не посчитала нужным. Сын уже сообщил ей по телефону, что вполне счастлив, что Люда хорошо готовит. «Но что-то в Людином лице никак не дает мне успокоиться», — говорила проснувшаяся в Светлане привередливая свекровь.
Едва ступив на родную землю, Светлана не раз отмечала, и не без удовольствия, что сама она давно полностью вошла в иные правила жизни и почти забыла советские, дикие установления и предрассудки. Но будь она истинной американкой, то скрыла бы за лучезарной улыбкой свое разочарование и заключила Люду в материнские объятия. Наверное, это было бы неприятно слышать Светлане, но гены живучи, и даже через столько лет в ней немало осталось доморощенного, советского.
Непонятно, по чьей вине, но трогательной, теплой и радостной встречи не получилось. Всем тягостно, неловко. Светлана возблагодарила Бога, что пришел Гриша. Он, как всегда, прост и легок, наслаждался своей ролью распорядителя, повел всех в номер, по дороге весело болтая с Ольгой по-английски. Зоркий глаз Светланы отметил, что Ося не сказал сестре ни слова, не обнял ее.
В роскошном двухкомнатном номере они продолжали бестолково суетиться, натыкаясь друг на друга. Григорий, оказывается, все предусмотрел, обо всем подумал, заказал ужин. Он приказывает гостям «освежиться» и спускаться вниз в ресторан. В ванной, как Светлана и ожидала, дочь выплеснула на нее свое раздражение и, глядя на нее «злыми глазами, сказала: «Он только посмотрел на меня сверху вниз, потом снизу вверх и не сказал ни одного слова!»
— Деточка, он в обалдении. И я тоже. Ты пойми! — примирительно и чуть виновато отвечала Светлана.
В ресторане все усаживаются за стол, уставленный закусками и батареей бутылок. Иосиф рядом с матерью, и они держатся за руки. Светлана жадно разглядывает сына, наконец у нее появилась возможность внимательно его рассмотреть. Он выглядит старше своих тридцати девяти, лысоват, располнел в талии, «ничего не осталось от молодого стройного мальчика с веселыми глазами». Говорить трудно, потому что в зале, как принято, орет музыка. Спасатель Гриша не оставляет Ольгу, подкладывает ей что-то на тарелку, переводит разговоры родных.
Светлана не упускает случая беззлобно подшутить над этим застольем и русскими традициями, глядя на себя и близких чуть-чуть со стороны и сверху: «Гриша наливает всем водки — потому что вот так встречают сына после семнадцати лет разлуки… Я не пью этот яд, никогда не пила, но тут приходится подчиняться правилам и традициям: нам всем надлежит напиться, упиться, лишиться всякого рассудка, плакать горючими слезами, обниматься, целоваться и рыдать друг у друга на плече… В силу своей образованности мы не можем этого себе позволить, но мы все-таки напиваемся в этот вечер как следует. Нельзя даже и помыслить, чтобы этого не произошло» («Книга для внучек»).
На другой день Светлана энергично занялась делами, хотя голова еще была тяжела после того, как они по-русски «отпраздновали» ее приезд. В первую очередь ей предстояло устроить дочь, занять ее учебой, найти ей друзей, чтобы Ольга забыла об Англии и своей квакерской школе. Вскоре симпатичная молодая преподавательница Наташа стала по утрам заниматься с девочкой русским языком. Ольга как будто была увлечена уроками, со своей преподавательницей общалась легко и непринужденно.
Наташа оказалась человеком нового поколения. Она доверительно посоветовала не отдавать Ольгу в советскую школу, так как это может вызвать нервное потрясение у ребенка. Светлана была поражена, услышав это. Не потому, что идеализировала советские школы, а потому, что в ее время о таких вещах не думали и о психическом здоровье детей никто не заботился. Значит, прогресс медленно, но приходит и в СССР. И здесь появились детские психологи, с мнением которых вынуждены считаться педагоги.
С первых же дней Светлана ощутила пристальное внимание к себе властей и слишком навязчивую заботу. Ей постоянно давали понять, как она должна вести, себя на родине, как жить, в какую школу определить дочь. Но Светлана слишком привыкла к свободе и самостоятельности. Все же она пыталась приспособиться к советской жизни, хоть это было совсем не просто. «Я совершенно отвыкла от советского образа жизни, и возвращение к нему, к его обычаям и нравам было для меня сейчас так же трудно, как и для ничего не понимающей Оли», — писала позднее Светлана в «Книге для внучек».
Для начала чиновница Министерства просвещения сообщила ей пренеприятное известие — «английские школы в Москве давно закрыты как эксцентричная выходка Хрущева». Но остались школы с углубленным изучением английского языка, и им с Ольгой в ближайшее время предстоит выбрать одну из них. Дама-чиновница не скрывала, что кому-то там «наверху» не терпится, чтобы Ольга Питерс как можно скорее села за парту. Но Светлана все-таки решила не спешить и сначала внимательно изучить предложенные школы.
Скоро ей нанесли визит два представителя МИДа, брюнет и блондин с голубыми глазами, которого Светлана тут же окрестила про себя «Розовые щечки». Они заявили, что она немедленно должна подать прошение о восстановлении своего гражданства СССР и о принятии Ольги в таковое. Светлана пыталась объяснить, что, пока она не встретится с дочерью Катей и другими родственниками, их планы на будущее неопределенны. Куда спешить? Пока их с Ольгой вполне бы устроило двойное гражданство.
— Нет! — твердо заявили «Розовые щечки». — Мы не признаем двойного гражданства. Советский Союз ничего подобного не признает.
Светлана даже рассмеялась, не боясь показаться непочтительной. Чиновники очень напомнили ей гоголевских героев, и сама ситуация была гоголевской.
Но у нее сейчас не хватило бы сил на борьбу и нервы были на пределе, поэтому она покорно подписала все бумаги. Подписала, твердо зная, что у них с Ольгой сохраняется двойное гражданство, пока они публично не откажутся от него, в присутствии посла США и под присягой.
«Розовые щечки», очень довольный ее уступчивостью, забрал их американские паспорта, прихватив коллегу, удалился. Процесс восстановления гражданства обычно длился долгие месяцы, для Светланы Аллилуевой и Ольги Питерс он был завершен в несколько дней, немыслимые для советской бюрократии. Зато их официальный выход из гражданства СССР занял два года!
25 октября 1984 года Светлана Аллилуева с дочерью прилетели в Москву, а 1 ноября в Верховном Совете СССР уже был подписан указ о том, что отныне они являются полноценными советскими гражданками. Но все эти превращения мало занимали Светлану. Она думала о Кате и ждала известий с Камчатки, телеграммы, письма, втайне надеясь, что дочь приедет повидаться с ней.
Иосиф сказал, что Катю уже оповестили о ее приезде. Светлана пыталась разузнать у него больше подробностей о жизни дочери, о ее муже, малышке внучке. Но Ося не мог удовлетворить ее любопытства, он мало что знал о сестре. Похоже, брат с сестрой не были особенно близки, виделись нечасто и редко обменивались вестями. Это открытие Светлану не обрадовало.
Но тревожиться было еще рано, хотя дни шли, а весточки от Кати не приходили. Но «я все еще надеялась, что как-то все образуется, — вспоминала Светлана. — Как-то уладится, и мы наконец окажемся с Олей в атмосфере семейного тепла. Хотя первые признаки того, что это может оказаться лишь беспочвенным мечтанием, были уже налицо» («Книга для внучек»).
Светлана старалась как можно чаще общаться с родственниками и приучать к ним Ольгу. Но прежде чем полностью погрузиться в дела семейные, она решила провести пресс-конференцию, рассказать журналистам, что их возвращение продиктовано чисто личными мотивами, а не политическими — желанием соединиться с семьей, с детьми и внуками. Ей очень бы хотелось, чтобы пресса оставила их с Ольгой в покое, не подстерегала у гостиницы, не докучала на улицах.
И тут началась комедия, как именует сама Светлана «подготовку» к пресс-конференции. Ее попросили написать текст своего выступления по-русски, чтобы переводчик затем перевел его. Все это делалось для того, чтобы исключить прямое общение между ней и репортерами, как будто она не умела говорить по-английски. Светлана поняла, что в русских газетах бессовестно переврут ее слова. Так, по ее утверждению, и случилось.
На пресс-конференции совсем не было западных журналистов. В основном русские и из стран Восточной Европы. Светлана пыталась донести до них свою заветную мысль, ради которой и затеяла это коллективное интервью: «Прошу вас всех понять, что я вернулась в город, где родилась почти 59 лет назад. Здесь — моя школа, мой университет, мои друзья, дети, внуки. Я наконец дома. Что вам еще? Что я должна объяснять? Меня приняли с великодушием, с доброжелательностью, которой я даже не ждала. Моя просьба о гражданстве была быстро удовлетворена. Нас приняли, как принимали блудного сына в библейские времена. Я только могу сказать, что бесконечно благодарна!»
Светлана говорила о том, что вначале очень идеализировала «свободную» Америку и вскоре пережила жестокое разочарование. Те, кто уехал туда в надежде разбогатеть, разбогатели и довольны своим существованием. Многиё же из тех, кто был одурманен идеями псевдодемократии, к ним Светлана относила и себя, мечтают вернуться, но боятся наказания.
И «переводчик» из газеты тут же вольно интерпретировал ее слова. В западной прессе появились статьи о том, как «Аллилуева ненавидит Америку». Светлана утверждает, что она с благодарностью вспоминала, как встретили ее в Америке в 1967 году: она была любимицей прессы и телевидения. Слово «pet» — любимица перевели как «любимая собачка». В тексте заявления для прессы это так: «Я стала в эти годы любимой дрессированной собачкой Си-ай-эй, тех, кто дошли даже до того, что стали говорить нам, что я должна писать, о чем и как». Сама Светлана уверяла впоследствии, что никогда не произносила этих глупостей о Си-ай-эй.
А вот от этих слов Светлана никогда не отрекалась. Она повторяла их не только публично, на пресс-конференциях, но и своим близким, например Владимиру Аллилуеву. Он упоминает об этом в «Хронике одной семьи». «Все эти годы меня не покидало чувство вины, — признается Светлана. — Сколько я ни старалась вполне искренне жить так, как все американцы, и наслаждаться жизнью, у меня этого не получалось… Моя жизнь за границей постепенно утрачивала всякий смысл. Моей целью было не обогащение, а жизнь среди писателей, художников, интеллигенции. Я хотела заниматься фотографией, языками. Однако из этого ничего не вышло…»
Светлана не скрыла от журналистов, что не сбылись ее мечты о карьере писателя. Последняя книга «Далекая музыка» «о невеселом американском опыте и разочарованиях» не вызвала интереса у американских и английских издателей. Она вышла в Индии небольшим тиражом и прошла незамеченной в книжном мире.
Недоброжелатели Аллилуевой отчасти этим объясняли ее решение вернуться в СССР: ее книги не имели успеха, сбережения кончились, и она якобы вернулась, надеясь на Родине переиздать «Двадцать писем к другу» и «Далекую музыку». Другие утверждали, что в СССР Аллилуева приехала с единственной целью — собрать материал для новой книги. Но Светлана своими творческими планами с журналистами не поделилась.
В заключение она сказала, что собирается жить в Москве «тихой частной жизнью», и просит журналистов оставить ее в покое, потому что ей отвратительно вмешательство прессы в личную жизнь.
Но неугомонные журналисты не вняли ее просьбе. Их с Ольгой продолжали подстерегать на улице, пытались взять интервью у девочки. И тогда Светлана в который раз показала, что в гневе она может быть страшна. Журналистов-соотечественников она могла виртуозно послать «по-русски», иностранцев — по-английски. Одну такую сцену сумел запечатлеть на улице репортер с кинокамерой, и «в таком виде я подала на экран», — с возмущением писала Светлана в «Книге для внучек». Пресса всегда доставляла ей немало огорчений. Но она привыкла к наглости и вранью репортеров. И даже убедила себя в том, что ей совершенно безразлично, что о ней пишут. В эти дни ее волновали только отношения с близкими…
«Неуютная Москва»
В квартире, где Светлана прожила много лет с детьми, казалось, ничего не изменилось — та же мебель, те же книги. На нее не нахлынули ни волнение, ни ностальгические воспоминания. Светлана никогда не умела привязываться к «месту» или к вещам. Может быть, только в детстве. Но годы скитальческой жизни отучили ее «болеть» за собственность и недвижимость.
Наконец-то Светлана увидела своего внука Илью. Она так стремилась к внукам, так мечтала об этой встрече. И не могла скрыть своего разочарования: «Ничего общего с моим сыном я не нашла в нем, он был как-то странно «не мой внук» — очень холоден, смущен, не знал, куда девать руки, куда смотреть. Ольга преподнесла ему кроссовки и сумку «Адидас», купленные ею в Афинах, — он не проявил никаких эмоций. Ее шокировало это, ведь это была ее собственная идея, она сама выбирала… В Америке дети всегда бросаются на любой подарок и горячо благодарят, здесь же принято не выражать чувств».
Пятнадцатилетний Илья и Ольга так и не нашли общего языка, хотя Илья говорил по-английски. И снова атмосфера семейной встречи была натянутой, холодной и недружелюбной. Светлана была так благодарна Грише за то, что он своей легкостью и добродушием сумел все сгладить.
Отношения с невесткой, да и с сыном Осей тоже не складывались. Кто был виноват в этом больше — трудно сказать. Скорее всего, обе стороны не желали проявить терпимость и снисхождение. Светлана не чувствовала за собой никакой вины. Она всего лишь сделала сыну замечание за столом, что ему при гастрите нельзя пить и лучше воздерживаться от обильной жирной пищи, соблюдать диету. Невестка в ответ не пожелала промолчать и ясно дала понять, что она в этом доме решает, что они должны есть и пить.
Дальше — больше! Светлана, с единственной целью сделать невестке приятное, опрометчиво предложила называть себя «мамой». На что Люда бросила, «взглянув на свекровь острым взглядом недобрых глаз: «Ну, это мы еще посмотрим!»
— Была бы честь предложена, — коротко ответила Светлана.
Бедный Гриша только вертел головой в изумлении».
Об этих самых невинных стычках упомянула Светлана в «Книге для внучек». Наверное, происходили и другие, более серьезные. Потому что всего через месяц отношения с сыном и невесткой испортились окончательно, непоправимо.
Сын и внук так и не зашли ни разу в гостиницу навестить их с Ольгой, спокойно посидеть и поговорить наедине. Иосиф отговаривался: «Люда не может», а без Люды он не привык ходить в гости. Светлана ничем не могла объяснить эту разительную перемену в сыне. «Не он ли плакал в телефонную трубку, когда я жила в Англии? Спрашивал: «Неужели я тебя больше не увижу?! Ну вот, я здесь» («Книга для внучек»). Но Иосиф больше не ее сын, а Людин муж.
И только встреча и общение с кузенами Аллилуевыми принесли утешение и истинную радость. Их с Олей встретили радушно, обласкали. «Мамины племянники, с которыми я почти что росла вместе, мало изменились. Теперь в возрасте от 50 до 58 лет они были все так же хороши собой — все высокие, стройные, худощавые, белозубые, с карими веселыми глазами — просто загляденье, — и выглядели куда моложе своего возраста. Они женаты, с детьми, с хорошей работой, их жизнь идет хорошо — после ужасающих лет, когда родители умирали, погибали в тюрьме; они знали годы нищеты, общественного остракизма, все на свете…» («Книга для внучек»).
Вместе с кузенами Светлана посетила Новодевичье кладбище, могилы матери, бабушки и дедушки, тети Ани и дяди Павла, своей дорогой няни. Рядом с их могилами появилась новая: недавно умер от укола героина двадцатилетний сын Василия. И сам Василий должен был лежать здесь, но все хлопоты родственников о перезахоронении его останков не увенчались успехом.
Посещение кладбища навеяло на Светлану черную тоску. Вспомнились старые друзья и дорогие когда-то люди, которых она уже не застала в живых, — Алексей Каплер, Фаина Раневская, Татьяна Тэсс, Александр Александрович Вишневский. Из-за депрессии Светлане кажется, что «каким-то могильным духом веет от Москвы, и у меня такое чувство, что мы попали на кладбище».
Ее грусть и одиночество скрашивают общение с племянниками. Они молодые, веселые, еще не сломленные жизнью. Они так же, как кузены, приняли и обласкали Олю. Девочка наконец-то почувствовала себя в кругу семьи. Гуля, дочь Якова, стала специалистом по алжирской литературе, хорошо знала французский. На французском она и общалась с Ольгой.
Больше всех поразил Светлану ее племянник Александр, старший сын Василия. Кто бы мог подумать, что этот боязливый, хрупкий мальчик сделает такую головокружительную карьеру, станет известным режиссером Театра Советской Армии! Светлана всегда была честолюбива, а Америка тем более приучила ее оценивать людей по тому, как они преуспели в жизни, какую сделали карьеру. Она гордилась племянником, даже испытывала волнение, когда после спектакля он выходил на сцену, раскланивался перед зрителями.
Несмотря на известность, жил Александр в небольшой квартирке, убранной с большим вкусом, чистой и уютной. Он совсем не пил, подчеркнула Светлана, хорошо говорил и много читал. Ей так надоели бесконечные застолья с водкой, селедкой, солеными грибами, — без этих «атрибутов» не обходились общения с родственниками.
Светлана общалась и с другими племянниками, но почему-то не обо всех написала позднее в «Книге для внучек». С сыном Якова Евгением Джугашвили отношения у них быстро испортились. «Из доброго и умного племянника я превратился в Женьку — хама и зазнайку», — признался Евгений Яковлевич.
У нас есть возможность взглянуть на пребывание Светланы в Москве со стороны — глазами ее племянников, сына и кузена Владимира Аллилуева. Отношения в этом большом семействе такие сложные и путаные, что разобраться в них очень сложно. Но почти все родственники, как и прежде, обвиняют Светлану в непредсказуемости, нетерпимости, грубости. В общем, клеймо «трудный характер» она носила на себе всю жизнь.
Когда племянник Евгений пригласил ее в гости, Светлана поставила условие: она явится только в том случае, если не рискует столкнуться у него с сыном и невесткой. При этом она не могла сдержаться от оскорбительных выражений в адрес Иосифа и его жены. Пораженный Евгений Яковлевич позвонил брату. «Ты бы почитал ее письма моему руководству, — грустно поведал ему по телефону Иосиф. — Она требует исключить меня из партии, лишить ученого звания и, что самое страшное, требует, чтобы меня после всех лишений выслали на Сахалин!» («Хроника жизни семьи Сталина»).
Поверить в это было нелегко, но не поверить — вовсе невозможно, потому что брат был для Евгения Яковлевича человеком здравого ума и ясной памяти. Но ему еще предстояло на собственном опыте убедиться в странностях характера родной тетки. Светлана все-таки удостоила их семью своим посещением. Жена Евгения Яковлевича, грузинка, накрыла стол «в грузинском стиле». Еще бы, сама дочь И. В. Сталина после семнадцати лет мытарств на чужбине» вернулась на Родину, к родным людям! Евгений Джугашвили свято чтит своего великого деда и в семье сумел создать что-то вроде культа вождя.
Поэтому принимали Светлану с особым гостеприимством не только как родственницу, но и как дочь. Но спустя некоторое время в академию, где служил полковник Джугашвили, пришло письмо, подписанное Светланой Аллилуевой, где она настоятельно требовала «разобраться» с племянником, так как он явно живет не по средствам и имеет побочные, незаконные доходы. Хорошо, что времена наступали вегетарианские: в академии только посмеялись над письмом. А приди такое послание несколькими годами раньше, да еще с такой подписью, и партком мог с удовольствием заняться поисками побочных доходов и «моральным обликом» своего подопечного.
Как выразился один из родственников Светланы Аллилуевой, «она любила всяческую писанину». К сожалению, ее любовь к слову не ограничивалась воспоминаниями. И письма она писала не только «к другу», но и в различные инстанции, похожие на доносы. Сын и племянники отнеслись к письмам как к выходкам нервной, чрезвычайно эксцентричной женщины, как к нелепым происшествиям, которые следовало бы скрыть от посторонних глаз, если бы это было возможно.
А вот Надежда Бурдонская, дочь Василия, отнеслась к тетке без всякого снисхождения — к ее нервам, наследственному тяжелому характеру и нелегкой судьбе. Как матери, ей был непонятен внезапный отъезд Светланы за границу, когда «она бросила своих детей на произвол судьбы». Не верила Надежда и в показную скромность тетки: это, по ее мнению, та самая скромность, которая паче гордости. Светлане всегда нравился шепоток за ее спиной: «Это дочь Сталина». Надежду поразило резкое несоответствие: в своих книгах Светлана была одна, в жизни — совсем другая…
«Когда она бывала у меня дома, уже после возвращения в СССР, я обратила внимание вот на какую деталь, — вспоминала впоследствии Надежда. — Ее больше всего интересовало, как сложилась семейная жизнь ее близких. Удалась или нет? Мне кажется, что это от ее глубокого одиночества. В ее жизни не нашлось спутника, который прошел бы вместе с ней через все трудности и, когда надо — заслонил собой» («Хроника жизни семьи Сталина»).
Действительно, внимание к личной жизни близких было у Светланы не только пристальным, но и ревнивым. Если эта жизнь не складывалась, она проявляла что-то вроде скрытого удовлетворения, хотя сочувствовала и изъявляла готовность помочь. И в то же время ей невыносимо было видеть счастливые супружеские пары. Евгений Джугашвили был счастлив в браке. Именно поэтому его супруга вскоре получила письмо от Светланы с советами бросить мужа и в одиночестве «воспитывать прекрасных деток». Сыну она тоже настоятельно рекомендовала развестись.
Пошлине в этой женщине обитал какой-то демонический дух разрушения, который усиливался к зрелым годам. Этот дух подтачивал силы и нервы Светланы, не давал ей тихо и спокойно жить на одном месте. Интересно, что писала она об отце еще в «Двадцати письмах к другу»: «Вокруг отца как будто очерчен черный круг, все попадающие в его пределы гибнут, разрушаются, исчезают из жизни». Из всех детей Сталина дочь больше всего была на него похожа. Только масштабы личности, конечно, несоизмеримы у отца и дочери.
Надежда каким-то внутренним женским чутьем угадала эту раздвоенность в Светлане, ее беспокойный разрушительный дух. И Светлана была слишком наблюдательна, чтобы не заметить жесткий проницательный взгляд племянницы. Она пробовала подкупить Надю. Та жила очень скромно с дочерью и мужем-актером. Светлана предложила купить ей дубленку в валютном магазине, по тем временам недосягаемую роскошь. Надежда гордо отказалась от подачки. Вскоре их отношения были прерваны, Светлана даже не упоминает племянницу в «Книге для внучек». Какое-то время она продолжала благоволить к Гуле, Яшиной дочке, но и эта родственная привязанность была обречена…
Уже через месяц Светлана поняла, что ее мечты очутиться в кругу семьи, ощутить его тепло — несбыточны. Может быть, она мечтала о том, чего нет на свете. Счастливые семьи, конечно, встречаются, но они выглядят исключением на общем безрадостном фон§. Социология уже не одно десятилетие пророчит полный распад института семьи. Находят множество тому причин — бедность, неустроенность, жилищные проблемы, разгул индивидуализма, общая тенденция к разобщенности среди людей.
Даже в провинции, в деревне сегодня трудно найти семью, в которой уживаются под одной крышей три поколения — старики, дети и внуки. Не только свекровь с невесткой не могут поладить, как это было испокон веков, но и близкие по крови — родители с детьми, братья с сестрами. Клан Аллилуевых не был исключением, даже с большой натяжкой его нельзя назвать дружным.
Через все книги Светланы проходит мечта о семье, ностальгия по родным. Эта ее старомодная и трогательная «семейственность» так и осталась мечтой, игрой воображения. Представим себе, что мечта сбылась… Смогла бы Светлана ужиться с родными если не под одной крышей, то хотя бы в одном городе? И все, кто ее знал, отвечали без колебаний — нет! Причина этого в ее несчастном характере. И о Светлане то же сказал много лет назад Новалис: «Характер — это судьба!»
Кроме неприятностей с родными, Светлану раздражала опека властей, постоянное напоминание, что они должны делать, как и где жить, куда ехать. Она не терпела никакой власти над собой и за годы жизни в Америке и Англии привыкла к полной свободе, хотя признавала, что свобода часто соседствует с бедностью и одиночеством. Но лучше уж такое соседство, чем откровенный деспотизм.
Через несколько недель после их приезда власти решили, что новым советским гражданам пора осесть, переехать из гостиницы в свою квартиру. Им предложили роскошное по советским меркам жилье — четыре комнаты общей площадью девяносто квадратных метров в новом доме на улице Алексея Толстого, построенном для членов Политбюро и их семей.
«Начинайте жить!» — сказал официальный представитель, показывавший нам это великолепие, как будто до этого мы еще никогда не существовали», — с иронией отметила Светлана. И вежливо отказалась от квартиры, объяснив, что она слишком велика для двоих, все заботы об уборке лягут на ее плечи. На самом деле ей не хотелось жить в одном доме с советской элитой, где у дверей всегда стоял постовой, где за ней всегда наблюдали бы соседи и официальные соглядатаи.
Светлана была уверена, что за ней следят и днем и ночью. Эта мысль превратилась у нее в манию — вокруг одни чекисты. Даже ее любимым ругательством стало «Чекист проклятый». Может быть, в Москве это опасение было небезосновательным: за ними с Ольгой всегда следовал «чекист» для того, чтобы оградить их от нежелательных общений. Но еще в Америке Светлана обвинила некоторых своих знакомых и даже друзей в том, что они — «агенты КГБ».
При всех странностях этой беспокойной женщины вызывает уважение ее совершенное равнодушие к мирским благам. В Америке она заработала на книжке огромные деньги, но как-то бездумно их потратила. В Москве она могла жить безбедно, жить за казенный счет: ей предоставили роскошную квартиру, пенсию, служебную машину и множество других льгот. Она от всего этого, не задумываясь, отказалась. Много ли в наши дни сыщется таких бессребреников?
Не только племянница, но и многие более или менее проницательные люди замечали, что Светлана — человек с двойным дном, что скромность ее показная, на самом деле она очень горда, тщеславна, нетерпима. Да, она с детства была неплохой лицедейкой, умела «работать на публику». В Америке эти способности проявились еще ярче.
О муже Питерсе Светлана как-то обмолвилась, что он «весь на публику», как это принято в Штатах. Там очень заботятся о своем имидже и судят человека не по тому, кем он является на самом деле, а по тому, как он себя подает.
Но, несмотря на искусный грим, человеческая сущность все равно проступает, особенно трудно скрыть алчность, корысть и скупость. Без сомнения, равнодушие Светланы к деньгам, недвижимости и прочей собственности было вполне искренним.
Мягко, но настойчиво Светлане не раз напоминали, что пора выбрать школу для Ольги, что она должна учиться, как все нормальные советские дети. Знакомство с привилегированными московскими школами стало для Светланы еще одним хождением по мукам.
«Директор первой такой школы встретил нас с нескрываемым ужасом. Он прямо заявил мне, пока Олю водили по классам, что «будет очень трудно, очень трудно для нее и для всех нас!». Произнес он это с таким выражением, что мне стало понятно, что именно он имел в виду: Олиного деда, чьей тени он не желал в своей школе» («Книга для внучек»).
Светлана действительно позабыла советские реалии. Позднее ей объяснили, что у директора этой школы жена иностранка, следовательно, и без Ольги хлопот хватает, он живет словно «под колпаком». К тому же школа находится недалеко от университета, в ней учатся дети университетских преподавателей. Директор боялся, что научная элита будет недовольна присутствием в школе внучки Сталина. Светлана не пишет, сумела ли она понять обстоятельства несчастного директора. Обычно она не умела делать это — считаться с чужими обстоятельствами, но с каким-то детским эгоизмом требовала, чтобы окружающие безропотно входили в ее собственные.
В следующий по счету школе ни дети, ни учителя не говорили по-английски. Там Ольгу готовы были принять с распростертыми объятиями. «Ничего! — сказала радостная директорша. — К нам вьетнамские дети поступают — ни словечка не знают, а смотришь, через полгода уже заговорили!» Но Светлана никому не позволила бы так жестоко экспериментировать над своим ребенком.
В третьей школе директриса напоминала тюремную надзирательницу. Она до смерти напугала Ольгу, и та умоляла мать не отдавать ее в эту страшную школу. Светлана и не собиралась. Школа явно была «показушной», туда возили иностранцев и показывали им хороших советских детей. И Ольгу стали бы демонстрировать как одну из достопримечательностей.
А Ольга и была достопримечательностью среди советских школьников. Одевалась она слишком по-американски — в джинсы и свитера. На груди поверх свитера — непременно огромный крест, наверное, так принято было в квакерской школе. Нетрудно догадаться, что педагогический коллектив был не в восторге от новой ученицы. «Американка» могла оказать дурное влияние на детей. Русские девочки ходили в школу в темных юбках и светлых блузках. По крайней мере борьба за официальный стиль одежды продолжалась. Нарушителей наказывали. И только спустя несколько лет были сделаны некоторые послабления.
Учителя пытались экзаменовать Ольгу и обнаружили ее вопиющее невежество. «Она совершенно не знала русского языка, не знала она ни географии, ни истории СССР, ее знания по естественным наукам и математике были весьма примитивными. В школе квакеров ее учили и иным предметам, и иными методами, чем в СССР» («Свита и семья Сталина»).
Вряд ли Светлана согласилась бы с подобной характеристикой, хотя в своей книге «Далекая музыка» она довольно откровенно и проницательно оценивает характер дочери. Она любила Ольгу, но не утратила при этом способности судить о ней строго и объективно. Только не выносила, когда это делали посторонние.
«Ольга никогда не оставалась долго в плохом настроении и не помнила обид и огорчений. Эта легкость и эластичность была у нее от отца: когда-то в молодости он был очень жизнерадостным человеком», — с удовольствием отмечала Светлана эту замечательную черту в характере дочери. Но не скрывала, что порой Ольга была упряма, раздражительна, слишком самостоятельна для своих лет. От кого ей досталась по наследству эта переменчивость настроений — нетрудно догадаться.
Еще в Америке Светлана обнаружила, что ее одиннадцатилетняя дочь становится очень беспокойным подростком. Она жить не могла без телевизора, просиживала возле него часами, и больше всего на свете любила шумные компании сверстников. Тут у них обнаружились разногласия: Светлана не позволяла слишком часто устраивать «тусовки» у них в доме. Она сама любила больше ходить в гости и поощряла к этому дочь. Но вскоре возникли новые осложнения…
«В школе Олю характеризовали как «проблемного ребенка». Дочь вдруг начала испытывать отчуждение. Вдруг ее перестали приглашать в гости девочки. А некоторые учительницы вдруг начали находить в ней уйму недостатков… Ольга начала жаловаться мне на то, что девочки плохо к ней относятся. Это было нечто новое» («Далекая музыка»).
Она склонна объяснять такие перемены вовсе не характером Ольги, а тем, что в школе прослышали, чья она внучка. В это время Светлана уже страдала «манией преследования»: многие знакомые казались агентами КГБ или недоброжелателями ее отца. С годами эта болезнь все усугублялась…
Однажды утром Светлана обнаружила, что дочери нет в ее комнате. Ольга сбежала из дома, оставив ей записку. В то время по Америке прокатилась эпидемия побегов: подростки часто сбегали из дома, чтобы таким образом заявить протест против тирании родителей и учителей и вкусить свободу. Светлана во всем винила проклятый телевизор. Именно по телевизору ежедневно показывали, как вытряхнуть деньги из копилки, написать записку родителям и сразу же идти на автовокзал, а уж оттуда ехать куда глаза глядят.
Светлана была в отчаянии. Что, если дочь уже успела сесть в автобус и уехать куда-нибудь в большой город, где ее подстерегает множество опасностей? Хорошо, что сосед оказался отзывчивым человеком, быстро сел в машину и отправился на поиски Ольги. Вскоре он вернул ее, напуганную предстоящим объяснением с матерью.
После этого случая Светлана всерьез задумалась о переезде в Англию и о частной школе для Ольги, где ее держали бы в узде. Очевидно, сама она уже не справлялась с «беспокойным подростком». Были и другие причины для переезда, в том числе и ее «охота к перемене мест». Но все же проблемы с дочерью оказались решающим.
Об отъезде в Москву она до последней минуты боялась сказать дочери. В Москве Светлана продолжает бдительно наблюдать за ней, особенно когда они встречались с родственниками или с представителями властей. «Ольга вела себя замечательно», «Ольга вела себя хорошо», — то и дело замечает она на страницах «Книги для внучек», как будто это так уж важно. Для Светланы, наверное, немаловажно. А читатель, естественно, предполагает, что девочка могла вести себя и иначе.
Историк Рой Медведев считает Ольгу чуть ли не главной виновницей того, что Светлана так и не прижилась на Родине и вынуждена была вернуться:
«Главные осложнения возникли из-за тринадцатилетней Ольги, проявившей самостоятельность и упрямство. Она не желала учиться в советской школе…» («Свита и семья Сталина»).
Большинство знакомых и родственников свидетельствовали об обратном: это Ольге часто приходилось страдать от вспышек необузданного гнева и раздражительности матери. И тут, как всегда, на защиту кузины встал Владимир Аллилуев:
«Нередко в печати высказывались о деспотическом отношении Светланы к дочери. Скажу сразу — это ложь. Они долго жили у меня, и я могу с полным основанием судить об их отношениях. Мать и дочь сильно любят друг друга. Я не знаю больше ни одного человека, кроме Ольги, который бы делал со Светланой все, что ему вздумается. Конечно, они могут поругаться. Светлана может накричать на Ольгу — это обычные ссоры, которые бывают в каждой семье. Но вот проходит пять, десять минут, и они вновь сидят обнявшись. А еще через пять минут Светлана уже готова на любые дела во имя Ольги» («Хроника одной семьи»).
В том, что Москва показалась Светлане неуютной, Владимир Станиславович винит не Ольгу, а детей, близких родственников, которые не проявляли терпения и великодушия, не помогли ей прижиться на Родине. Власти слишком допекали ее своим вниманием, журналисты тоже не оставляли в покое. От всего этого день за днем у Светланы накапливались раздражение и горечь. Уже через месяц она решила, что будущего у них в Москве нет.
Почему-то в «Книге для внучек» она редко вспоминает о своих московских друзьях и встречах с ними. Друзья, окружение всегда много значили для Светланы, едва ли не больше, чем родственники.
Друзья могли бы поддержать ее после возвращения. Но Рой Медведев утверждает, что «старые друзья не спешили возобновить с ней знакомство». Наверное, так оно и было, некоторые наиболее осторожные ее друзья предпочитали не рисковать. В те времена слишком близкие отношения с иностранцами считались опасными, а Светлана все-таки была «американкой».
Александр Колесник писал в своей «Хронике», что Светлана звонила некоторым сослуживцам и старым знакомым, может быть, и встречалась с ними. Но с кем именно, он не уточняет, и, как видно, близость с друзьями юности не восстановилась. Светлана навестила только старого друга, которому посвящены «Двадцать писем к другу», Федора Федоровича Волькенштейна. Но эта встреча оказалась скорее тягостной и не принесла ей ничего, кроме огорчения.
Федор Федорович был очень недоволен ее пресс-конференцией. Он усмотрел в ее высказываниях много подобострастия и неправды. Ему не понравилось ее критическое отношение к Америке, приютившей ее, чрезмерная благодарность к советскому правительству и, конечно, «собачка Си-ай-эй». Светлана с обидой оправдывалась: неужели он не понимает, что она не могла говорить таких глупостей, что ее выступление тщательно «отредактировали».
«Он долго молчал, потом сказал с силой: «Зачем ты приехала? Мы все привыкли к тому, что ты живешь за границей. Твои дети в порядке — ты же знала это. Что ты будешь теперь здесь делать? Ты видишь, как твой приезд использовали для пропаганды? Ведь тебе-то этого не нужно!» Я молчала. Он прав, конечно, как всегда. Я еще не могла сказать ему: «Мы уедем», так как я все еще надеялась. Это было жестоко — не давать мне права любить своих детей. Но он был прав. Это я тоже знала» («Книга для внучек»).
Федор Федорович, или Фефа, как называла его Светлана, был одним из немногих людей, сумевших ее разгадать. Он понимал, что ее возвращение — это иллюзия», что она не сумеет вновь прижиться в Москве. А так как Федор Федорович был очень болен и знал, что скоро умрет, то не считал нужным ничего смягчать и говорил со Светланой откровенно. Через несколько месяцев его не стало.
Владимир Аллилуев, которому по наследству от матери досталась нелегкая миссия миротворца в семействе, любил кузину, защищал ее от нападок. Но при этом очень хорошо понимал сложности ее характера: склонность впадать в иллюзии, жить ими, а потом страдать от разочарований, метаться в поисках очередной иллюзии.
В Америку Светлана уехала с надеждой жить среди писателей, художников, творческих людей. В Россию вернулась с мечтою о семейном тепле. Друзья ей нужны были как воздух. Часто она принимала за друзей просто знакомых, приятелей и приятельниц, людей, которые относились к ней с интересом и любопытством. По этому поводу Владимир Станиславович с грустью писал: «…но в одном Светлана меня не убедила — будто у нее много друзей у нас и за рубежом. Я был бы счастлив, если бы это было так, ведь тогда ей не пришлось бы колесить по всему свету в поисках желанного пристанища» («Хроника одной семьи»).
…Всего месяц прожила Светлана с дочерью в Москве. «Этот месяц был сплошным кошмаром» — к такому выводу пришли они на семейном совете. Светланой стали овладевать панические настроения: «Зачем мы приехали сюда. Боже, Боже! Какое идиотство, какая опрометчивость, какие новые цепи я надела на себя опять, — разве мы сможем так жить? Бедная, бедная моя Оля! Ведь ее запихнут не сегодня завтра в эту показательную школу, где завуч так похожа на тюремщицу!»
Почему-то близкие и знакомые ее не понимали. Бывший муж Григорий считал, что все идет прекрасно, что они с Олей неплохо устроились. Советовал не волноваться по пустякам и почаще принимать валидол. Но Светлана уже чувствовала, как нарастает в ней знакомое беспокойство — уехать, немедленно бежать. Но куда? Она уже придумывала предлоги: в Москве их преследуют корреспонденты, они с Ольгой привыкли жить в таких маленьких городках.
Светлана очень верила в сны и астрологические гороскопы. И вот то ли во сне, то ли среди ночного бдения у нее «возник образ страны, где она никогда не жила, но где родились, жили, женились, любили почти все ее предки». Еще в Греции, когда им показывали достопримечательности Афин, ей привиделась Грузия — то же море, те же лица с темными глазами и черными кудрями, образ Георгия Победоносца, покровителя Грузии в одной из афинских церквей.
«Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей», — повторяла я всю ночь. А наутро было готово решение… Нам с Ольгой сейчас самое место там, раз уж мы не в состоянии выдержать всего нажима Москвы.
Я схватила бумагу и настрочила письмо в правительство, умоляя позволить нам уехать…» («Книга для внучек»),
За стеной Кавказа
«…Я говорил Светлане, что в Грузии она жить не сможет, но, если она что-то вбила себе в голову, переубедить ее было невозможно. Думаю, это была ее очередная попытка убежать от самой себя», — считает Владимир Аллилуев.
Светлана провела бессонную ночь, составляя очередное письмо в правительство. Наутро ее посетили представители Совмина и их с Ольгой опекуны из МИДа, не терявшие надежду, что она, Светлана, вскоре вновь окажется в «коллективе» и что ее дочь будет получать образование в СССР.
Светлана терпеливо ждала, пока ее не ознакомили с соответствующими документами. Потом сдержанно поблагодарила правительство за хлопоты и принялась читать вслух составленное ночью письмо.
В нем она умоляла позволить ей уехать «в провинцию», так как в Москве они с дочерью слишком на виду и все время будут подвергаться атакам западной прессы. Она ссылалась «на исторические и семейные связи с Кавказом», вспоминала всех известных ей родственников, проживающих в Тбилиси, где имелась даже улица Аллилуева в честь ее дедушки-революционера, обещала «полное понимание и сотрудничество с местными властями». Просьбы, доводы, обещания в этом письме щедро пересыпались благодарностями в адрес правительства, не оставляющего их своими заботами, но тем не менее, дочитав его до конца, Светлана увидела, как у ее посетителей буквально вытянулись физиономии. Конечно, они не могли сразу дать ответ и пообещали довести ее просьбу до сведения правительства. На том и расстались.
Через несколько дней Светлану пригласили в представительство Грузии, где она сразу ощутила не только доброжелательное отношение, но и некоторую атмосферу свободы, праздничного веселья, — и это убедило ее в том, что она приняла правильное решение. Представитель миссии, одарив ее улыбкой, заявил, что Светлане с дочерью разрешено поехать на жительство в Грузию, и добавил: «Это очень приятный сюрприз для нас!» Окрыленная Светлана быстро собирает вещи и, прихватив Ольгу, 1 декабря 1984 года летит в Тбилиси.
«Светлана с дочерью улетели в Тбилиси, когда К. У. Черненко оставалось жить считанные дни, завершалась, как сейчас говорят, эпоха застоя, на горизонте поднимался новый лидер — М. С. Горбачев.
В Грузии Светлане обеспечили вполне нормальные условия для жизни, ей даже предоставили персональную машину, чем вызвали возмущение некоторых наших сограждан, но им-то невдомек, что машина была выделена не столько для удобства Светланы, сколько для служб, контролирующих ее перемещения. По правде, машина ей не шибко была нужна, как и многое другое. У нее были кое-какие валютные сбережения, и она могла купить все необходимое, в том числе и машину, которую, кстати, умела прекрасно водить. Она еще с детства была приучена обходиться в быту только необходимыми вещами и никакой роскоши себе не позволяла. Иное дело различные бытовые удобства, к которым она привыкла, их отсутствие ее, конечно, раздражало, как и излишняя опека» («Хроника одной семьи»).
Светлане предоставили квартиру в доме, где жили партийные работники — с двумя спальнями и столовой. Предлагали прислугу, гувернантку для Ольги, от чего Светлана наотрез отказалась, зная, что это будет очередным средством надзора. Но с шофером личной машины, несмотря на его крайнее любопытство, пришлось примириться, хотя постепенно Светлана и ее дочь научились пользоваться и общественным транспортом. Купили мебель, обставили квартиру, украсили стены комнат домоткаными коврами.
К великой радости Светланы, здесь никто не настаивал на том, чтобы ее американская дочь уселась за парту рядом со своими грузинскими сверстниками. К Ольге приходили педагоги, учили ее русскому и грузинскому языкам, математике, музыке и пению. К тому же она стала посещать школу верховой езды и ездила там на лучшей лошади, которую предоставил в ее распоряжение министр школ Грузии, создатель этой школы. И еще девочка стала заниматься акварелью.
Первое время Светлана чувствует себя довольной, особенно она рада за дочь. «Ее сверстники здесь были в нескрываемом восхищении от Америки, и Оля была для них источником искреннего любопытства и симпатии: девочка, родившаяся в Калифорнии! Американка! Она выслушивала их дифирамбы, наивные восторги и расспросы и часто открывала им глаза на действительную Америку, которую они представляли себе как один нескончаемый Нью-Йорк с небоскребами и автомобилями…
…Мы встречались с художниками и скульпторами, с музыкантами и актерами театра и кино, с театроведами и кинокритиками просто уже потому, что Грузия — артистическая страна. Выставки, фильмы, спектакли и музыкальные события явили необычайно высокий уровень мастерства, красоту традиции, смелость новых поисков. Искусством здесь живут и дышат. Это воздух, а не что-то «прикладное». Оля, хорошо певшая, игравшая, легко танцующая, способная к живописи, была здесь как рыба в воде. Она ходила на выставки, мы смотрели новые фильмы. Даже балет «Лебединое озеро» здесь превращался в праздник национального торжества, потому что молодую грузинскую балерину только что отметили в этой роли в Большом в Москве. Теперь она давала гастроль на родине, и публика неистовствовала. Те немногие слова, что Оля выучила и могла сказать в грузинской компании, открывали ей повсюду сердца и двери…»
Но и на этом празднике жизни, который поначалу вызвал у Светланы прилив восторга и патриотизма, она вскоре начинает ощущать холодок официоза.
Встреча с Эдуардом Шеварднадзе, местным главой партии, страшно разочаровала ее. Он недвусмысленно дал ей понять, что ей во всем следует подчиняться желаниям Москвы, «севера». Разговор шел, как говорится, «на подтекстах». Шеварднадзе намекнул Светлане, что, пока Москва будет согласна с пребыванием ее в Грузии, он будет оказывать им с дочерью гостеприимство. Только ей следует «скорее войти в коллектив и начать делать переводы».
Услышав это, Светлана чуть не взвыла. Она и слышать не желала ни о каком «коллективе», она и сюда-то перебралась в надежде избавиться раз и навсегда от посягательств «коллектива» на свою личную жизнь.
Светлана выступила со встречным предложением: поскольку она по образованию историк, ей хотелось бы всерьез заняться историей Грузии, в особенности ранними веками христианства, а также средними веками «золотого» расцвета культура. При этих ее словах Шеварднадзе подобрался, некоторое время молчал, устремив на нее хмурый взор, а потом твердо сказал:
— Не надо вам этого!
И снова за нее решали, что ей надо, а чего не надо! И снова ее хотели вовлечь в принятые здесь игры, которые она так ненавидела. А главное — снова ей предъявляли счета как дочери «великого» Сталина или «проклятого» Сталина…
«Обожатели моего отца полагали, что я должна уделять больше внимания им и памяти Сталина. Я с большим трудом отговаривалась от различных публичных появлений и посещений, таких, например, как празднование 40-летия Победы в Тбилиси и в Гори, где нас с Олей специально попросили присутствовать. Мы не пошли, чтобы не стать центром общественного внимания.
С другой стороны, в Грузии, особенно в Тбилиси, много потомков чисток 30-х годов: Берия начал здесь намного раньше, еще до своего появления в Москве. Целое поколение партийных работников, технической интеллигенции, артистов, поэтов было стерто с лица земли. Грузин вообще меньше двух миллионов на земле. Теперь же мы видели глаза тех, кто унаследовал их имена и их искусство. Здесь все еще жила и практиковалась кровная месть, как в Сицилии — вендетта. Мы знали, что это здесь факт, а не «паранойя», как сказали бы американцы. Особенно заметны были эти горящие ненавистью глаза в церкви. Позже мы узнали, что многие подходили к патриарху с требованием, чтобы он «не допускал» нас к службе. Ему приходилось успокаивать негодовавших, напоминая им, что церковь — не место для мщения и ненависти…» («Книга для внучек»).
С момента приезда в Тбилиси Светлана пыталась реализовать идею, которая показалась серьезной и властям в Москве, по крайней мере против нее никто не возразил: она решила разыскать своих родственников в Грузии.
Ей чудилось, что здесь, в этом южном воздухе, присутствуют и поныне тени всех Аллилуевых, тени немецких ее предков, о которых она пыталась что-то разузнать. Что уж говорить о родственниках отца! Они должны были отыскаться!
Относительно немецких переселенцев ей сообщили, что всех их выслали после второй мировой войны, Аллилуевы все уехали из Грузии. Но в Грузии было много дальних родственников со стороны Светланиной бабушки Екатерины, которые всегда, даже во время пребывания у власти ее сына, держались скромно, в тени. Они не помышляли о столице, не требовали для себя каких-то льгот и теплых мест. Светлана немного была знакома лишь с троюродной сестрой отца Евфимией, которая когда-то приезжала в Москву, чтобы повидаться со Сталиным. Кое-что от нее Светлана знала и о других родственниках — скромном инженере, виноделе, дирижере оркестра, учителе.
Но грузинские власти не стали помогать ей в розыске родных. Светлана предположила, что, может быть, всех их преследовали после знаменитой хрущевской речи, возможно, предложили им уехать куда-нибудь подальше…
«Я, конечно, должна была познакомить свою дочь с детством ее деда — и мы отправились в Гори, смотреть музей. Крошечная лачуга, не более курятника, где вся семья ютилась в одной комнатушке, произвела неизгладимое впечатление на маленькую американку. «А где они готовили пищу?» — спросила она. Я перевела. «Летом на улице, — ответила экскурсовод, — а зимой тут в комнате, на керосинке». Здесь жили мальчик, его отец-пьяница и мать, зарабатывающая стиркой белья. Мать отдала мальчика в приходскую школу, где он изучал три языка: русский, грузинский, греческий (Оле показали парту, за которой он сидел). Потом он учился в семинарии, чтобы стать священником. Мы видели здание семинарии в Тбилиси. Он стал революционером: ушел из семинарии, уехал из Грузии. Долгие годы, десятилетия не видел свою родину и свою мать, растившую его на гроши. Потом, когда он стал главой государства, ее поместили в одну из комнат бывшего губернаторского дворца. Там старуха и умерла, огражденная «славой» и надзором КГБ от всего, что было ей привычно, но до самой своей смерти все так же неуклонно посещая церковь. Ольга знала, что совместно с Черчиллем и Рузвельтом ее дед выиграл войну против нацизма, у нее была фотография «большой тройки». Но только теперь, здесь, в этой маленькой лачужке, над которой возвышались холм и крепость, а дальше белели снеговые вершины, она могла увидеть жизнь не из учебников.
Музей, в который мы, как и все Аллилуевы, отдали большое количество семейных фотографий, всегда полон народа. Автобусы привозят туристов со всего мира. Интерес к человеку, родившемуся здесь в этом курятнике и ставшему главой мирового коммунистического империализма, — не подделка. Мы буквально не раскрывали рта, мы не хотели участвовать в спорах и высказывании «мнений». Мы прекрасно знали — и уже могли повсюду видеть, что жизнь идет вперёд, а не назад и что, возможно, здесь нам не будет в ней места…» («Книга для внучек»).
То, что в этой жизни ей не будет места, Светлана уже начала понимать, но она продолжала надеяться, что по крайней мере в сердцах родных людей ей найдется место. С сыном отношения не складывались, и теперь она надеялась на свою дочь Екатерину, с нетерпением ожидая от нее весточки.
Скорее всего, Светлана догадывалась, что весточка эта вряд ли принесет ей утешение — ведь Катя во время пребывания матери в столице бывала там, но не сообщала о своем приезде.
Письмо от нее пришло только в июне 1985 года с Камчатки, из города Ключи, где она жила и работала на станции Академии наук вместе с дочерью Анютой, которую иногда брала с собой «в поле».
Получив письмо с хорошо знакомым детским почерком, Светлана очень обрадовалась. Но радость эта была недолгой…
Екатерина писала матери, что не прощает ее и не простит никогда. Со свойственной ей непреклонностью она утверждала, что мать виновата не только перед нею, но и перед всем государством. Она требовала, чтобы Светлана не пыталась установить с ней контакт, не хотела, чтобы она вмешивалась в ее «созидательную жизнь». «Желаю Ольге терпения и упорства», — заканчивала свое письмо Катя и вместо подписи написала по-латыни ДIХI, означавшее «судья сказал».
Светлана утверждает, что ей стало смешно, когда она прочитала письмо до конца с этим вынесенным ей приговором. Но это, конечно, не так. Это — бравада. Наверняка письмо дочери очень больно ударило ее. Если она не нужна ни сыну, ни дочери, какой смысл был в ее приезде сюда, в Советский Союз?
А с другой стороны — на что она рассчитывала?
Приняв решение уехать на Запад, она учитывала только то, что о ее детях есть кому позаботиться, кроме нее, что они не пропадут, что у них есть любящие отцы… Но не подумала о том, что мать никто не может заменить. И холодность со стороны детей, их враждебность происходит не из-за того, что их здесь настроили против матери. Они имели полное право думать, что она бросила их, предала — и не желали считаться с причинами, вынудившими ее так поступить.
Светлана знала, что Катин муж недавно умер, стало быть, дочери приходилось очень нелегко. Странно, что она сетует на неблагодарность Екатерины, не написавшей ей «спасибо» за греческое платье, которое Светлана послала Анюте. Неужели греческое платьице могло загладить годы невнимания, пусть вынужденного, годы Катиного сиротства?
Как бы то ни было, она продолжала посылать дочери любящие послания на Камчатку, на которые больше не было ответа. Она, к несчастью, так ничего и не захотела понять.
«Я перестала понимать самые основы человеческой души, — сетует она в «Книге для внучек». — У меня были очень хорошие старшие дети, мы жили без конфликтов, присущих многим семьям, и именно от них невозможно было принять подобную перемену. Сама не знаю почему, но я так верила, что уж мои-то сын и дочь поймут все мои действия, мой побег и всю мою жизнь, последовавшую за ним, куда лучше, чем кто-либо «посторонний». И невозможно мне до сей поры понять, почему именно они-то и оказались наихудшими жертвами всей клеветы и пропаганды. Почему именно у них ничего не осталось в сердце от семнадцати лет нашего несравненного семейного счастья и взаимного понимания, которыми я так всегда гордилась и все последующие годы».
Закономерно, что, когда у Светланы не складывается личная жизнь, она устремляется к религии — но не к Вере, потому что в ней невозможно двоедушие.
Светлана ходит в православную церковь в Грузии, общается с католикосом, отстаивает службы и намертво молчит о том, что перешла в католическую веру. Плохая она христианка, католичка и православная, и длительное общение с католикосом ничего не может дать душе, насквозь пораженной двойственностью.
Разумеется, они с католикосом много говорили о ее отце.
«Я рассказывала ему то, о чем уже писала в «Двадцати письмах к другу», — этот последний жест умирающего, этот суровый взгляд, которым он обвел всех стоящих вокруг, показывая левой рукой с вытянутым указательным пальцем наверх. Это совсем не было обращено «к фотографии на стене» — как интерпретировал этот жест позже Хрущев (или тот, кто писал за Хрущева его официальные «мемуары»). Это был совершенно определенно угрожающий, наказующий жест с призывами Бога там, наверху, в свидетели… Поэтому некоторые, стоявшие близко к постели, даже откинулись назад. Это было страшно, непонятно. Потому что после нескольких дней затуманенного сознания оно вдруг на мгновение вернулось к нему и выражалось в глазах. В следующий момент он умер. Патриарх сказал, что именно в этом жесте — о котором он раньше не знал, так как книги моей не читал, — и было заключено, по его мнению, доказательство последнего обращения к небу».
Выслушав Светлану, католикос добавил:
«Грешник, большой грешник. Но я вижу его часто во сне, потому что думаю о нем, о таких, как он. Я вижу его потому, что молюсь о нем и могу войти с ним в контакт во сне. Я видел его осенявшим себя крестным знамением… Смотрите, что случилось с ним, когда он оставил Бога и церковь, растившую его для служения почти пятнадцать лет!»
Но ни пастырь духовный, ни появившиеся друзья, ни ощущение родины, которое подарила ей Грузия, не смогли удержать ее здесь. Минул год ее пребывания в Тбилиси, а она уже стала подумывать о том, как бы вырваться из Страны Советов.
Эти ее настроения совпадают с очередной переменой в руководстве страны. Умер долго болевший К. У. Черненко, весной Генеральным секретарем становится М. С. Горбачев. Наступает лето, в которое Светлана еще ничего не предпринимает.
Они с дочерью отправляются на курорт, на Черное море, любимое с детства. Ей хочется, чтобы и Ольге здесь было хорошо. И девочка как будто чувствует себя здесь как рыба в воде. Окруженная молодежью, она по-прежнему наслаждается ролью представительницы «свободного мира». Но отдых омрачает мысль, что со следующего года нужно посещать школу, сесть за парту — ей уже не разрешали заниматься дома.
Таким образом, тема возвращения на Запад начинает обсуждаться всерьез. Но только через полгода — в декабре — Светлана решилась написать письмо Горбачеву.
В своем письме она объяснила, что решение вернуться в Советский Союз было продиктовано горячим желанием воссоединиться с семьей. Но мечта ее не сбылась, с воссоединением ничего не получилось. И теперь у нее нет причин оставаться здесь. Она просит разрешения на выезд из СССР.
Ответа не последовало, и Светлана, взяв с собой Ольгу, отправилась в феврале 1986 года в Москву.
Там она по совету своего бывшего мужа Григория Морозова обратилась к «высокому чину из КГБ, товарищу H.», как его называет Светлана, с просьбой выяснить, как отнесся глава государства к ее посланию.
Товарищ Н. был корректен, учтив, улыбался, приглашал Светлану к разговору «по душам», хотя прямого ответа на вопрос, получил ли Горбачев письмо, не дал.
— Он знаком с его содержанием, — уклончиво сказал Н. — Ваша дочь может возвратиться в свою школу в Англии, это не проблема. Конечно, теперь она поедет туда как советская гражданка и будет приезжать к вам сюда на каникулы. Это все очень просто устроить. А вам следует жить в Москве. Ведь вы москвичка! Грузия — не подходящее место для вас. Ведь вы там никогда раньше не жили. Все ваши друзья здесь…
Светлана поняла, что именно таким будет официальный ответ.
Бессонной ночью, посасывая валидол, пытаясь унять бешено колотившееся сердце, она, лежа на диване в квартире своего брата Владимира Аллилуева, приютившего их с Ольгой, стала думать, каким образом им вырваться отсюда.
…По счастью, у нее имелось письмо американского консула в Москве, дошедшего до нее совершенно случайно — на гербовой бумаге, со всеми печатями. В этом письме консул подтверждал, что Светлана и Ольга являются американскими гражданами до тех пор, пока они сами не пожелают отказаться от американского гражданства в присутствии посла и под присягой.
С этим письмом в сумочке Светлана отправилась вместе с дочерью в американское посольство.
Их немедленно окружила милиция и проводила в будку для постовых. «Мы американские граждане, — стала объяснять Светлана офицеру милиции, — и нам необходимо увидеть американского консула, от которого мы получили письмо».
Офицер взял письмо, ушел с ним куда-то, потом вернулся и попросил у гражданок их американские паспорта. Светлана ответила, что они находятся у консула, и офицеру пришлось довольствоваться Светланиным советским паспортом, в который была занесена и ее дочь. Он снова исчез, и после долгих часов ожидания вместо офицера милиции явился начальник охраны посольства и предложил Светлане отвезти ее с Ольгой домой.
После этого провалившегося мероприятия Светлана встретилась с товарищем Н. и двумя знакомыми мидовцами. Н. был по-прежнему любезен, шутил, улыбался, уговаривал Ольгу учиться бесплатно в московской школе, благодаря чему она смогла бы сэкономить деньги на хорошую шубу. «Нет, — возразила Ольга, — уж лучше я буду платить за мою частную школу».
Мидовцев же интересовал вопрос, каким образом у Светланы оказалось письмо консула.
«Оно было переслано мне вместе с другой корреспонденцией от адвоката через посольство в Вашингтоне», — призналась Светлана.
Мидовцы были обескуражены тем, что посольские работники так плохо проверяют почту. Без успеха Светлана снова и снова задавала вопрос: почему ей ничего не ответил Генеральный секретарь.
Так ни с чем им обеим пришлось вернуться в Грузию.
Но Светлана не оставила своих попыток. Ей удалось из Тбилиси позвонить в Англию директору Ольгиной школы квакеров, который подтвердил, что девочку примут в любой момент, необходимо только прислать ему бумагу с просьбой о принятии Ольги Питерс, а остальное он сделает. Затем Светлана позвонила дяде Ольги, сенатору Сэму Хайкана, и сказала ему, что у нее просрочен американский паспорт, что она должна получить новый, а Ольга возвращается в Англию. Тот остался доволен новостями и пообещал связаться с госдепартаментом и передать, чтобы консул постарался увидеть Светлану в Москве.
Эти два важных телефонных разговора окрылили Светлану.
И ее снова целиком захватывает привычное чувство: уехать, уехать на Запад! Вырваться отсюда! Если прежде Светлану горячо восхищало грузинское гостеприимство, то теперь «никакого» движения за здоровую пищу не было. Мясо, масло, кофе, вино, сахар, соль — все это поглощалось в неограниченных количествах. Выделяться, жить как-то иначе, чем все живут, никогда не было принято в СССР. От обильной еды спасения не было. Они старались с Олей ходить почаще на очень дорогой рынок, где была уйма свежих овощей и фруктов. Но все равно их приглашали, их кормили, соседи приносили еду домой. Не принять нельзя. Обидишь. («Книга для внучек»).
Она явно передергивает. В Советском Союзе, в Грузии, как и во всем мире, всегда были сторонники здорового образа жизни, любители диеты, сыроедения, любители умеренного отношения к еде. И если бы Светлане хотелось ограничить себя в потреблении пищи, никто на свете, в том числе органы госбезопасности, не стали бы этому мешать.
Ольгу решено было отправить в Москву в середине апреля, чтобы оттуда она вылетела в Англию. А Светлане надо было встретиться с работником консульства США. Она отправила второе послание Горбачеву и принялась оформлять нужные Оле бумаги.
И тут почувствовала себя плохо… Сердце у нее давно побаливало. Пришлось обратиться в поликлинику и принять выписанные врачом таблетки, после чего боль в груди усилилась, стало трудно дышать.
У Светланы всегда было подозрение, что ее брату Василию «помогли» отправиться на тот свет. Теперь она, особа в высшей степени мнительная, стала опасаться такой же участи. Вызвали «неотложку», приехали врачи, сделали инъекцию кофеина, поставили диагноз: сердечный приступ. Светлану положили в больницу.
«Вдруг в палате раздается телефонный звонок — от сына. Я не слышала его уже более года. Значит, доложили ему, что мамаша при смерти… Я вдруг страшно озлобляюсь от этой его близости к начальникам и спрашиваю: «Ты что, хоронить меня собрался? Еще не время». Он молчит…» («Книга для внучек»).
А что, спрашивается, было отвечать сыну на такую грубость? Откуда Светлана могла знать о чувствах, которые овладели Иосифом, когда ему сообщили о состоянии матери? Почему она приписывает ему исключительно низкие побуждения, ода, христианка, которая не должна никого ни в чем худом подозревать? Почему она не верит «ни единому его слову»? Какое теперь она имеет право обвинить именно сына в том, что он «затащил» ее сюда, на Родину?
«Зная хорошо, что означает государственное здравоохранение в СССР и как вас могут «залечить» и «долечить до конца», я уже думаю только о том, как бы мне выбраться из больницы. Лекарств дают невероятное количество, в голове от них дурман и в желудке какая-то смесь химии. Бесконечные консилиумы предлагают мне всякие исследования и опыты — надо-де обследовать все досконально. Я сопротивляюсь, но здесь у меня нет поддержки…»
Светлана лежала в отдельной палате, а консилиумы врачей-специалистов свидетельствуют о повышенном внимании к пациентке. Но она ищет, ищет, ищет предлоги для совершения очередного побега.
Но пока ей удается только сбежать из больницы, и они с Ольгой вылетают в Москву.
Устроившись в гостинице, Светлана тут же послала телеграмму Горбачеву с уведомлением о вручении. В ней она справлялась, получил ли он ее письма и какой будет ответ. С Ольгой уже все ясно, ей разрешено уехать в Англию, теперь Светлана должна добиваться того же для самой себя. Вскоре она узнала, что «адресату телеграмма вручена».
На другой день после получения уведомления в ее номер постучалась очаровательная американка — представитель консульства США. Вдвоем они заполнили необходимые бумаги для получения Светланой нового паспорта.
«Я спросила ее, колеблясь, считает ли она возможным мое возвращение в США, учитывая всю ужасную прессу, писавшую обо мне небылицы за прошедший год… Но она рассмеялась, заметив, что наше возвращение создаст нам совсем иную, хорошую прессу и что, безусловно, я не должна испытывать никаких сомнений по поводу своего возвращения в США».
После этого состоялся разговор Светланы с одним из ее мидовских опекунов. Он поинтересовался, когда она хочет выехать, поскольку оформление документов займет некоторое время. Светлана сдержанно сообщила, что хочет выехать с американским паспортом, и как можно скорее, следом за дочерью, на что последовал ответ:
— Хорошо. Но до этого вас примут в Центральном Комитете.
И снова — знакомые с детства «коридоры власти».
«В каком плохом фильме, в какой ученической пьесе можно было бы так подогнать все факты и события, чтобы они в последнем акте построились, как в первом», — восклицает Светлана в каком-то мистическом ужасе… Теперь ее принимает Егор Лигачев.
— Ну что ж, — выслушав меня, сказал он. — Родина без вас проживет. А вот как вы проживете без Родины?
Лигачев был родом из Сибири, и мне очень хотелось спросить, почему же он покинул родную Сибирь и сидит в Москве. Но сейчас было не время и не место для бестактностей. Я проглотила все, решив не вступать в споры.
— Так куда же вы едете отсюда? — спросил он, как будто бы им было это неизвестно. Со всем возможным безразличием и без нажима я ответила, что в «Соединенные Штаты. Я жила там много лет». Он молча посмотрел на меня в упор. Замолчала и я.
— Ну-с, ваш вопрос был разрешен Генеральным секретарем, — сказал он через некоторое время. — Он сожалеет, что не смог лично принять вас… Но ведите себя хорошо! — вдруг поднял он вверх палец. Это было сказано серьезно, даже с угрозой в голосе. Означало это, что мне следует молчать, не высовываться, не писать книг, не выступать с интервью… Исчезнуть, так сказать. Книг они боялись больше всего. Это для них хуже, чем бомбы. Ничего не изменилось, ничего», — скорбно заключает Светлана.
До самого отъезда из Советского Союза Светлану не оставляют своей опекой люди из МИДа, из грузинского представительства, что весьма раздражает ее. То, что ее никак не «оставляют в покое», — главный козырь в борьбе за возвращение на Запад. А между тем могла ли она жить без этой опеки? Владимир Аллилуев вспоминает:
«Однажды она прилетела в Москву самостоятельно, без помощи грузинских спецслужб, и так же решила вернуться обратно. Билет на самолет у нее был, и я поехал проводить ее во Внуково. Было это в январе 1986 года. Рейс задерживался, как и многие другие. Аэропорт набит битком, суетня, толкотня, грязища, приткнуться некуда. Пришлось звонить в грузинское поспредство, приехал его сотрудник, пожурил ее за самодеятельность и проводил в депутатский зал, где хоть передохнуть можно было и перекусить по-человечески.
Вот так и шла жизнь, и опека не в радость, и без нее не обойтись…»
До отъезда Ольги оставалось совсем немного времени. Светлана должна была вылететь на следующий день, и тут неожиданно позвонил Вэс, отец Ольги.
Светлана знала, что миссис Райт скончалась прошлой весной, и надеялась, что теперь-то Вэс, получив свободу, станет более внимательно относиться к дочери. Его звонок был для нее доказательством, что она не ошиблась.
Вэс предупредил ее, что в Англии Ольгу встретит толпа с телекамерами. Светлана ответила, что ее это не волнует: Ольга — прирожденная актриса, она умеет прекрасно держаться на публике.
Поговорив с бывшим мужем, Светлана позвонила старому знакомому в Висконсин и поинтересовалась, можно ли ей снять небольшой домик возле старой, развалившейся фермы — они с дочерью полюбили эти края… Тот заверил Светлану, что сам встретит ее в Чикаго, чтобы отвезти на ферму.
После этого разговора Светлана, совершенно счастливая, бросается на кровать в своем гостиничном номере и думает: наконец-то, наконец-то! Сначала улетит Оля, потом — я!.. И она обзванивает своих братьев Аллилуевых и приглашает их на прощальный ужин. Светлана знает, что больше никогда их не увидит. «Буду только хранить память об этих последних днях, проведенных вместе».
Так закончилась попытка «воссоединения семьи».
Если счастье состоит в исправлений собственных ошибок, то это счастье Светлана испытала сполна, оказавшись в комфортабельном самолете, уносившем ее прочь от родных, от друзей, от вновь обретенной и снова утраченной Родины.
Она утверждает, что ей стало так хорошо, как не было давным-давно. Если следовать логике, то Светлане и не надо было предпринимать это путешествие восемнадцать месяцев назад, когда ей и без того жилось неплохо…
Но тогда она этого не понимала. Понадобился стресс, каковым, в сущности, явилось ее пребывание в Москве, а затем и в Грузии, чтобы она ощутила полноту бытия, справившись с этим стрессом.
Но ей не хочется признавать, что эта попытка обрести родину — ошибка. То есть признание это, как многое в ее жизни, носит половинчатый характер. Да, это был «сумасшедший поступок», но о нем сожалеть не следует.
«Никогда не надо сожалеть о том, что случается с нами, — даже о самом наихудшем, — потому что все имеет свое место в общей картине жизни и судьбы. Мне надо было снова увидеть родные места и старых друзей. Оле надо было узнать существенную часть ее собственного наследия. Без этих восемнадцати месяцев как ее жизнь, так и моя были бы неполными, незаконченными и даже неестественными».
Да, теперь она имеет возможность пофилософствовать на эту тему, не задумываясь о том, что было бы с нею и Олей, если бы им не удалось вернуться. Вряд ли бы в этом случае Светлана настаивала на том, что это путешествие необходимо…
И вот, оказавшись на маленькой, полуразрушенной ферме среди лесов Америки, положив перед собою стопку чистой бумаги для работы над своей четвертой книгой — «Книгой для внучек», — она и в самом деле чувствует себя счастливой. Тем более что от дочери из Англии она получает бодрые, счастливые письма.
Журналисты на Западе, не щадя сил, раскручивают очередную сенсацию — возвращение внучки Сталина в Англию. По приезде туда ее встречают тележурналисты, которых Оля очаровывает.
«Это было необыкновенно интересным опытом для меня, и я не сожалею ни об одной минуте… Не каждому школьнику приходится узнать три разные страны, побывать в трех самых важных странах мира», — находчиво комментирует девочка свое путешествие.
Телевизионщики снимают ее в аэропорту, снимают плачущую от радости среди одноклассников. Ольга в знак благодарности директору школы, позволившему ей вернуться, тепло говорит о нем, о своей квакерской школе.
Светлана же часами просиживает на террасе фермы, любуясь закатом, вспоминая о безмятежном начале своей жизни с Вэсом, о том, как уже после разрыва с ним они с Олей приезжали сюда — девочка обожала лагерь для юных наездниц…
Начиналась весна… Серые холмы, окружавшие ферму, вдруг зазеленели. Среди юной зелени лесов то здесь, то там, как спустившиеся с неба облака, белели дикие вишни и слива. От земли шел аромат фиалок.
«Для меня наступал окончательный катарсис. Факты приходилось принять такими, каковыми они теперь были для меня — шестидесятилетней матери и «бабушки. Тихими вечерами, под неумолкаемые крики птицы, называемой козодой жалобный, под тихими звездами, светившимися на этот мирный уголок суматошной Америки, я постепенно приходила в себя. Козодой этот регулярно появлялся каждый вечер с наступлением темноты и сидел где-то совсем рядом с небольшой терраской, смотревшей в лес, на невысокие лесистые холмы, на зеленую долину. Его крик — особенный, с каким-то вопросительным знаком в начале, а потом и ответом. Долгий такой крик. Когда он повторяется сотни раз без конца, он убаюкивает и приводит вас в состояние глубокого внутреннего мира. Ну вот, даже птицу послал Господь такую, как надо, — так перестань скорбеть и болеть душой! Благодари Бога за все, что он дал тебе, за все, от чего спас, за все, чем можешь быть довольна в твои-то годы».
Безуспешно пыталась пресса разыскать Светлану. Ее местопребывание помогла журналистам определить Ольга, приехавшая из Англии на каникулы.
Но Светлана не стала встречаться с прессой, предоставив это делать Оле. Она дала интервью в местную газету, которое не понравилось Светлане тем, что в нем не упоминалось об американских корнях Ольги, о дедушке Питерсе, который так много сделал для Америки. Зато, как всегда, рядом со снимком Оли красовалась фотография второго ее деда, Иосифа Виссарионовича Сталина.
Оле хотелось считать эти места своей родиной, поэтому летом они с матерью купили небольшой охотничий домик в лесу. Здесь до сих пор охотники подстреливают оленей, диких индюшек, тетеревов и куропаток. «Мы окружены здесь поэзией и красотой, и добротой простых людей» — так сказала Светлана одной американской поэтессе, поинтересовавшейся, почему она выбрала для себя резиденцию именно в этих глухих краях.
«Забытая жертва тирана живет в нищете!»
В одно и то же время по утрам на Кенсингтон-сквер появлялась женщина. Тихо и бесцельно брела от автобусной остановки с видом человека, которому некуда спешить. Владелец антикварной лавки, куда она обычно заходила, уже привык к ее появлениям. Она разглядывала старинные безделушки, картины, мебель, как посетительница музея, а не как покупательница. Одета скромно, даже бедно. И в дождливую, и в ясную погоду — в одной и той же светлой, легкой куртке, туфлях-лодочках, с большой хозяйственной сумкой через плечо. По виду — типичная английская пенсионерка из провинции. И никто бы не усомнился, что эта женщина ведет тихий, монотонный образ жизни, вполне соответствующий ее возрасту и положению.
Заглянув в библиотеку, где часто меняла книги, женщина возвращалась домой. Ее «домом» стал приют на улице Ладброукгроув при крупном благотворительном обществе «Карр Гомм». Для соседей по приюту давно не было секретом, что им посчастливилось разделять кров с дочерью Сталина. Лана Питерс этого не скрывала, хотя далеко не со всеми поддерживала знакомство. Ее считали молчаливой, скрытной, немного странной. Но покладистой и не заносчивой.
В приюте был свой уклад: его обитатели по очереди занимались уборкой, покупали продукты для кухни. Лана Питерс никогда не отлынивала от своих обязанностей. Иногда разговаривала со своей соседкой Мэри. Их комнаты были рядом. Мэри не была столь навязчивой и любопытной, чтобы выспрашивать, как дочь Сталина, в прошлом состоятельная женщина, попала в приют для бедных?
Спустя несколько месяцев, когда Лана Питерс уехала из приюта, а журналисты допрашивали ее соседей, Мэри вспоминала:
— О деньгах мы не говорили. Лишь однажды Лана упомянула, что ей нелегко платить 78 фунтов в неделю — столько стоит содержание в приюте.
Около года Лана Питерс тихо и неприметно прожила в приюте, пока об этом не «пронюхали» вездесущие журналисты. Летом 1992 года лондонская газета «Ивнинг стандард» напечатала на двух полосах сенсационную статью «Забытая жертва тирана живет в нищете». В ней читателям напоминали, как Светлана Аллилуева с дочерью попыталась вернуться в Россию в 1984 году. Прожив там восемнадцать месяцев, она с трудом вырвалась из «лап Кремля» и вернулась в Америку, где, по признанию Светланы, ей всегда было «легко и просто».
Но дочь вернулась в свой колледж в Англии, и Светлана вскоре покинула Америку, которая «стала слишком хаотичной», и переехала в Лондон. На несколько лет о ней словно забыли. И вдруг — такой подарок журналистам — дочь Сталина живет в приюте для бедных. И не просто для бедных. Обитатели «Карр Гомм» чаще всего лица с психическими проблемами, алкоголики и наркоманы.
Другие газеты дружно подхватили новость, обсуждая подробности, сплетничая и судача: почему вдруг приют для бедных, если Светлана Аллилуева получила за свою книгу более миллиона долларов, а когда уезжала в СССР, то продала квартиру в Лондоне? Впрочем, ее знакомые подтверждали, что она давно жаловалась на финансовые затруднения.
Журналисты быстро раскопали все подробности ее жизни в последние годы. Дочь Ольга вышла замуж и уехала в Америку. Светлана не поехала вместе с ней. Почему? Бывший муж, архитектор Питерс, скончался примерно год назад. Она взяла его имя, чтобы быть неприметной и спрятаться от докучливой прессы.
Теперь репортеры не давали покоя Лане Питерс Они поджидали ее у дверей приюта, фотографировали на автобусной остановке, приставали с вопросами на улице. Вскоре она покинула свое временное пристанище.
— Да, в ее жизнь бесцеремонно вторглись газетчики, а она против какого-либо паблисити, — с грустью подтвердил директор «Карр Гомм» Майкл Баррет. — До этого миссис Питерс жила спокойно и счастливо.
Администрация приюта была возмущена наглой клеветой: их заведение вовсе не лечебница для душевнобольных, наркоманов и проституток. И не ночлежка для нищих и бездомных. В Лондоне двадцать тысяч бездомных. И только немногие из них могут позволить себе жить в «Карр Гомм», потому что плата довольно высока. И кого попало с улицы в приют не возьмут. Лану Питерс пристроили сюда по рекомендации ее друзей.
Вскоре газетная шумиха улеглась. Виновница ее исчезла. Лондонцев не особенно заинтересовала судьба дочери Сталина. Своих проблем хватало: падение курса фунта, экстренное, чрезвычайное заседание палаты общин, посвященное состоянию экономики и внешней политики, — вот что волновало умы англичан летом 1992 года. И все-таки маленькую сенсацию газетчикам удалось раздуть.
Но уже в сентябре во многих русских газетах появились статьи о незавидной судьбе Светланы Аллилуевой. «Известия», «Вечерняя Москва», «Литературная газета» с сочувствием, драматизмом или со злорадством поведали, как живет на чужбине, в полной безвестности, нищете, в приюте для бедных и людей с психическими проблемами дочь Сталина!
Но журналист Вячеслав Воздвиженский вскоре дал отповедь любителям сомнительных сенсаций, механически переписывающим новости из зарубежных газет, вместо того чтобы дать себе труд задуматься или проверить факты. О какой безвестности Светланы Аллилуевой можно говорить! — вполне справедливо отмечает Воздвиженский, если за последние годы в России появились сразу три ее книги — «Двадцать писем к другу», «Только один год», «Книга для внучек»! В 1992 году издательство «Новости» выпустило и малоизвестную ее книгу «Далекая музыка». Как писательницу Светлану Аллилуеву, конечно, хорошо знали на Родине. Но она едва ли разбогатела на издании этих четырех книг.
Что касается приюта для бедных, «в этом подобии правды неизменно меньше, чем прямой неправды, — пишет Воздвиженский. — Мне приходилось в последние два года встречаться со Светланой Аллилуевой, достаточно откровенно разговаривать с ней. Пансион, где живет Светлана Аллилуева, действительно для небогатых, но это отнюдь не приют для бродяг с «психическими проблемами», как может показаться из информации «Известий». Это именно пансионат для имеющих небольшую, но удовлетворительную пенсию.
Светлана Аллилуева давно уже не просто дочь Сталина, «кремлевская принцесса», а человек собственной трудной и в самом деле незавидной, но ею самой избранной судьбы. Журналистам, взявшимся «вдруг» информировать читателей России об этой судьбе, не мешало бы вспомнить, что она могла быть куда благополучнее, что Светлана Аллилуева с дочерью могла бы неплохо устроиться в бывшем Советском Союзе, когда вернулась было сюда в середине восьмидесятых годов. Но она не пожелала принять благодеяний ни от тбилисских поклонников Сталина, ни от московских структур КГБ» (Литературная газета. 1992. 7 октября).
…Уехав из приюта, Лана Питерс не исчезла бесследно. Время от времени ее имя появлялось на страницах газет. О дочери Сталина не забыли, и ее судьба вызывала любопытство не только у русских читателей.
Весной 1993 года Светлана Аллилуева, на этот раз под своим настоящим именем, вдруг «объявилась» в одном из лондонских отелей. Именно объявилась, потому что ее не искали и не преследовали навязчивые репортеры. Она сама дала интервью газете «Фигаро»! Может быть, для того, чтобы опровергнуть нелепые слухи о себе или выдумки журналистов.
Не без скрытой иронии она поспешила заверить корреспондента «Фигаро» в том, что живет «в приличных условиях, а не в приюте, в окружении алкоголиков, и не в скитаниях», как об этом широко оповещала мир пресса. Чтобы получить вид на постоянное жительство, она должна прожить в Лондоне несколько лет.
Корреспондент подробно расспрашивал госпожу Аллилуеву об ее отношении к последним бурным событиям в России. Светлана Иосифовна довольно равнодушно отвечала, что не читает русских газет, «не хочет жить прошлым». Но английское телевидение и газеты дают вполне достаточно информации о ее бывшей Родине. О Горбачеве она совсем не сожалеет: он лицемер, строил грандиозные планы и сам же их похоронил. Она была довольна, когда путч провалился и Ельцин пришел к власти. Но ее увлечение Ельциным — уже в прошлом.
— Теперь Ельцин отыграл, — считает Светлана Иосифовна. — Есть много новых талантливых людей, которые могут принять эстафету.
На вопрос, мечтает ли она вернуться или побывать на Родине и каковы ее планы, ответила:
— Никогда не вернусь в Россию. Теперь моя мечта — жить в монастыре. Я каждый день хожу к мессе. Религия — это самое прекрасное, что есть в моей жизни. Если бы не религия, я была бы раздавлена. Знаете, тем более с такой семьей, как моя. Выкарабкаться из этого можно только с помощью Бога.
Очевидно, к семидесяти годам Светлана Аллилуева так и не обрела покой, к которому стремилась. Не сблизилась с родственниками, наоборот, отношения с ними стали еще напряженнее. Долго спорили и гадали у нее на родине — исполнилась ли ее мечта о жизни в монастыре? Ведь газетным сенсациям не всегда можно доверять.
В начале 1996 года в итальянских газетах появились статьи с броскими заголовками — «Дочь Сталина в швейцарском монастыре решила искупить грехи отца! Миссионер Джованни Гарболино открыл тайну семидесятилетней монашенки!»
Отец Джованни Гарболино поведал якобы журналистам, что в течение нескольких лет был духовным пастырем Светланы Аллилуевой, состоял с ней в переписке. Она давно мечтала уйти в монастырь и просила благословения на это у него, своего духовника и наставника. Благословение было получено, и Светлана Аллилуева в 1993 году поселилась в английском монастыре святого Иоанна.
Почему вдруг католический священник решил раскрыть тайну своей духовной дочери, посчитав, что пришло время «сделать достоянием общественности» содержание ее писем? Или это очередная «газетная утка», или недостойному поступку пастыря трудно найти оправдание.
Те, кто читал все книги Светланы Аллилуевой, несомненно узнают «ее руку», ее стиль, в котором есть что-то неповторимо индивидуальное. Подделать ее письма мог только профессионал самого высокого класса. Но зачем тратить столько усилий на имитацию писем дочери Сталина, женщины из далекого прошлого?
Вот что писала Светлана Аллилуева своему духовному отцу о жизни в монастыре святого Иоанна:
«Мне трудно предаваться созерцанию в широком кругу послушниц. Здесь мало уединения, нас слишком много. Все сестры ко мне очень внимательны, но я нуждаюсь в большем осмыслении… Когда придет время постричься, мне исполнится семьдесят лет. Наконец-то я смогу стать монашкой. Убеждена, что Бог призвал меня быть ближе к нему именно сейчас, так как в монастырских стенах я обрела тот покой, к которому стремилась всю свою жизнь и надежду на который уже начала терять».
Падре Гарболино сообщил журналистам, что его «духовная дочь») собиралась перейти в один из тихих малолюдных монастырей Швейцарии. В такой обители она провела когда-то несколько недель после побега из Дели. Окончательно удалившись от мира и от людей, Светлана Аллилуева хотела искупить вину своего отца.
В начале 1994 года она вдруг перестала писать своему наставнику. И вскоре до него дошли слухи, что Светлана покинула монастырь святого Иоанна из-за осложнившихся отношений с послушницами.
Падре был уверен, что она исполнила свое намерение и переехала в Швейцарию. С этого момента имя Светланы Аллилуевой было окутано дымкой таинственности и некой романтической легенды. Многие ее знакомые и родственники в Москве не сомневались, что она затворилась в швейцарском монастыре и порвала последние ниточки, связывающие ее с миром, родственниками и друзьями. Другие, неисправимые скептики, только иронически усмехались — Светлана Аллилуева в монастыре!
Казалось бы, эта непредсказуемая женщина ничем уже не может удивить — линия ее судьбы становится все вычурней и неожиданней: из приюта для бедных — в монастырь святого Иоанна. Из монастыря — в другую тихую обитель. А может быть, в Индию! Именно там Светлана мечтала окончить свою жизнь.
Но через год выяснилось, что Светлана Иосифовна живет в Лондоне, в маленькой однокомнатной квартирке, получает небольшую пенсию, как и все англичане преклонного возраста…
Находясь в Лондоне, Светлана умудрилась рассориться с одним из тех в общем-то редких людей, который не изменял к ней доброго отношения на протяжении многих лет ее жизни, — с двоюродным братом Владимиром Аллилуевым.
Казалось бы, как это могло произойти — она проживает в Англии, он — в Москве?.. Но для ее беспокойной и переменчивой натуры ничего невозможного нет…
Причин к недовольству родственником оказалось две: во-первых, по его настоянию Светлана приняла группу российских телевизионщиков, которые сняли картину о жизни ее в Англии, в чем позже Светлана, очевидно, раскаялась, во-вторых, ей резко не понравилась книга Владимира Аллилуева «Хроника одной семьи».
Чем раздражила ее Ада Петрова, руководитель съемочной группы, остается неясным. Основные свои упреки Светлана адресует ее мужу А. Лещинскому, который якобы «обснимал» «все мои углы своей портативной камерой». Не пришлись по душе Светлане и слова самой Ады Петровой, которая, увидев ее квартиру, «сморщилась и произнесла свое типичное, незабываемое, роковое, вполне советское, в эдаком негодующем тоне: «Неужели английское правительство не могло вам дать дом поприличнее, машину и обслугу! Какое безобразие!»
Светлана своим новым жильем была вполне довольна. Она не раскрыла секрета, как ей удалось приобрести эту однокомнатную квартирку, точно такую же по размерам, «как у моей кузины Киры в Москве». Что еще нужно пожилому человеку для счастья… Квартира с окнами на солнечную сторону, славная кухонька, санузел, там «тепло и сухо», книги, которыми она продолжает зачитываться, скромное денежное пособие, положенное ей по английским законам, хождение на службу в церковь, «умеренная еда», любимые цветы на подоконниках…
Нет, у нее все есть для того, чтобы чувствовать себя спокойной, а создатели фильма хотят выставить ее «маленькой сироткой в белых носочках»… Светлана так и не увидела фильма Ады Петровой, но осталась в убеждении, что пафос картины направлен на то, чтобы показать ее именно «сироткой».
А между тем у зрителя, посмотревшего этот фильм, такого ощущения не возникает. Нет ни «сиротки в белых носочках», ни собственно ее скромно, но достойно обставленной квартиры, все углы которой «обснимали». Светлана запретила создателям фильма снимать свои апартаменты.
Съемка осуществлялась в парке. Светлана непринужденно прогуливается по знакомым дорожкам в своей болоньевой походного типа куртке и рассказывает о своей жизни в Англии, о прошлом, о настоящем…
Сначала она работала в третьеразрядном пансионе для цветных и негров, где проживала некоторое время. Пенсия небольшая, и она захотела немного подработать. В ее обязанности входило приготовление обеда на всех постояльцев пансиона… В Англии люди вообще живут небогато, рассказывала Светлана, работу здесь найти довольно трудно, вот почему ее дочь Ольга, занимающаяся архитектурой, перебралась в Америку… Да, здесь люди живут бедновато, зато во Франции еще больше людей, находящихся за чертой бедности, которым буквально приходится «штопать-перештопывать каждую простынку, чтобы сэкономить»…
Светлану разозлило, что в этом фильме совсем не упоминается о написанных ею книгах. Возможно, она говорила о них, но это осталось за кадром. Ей всегда хотелось ощущать себя творческим человеком, хотелось, чтобы и другие думали о ней именно так… Но когда смотришь на нее и слушаешь, как она рассуждает на бытовые темы, действительно трудно себе представить, что говорит писатель. Речь ее невыразительна, тускла, в ней нет ярких образов, свидетельствующих о писательской наблюдательности, об умении сопоставлять факты и анализировать…
Кажется, что она не стремится обжить этот уголок земли, куда привела ее судьба к старости, населить его какими-то мифами и легендами, увидеть что-то символическое в названиях улиц, приблизить к себе дома, деревья, артистически все это приручить, сделать своим. Возможно, она просто не подготовилась к серьезному разговору и не использовала по-настоящему шанс предстать перед людьми не просто как «дочь Сталина», но как писательница, как яркая, самодостаточная личность.
Что же касается «Хроники одной семьи» — эта книга так сильно задела Светлану, что она перенесла полемику со своим двоюродным братом Владимиром Аллилуевым на страницы российской газеты «Книжное обозрение». Она прислала в редакцию «КО» свою рецензию на книгу родственника, в первых строках которой обозначивает резко негативное к ней отношение.
«В издательстве «Молодая гвардия» недавно вышла книга Владимира Федоровича Аллилуева «Хроника одной семьи», посвященная, казалось бы, интимной стороне жизни Аллилуевых — Сталиных. На самом же деле это — политический трактат, обеляющий всё происходящее в стране за ее 70 лет советской истории, эдакий вопль о прошлом, написанный с любовной идеализацией, подчас настолько лишенной связи с общеизвестными фактами коммунистических репрессий, что, читая, я не верила моим глазам: это ли мой младший двоюродный брат Володя Реденс, чей отец арестован и погиб в тюрьме (впоследствии — реабилитирован); чья мать перенесла шесть лет одиночки безо всякой вины (больная, туберкулезная женщина, она жила «вне политической деятельности»)?.. Это ли Володя, натерпевшийся от надзора НКВД, ГПУ, МГБ и прочая и прочая — как и вся наша многострадальная семья; это ли Володя, отличавшийся в молодости острым языком и сарказмом, не боявшийся высмеивать весь этот мир надзора, лжи и смертельной опасности, в котором мы все варились до тех пор, пока не настало избавление?»
На протяжении всей своей жизни Светлане приходилось не раз менять место жительства, вероисповедание, отношение к людям, мужей. Оказалось подверженным переменам и ее чувство к отцу: ребенком она обожала его; девушкой — боялась; после его смерти — жалела; потом, когда у многих людей открылись глаза на все происходившее в стране за сорок лет, — стала относиться к нему резко отрицательно; еще позже — попыталась защитить его от нападок демократической печати, заявив, что Мао Цзэдун уничтожил людей куда больше, чем Сталин…
Но своих политических взглядов, сложившихся у нее к моменту побега из Индии в Европу, она не меняла никогда. Свое кредо Светлана Аллилуева изложила в заключительных строках «Книги для внучек»:
«Я лишь мечтаю о том времени, когда с плеч многонационального великого народа свалится, наконец, тяжелое бремя ленинской партии убийц и обманщиков и люди, наконец, вздохнут свободно. Это не за горами. Мои внучки, конечно, доживут до тех дней. Мне же остается только видеть сны в предвкушении».
Именно к этим строкам она отсылает Владимира Аллилуева, упрекая его в отступничестве. Правда, Светлана подозревает, что за спиной брата укрылась теплая компания авторов, которых она наделяет прозвищами из детской считалки: Эна, Бена, Рес, Квинтер, Минтер, Жес, Раба, Жаба. Эта группа товарищей, считает она, уступив двоюродному брату копирайт, пожелавшая остаться «за кулисами», в основном работала над текстом «Хроники одной семьи». «А он дал свое имя этому творению безудержной ностальгии о «державных временах», когда все было, видите ли, распрекрасно, социализм наш торжествовал, капиталистический мир трепетал от страха, и мы шли от победы к победе, давая жестокий, сокрушительный отпор врагам страны… именно во времена Сталина».
Лояльность Владимира Аллилуева сталинскому режиму Светлана объясняет его всем известной любовью к семье, к родственникам, одним из которых был Сталин. Он великодушно прощает Сталина за гибель своего отца, за страдания и смерть матери, он прощает и Светланиного брата Василия за все то, что он натворил, когда отец был у власти, объясняя его поступки ранним сиротством.
Но больше всего ее возмущает то, что брат пишет о ее матери, Надежде Сергеевне Аллилуевой. Брат называет ее «неимоверно строгой и бессердечной». Он пишет, что «все ее осуждали». Для Светланы, которая с годами все больше и больше размышляет над трагической судьбой матери, все больше любит ее и понимает, такие слова — не просто вызов здравому смыслу. Она страстно защищает мать, которая «пожертвовала своею жизнью, чтобы доказать всем невозможность существовавшего режима». Она настаивает на том, что предсмертное письмо Надежды Сергеевны было, ссылаясь на признания своих теток Евгении Александровны и Анны Сергеевны Аллилуевых, которые держали его в руках.
«А теперь утверждает, что самоубийство это было результатом «только болезни» и что «никакого письма не было», — сокрушается Светлана.
И не только ее мать, но и некоторые другие родственники, пострадавшие по милости Иосифа Виссарионовича, всегда знали ему цену. «Кузине моей, Кире Аллилуевой, актрисе, предлагали в тюрьме написать «дяде Иосифу», покаяться да попросить прощения… Может, помилует и выпустит. Но Кира отказалась. «Зачем же! — говорила она мне с негодованием в 1985 году, когда гостила у нас с Олей в Грузии. — Что же, он не знал, что мы все в тюрьму угодили? Знал, конечно! Сам нас туда и засадил. Чего же я буду просить, унижаться!»
Светлана призывает «Володю» отказаться от попыток «бежать в прошлое». «Бедный, добрый мальчик, набраться бы ему храбрости от наших аллилуевских женщин да стряхнуть бы с себя весь груз помощников да секретных соавторов, у которых не хватает честности себя назвать хотя бы в качестве редакторов…»
Аллилуевские женщины! Чувствуется, с какой гордостью Светлана ставит их в пример брату. Их отваге, предприимчивости и в самом деле могут позавидовать некоторые мужчины. Светлана в своих мыслях часто, должно быть, обращалась к их героическим образам, запечатленным в душе, как моментальный снимок…
Вот Ольга Евгеньевна Аллилуева, ее бабушка, еще совсем юной девушкой глухой ночью спускается из окна к своему пылкому возлюбленному, оставляя за своей спиной обеспеченную жизнь, спокойный, налаженный быт, все свое уютное девическое прошлое…
Вот мать Светланы Надежда Сергеевна, прощающаяся в Александровском саду со своей подругой Полиной Молотовой, входящая в свою квартиру в Кремле с созревшим в сердце решением раз и навсегда разорвать страшные сети, в которые уловила ее судьба, с помощью маленького револьвера…
Вот Светланина тетка Анна Сергеевна, заручившаяся обещанием Сталина сохранить жизнь ее любимому мужу, если он подпишет то, что тот хочет, пришедшая в «Лефортово» уговорить его сделать то, что требует Коба. Измученный пытками, но не сломленный Реденс крикнул, чтобы ее увели. Много лет спустя она еще долго пытается добиться для него реабилитации… Пока не сойдет с ума…
Светлана — плоть от плоти и кость от кости Аллилуевых.
Она тоже отважна и самоотверженна, способна на решительные поступки, кардинально меняющие всю ее жизнь. Но, увы, не отчаянная смелость нужна женщине для того, чтобы сложилась ее личная жизнь, а совсем другие качества. Когда-то давным-давно ее бабушка своим «свободолюбивым» поведением разрушила дом, который сама же и строила. И ее мать, отчаявшись найти общий язык с человеком, которого любила, покончила с собой. И она сама, Светлана, столько раз пыталась устроить свою жизнь — но не получилось. Возможно, то, что она унаследовала от аллилуевских женщин, не позволило сделать это…
Эпилог
Два года назад пронесся слух, что Светлана Аллилуева умерла. Слух оказался ложным. Но его появление не случайно. Светлана Аллилуева, при всем своем желании жить в тени, незаметно, относится к людям, каждый шаг которых обрастает слухами и домыслами. Она обречена на это как дочь Сталина.
Возможно, источник некоторых слухов, на которые так падок обыватель, — она сама. К зрелому возрасту линия ее жизни становилась все вычурней и непредсказуемей: из приюта для бедных — в монастырь святого Иоанна, из монастыря — в тихую лондонскую квартиру. После респектабельная жизнь небогатой пенсионерки так не похожа на монашеское служение… Как бы ни распорядилась своей судьбой Светлана Аллилуева, мы уже ничему не удивляемся. Ведь когда-то она мечтала окончить свои дни в Индии. Или в швейцарском монастыре.
Мы изложили только внешнюю канву этой богатой событиями жизни, не исследуя подводных течений и скрытых мотивов поступков героини. А они, конечно, были. Светлана о многом умалчивала, многое утаивала. Она не пускала посторонних в свою душу. И даже с близкими друзьями едва ли была до конца откровенной.
Но читателю не всегда интересны внутренние побуждения, мотивы тех или иных поступков. Ему достаточно знать, как все было в действительности, что произошло с героями, а не то, что могло бы произойти. Почему, например, Светлана Аллилуева отправилась ночью в американское посольство и через несколько часов уже летела в Рим? А днем она покупала подарки детям и собиралась вернуться в Москву. Вспомним, что она приехала в Дели 5 марта, в день смерти отца. И никто в посольстве даже не обмолвился об этой дате, не вспомнил в суете приготовлений к праздничной вечеринке. А может быть, вспомнили, но промолчали. Возможно, это и стало последней горькой каплей, переполнившей чашу ее терпения.
Всю жизнь Светлана искала. Мужчину, который дал бы ей дом, детей, семью. Настоящих, верных друзей, большое дело, способное захватить и дать удовлетворение. Но она словно обречена была на одиночество. Даже в монастыре не смогла обрести покой и наладить отношения с монахинями.
Проще всего объяснить эти неудачи тяжелым характером. Более снисходительные судьи скажут, что такую нервную, легко возбудимую, переменчивую натуру трудно понять обыкновенным, слишком здравомыслящим людям. А можно взглянуть на судьбу Светланы Аллилуевой совсем отстраненно, «исторически» и вспомнить, какой тяжкий груз был возложен на плечи этой женщины, которой выпало родиться и жить словно в жерле вулкана, опалившего ее беспокойную и мятущуюся душу…
Библиография
Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М., 1990. Аллилуева С. Только один год. М., 1990. Аллилуева С. Далекая музыка. М., 1992. Аллилуева С. Книга для внучек // Октябрь. 1991. № 6.
Аллилуев В. Хроника одной семьи. М., 1995. Аллилуев С. Пройденный Путь. М., 1991. Антонов-Овсеенко А. Сталин без маски. М., 1990.
Аджубей С. Те десять лет. М., 1989.
Берия: конец карьеры. М., 1991.
Бурлацкий Ф. Вожди и советники. М., 1990. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990.
Васильева Л. Кремлевские жены. М., 1995. Васильева Л. Дети Кремля. М., 1997. Волкогонов Д. Триумф и трагедия. М., 1889. Волкогонов Д. Семь вождей. М., 1995.
Галаган Л., Трифонова О. Кремлевские дети. М., 1995.
Грей Я. Сталин. М., 1995.
Грибанов С. Заложники времени. М., 1992. Джугашвили Г. Дед, папа, ма и другие // Дружба народов. 1993. № 6.
Жуков Г. Воспоминания и размышления. М., 1983. Жухрай В. Сталин: правда и ложь. М., 1996.
Иосиф Сталин в объятиях семьи: Документы. М., 1993. История отечества в документах. М., 1994. Колесник А. Хроника жизни семьи Сталина. М., 1990.
Ларина А Незабываемое. М., 1989.
Медведев Р. Свита и семья Сталина. М., 1991. Политковская К. В доме на набережной. Независимый альманах «Конец века». М., 1992.
Рыбин А Рядом со Сталиным. М., 1992.
Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1990.
Соломон Г. Вблизи вождя. М., 1991.
Троцкий Л. Портреты революционеров. М., 1991. Успенский В. Тайный советник вождя. М., 1989. Хрущев Н. Материалы к биографии. М., 1989.
1
Саламури — разновидность свирели.
(обратно)
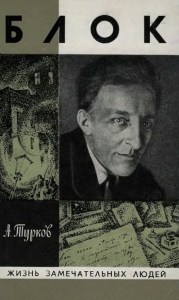



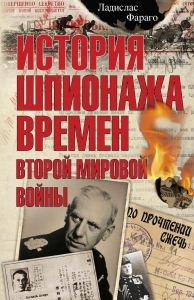

Комментарии к книге «Дочь Сталина», Варвара Самсонова
Всего 0 комментариев