ВСТУПЛЕНИЕ
Много замечательных лиц мелькнуло в бурной истории последних десятилетий. Возникали и исчезали все новые «властители дум», популярнейшие политики, которые, казалось, вот-вот создадут справедливое общество. Но бесспорная, безупречная истина, ясность идеала связаны в нашем сознании лишь с именем Лихачева.
Любому обществу свойственна страстная тоска по человеку, которого можно бы взять за образец и — на этом успокоиться: вовсе не так уж и плохо у нас, есть же у нас… Лихачев! Совестливый, прямой, всё понимающий — уж он никакую гадость не пропустит, не побоится и скажет вслух, а вслед за ним воспрянем и мы!
Лихачев, особенно после смерти Сахарова, остался один в России такой. В новой нашей истории много героев, но память оставляет из каждой эпохи одного, главного — остальные по разным причинам отпадают: кто оказался слабоват, упал на дистанции, другой, наоборот, слишком небескорыстно преуспел. Выстоял — Лихачев.
Именно в нем собралось все лучшее, что ценится нами.
Почему именно в нем?
СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ
В те годы, когда все менялось и советская власть уходила, вдруг стало всем ясно, что светлое будущее, которое нам сулили, — всего лишь фантазия, а светлым, наоборот, было наше далекое, еще дореволюционное, прошлое. К концу XX века вдруг выяснилось, что праведными в нем были лишь первые семнадцать лет. Дворяне хранили честь, купцы держали купеческое слово, крестьяне кормили не только Россию, но и другие страны, жили справно, рабочий люд набирал квалификацию, промышленность развивалась, прекрасно жили инженеры и доктора. Оказалось, что у нас не светлое будущее, как долгие годы врали нам, а наоборот — светлое прошлое. И в конце века все взгляды обернулись к его началу: вот бы вернуть! И вдруг выяснилось, что кое-что сохранилось. И главным хранителем светлого прошлого оказался Лихачев. Он — сохранился и все сохранил в себе. Второго такого не было. Он еще жил по правилам той эпохи, когда при появлении дамы вставали и лгать было неприлично, а честь и достоинство считались нормой.
А ведь семья Лихачева была самой обычной, рядовой, не выдающейся, а всего лишь типичной для той эпохи. Как же нам далеко теперь до той «нормы»! Но — пока был Лихачев, идеалы, которые он воплощал, были видны и, казалось, еще доступны. И все взгляды с надеждой обратились в «светлое прошлое».
Цветом нации, безусловно, было дворянство, уничтоженное революцией. И отцом Лихачева был дворянин. Правда, дворянство это было выслуженное, даруемое государством за особые заслуги и по наследству не передающееся, что, может быть, отчасти и спасло Дмитрия Сергеевича: дворян у нас не оставляли в покое никогда.
А «корень» Лихачевых был купеческий, из маленького городка Солигалича, расположенного на реке Костроме между городами Костромой и Вологдой.
И в отличие от многих, поспешивших поскорее «отрубить» свои корни, Дмитрий Сергеевич предков своих знал и чтил, как всякий достойный человек. В своих знаменитых «Воспоминаниях» он пишет о предках своих любовно и тщательно.
«Основатель петербуржской ветви Лихачевых — Лихачев Павел Петрович — из „детей купеческих солигаличских“ был принят в 1794 году во вторую гильдию купцов Санкт-Петербурга. Приехал он в Петербург, конечно, раньше и был достаточно богат, ибо вскоре приобрел большой участок на Невском проспекте, где открыл мастерскую золотошвейного дела на два станка и магазин — прямо против Большого Гостиного Двора… Список изделий: всех сортов форменные офицерские вещи серебряные и аплике, позументы, бахромы, парчи, канитель, газ, кисти и прочее… На известной панораме Невского проспекта В. С. Садовникова изображен магазин с вывеской „Лихачев“ (такие вывески с указанием только фамилии были приняты для самых известных магазинов). В шести окнах по фасаду были выставлены скрещенные сабли и различного рода золотошвейные и позументные изделия. По другим документам известно, что золотошвейные мастерские Лихачева находились тут же во дворе…
Семидесяти лет Павел Петрович и его семья получили звание потомственных почетных граждан Санкт-Петербурга. Звание потомственных почетных граждан было установлено манифестом 1832 года императором Николаем I с целью укрепить сословие купцов и ремесленников. Хотя звание это и было „потомственным“, право на него мои предки получали в каждое новое царствование при награждении их орденом Станислава и соответствующей грамотой. „Станислав“ был единственным орденом, который могли получить не дворяне. Доброе имя и репутацию купцы тогда зарабатывали не только успешной и честной торговлей, но и другой деятельностью на пользу общества — в частности, благотворительностью. Так, известно, что Павел Петрович во время русско-турецкой войны пожертвовал действующей армии 10 тысяч офицерских сабель.
Павел Петрович Лихачев родился 15 января 1764 года, похоронен на Волковом православном кладбище в 1841 году».
Дед Дмитрия Сергеевича, Михаил Михайлович, золотошвейным делом уже не занимался. Указом Александра III армейская форма была значительно упрощена, отменены пышные украшения, и надобность в золотошвейном деле отпала.
Михаил Михайлович занимался другим промыслом — держал бригаду полотеров. Жил он в доме напротив Владимирского собора, отличался строгостью, тяжелым характером, был грозой семьи. Стал старостой Владимирского собора. До него эту должность занимал его тесть. Михаил Михайлович славился своей добросовестностью, скрупулезной честностью. Известна история с отпеванием во Владимирском храме Достоевского, после которого Михаил Михайлович уличил церковных служек в неправильном расчете со вдовой и написал ей письмо с перечислением всех неправильных расценок на церковные услуги и ритуальные принадлежности, он с точностью до копеек высчитал сумму, которую церковь обязана была вернуть вдове. И вернула — под бдительным присмотром церковного старосты Михаила Михайловича.
Лихачев пишет в «Воспоминаниях»: «В последней грамоте „Почетного гражданина Петербурга“, выданной моему деду Михаилу Михайловичу, указаны все его дети и в их числе отец мой Сергей».
Лихачевы оправдывали свою фамилию — им свойственно было действовать энергично, лихо, преуспевать. Самые дальние предки были, очевидно, крестьяне. Потом — купцы. А отец Дмитрия Сергеевича, Сергей Михайлович, встал уже на ступеньку выше: поступил в только что открытый тогда Электротехнический институт (расположенный на Исаакиевской площади) и, окончив его, сделал весьма успешную карьеру инженера и государственного чиновника. И «благодаря своему высшему образованию, чину и орденам (среди которых были Владимир и Анна) он вышел из купеческого сословия и принадлежал к „личному дворянству“… без права передавать свое дворянство детям».
Сергей Михайлович был человек весьма энергичный, предприимчивый, работящий. Учась в институте, зарабатывал репетиторством и у сурового отца денег не просил. При этом — был весельчак, душа общества, великолепный танцор. На танцах в клубе он и познакомился со своей будущей женой, Верой Семеновной Коняевой, из семьи купцов-старообрядцев.
Трудно сказать, на кого из родителей походил больше Дмитрий Лихачев. Два его брата, старший Михаил и младший Юра, несомненно, походили на отца, унаследовали его открытый характер, технические способности, бурное жизнелюбие, и оба стали, как отец, инженерами. Характер Дмитрия был другой — более сдержанный, скрытный. Внучка Лихачева Зина в своих воспоминаниях призналась, что так и не поняла до конца характер деда. Возможно, из трех сыновей Лихачев один вышел в мать. Многие отмечали, что в Лихачеве было что-то от староверов — скрытое упрямство, неотступность, строгость. Были и чисто физиологические черты, свойственные староверам — так, Лихачев почему-то не выносил в доме собак и никогда не курил.
Влияние родителей на мировоззрение юного Мити было огромным с самого начала. Звание личного дворянина, присвоенное отцу его, Сергею Михайловичу, и его успешная служебная карьера позволяли семье вести в Петербурге дворянскую, светскую жизнь, что сказалось на воспитании детей самым благоприятным образом.
Страстью Веры Семеновны и Сергея Михайловича был оперный театр, а именно — Мариинский. Они даже арендовали постоянную ложу в третьем ярусе вместе с семьей их друга Гуляева, игравшего в оркестре театра на контрабасе. И даже квартиру они снимали всегда поблизости от знаменитой Мариинки, и сын их Митя родился в доме на Английском проспекте, в пяти минутах ходьбы от театральной сцены.
Одна из первых картин, потрясших его воображение — идущий на сцене снег. Именно на сцене, а не на улице. Это было как бы предчувствие того, что занимать его будет культура, искусство — больше, чем реальная жизнь.
Еще одно из младенческих воспоминаний — летом они поехали с родителями по Волге, и Митя из всего запомнил лишь одну сцену. Они с маленькой дочкой капитана играют в капитанской каюте, ползают с игрушками по ковру. Дверь на палубу открыта. И вдруг он слышит голос отца: «Смотрите! Мы проплываем Жигули!» И Митя, совсем еще маленький, застывает, пораженный неожиданным ощущением. Он вдруг ясно чувствует, что момент этот ему запомнится на всю жизнь — причем именно тем, что он не увидит Жигули: отпечатается именно это чувство! А если выйдет и увидит — это сотрется, не запомнится. Момент этот известен в психологии: точнее запоминается незаконченное действие. Но столь тонкое чувство у маленького ребенка явно говорит об особых его способностях.
И снова — осень, новый театральный сезон, уже привычный и даже необходимый. Зал, обитый голубым бархатом. Сверкающее зеркалами фойе, где все гуляли в антрактах, раскланиваясь. Как славно вырасти в «высшем свете», среди знаменитостей: Ге, Винтулов, адмирал Веселаго, Чихачев, адмирал Бирилев, Плещеев, Померанцев… Мы уже не знаем их всех, но чувствуем — все люди значительные и достойные, раз их с таким почтением вспоминал в конце жизни Лихачев. Как важны были те уроки великосветской простоты, душевности, никогда не переходящей в амикошонство, эрудиции, широкой образованности, которой не чванятся, поскольку она считается тут абсолютно естественной. То воспитание, безукоризненность поведения, которые так выделяли Лихачева в наши дни, в годы его детства были нормой, а в трудные годы — подмогой: достоинство, любезность, воспитанность помогали «не терять лица» в самые трудные минуты.
Детство — лучшее время жизни. Тем более — когда это лучшее детство, которое только может быть. Для отнюдь не богатой семьи Лихачевых блистать брильянтами в ложе (что было обязательным в свете) было непросто — но они держались, всегда были элегантны и «бонтонны», были «своими» в лучшем обществе, что сказалось и на воспитании сына. Они держали марку и научили и сына ее «держать» всегда, а каких усилий им это стоило — это уже тайна, открытая немногим. И как ему помогла потом светская выучка — «спина всегда должна быть прямой», особенно в трудные годы, когда многие спины согнулись.
Дмитрий Сергеевич вспоминает, как в один год, когда дела семьи шли неважно, снять квартиру вблизи Мариинского театра не удалось из-за дороговизны и они поселились на Петроградской стороне, и для похода в театр им приходилось пересекать Неву по льду — туда и обратно!
Однажды мама упала, а отец, который шел по узкой протоптанной тропке впереди, за воем ветра не услышал ее криков, а она из-за меховой пелерины, которая сковывала руки, не могла никак подняться. Ее спас человек, идущий сзади них. И тем не менее им и в голову не пришла мысль — отказаться от походов в театр. Они продолжали ходить и все так же блистали в своей ложе.
Светский образ жизни вовсе не спасает от трудных проблем. Они есть у всех — просто не надо им поддаваться, их надо преодолевать и по-прежнему блистать в своей ложе. И это светское воспитание помогло Лихачеву выстоять во все времена.
Проще всего лениво сказать: так в то время и я бы жил, и забот бы не знал, и был бы не хуже! Нет — забот тогда было не меньше. Просто было принято с ними справляться.
Помню, как я был изумлен, когда узнал, что семья Лихачева — не самая богатая, но и не самая бедная — жила в петербургской квартире лишь зимой, а к каждому лету, чтобы сэкономить и снять дачу, они вынуждены были оставлять квартиру и увозить мебель на склад. А осенью подыскивать другую квартиру, в надежде найти получше и подешевле, и снова везти мебель и расставлять на новом месте. Прикиньте эти ежегодные хлопоты на себя. Легко ли? Просто тогда было не принято ныть и раскисать: дурной тон!
Зато летом у них была беззаботная дачная жизнь, и с каким упоением ей предавались! Сколько душевности, выдумки, таланта вкладывали в нее! Тяготение к музам в семье Лихачевых-старших летом не утихало, напротив — разыгрывалось. Летом по большей части отдыхали в Куоккале — летней столице петербургской богемы и со страстью участвовали во всех затеях и забавах, принятых там… Многое исчезло бесследно и оставалось лишь в памяти Лихачева — еще и поэтому всегда был к нему повышенный интерес: он — последний из тех, кто помнит, кто сохранил, кто жил еще тогда, когда все было по-другому. Оказывается — совсем другой, чем нынче, была даже пляжная жизнь. Казалось бы, раздевайся, купайся, все как всегда. Но оказывается, в начале века хозяин дачи, как только сдавал ее, сразу же принимал на себя множество обязанностей. В частности, он водворял на воз специальную будку и вез ее на пляж. Главный съемщик (в нашем случае — Лихачев-отец) ехал вместе с ним и выбирал на пляже подходящее место для будки. В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Любимой игрушкой Мити Лихачева была маленькая яхта с килем и парусом, с которой он любил играть на мелководье, недалеко от берега. И все это добро хранилось в будке круглосуточно. Странные были времена. Сейчас легко представить, что сделают с самой будкой и ее содержимым пляжные «отдыхающие» в первую же ночь… тогда такое никому в голову не приходило. Да, история не стоит на месте, меняются времена, и особенно — нравы. А Лихачев — еще там, в тех временах, когда будки еще не разоряли по ночам. Поэтому так хочется на него смотреть: на лице его отсвет той замечательной жизни…
Так рьяно, как сейчас, по многу часов, до черноты, в те годы еще не загорали — зато больше сил и времени оставалось на другое. «На благотворительных спектаклях, — вспоминает Лихачев, — стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, затевались розыгрыши, шутили над всеми известными дачниками. Были и серьезные спектакли, и литературные вечера». Какие люди жили в Куоккале! Репин читал свои воспоминания. Чуковский исполнял, на разные голоса, своего «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами и травоедением. Почти все (кроме новичков) были знакомы, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах.
Корней Чуковский, вернувшись в 1915 году из Англии, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. Писатели выдумывали себе разные наряды — принято было выделяться (мода на серость и безликость наступила потом): Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Маяковский по-своему… «Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале, они либо жили в Куоккале, либо часто приезжали…»
По той радости, даже восторженности, с какой молодой Лихачев воспринимал это, чувствуется: праздничная жизнь искусства пьянила его уже тогда.
Появлялись уже и магические «знаки судьбы», словно предсказывающие его будущее: как выяснилось, серб А. Шайкович, у которого снимали дачу, последние три года перед революцией переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. Потом «Слово о полку Игореве» станет главным в жизни Лихачева, но, оказывается, «Слово» жило с ним под одной крышей еще в детстве. А он и не знал! Или что-то чувствовал, и это сказалось? Порой вещи почти неуловимые влияют удивительным образом на нашу судьбу.
Он уже чуток к словам, помнит услышанные тогда расхожие выражения: «неглиже с отвагой», «держится фертом» (буква «ферт» походила на подбоченившегося человека). Помнит любимые семейные поговорки: «Мели, Емеля, — твоя неделя»; «На тебе, боже, что нам негоже». И добавляет от себя: «Обе поговорки „успокаивали“, приглашали терпимо относиться к чужому хвастовству и показной доброте».
Такое «разборчивое» ухо и столь точная трактовка текстов говорят уже о склонности к анализу.
Но куда «потечет» жизнь? Она порой «склонности» человеческого характера грубо отвергает. Многое зависит от времени — и от школы. Школа, вообще-то, должна улавливать талант, развивать душу. Это сейчас главное — выучить ЕГЭ, а все остальное — пропади пропадом. Но тогда еще…
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШКОЛЫ
Первой школой, в которую осенью 1914 года отдали учиться Митю Лихачева его родители, весьма внимательные к выбору учебного заведения, была Гимназия Человеколюбивого общества, в которой одно время учился Александр Бенуа. Располагалась она на Крюковом канале, напротив знаменитой колокольни Никольского собора, в тихом, патриархальном углу старого Петербурга, называемом Коломной.
Отца к тому времени назначили заведующим электрической станцией при Главном управлении почт и телеграфов, и там же, возле Главного почтамта, на Ново-Исаакиевской улице, рядом со зданием электростанции, они получили казенную квартиру. В главном зале станции поршень толкал громадное колесо, блестевшее от масла, и их квартира, находившаяся за стеной, постоянно содрогалась. Юный Митя Лихачев любил заходить в здание электростанции и следить за слаженной работой механизмов. Дом, где жили Лихачевы тогда, — старинный, желтый, вытянутый, двухэтажный, можно и теперь отыскать на улице Якубовича — так называется теперь бывшая Ново-Исаакиевская улица, выходящая на Исаакиевскую площадь.
Крюков канал, где была школа, находился неподалеку. Это был хоть и существенный, но не главный фактор в выборе учебного заведения.
«Учиться я поступил восьми лет, — пишет в своих „Воспоминаниях“ Лихачев, — и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитон Владимирович! Он был строг, представителен, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали и любили».
Лихачев помнит своего воспитателя с восьмилетнего возраста! Можем ли мы с тем же уважением, если уж не с любовью, вспомнить своих учителей, — хотя бы из старших классов? Я, например, помню всех, но перечислять никого не хочу, дабы не впасть в злословие, столь неуместное в этой книге. А Дмитрий Сергеевич помнит и ценит их — начиная с первого учителя!
Но школа, как бы хороша она ни была, всегда — испытание, уход из семейной гармонии в незнакомое, пока еще равнодушное к тебе общество, и любовь и уважение, которым окружали тебя дома, здесь еще надо заслужить. Причем среди людей, которые тебе не очень-то нравятся. Что делать? Притворяться? Приспосабливаться? Лгать?
«У меня сразу пошли с ними столкновения. Я был новичок, а они уже учились второй год, и многие перешли из городского училища. Они были „опытными“ школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулачками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них… Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: „Боженька, сделай так, чтобы я заболел!“».
Кто из нас не помнит те муки? Они не проходили бесследно. Один ломался, делался на всю жизнь жалкой личностью, Другой приспосабливался и начинал, как принято среди сильных, обижать слабых, становился самодовольным. Митя Лихачев, может быть, отчаяннее других не хотел быть ни изгоем, ни частью тупой толпы, и «Боженька» услыхал его страстные молитвы и сделал, что тот просил: Митя действительно сильно заболел, потом занимался с домашним репетитором, чтобы не отстать, и на следующий год пошел в новую школу. А другие — смирились бы. А Лихачев — нет. В детстве важен каждый шажок. Куда несут тебя ножки — вверх или вниз? Туда, куда ты хочешь, где оценят тебя — или где ждет тебя гибель? Хорошо, если ты с самого начала чувствуешь это и начинаешь понемногу «рулить». И осенью 1915 года отец определил Митю в 1-й класс знаменитого реального училища Карла Ивановича Мая, где уже учился его старший брат Михаил. Школа располагалась на 14-й линии Васильевского острова, в четырехэтажном здании весьма тогда модного стиля модерн с большими, нестандартными полукруглыми окнами, и была тогда весьма знаменита в среде передовой петроградской интеллигенции, стремящейся отдавать своих детей сюда. Девизом ее были слова великого педагога Каменского: «Сперва любить — потом учить». Школа эта называлась так: «Гимназия и реальное училище» и от привычной классической гимназии отличалась широтой взглядов, демократизмом, даруемой ученикам свободой. Это было не прихотью, а вполне осознанной политикой директора Карла Мая, желающего воспитывать у себя свободных граждан свободного общества — об этом грезила тогда передовая интеллигенция, лучшие умы. И учителя подбирались соответствующие, дающие свой предмет творчески, необычно, порой парадоксально, будившие фантазию. Из школы Мая вышло немало выдающихся людей. Среди «майских жуков», как они с гордостью называли себя, — Александр Бенуа, Николай Рерих, архитектор Фомин.
«Класс был разношерстный, — вспоминает Лихачев. — Учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара». Увы, мы уже знаем, до чего довели эти благие порывы «к свободе, равенству и братству», но в те годы, о которых говорит Лихачев, это воспитывало благородство, терпимость, отрицание кастовости и чванства. Лихачев успел застать все благородные идеи в их лучшее время, пока они еще не опошлились, не извратились, попав в руки подлецов.
Ручной труд, столярное дело, которому в «продвинутой» гимназии Мая обучали ребят, крепко пригодились им в той суровой действительности, которая уже поджидала их.
Учителя были там замечательные, преподавали творчески, необычно, порядки царили демократические, запрещалось доносительство. Даже швейцар там был замечательный, разговаривал с учениками на самых разных языках. Лихачев пишет в своих «Воспоминаниях»: «Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы и на мой жизненный, я бы сказал, мировоззренческий опыт».
Единственной проблемой была дорога от дома до училища — война, а затем революция все больше превращали жизнь города в хаос. В училище Мая, из центра на Васильевский остров, надо было ездить на трамвае, что шел по Конногвардейскому бульвару и по Троицкому мосту переходил на Васильевский остров, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: шла Первая мировая война, и площадки были забиты солдатами. Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках. Из-за чего всем прочим пассажирам было невозможно пробиться в вагон… Неустанная забота начальства о простом народе давала о себе знать уже и тогда. Но детство все равно полно неожиданных радостей. На бульваре всегда было что-то интересное, например вербные базары весной, когда можно было потолкаться у ларьков, купить «вербные игрушки»: чертей на булавках для прикалывания к пальто (к чужим пальто!), «тещиных языков» и акробатов на трапециях.
Именно там посетило юного Митю чувство, во многом определившее его устремления: «Ведь Петербург-Петроград стоял не только лицом к Европе… но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду».
Все чувства юного Лихачева распахнуты в поисках самого интересного, самого важного в будущей жизни: не упустить бы!
Но хаос все нарастал, и в 1917 году произошли революции — сначала Февральская (прогрессивная общественность приветствовала ее, многие даже прикололи красные банты), Лихачев вспоминает возмущение «приличного общества» кровавыми расправами, отличавшими и полицию, и боевиков.
Об Октябрьской революции Лихачев рассказывает как настоящий честный историк — не так, как «положено в данный момент», а так, как в действительности воспринимал события он и его окружение. Лихачев говорит в одном из своих интервью, что Октябрьская революция была какой-то незаметной, словно ничего и не произошло. Ну — объявили, что власть теперь взял Совет, но он и раньше уже действовал, ничего нового. Ну — беспорядки. Но они были и раньше. Голод, но он был и до Октября. Ели прежде неслыханное — жмых, дуранду, хлеб из овса с кострицей. Школа не отапливалась. Порой ученики, по команде учителя, вскакивали с парт и прыгали, согревались, «по-извозчичьи охлопывали себя».
Но самая главная беда — «победители» и не думали останавливаться и начали переделывать всё. «Мы наш, мы новый мир построим!» — пели они. Но пока в основном разрушали старый. Что могло быть лучше для воспитания молодежи, чем училище Мая? Закрыли! Последний выпуск учебного заведения Карла Мая состоялся 24 февраля 1918 года. Среди последних выпускников был и старший брат — Михаил Лихачев. Младшие классы (в том числе класс, где учился Дмитрий Лихачев) были преобразованы в «единую трудовую школу», куда так же перевели девочек из младших классов бывшей гимназии Шаффе. Как же новой власти обойтись без «коренных преобразований»! Училище Мая в прежнем виде перестало существовать. Через год Митя перешел в другую школу, на Петроградской стороне, поскольку туда переехала семья.
Февральская революция 1917 года лишила инженера С. М. Лихачева заслуженных орденов, чинов и «личного» дворянства. Служащие электростанции подали на него жалобу, как на «поддерживающего старый режим», и сфабриковали дело о «противозаконных его действиях». Общество было охвачено страстью — разрушить все старое, отомстить «эксплуататорам»! Чрезвычайная следственная комиссия провела летом 1917 года расследование и оснований для привлечения Лихачева к уголовной ответственности не нашла.
1 сентября 1917 года «оправданный» С. М. Лихачев вышел в отставку и освободил казенную квартиру на Ново-Исаакиевской улице, дом 6.
Этой же осенью собрание рабочих 1-й Государственной типографии на Петроградской стороне избрало инженера С. М. Лихачева заведующим технической частью. Эта типография была построена замечательными архитекторами Л. Бенуа и Л. Шретером в 1910 году на участке между Гатчинской и Ораниенбаумской улицами. Четырехэтажный дом на Ораниенбаумской улице, где инженер Лихачев и его семья получили казенную квартиру, выстроен, как и типография, в стиле «северного модерна», особенно распространенном на Петроградской стороне, которая застраивалась позже центра. Дом, на мой взгляд, выглядит сдержанно и даже сурово. Большая квартира Лихачевых на втором этаже имела два выхода — первый вел на Ораниенбаумскую улицу, второй — в типографию.
Первое время Митя продолжал еще учиться в реальном училище К. Мая на Васильевском, но в конце 1918 года перестали ходить трамваи, а идти пешком было опасно.
Общественные потрясения не лучшим образом сказались на их жизни: плохое, увы, не остается снаружи, но проникает и в души. Сергей Михайлович, испуганный «гневом народа» на прежнем месте работы, и здесь не мог уже избавиться от страха, поэтому старался подчеркнуто быть наравне с рабочими, выпивал с ними и даже продал ради этого несколько ценных подарков от прежней власти за безупречную службу. Была ли нынешняя служба столь же безупречной, учитывая те «запанибратские» отношения, что установились теперь у начальника с подчиненными? Суровая супруга Вера Семеновна, воспитанная в семье староверов, отнеслась к изменениям в поведении мужа весьма отрицательно, и их отношения сильно испортились. Что можно сказать о характере нашего героя Дмитрия Лихачева в то время? Рабочие типографии говорили так: «Старший сын у Лихачева (Михаил) — орел, а младший (Дмитрий) — тютя!»
Очевидно — да, Дмитрий Лихачев не походил от старшего брата, и впоследствии отличавшегося активностью и жизнелюбием, и был больше склонен к размышлениям, чем к бурным эмоциям и действиям. В нем преобладала скрытая, внутренняя жизнь, но именно такой характер оказался наиболее стойким и последовательным.
Осенью 1919 года Митя Лихачев пошел в 10-ю единую трудовую (нетрудовых тогда не было) школу, бывшую гимназию Л. Д. Лентовской, на Плуталовой улице Петроградской стороны, вблизи от их нового дома. В школе Лентовской Дмитрий Лихачев проучился четыре старших класса до 1923 года. Зимой школа не отапливалась. Писали на газетах. Рисовали на обратной стороне обоев.
Но, тем не менее, летом 1921 года состоялась двухнедельная школьная экскурсия по Русскому Северу, во многом определившая судьбу Лихачева, пробудившая страстный интерес к русской истории, старой России.
«И снова я попал в замечательное училище! — вспоминал Лихачев. — Сравнительно со школой Мая, „Лентовка“ была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей сочувствующие переменам интеллигенты (тогда сочувствовать переменам было модно). У директора Владимира Кирилловича Иванова в его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он (еще и до революции) давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов. Между преподавателями образовалась тесная связь, дружба, общее дело».
Да что скрывать, революция была в моде, ею увлекались лучшие люди, лучшие умы, считая, что спасают гибнущее человечество. Своего любимого на всю жизнь учителя, Леонида Владимировича Георга, Лихачев встретил именно в «Лентовке».
«Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы из самых затруднительных ситуаций. Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову — его любимому писателю. Взгляды он имел самые широкие. Обожал Пушкина — но поощрял и заумные стихи ученика Введенского — в будущем одного из лидеров „обериутов“».
Лихачев вспоминает, что один из его одноклассников увлекался Ницше, другой — Уайльдом, и Леонид Владимирович, узнав об этом, провел блистательные уроки, посвященные Ницше и Уайльду. Сейчас бы тот уровень преподавателей и учеников, что был в той «революционной» школе!
Но мать-революция уже стала показывать своим «детям» свой нрав. «Жил Леонид Владимирович очень тяжело, — пишет Лихачев. — Педагоги получали тогда очень мало. Вскоре после окончания мной школы он заболел сыпным тифом. Болезнь испортила сердце. Я встретил его в трамвае, и он мне показался потолстевшим. Леонид Владимирович сказал мне: „Не располнел, а распух я!“».
Жизнь менялась кардинально. Подросшая революционная молодежь уже презирала царское время, ничего из величия империи ей увидеть не удалось: лишь военная разруха, поражения на фронтах, недовольство народа. «Эти старики полностью опозорились — а мы, молодые, все сделаем лучше!» — таков был девиз, молодым свойственно презрение к старикам, вера лишь в свою миссию. И новая власть этим ловко воспользовалась.
«Теперь мы построим новую замечательную жизнь, причем такую, как мы захотим!» — ликовала молодежь.
Появилось много бодрых песен, некоторые из них были замечательны. Молодым хотелось их петь, ликовать, что вполне естественно для молодежи, чувствовать радость новой жизни, которую делаешь ты сам!
Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка, Иного нет у нас пути, В руках у нас винтовка!Винтовка — это тогда считалось хорошо. Как же проложить новый путь без винтовки?
Красный террор был официально объявлен 5 сентября 1918 года «в ответ на сопротивление уходящих классов общества», которые почему-то никак не хотели уходить, строили козни новым властям, вплоть до организаций тайных обществ с целью борьбы. Советская власть терпела это чуть ли не год, но терпение лопнуло, и теперь — только убивать этих «взбесившихся псов»! Объявление террора дышало чуть ли не «праведным гневом» и должно было вызвать отклик в широких народных массах. И вызвало! Как не гневаться на «бывших», что угнетали народ сотни лет и теперь еще всячески курочат наш «светлый путь», на который мы только что вышли? Помню обрывок шуточной комсомольской песни, как бы диалог старого брюзги и бодрой молодежи: «У соседей на глазах ходят в майках и трусах! Физкультура, говорят!.. А по-моему — разврат!»
Да, есть еще такие выжившие из ума старикашки, не понимающие молодежь! А дальше еще удивительней: «Дядю выслали в Нарым — а они ему кричат: „Так и надо! Дядя — гад!“».
Сейчас мы уже больше на стороне этого дяди, высланного в Нарым, но тогда распространеннее был «телячий восторг» молодежи, хохочущей над сосланным дядей… Молодежь как бы всегда права.
Помню фотографии своих родителей — веселых, спортивных, красивых, во всем белом. А чего им не ликовать, если они в семнадцать лет попали из глухих деревень в лучшие вузы и отлично учились?
Лихачева в этих радостных колоннах ликующей молодежи не было — он принадлежал предыдущей эпохе и все самое ценное он успел получить там. Хоть он и закончил «революционную» школу Лентовской, воспитание там получил классическое. Уже в школе он участвует в философских диспутах со своими одноклассниками на такие темы, которые нынешним школьникам и не снились! Это его стремление — непременно докопаться до истины — и привело его сперва в лагеря, а потом — к вершинам науки. Человека, почуявшего свою цель в жизни, не так легко сбить с пути всяческими беспорядками. Злые люди, устроившие их, как раз и норовят всех нас запутать в бездарные свои дела, запятнать нас участием в них — но люди творческие, увлеченные, умелые не теряют себя в любую бурю, сохраняют высокий дух. И, существуя в тех бурных годах, которыми принято то восхищаться, то возмущаться, Лихачев вспоминает не о беспорядках и бытовых потерях. Его интересует лишь то, что имеет отношение к высокой культуре. И вспоминает он не охватившее всю страну бескультурье — он пишет о гениальном воплощении неприкаянности и окаянства русского народа в высоком искусстве: «Хованщине» и «Граде Китеже» на сцене Мариинского театра в двадцатые годы. Более низкий уровень восприятия — уже не для него. Аристократ духа выстраивает свой мир.
«События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню», — высокомерно сообщает он. Да и дальнейшие «радости» не захватили его. Джентльменский, консервативный стиль поведения Лихачева как-то не предполагал вышагивания по городским улицам в трусах, в компании таких же оголтелых подростков, хором выкрикивающих какие-то глупости. Лихачев остался в прежней, дореволюционной жизни, хотя многие его сверстники «увлеклись» новой вакханалией, но это было не для него. Именно он сохранил в себе прежнее, как никто другой — поэтому так и полюбили его потом как «хранителя» всеми уже забытого. На площади его не влекло. Будущего великого книжника гораздо сильнее волнует другое.
«Жизнь в типографии меня во многом воспитала, — вспоминает он. — Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свеженапечатанной книги для меня и сейчас — лучший из ароматов, способный поднять настроение». Он уже страстно предчувствует свое призвание (хотя пока и не может точно его назвать).
Тому, кто почуял цель, словно само все идет в руки, реальность даже обгоняет мечту.
«На некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗА (государственного издательства) — небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевиры, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы, библия Пиксатора, роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное „Путешествие из Петербурга в Москву“ Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (С. Есенина, А. Ремизова, А. Толстого)».
Судьба словно уже разглядела Лихачева: «А кто тут у нас будущий академик? Все лучшее — ему!»
«Помню парадоксы того времени, — вспоминает Лихачев. — Толпа верующих после диспута между А. Луначарским и обновленческим митрополитом Введенским хотела побить именно митрополита… дело в том, что митрополит Введенский на суде в Филармонии давал показания против любимого народом петроградского митрополита Вениамина…»
Отступнику — худшая кара! Это тоже урок на всю жизнь.
Жизнь становится все горше. В голодные двадцатые, по-прежнему выезжая на дачу (уже не в Финляндию — граница закрыта), Митя ходит к крестьянам обменивать ценные семейные вещи на молоко и заходит на забытое кладбище, стараясь разобрать шведские надписи на старых плитах. В главном он уже внутренне определился: жизнь для него — это текст. Много ходит пешком, любит грести на лодке против волн, загорает, физически крепнет, словно предчувствуя тяжелые испытания впереди.
Он поступил в Ленинградский университет в 1923 году, когда ему не было еще семнадцати, причем сразу на романо-германскую и славяно-русскую секции отделения языкознания и литературы факультета общественных наук… Способности ученого, упорство исследователя определились в нем сразу. Он решил посвятить себя самому главному в жизни человечества — Слову. И характер его уже сложился — как бы не слишком бурный, но твердый и непреклонный.
Для начала ему пришлось преодолеть сопротивление семьи. Его отец, Сергей Михайлович, инженер-электрик, сам весьма увлеченный искусством, много сделавший для всестороннего воспитания сына, тем не менее выбор гуманитарной профессии не одобрял. «Культура необходима каждому интеллигентному человеку — но заниматься надо серьезным, конкретным делом», — считал отец. И другие два сына пошли в него. В роду деловых, ухватистых, практичных Лихачевых — купцов, инженеров — Дмитрий Сергеевич был единственным «блаженным». Но сбить его с намеченного пути было невозможно.
Вся жизнь тех лет была пронизана политикой — столкновением классов, борьбой с «проклятым прошлым». Непростая ситуация была и в университете. «Появились профессора „красные“ и просто профессора, — вспоминает Лихачев. — Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено… состав студентов был не менее пестрый, чем состав „условных профессоров“: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивающие свое военное обмундирование…»
Казалось бы, самое время «политизироваться» — ведь ясно же, что будущее за «красными», и многие сообразительные студенты так и сделали, и сразу «продвинулись»… Но это было не для него. У него была другая компания.
«В университете, — пишет он, — также были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывающиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мною И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель)… Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской… „Красные профессора“ знали меньше, но обращались к студентам „товарищи“. Старые профессора знали больше, но говорили студентам „коллеги“… Я ходил ко всем, кто мне казался интересен».
Весьма твердая позиция: выбираю науку, а не политику!
Юный Дмитрий Лихачев мало рассказывает о себе — но характер его уже вырисовывается. Весьма заметны в нем выдержка, стойкость, некий упрямый педантизм: «Пусть хаос вокруг разрастается — я буду делать то, что считаю нужным». Эта его преданность научной истине, а не «модным течениям времени» и сделала его главным моральным авторитетом страны, но до этого пришлось пройти через множество испытаний. «Хождения по мукам» неизбежны в жизни праведника.
Уровень и широта знаний Мити Лихачева, выпускника школы, поразительны. Думаю, что нынешние выпускники не знают 99 процентов того, что знал он. Но удивительна и его жажда знаний.
«Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова, англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии»… А ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), где проходили замечательные дискуссии по вопросам искусства, в городе была интенсивная театральная жизнь, проводились выставки замечательных новых художников. И все это вошло в сознание юного Мити Лихачева, и после все поражались объему его эрудиции, а она — из тех бурных лет. И все это разнообразие не отвлекало, а наоборот — насыщало его, расширяло горизонты научной работы. Лихачев уже тогда интересуется «временными изменениями стиля в древнерусской литературе». При этом он еще сожалеет, что не успевает на выступления кумиров того времени — Есенина и Маяковского. Какую насыщенную, серьезную жизнь он вел — совсем еще молодой человек! Притом нет ни одного упоминания, как славно они «оттянулись» с друзьями в пивном баре, потрындели о том о сем. Такое показалось бы ему дикостью. Более серьезные вещи волновали его тогда.
После объявления красного террора 5 сентября 1918 года уже за первые месяцы были убиты один митрополит, восемь архиереев, десять священников, 154 дьякона и 94 монаха.
Те, кого это возмущало, стали больше ходить в церковь — и Лихачев среди них. Многие знаменитые оперные певцы бесплатно стали петь в церковном хоре. Участились расстрелы в ЧК на Гороховой, 2, в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне. Лихачевы жили на Ораниенбаумской — и при открытой форточке ночью доносились залпы: людей расстреливали в Петропавловской крепости, у речки Кронверки.
«Мы не пели патриотических песен, — вспоминает Лихачев, — мы плакали и молились. С этим чувством я и стал заниматься в 1923 году древнерусской литературой… Я хотел удержать в памяти Россию, как образ умирающей матери… Я окончил университет в 1928 году».
И как раз 1928 год, год окончания Лихачевым университета, отмечен приходом к власти Сталина и его диктатуры и началом гонения на кружки интеллигенции, на их встречи и их беседы. А кружков было много, интеллектуальная жизнь в городе была необыкновенно активна (из-за такой активности и арестованных было много). Молодой Лихачев был в самой гуще той жизни. Говорят, «перед смертью не надышишься», но все старались «надышаться». Столь интенсивного духовного общения не было, кажется, больше никогда. Бывшие школьные учителя не расставались с любимыми учениками и после школы, им было жалко терять друг друга. Они оказывались в семинарах, кружках, новоиспеченных «академиях» и продолжали спорить, философствовать, строить планы.
«Хельфернак» (что расшифровывалось как «Художественно-литературная, философская и научная академия») был одним из заведений такого рода.
«В двух тесных комнатках Ивана Михайловича Андреевского (интеллектуальное общение свело их, еще когда Лихачев учился в школе) на мансардном этаже дома на Церковной улице каждую среду собирались и маститые ученые, и школьники, и студенты. Помню (из самых знаменитых)… С. А. Аскольдова (Алексеева), В. М. Юдину, доктора Модеста Н. Моржецкого, В. Л. Комаровича, И. Е. Аничкова, Л. В. Георга, Е. П. Иванова, А. А. Гизетти, М. М. Бахтина, А. П. Сухова и многих других, а из молодежи — Володю Ракова, Федю Розенберга, Аркашу Селиванова, Валю Морозову, Колю Гурьева, Мишу Шапиро, Сережу Эйнерлинга. Всех не перечислишь. Во время заседаний пускалась по рядам громадная книга, в которой расписывались присутствующие, и где на страницах сверху своеобразным „готическим“ почерком Ивана Михайловича Андреевского была обозначена тема доклада, фамилия докладчика и дата. В 1927 году, когда время наступило опасное, один из самых молодых участников „Хельфернака“ Коля Гурьев завернул эту книгу протоколов в различные водоустойчивые материалы и закопал где-то на Крестовском острове».
Затем, в связи со все растущими притеснениями церкви, заседания стали принимать все более религиозный характер, и собрание стало именоваться «Братством святого Серафима Саровского». Так что говорить, будто направленность их собраний не имела никакого отношения к политике, будет неверно. Протест против уничтожения государством православной церкви явно присутствовал — а значит, то был протест и против этого государства.
И обнаружение в их среде провокатора, втягивающего их в откровенные и слишком громкие разговоры, явно говорит об интересе карательных органов к их собраниям, о подготовке ареста и шумного политического процесса. Пришлось объявить на очередном собрании о роспуске «братства». В тот раз им удалось спастись.
«Более безопасным, — вспоминает Лихачев, — казалось тогда общение в шутливых кружках. Казалось, никому в голову не придет преследовать людей, собирающихся, чтобы беззаботно провести время. Володя Раков, мой соклассник по Лентовской школе, пригласил меня бывать у них в „КАНе“ — „Космической академии наук“… Члены этой „академии“ летом прошли от Владикавказа до Сухума по Военно-осетинской дороге, обзавелись на Кавказе тросточками, заявили о своей верности дружбе, юмору и оптимизму… В нашем студенческом кружке, игравшем особенно значительную роль в нашей жизни того периода, когда свободная философия и религия постепенно становились запретными, неофициальными, непризнаваемыми, создавался своего рода маскарад не с целью какой-то конспирации. Напротив, шумные формы этого маскарада скорее могли привлечь внимание к нашему кружку. Так и случилось. Телеграмма якобы от папы римского с поздравлением к годовщине Академии привлекла внимание сверхбдительных организаций… 8 февраля 1928 года под утро за мной пришли».
Следователь (видимо, старого еще воспитания) был предупредителен и вежлив и даже подал едва не потерявшему сознание Сергею Михайловичу стакан воды. Аресты уже шли повсюду, поэтому все уже знали, что необходимо взять с собой — теплое белье, кружку… Кружка эта так выручала потом Лихачева в его лагерной жизни! На прощание — банальные слова: «Это ошибка. Я скоро вернусь!»
Лихачев вспоминает свой «прощальный проезд» на рассвете по прекрасному Ленинграду, через Неву, потом по набережным… Но сейчас его увозят в тюрьму. Повороте широкого Литейного в узкую, темную Шпалерную улицу, и въезд через еще более темную арку во внутренний двор.
КАЖДЫЙ ВСТРЕЧАЕТ РАВНЫХ СЕБЕ
То была старая политическая тюрьма на Шпалерной, неброское трехэтажное здание, где сидел еще Ленин.
С присущей новой власти склонностью к разного рода сокращениям и аббревиатурам, учреждение называлось теперь ДПЗ — Дом предварительного заключения. Раньше тут сидели революционеры, борцы с самодержавием, теперь тут «за политику» держали народ самый разный: бывшие «сливки общества» (например, сидел лидер петроградских бойскаутов граф Шувалов) и рядом — абсолютно случайный деревенский мальчик, увидевший вдруг гидроплан на Неве и проявивший подозрительный, с точки зрения органов, интерес к этому «секретному чуду техники».
В «Воспоминаниях», написанных уже в конце жизни, Лихачев скрупулезно сравнивает свои наблюдения на Шпалерной с впечатлениями другого крупного ученого, знаменитого историка Анциферова, тоже побывавшего здесь, но в другое время. То есть происходит типичное для интеллигенции спасительное замещение — тюрьма рассматривается не как место ужаса, а как очередной объект бесстрастного научного изучения. Для того и придумана культура, чтобы, подобно щиту, оборонять нас от ужасов жизни, превращать ужасы в научные теории и таблицы. И этот спасительный взгляд настоящего ученого на происходящие кошмары лишь как на объект научного изучения был у Лихачева уже тогда. «Интерес ко всем этим людям поддерживал меня», — пишет он. Рассказывает о их суровом надзирателе, который, постепенно привыкая к ним, становился все более общительным, проводил чуть ли не экскурсии по тюрьме, показывал «исторические» камеры.
Лихачев сразу же выстраивает некоторую систему в происходящем хаосе, почти что теорию. Их камера 273, а это — цифра абсолютного температурного космического нуля — и арестовали его за «Космическую академию». Что-то выстраивается… во всяком случае, такие штудии тренируют ум, не дают личности распасться.
Лихачева стали вызывать на допросы, всерьез интересовались связями участников студенческого кружка с папой римским. В вину Лихачеву ставили его доклад, сделанный в их обществе — «О старой орфографии», усматривая в этом докладе непризнание новой жизни. Интенсивная интеллектуальная жизнь продолжалась и в камере, поскольку именно за нее и сажали, публика тут собралась весьма просвещенная. Образовался своего рода «выездной научный семинар». «Доклады» и «конференции», проходившие на Шпалерной, отличались особой научной смелостью, дерзостью, парадоксальностью. «Свобода мысли» давала возможность почувствовать свое превосходство над этими ничтожествами, что держали их здесь. Никакого следствия не велось. Дела «шились» тупо, под копирку. Следователь Стромин (автор всех процессов двадцатых годов против интеллигенции) на деле Лихачева и его «сообщников» сильно поднялся, после этого ему поручили дело знаменитых академиков — Платонова, Тарле, но это дело он завалил, академики оказались не по зубам. Но и в деле «Космической академии наук» Стромин был неубедителен, никаких серьезных доказательств вины «нарыть» не сумел, старался брать пафосом, но не сумел никого ни в чем убедить. Духовное и интеллектуальное ничтожество обвинителей было очевидно, так же как интеллектуальное, духовное превосходство осуждаемых… И когда их вызвали к начальнику тюрьмы и тот с какими-то завываниями (видимо, для придания значительности) прочел приговоры (Лихачеву — 5 лет), то вместо жалких оправданий и просьб услышал лишь презрительное: «Это все? Мы можем идти?» Это произнес Игорь Евгеньевич Аничков, ставший после смерти Сталина преподавателем Педагогического института в Ленинграде. Они гордо вышли из комнаты. Вскоре они покинули тюрьму на Шпалерной. Их ждали новые, гораздо более тяжкие испытания.
После относительно спокойной жизни в тюрьме на Шпалерной, начиная с погрузки в «столыпинские вагоны» на дальних путях Николаевского (ныне Московского) вокзала, «пошла работа» по уничтожению «врагов народа», уничтожению моральному и физическому.
Разузнав о их отправлении, возле путей собрались родные и друзья. Тогда еще допускались провожающие. Допускались — но не подпускались. «Толпу еще не боявшихся тогда родных и друзей, просто товарищей по учению или службе, грубо отгоняли солдаты конвойного полка с шашками наголо».
В вагон, состоящий из отдельных запирающихся камер, набили народу гораздо больше всякой мыслимой нормы. Охранники вовсе не заботились об удобствах и правах заключенных, их задача была прямо противоположной — мучить и унижать.
Избежать побоев не удалось никому — в Кемском пересыльном пункте конвоир при высадке из вагона сапогом разбил Лихачеву лицо. Лихачев в одном из своих интервью рассказывал, что спас его колоссальный интерес ко всему как к объекту изучения. На Кемском пересыльном пункте, на берегу Белого моря, заключенных зачем-то заставили бегать с вещами вокруг столба. Конвоиры ругали их матом, но между собой они разговаривали по-французски. Лихачев воспринимал все это как некий абсурдистский спектакль, а не реальность, и засмеялся. Такой отстраненный, исследовательский подход и помогал ему выносить мучения. Арестанты сразу оказались между жизнью и смертью. Ночью на «кемской пересылке», перед посадкой на пароход, в переполненном сарае, где пришлось простоять почти всю ночь, священник-украинец сказал Лихачеву: «Надо найти на Соловках отца Николая Пискановского — он поможет».
Потом была посадка на пароход «Глеб Бокий», который вез их на Соловки. При погрузке Лихачева случайно спас оказавшийся рядом вор-домушник Овчинников, повторявший: «Только не торопитесь, будьте последними»…
Когда пароход прибыл на Соловки, первые, вошедшие в трюм, оказались «последними» — их, задохнувшихся и раздавленных, выносили в конце.
Суровое небо, мощные стены Соловецкого монастыря, превращенного в СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения… Не всем, погруженным на корабль, удалось это увидеть. Вот первые впечатления Лихачева о Соловках:
«Нас, живых, повели в баню № 2. В холодной бане заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду — только холодная. Примерно через час появилась и горячая. Чтобы согреться, я стал беспрерывно поливать себя горячей водой. Наконец, вернули одежду, пропахшую серой. Оделись. Повели к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До этого я никогда не видел настоящего русского монастыря. И воспринял Соловки, Кремль не как новую тюрьму, а как святое место. Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. Там при свете „летучих мышей“ нас пересчитали, обыскали.
…Я буквально свалился на нары и очнулся только утром. То, что я увидел, было совершенно неожиданно. Нары были пустые. Кроме меня, оставался у большого окна на широком подоконнике тихий священник и штопал свою ряску… Разговорившись со священником, я задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою ряску, священник ответил: „Пискановский? Это я“. Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу наилучшим образом».
Но пока: «…утром я получал свою пайку хлеба и кипяток в большую эмалированную кружку, которой снабдили меня заботливые родители. По возвращении с работы в ту же кружку мне наливали поварешкой похлебку… Сколько специальностей я переменил в 13-й роте! Редко удавалось попасть на одну и ту же работу. Больше всего мне запомнилось — пильщиком дров на электростанции, грузчиком в порту, „вридлом“ (временно исполняющим должность лошади) по Муксаломской дороге в упряжке тяжело груженных саней, электромонтером в мехзаводе (по-старому — в „монастырской кузне“), рабочим в лисьем питомнике, и, наконец, коровником в сельхозе…»
Из всех рот 13-я была самой большой и самой страшной. Туда принимали вновь прибывшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать, и направляли на самые тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были побывать в 13-й роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной». Порядки там были исключительно жестокие. Того, кто не выполнял дневную норму, ставили «на комары» — то есть раздевали догола, ставили на камень и запрещали двигаться. Тело мгновенно покрывалось комарами, слеталась целая звенящая туча. Некоторые падали с камня замертво… 16-й ротой шутливо называли кладбище. Обледеневшие, окостеневшие трупы по рельсине звонко спускали в яму…
В 13-й роте многие заключенные сразу же проиграли в карты шулерам все, включая и пайку на много дней вперед. Однако и к ужасам 13-й роты Лихачев проявил исследовательский интерес, не дающий ему унывать, он внушал себе, что он в «исследовательской экспедиции», и в 1930 году в местном альманахе «Соловецкие острова» появляется его научная статья «Картежные игры уголовников». Ну, просто не каторга, а научная командировка! Лихачев изо всех сил старался сохранять именно такое отношение к происходящему. Он изучал, осмысливал, записывал. Он написал там «Советы идущему по этапу», содержащие очень много ценных, спасительных для заключенного наблюдений и советов. Вот раздел «Мои вещи»:
«Как надо спать на нарах? Нары обычно короткие. Если вытянешься, ноги повиснут в пространстве. Проходящие заденут. Разбудят. Отделенные будят ударами палок или ремней по ногам. Поэтому ноги надо приучить держать поджатыми под себя. У меня до сих пор сохранилась эта лагерная манера, ложась спать, поджиматься. Но одеяло могут и украсть, особенно крадут верхние вещи, если ими накроешься поверх одеяла. Поэтому меня научили делать так: одеяло по краям обязательно подтыкать под себя (так оно и теплее), а бушлат или шубу одевать на ноги: засовывать ноги в рукава; никогда не сползет, и тепло, а если урки станут стягивать, то разбудят. И ноги отделенные не перешибут. Это, конечно, для общих рот с нарами.
И еще, чтобы быстрее одеться утром — рубашку и кальсоны снимать вместе с верхней одеждой. Так и класть рядом с собой. А одевать сразу кальсоны с брюками и рубашку с толстовкой. Желаю успеха».
Конечно, Лихачев получил тут огромный жизненный опыт, много узнал. В Соловках оказывались рядом профессор и уголовник, проститутка и фрейлина, говорившая на безукоризненном французском…
Отец Николай Пискановский и владыка Виктор Островидов (священникам лагерные начальники доверяли, знали, что они не обманут) не оставляли попыток устроить Лихачева на канцелярскую работу и тем самым спасти его не только тело, но и душу — и им это удалось. Хоть и не сразу. Видно, было в юном Лихачеве то, что привлекало к нему людей серьезных, глубоких, ответственных — острый ум, тонкая душа, стремление к совершенству. Лихачев страстно ждал улучшения своей судьбы, обещанного отцом Пискановским, но вместо этого оказался в изоляторе с сыпным тифом. Тащили его в изолятор Володя Раков и Федя Розенберг, «подельники» по шутливой «Космической академии наук». Кажется, как давно это было — в другой жизни. И как несоразмерны «преступление» и ужасное наказание!
Врачом в изоляторе служил тоже давний знакомый — Иван Михайлович Андреевский, бывший преподаватель школы Лентовской, создавший сначала «Хельфернак», где так увлеченно спорили молодые вместе с Митей Лихачевым… Страшное продолжение их «философских бесед»! Бывший наставник, теперь — лекарь, ученик — в тифу. Теперь наставник должен спасти ученика. Кроме него, в спасении Лихачева участвовал и другой замечательный человек, делопроизводитель медчасти Георгий Михайлович Осоргин, дворянин, передавший начавшему поправляться Лихачеву полбутылки красного вина. Среди ужаса и низости окружающей жизни такие люди особенно выделяются.
«Зрительная память хорошо сохранила мне внешность и манеру держаться Георгия Михайловича Осоргина, — написал Лихачев. — Среднего роста блондин с бородкой и усами, всегда по-военному державшийся…. всегда бодрый, улыбчивый, остроумный — таким он запомнился мне на всю жизнь… Он многое делал, чтобы спасти от общих работ слабосильных интеллигентов: на медицинских комиссиях договаривался с врачами о снижении группы работоспособности, клал многих в лазарет или устраивал лекпомами (лекарскими помощниками, фельдшерами), для чего нужно было иногда… знать только латинский алфавит и отличать йод от касторки.
Осоргин спас многих — но сам погиб: деятельность его не могла долго оставаться безнаказанной. После знаменитого визита Максима Горького на Соловки в порядке мести заключенным за их жалобы чекисты расстреляли 300 заключенных: попал в этот список и Осоргин. Но и погибая, он был великолепен. По обычной лагерной неразберихе как раз в дни перед расстрелом (о котором Осоргин знал) к нему на свидание приехала жена. Она была из княжон Голицыных и уже имела паспорт для выезда в Париж. Чекисты разрешили Осоргину свидание — если он даст слово офицера, что о расстреле ей не скажет (чекисты часто оформляли расстрелы как естественную смерть)».
Лихачев случайно встретил Осоргина, гулявшего по Соловкам с женой, как всегда подтянутого, веселого, остроумного. Жена, успокоенная, уехала. Осоргина 28 октября 1929 года расстреляли среди сотен других отобранных «чекистскими мстителями».
Вот с такими людьми жизнь свела на каторге Лихачева — и они ценили Лихачева за его качества, проявившиеся уже тогда. Каждый встречает равных себе. Много лет спустя, выбравшись в Оксфорд, Лихачев встретил там сестру Осоргина и рассказал ей историю его гибели: оказывается, она ничего не знала об этом.
Друзья Лихачева в лагере устроили его, наконец, на новую работу, но тут он как раз тяжело заболел тифом, валялся среди других больных, причем последние дни — в так называемой «палате для выздоравливающих», которая представляла собой подвал с низкими сводами, продуваемый с улицы… Приехав на Соловки много десятилетий спустя, Лихачев нашел это тесное помещение и не мог поверить, что помещался там! Но он там поправился и пошел на новую работу.
Соловецкий лагерь, хоть и созданный на погибель всего незаурядного, как ни странно, при этом нуждался в умных людях. Какая-то организованность там должна была быть. А от дурака, как известно, результата никакого. Начальству был нужен отчет, «витрина», «результаты перевоспитания», полезная деятельность и даже доход — и никто, кроме людей умных, этого сделать не мог. В лагере были музей, театр, свое хозяйство, культурно-просветительская часть, включающая актеров, музыкантов, администраторов, должная изображать «перевоспитание опасных преступников». Дураки загубили бы все это на корню.
Было в лагере еще одно удивительное заведение — Криминологический кабинет. Там занимались сбором рисунков, интересных писем, картин и стихов заключенных. Умный человек, возглавлявший эту лабораторию, Александр Николаевич Колосов, бывший прежде судьей и прокурором в царской армии, умел поставить себя и перед лагерным начальством, внушить им, что изучение тайн преступной души без их лаборатории невозможно. Для Дмитрия Лихачева, уже чувствовавшего в себе азарт исследователя, работа эта была крайне интересна.
Однажды, еще в 13-й роте, когда он грузил свиной навоз, к нему подошел «очень почтенный и красивый немолодой господин с седой бородой в черном полушубке и с самодельной березовой палочкой в руках. Это был А. Н. Колосов».
После краткого разговора Лихачеву была обещана (не сразу, правда) постоянная работа в Криминологическом кабинете.
Но все затягивалось. Лихачев попал из 13-й в 14-ю роту, тяжело переболел тифом и лишь после этого оказался в Кримкабе (так все они называли Криминологический кабинет). Командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, поместил Лихачева в комнату к Колосову.
В лагерной судьбе Лихачева произошел важный поворот. После грязной, тяжелой работы он смог заниматься примерно тем, чем потом занимался всю жизнь — анализом текстов. В связи с новой своей работой он оказался и в замечательном Соловецком музее, где занимался составлением описи потрясающих икон, уцелевших здесь словно чудом.
Благодаря чему в этом аду, в угаре воинствующего атеизма сохранился этот уникальный музей церковных ценностей? Лихачев рассказывает удивительный сюжет, который показался бы невероятным в любом романе: «Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х годов стоял эстонец Эйхманс. Человек относительно интеллигентный. Получилось так, что из заведующего музеем он стал начальником лагеря и при этом чрезвычайно жестоким. Но к музею он питал уважение, и музей даже после его отъезда сохранял особое положение».
Когда Лихачев оказался в Соловецком музее и был потрясен им (начиналось его увлечение русской стариной), директором музея был некто Николай Николаевич Виноградов, незаурядный авантюрист, сумевший внушить лагерному начальству впечатление полной своей преданности и активной антирелигиозной работы, но при этом оказавшийся тончайшим знатоком искусства и, исключительно благодаря своей «гибкой политике», сохранявший музей от уничтожения. Окажись на его месте идеалист, не идущий ни на какие компромиссы, — музей давно бы погиб. А так музей не только существовал — в нем шла научная работа, в которую сразу же с восторгом включился Лихачев. Именно тут он набирается жизненной мудрости, видит, что и в людях далеко не идеальных есть порой искра Божья, и таких людей тоже надо ценить, использовать их лучшие стороны. Его мягкость, душевное расположение в обращении с самыми разными людьми сделали его главным моральным авторитетом своего времени, и мудрость эта сложилась на Соловках. Именно здесь он сделался знатоком людей, страстным и упорным исследователем…
Как только он получил разрешение покидать территорию кремля, он начал изучать Соловки уже как почти сложившийся ученый. В его бумагах есть план, на котором изображены и охарактеризованы все исторические и современные строения на острове. Лихачев восхищен увиденным:
«Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собой, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили — 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI века!), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники».
Восхищение стариной, страстное желание изучать ее и рассказывать о ней, все то, что потом составило его жизнь, явилось ему здесь. В страшном Соловецком лагере особого назначения он сумел найти свое любимое дело, свою стезю, которая затем привела его к славе, сделала одним из знаменитых ученых мира.
Он сошелся здесь с замечательными людьми, в том числе с племянником писателя Короленко. Имея пропуск на выход из крепости, они довольно много ходили по Соловкам, переходили по дамбе на соседний остров, много говорили. Соловки окружены со всех сторон ледниковыми валунами, много их и в тайге внутри острова — и будучи в самом высоком расположении духа, Лихачев и Короленко решили оставить память о себе: выбить свои фамилии на камне. Но в тот раз сделать этого не успели. Потом каторжная жизнь разлучила их. Много десятилетий спустя Лихачев вспомнил об этом — и одна из самоотверженных работниц Соловецкого музея долго искала и, наконец, нашла в тайге камень, на которым было выбито — «Короленко, Лихачев». Верный друг не забыл их клятвы — выбил на камне фамилии, и вскоре после этого его расстреляли. Но камень этот стал знаменит — его много потом снимали, показывали по телевизору, он фигурирует и в фильме про Лихачева. Соловецкие страдания легли «краеугольным камнем» в основу лихачевской жизни, в основу его характера мученика и мыслителя, и в страданиях проявившего высоту духа. Это и сделало потом Лихачева столь знаменитым.
И эти «воспарения души» происходили на фоне ужасов лагерной жизни, которая становилась все страшнее.
Кроме театра и музея, на Соловках были и 11-я рота-карцер, и знаменитая Секирка — страшный штрафной изолятор на горе, к которому вела крутая лестница с множеством ступенек, и известная всем маленькая комнатка под колокольней, где казнили выстрелом в затылок одиночных заключенных — так, между делом, на ходу, без тех хлопот, которыми сопровождался большой расстрел.
Знал ли обо всем этом Горький, побывавший на Соловках? Во всяком случае, «мировую общественность» он успокоил: ничего чрезвычайного на Соловках не происходит, спасают заблудших! Мальчика, с которым Горький беседовал особенно долго и задушевно и который рассказал писателю все, после отъезда писателя расстреляли.
А самый большой расстрел произошел 28 октября 1929 года. В камере 3-й роты, где жил Лихачев, вдруг все услышали, как завыл пес Блек — это значило, что выводили партию на расстрел через Пожарные (Святые) ворота: пес никогда не ошибался.
Сам Лихачев лишь благодаря чуду (или характеру?) избежал расстрела. Ему повезло: когда за ним пришли в казарму, его там не было. Он был в комнате, которую сняли его родители, приехавшие к нему на свидание, и друзья нашли его там и успели предупредить.
Сказав родителям, что его срочно вызвали на работу, он пошел на дровяной двор и спрятался между поленниц. «Что я натерпелся там, слыша выстрелы и глядя на звезды неба!» — вспоминает Лихачев.
Страшная «расстрельная норма» в 300 человек в ночь 29-го была выполнена. Лихачев уцелел и вернулся к родителям. Осталась фотография: Лихачев после той ночи сфотографировался с родителями. На фото они пытаются улыбаться, но глаза их полны страдания, особенно почему-то у Сергея Михайловича.
Лихачев очень переживал это событие, говорил — «кого-то ведь расстреляли вместо меня!», повторял — «теперь я должен жить и за этого человека, и сделать как можно больше!».
Пройден самый страшный момент лагерной жизни. Лихачев начинает работать в Криминологическом кабинете. Он увлечен теперь делом — важным и весьма полезным. Его начальник Александр Николаевич Колосов оказывается человеком умным и деятельным. Он выдвигает идею, которая увлекла и Лихачева и при этом понравилась и начальству. Он создал на Соловках детскую колонию — для несовершеннолетних преступников — и спас сотни бывших беспризорников, которые без всякого учета были растворены в общей массе заключенных и погибали в этих условиях, а для детской колонии были построены специальные бараки, были выданы бушлаты, обувь, а главное — все были поставлены на учет и питание. Когда разошелся слух о хороших условиях в колонии, дети сами начали приходить туда, но до этого Лихачеву пришлось долго мучиться, разыскивая их в бараках под нарами, вести с ними беседы, распутывать постоянное их вранье, находить слова, действующие на них. О работе этой Лихачев вспоминал с удовлетворением и в конце своей жизни.
Когда многих «соловчан» стали переводить на материк, на строительство Беломорканала, прошел слух и о переезде Колосова. На прощальном вечере Лихачев стал говорить тост со стаканом компота в руке и расплакался: Александр Николаевич Колосов избавил его от самого страшного — от бессмыслицы существования, сделал жизнь его интересной и полезной, спас душу.
Многие знакомые, в том числе и друзья по «Космической академии», уже были переведены на материк, на строительство Беломорско-Балтийского канала и сообщали оттуда, что жизнь там гораздо терпимее, а работа интереснее. Его «подельник» по «Космической академии» Федя Розенберг на Беломорканале, на Медвежьей Горе оказался на хорошей счетной должности и прислал вызов Лихачеву «как выдающемуся бухгалтеру». Но того долго не отпускали. Однажды симпатизирующий ему канцелярист показал ему его дело. Там стояла запись: «Имел связь с повстанцами на Соловках». Лихачев понял, что причиной записи послужил случай, когда он столкнулся с группой заключенных, которых конвой гнал на расстрел, и, увидев среди смертников своего знакомого, снял фуражку и низко поклонился. Такие вещи тут не прощались.
Дважды Лихачеву объявляли о выезде — и дважды в последний момент не выпускали. И только в третий раз — уже без слез и речей, с которыми его провожали первые два раза, — Лихачев, наконец, покинул Соловки на том самом пароходе «Глеб Бокий», который когда-то его сюда привез, названном, что удивительно, именем живого начальника лагеря, отличавшегося жестокостью и хитростью, лично сопровождавшего Максима Горького.
Главный итог — Лихачев прошел каторжные испытания достойно, ни в чем себе не изменив. Наоборот — он вышел оттуда закаленным испытаниями. В одном из интервью, уже много лет спустя, он сказал о моральном уроке лагерей: «Главное — чтобы „моральная порча“ не проникала в тебя, даже в самых малых дозах — после этого неизбежно начинается разложение».
«Медвежья Гора, — вспоминает Лихачев, — встретила нас солнцем, которого мы давно уже (с лета) не видели на Соловках, и чистым, только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении. Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 1932 году 8 августа я был действительно освобожден». Он научился здесь ценить жизнь, находить высокое среди грязи и уже оценивал Соловки не только лишь как ужасный лагерь — но и как замечательный исторический объект, великий центр христианства и культуры. Лихачев прошел еще один «университет», и прошел блестяще, встретил замечательных людей, которые и его оценили высоко. Лихачев узнал себе цену. Каждый встречает равных себе.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Последние месяцы заключения Лихачев проработал на строительстве Беломорканала (куда его вызвал Федя Розенберг) — на железнодорожных станциях Медвежья Гора, Званка и в Тихвине. Он вполне успешно справлялся с должностью диспетчера грузовых поездов и даже получил удостоверение «Ударник Беломорстроя». В начале августа 1932 года пришло распоряжение ехать на Медвежью Гору за документами на досрочное освобождение. Незадолго перед этим приехали в Тихвин родители Лихачева и его младший брат Юра, который замечательно плавал и нырял. Им так понравилось в Тихвине, что они уговаривали остаться там на весь август. Но Лихачеву этого совсем не хотелось. Он подсчитал: «Я провел девять месяцев на Шпалерной, три года на острове, и девять месяцев на Беломорско-Балтийском канале: на Медвежьей Горе, на Званке и в Тихвине».
И уже в первой половине августа они приехали в Ленинград. Впечатление было не радостное. Как писал Лихачев: «С 1917 по 1950 год дома были тусклые, редко красились, орнамент не выделялся — сойдет и так. Люди ходили оборванные: не приняли бы за буржуев… Единственное яркое пятно, которое запомнилось за эти десятилетия — синяя бекеша Шаляпина. Когда рассказали, что за границей цветные авто — не поверил… Перед самым арестом заказывал костюм (за 40 рублей, большие деньги). Заказывал темно-синий — но он все равно оказался черным. Пока я сидел, его носил младший брат Юра. По возвращении из лагеря родители купили черный грубошерстный костюм, в котором я проходил до конца войны. Темно-коричневая толстовка, все остальное черное. И бритвы не было, а стриг я бороду машинкой».
Никакие радости его тут не ждали. Жизнь его семьи сильно ухудшилась. Отец потерял прежнюю должность, а вместе с этим и хорошую казенную квартиру на Ораниенбаумской, и они теперь жили неподалеку от прежнего дома, на Лахтинской улице, но уже в коммунальной квартире вместе с семьей инженера Кесарева, друга старшего лихачевского брата Михаила.
И если с пропиской (что было очень не просто) вдруг получилось, то с работой все обстояло плохо. Известно было, что сам Сталин, всячески пропагандируя успехи «перековки» людских кадров на Беломорье, велел всячески поддерживать «перековавшихся», разрешил им жить в больших городах и не велел чинить им преград при устройстве на работу. Но на самом деле начальство не слишком верило в эти «прекрасные порывы» вождя (глядишь, им же придется и отвечать), и «каналармейцев», даже с отличиями, брали на работу весьма неохотно. Кроме того, из-за неожиданного ареста Лихачев не успел получить университетский диплом, хотя прослушал почти полный курс требуемых наук и подготовил две отчетные работы: одну для романо-германской секции — о книгах Шекспира в России в конце XVIII — начале XIX века, а другую для славяно-русской секции — о «Повестях о патриархе Никоне». Но свидетельство об окончании университета удалось получить лишь позже, а устраиваться, вписываться в жизнь надо было немедленно. И тут его спас отец. Роль отца в жизни Лихачева была определяющей. В свое время приезд родителей на Соловки «отвел» Лихачева от расстрела, и другие их посещения поддерживали его материально и духовно. Теперь Сергей Михайлович, сохранивший свои связи в книжном мире, смог помочь сыну устроиться на работу, которая хоть как-то соответствовала его интересам и способностям. В свое время, будучи инженером «Печатного двора», Сергей Михайлович (когда еще Дмитрий был студентом) работал по совместительству в Доме книги (в Доме под глобусом, который многие знают как Дом Зингера), где помещалось и местное отделение Госиздата. И Дмитрий Лихачев, студент, мог по отцовскому абонементу заниматься в огромной библиотеке Госиздата, составленной из реквизированных редчайших книг. И теперь они обратились сюда — здесь хорошо знали их обоих, — и Дмитрия Сергеевича приняли на должность литературного редактора.
Он только успел приступить к работе, как у него начались жесточайшие язвенные боли. Соловецкие ужасы даром не прошли. Впрочем, ужасы и не ушли. Все вокруг жили в ожидании ареста. Волна репрессий и не думала утихать, наоборот — поднималась. Страдания сказывались на здоровье: по пути на работу в трамвае Лихачев потерял сознание, горлом хлынула кровь. В больнице родителям сказали: надежд на спасение мало, потеря крови слишком большая. Его спас хирург Абрамсон, который как раз тогда, на свой страх и риск, делал первые опыты переливания крови. Затянувшееся пребывание в больнице спасло Лихачева от высылки из города (в издательстве как раз «составлялись списки» на высылку, и Лихачев в эти списки попал). И второй раз судьба спасла его! Потом он долго лечился в Институте питания — и спасался от болей и тревог чтением — читал книги по искусству, по истории культуры. Читал и потом, когда лежал после больницы дома. Работы за время болезни он лишился. Отец устроил его в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Помимо страданий самого Дмитрия Лихачева — сколько страданий перенесли его родители!
В 1934 году он был переведен ученым корректором в Издательство Академии наук, расположенное в классическом здании академии на набережной Невы, и страшное утомление глаз от корректорской читки не останавливало его от запойного чтения после работы — количество книг, которые он считал необходимым прочесть, не уменьшалось, а увеличивалось. Великого ученого сопровождает всегда великая страсть.
При этом добросовестный Лихачев весьма увлекся и корректорским делом (тем более это как бы продолжало и работу отца, отдавшего значительную часть своей жизни изданию книг). С другими сотрудниками он выпускает справочник-инструкцию для корректоров, и одно время казалось, как признается сам Лихачев, что корректорское дело станет его профессией навсегда. Главное, что удерживало Лихачева здесь, — незаметность. Высунешься — попадешься! Даже среди корректоров, его коллег, многие были арестованы. Он вспоминает, как опустели улицы после убийства Кирова: люди старались нигде не появляться, не попадаться на глаза. Лихачев «затаился» в корректорах… Но страстное желание писать самому, заниматься научной деятельностью не оставляло его.
Поначалу, как признается сам Лихачев, писать не получалось. Почему-то все замечательные школы, которые он посещал, давая широкое образование и приучая мыслить, не учили писать. А последние годы в школе, как вспоминает Лихачев, писать вообще было трудно, поскольку от холода в классе пальцы не гнулись.
Его дипломные труды в университете — о Шекспире в России и о «Повестях о патриархе Никоне», может быть, и содержат интересные мысли, однако написаны, как признается Лихачев, по-детски беспомощно. Особенно не давались ему логические связи между фразами — связный текст не складывался никак.
Люди заурядные смиряются со своими недостатками (да чего уж там!), однако и многие выдающиеся люди, добившись главного, в остальном снисходительны к себе. Их недостатки как бы еще контрастнее подчеркивают их достоинства. Характер Лихачева другой. Всю жизнь он старательно, скрупулезно, даже, как считали некоторые его завистники, занудно стремился к совершенству во всем — даже в том, что не относилось непосредственно к его деятельности, но попадало в поле его зрения. Поэтому хороших ученых много — а Лихачев один.
Он начинает учиться писать. Теперь в отношении к знаменитому Лихачеву эта фраза звучит дико!.. Но такое было.
Большинство людей заурядных уверены, что они и так пишут неплохо. «А лучше — зачем?» Лихачев, однако, находит и читает книги, написанные, с его точки зрения, блестяще — прежде всего литературу искусствоведческую — Алпатова, Дживелегова, Муратова, Грабаря, Врангеля (искусствоведа), и пытается в своих писаниях подражать им. И вот — у него стало получаться!
Первый его серьезный письменный труд, появившийся после возвращения, — статья «Черты первобытного примитивизма воровской речи», напечатанная в сборнике «Язык и мышление» и сразу же отмеченная разгромной рецензией Михаила Шахновича «Вредная галиматья». Но видные лингвисты того времени — Абаев, Быховская, Башинджагян — отзывались о работе одобрительно. Первая же его статья сделала Лихачеву имя среди лингвистов. Старый лихачевский знакомый Оксман, бывший в тот момент заместителем директора Института русской литературы, пригласил Лихачева работать у них. Лихачев был человеком сдержанным, осторожным — особенно после каторги. Понимал, что после рецензий, подобных статье Шахновича, обычно следует арест. Он понимал, что пострадать может не только он. Но «зов науки» оказался сильнее страха. Главная, определяющая страсть его жизни уже определилась. Вторая его статья уже тоже готовилась к изданию в сборнике «Язык и мышление».
В 1935 году он женится. Зинаида Александровна Макарова, спутница всей его жизни, главная помощница и вдохновительница, приехала в Ленинград из Новороссийска, но к моменту их встречи стала уже настоящей ленинградкой. Даже южнорусский акцент в ее речи почти не чувствовался, а затем и вовсе исчез.
Наиболее любовно и подробно Зинаида Александровна отображена в воспоминаниях ее внучки и тезки — Зины Курбатовой. Часто так бывает, что особая близость устанавливается между бабушкой и внучкой.
Две Зины вместе разглядывали альбомы с фотографиями, привезенными Зинаидой Александровной из Новороссийска, с еще юношескими ее фотографиями.
— А! Это мы с Нинкой Урвачевой! — восклицала Зинаида Александровна и сразу молодела. Выросла она в многодетной семье. Все ее предки и родственники на фотографиях — черноволосые, широкоскулые, как и сама Зина. В молодости она была веселой, энергичной, запросто переплывала широкую новороссийскую бухту.
Даже на фотографиях голодных двадцатых годов Зинаида Александровна нарядная и веселая, в центре компании. «Бабушка в молодости была тусовщицей!» — так определила внучка Зина. Действительно, как вспоминает Зинаида Александровна, собирались они с друзьями часто, веселились — но пили лишь чай с булкой.
При всей той бурной молодой жизни ни в какую общественную жизнь, а тем более в «комсомолию», Зинаида Александровна не пошла. И хотя семья была не дворянская, отец был простой труженик, красных они не любили. Все ростовские родственники семьи на фотографиях — в форме белой армии. Зинаида Александровна вспоминает, как при вступлении белой армии в Новороссийск кто-то из ее родных воскликнул: «Наши пришли!» Что все страдания идут от большевиков, от революции и гражданской войны, было слишком очевидно.
Зина мечтала выучиться на врача, но не получилось. Когда ей было всего двадцать, от тифа умерла мать. Ее отец после этого не женился, остался вдовцом, и на Зину целиком легла забота о доме. Макаровы всей семьей переехали в Ленинград, когда Зине было 27. Она выучилась на бухгалтера, поступила на работу в издательство — и здесь увидела Дмитрия Лихачева. Зина воспитала трех младших братьев, спасла их от голода, холода и нищеты — и что-то похожее она ощутила, когда увидела Митю Лихачева. Первым чувством Зинаиды Александровны было вовсе не восхищение юным красавцем, а наоборот — сострадание к нему. Лихачев, измученный болями в желудке, бытовыми неурядицами, производил впечатление самое трагическое. «Бедный! — поделилась своими первыми ощущениями Зина со своими коллегами. — Уже холодно, а он в тапочках!» Этот, говоря по-научному, артефакт и решил их судьбу. Сперва — сочувствие, желание помочь, благодарность в ответ, и — любовь! Теперь Лихачев имел самую лучшую спутницу жизни — и своим взлетом он во многом обязан ей.
…На самом деле, как с улыбкой рассказывал Лихачев своей внучке Зине, он ходил тогда в тапочках не от бедности — просто после многолетнего таскания лагерных сапог хотелось иметь на ногах что-то легкое. В любом случае — тапочкам спасибо!
В папке, случайно найденной среди нагромождения других уже после его кончины, вдруг обнаружились неожиданно откровенные записи его семейной жизни… раньше он словно стеснялся этого, главным считая науку. И вот…
«…Ожидали ребенка в Новгороде. Ходили пешком в Волотово, Нередицу… Вернулись на Лахтинскую улицу, дом 9, кв. 12 к себе на 5-й этаж. Там три комнаты в коммунальной квартире вместе с Мишиным приятелем инженером Кесаревым… По настоянию отца нам с Зиной была отдана самая большая комната в два окна. Короткую занял отец: у него стояла оттоманка и наш семейный буфет. Дедушка читал на ночь. Длинная комната в одно окно стала бабушкиной. Комната была „роскошной“: зимний пейзаж художника Массена, гобелен. В эту комнату переехал и Юра, когда развелся с первой женой Ниночкой. В нашей двухоконной комнате стояли остатки кожаного кабинета конца века, купленного С. М. на карточный выигрыш во Владимирском клубе. Раньше стоял рояль „Дидерикс“, но его пришлось убрать. Складную кровать прятали за оттоманку.
…Пошли в родильный дом на Малом проспекте. Утром позвонила акушерка, сообщила: родились две девочки!
Бабушка Вера Семеновна ахнула: „Как мы сможем поднять двух детей?“ Барманский сказал в издательстве мне: „На детей всегда Бог посылает!“ …Плакали взапуски, хворали вдвойне, шалили вдвойне. Но и радости было вдвойне больше. Родившуюся первой назвали Верой, чтобы бабушка Вера помогала, вторую — Милой, чтобы именины были рядом, и отмечать вместе. Детское приданое купил местком: две деревянные кроватки. Приехали на машине, доставили домой, с торжеством. Верина кроватка ставилась ближе к раскладушке Зины, так как Вера плакала больше, тут же подхватывала и вторая. Вера ровно в 12 ночи с закрытыми глазами переваливалась в кровать к маме и спала с ней. Я приходил из издательства и лежал с язвенными болями. Зина ушла с работы в издательстве — брали рукописи на монтировку, после аналогичной работы в издательстве. Со знакомыми и друзьями не виделись, что, может быть, спасло от вторичного ареста».
Молодые надеялись на счастье, они заслужили его… и не могли предвидеть тех драм, которые преподнесет жизнь.
Эту семью многие считали безупречной, и никто не помнит у них значительных ссор. Лихачеву было свойственно скорее скрывать эмоции, чем делиться ими, но все, кто знали их семью, говорят о нежности и доверительности их отношений — о самом тяжелом они всегда говорили вдвоем с супругой, уединившись, и вместе принимали самые важные решения. Зинаида Александровна сразу проявила хватку и деловой подход к проблемам, мучившим тогда Дмитрия Сергеевича.
Великий Новгород. Рисунки Д. С. Лихачева. 1938 г.
Главным, конечно, был страх ареста. Дмитрий Сергеевич вспоминает, что страшно была по утрам смотреть на список жильцов на лестнице — всех арестованных тут же вымарывали: не дай бог, останется фамилия «врага народа»! — и таких замаранных строчек с каждым днем прибавлялось. Дмитрий Сергеевич уже проходил через все это и представлял себе все очень ясно.
Он работал корректором вплоть до 1937 года, и, конечно, не раз приходила мысль: неужели это вершина его карьеры? Но, с другой стороны, эта работа позволяла быть «невидимкой», не высказываться ни по каким острым вопросам, из-за которых мгновенно может «нарисоваться» арест. В одном из интервью он говорит: «Главное было — не прийти ни на одно собрание — и я перед каждым брал бюллетень. Да у меня и действительно начинались язвенные колики. Проголосовать против (против очередного „единогласного“ осуждения врагов народа. — В. П.) означало немедленную гибель! Но я не проголосовал ни за одну смертную казнь!»
По тем временам это было, конечно, подвигом. «Уклонение от голосования» конечно же бралось на заметку, и опасность все приближалась. Однажды, когда он лежал в больнице с язвой желудка в очередной раз, в городе началась паспортизация — событие это было довольно грозное. Всем, кто имел «неправильное происхождение» или судимость, новых паспортов не давали, а это означало высылку из города (в лучшем случае). Уже отказали в паспортах его «подельникам» — Сухову и Тереховко.
И тут молодая жена Лихачева энергично принялась за его спасение. Она узнала, что ученый корректор издательства, где работал Лихачев, Екатерина Михайловна Мастыко, детство провела в одной компании с нынешним грозным наркомом юстиции Крыленко. Нелегко было уговорить Екатерину Михайловну поехать к Крыленко — страшно женщине показываться тому, кто знал ее молодой, да и просто страшно предстать перед грозным наркомом, да еще с такой просьбой: это могло плохо кончиться! Однако Зина уговорила ее и даже дала ей свою нарядную кофточку. И спасла мужа. С подругой детства Крыленко был любезен, обещал помощь, но когда приехал к нему Лихачев, Крыленко еще в приемной, при большом скоплении народа, наорал на него, как было и положено наркому юстиции при встрече с таким «просителем». Знающие люди потом объясняли, что Крыленко сам был «под топором» и такая публичная демонстрация «революционной бдительности», как он надеялся, могла его спасти. Но на самом деле — он внял просьбе подруги детства, и несколько месяцев спустя пришло письмо из Наркомюста о снятии с Лихачева судимости!
Приободрившись (с такой женой можно добиться всего!), Лихачев решается выйти из корректорского «подполья» и начать заниматься наукой, о чем давно страстно мечтал.
Его первая, наделавшая шуму статья «Черты первобытного примитивизма воровской речи» была лингвистической, при этом — дерзкой, рассчитанной на шок, и Лихачев (выходит уже и вторая его статья) решает поступать в аспирантуру главного центра изучения лингвистики — Института речевой культуры. Там работал весь цвет академической филологии — Жирмунский, Мещанинов, Шишмарев.
Заявление от него приняли. Он приложил удостоверение «Ударник Беломорстроя». Милости Сталина к ударникам стройки знаменитого Беломорканала были широко известны.
Однако бдительным товарищам почему-то казалось, что Лихачев так и не «перековался» в этой «великой кузнице» и «настоящим советским человеком» так и не стал. В аспирантуру его не приняли. Сперва, на экзамене по истории, придрались к тому, что Лихачев упомянул в ответе книгу Бухарина, а это, оказывается, уже делать было нельзя… за этими партийцами, непрерывно арестовывающими друг друга, разве уследишь? Так ни на что другое времени не хватит. Экзамен был провален.
На втором экзамене — по специальности — был задан внешне простой вопрос, ответ на который, однако, должен был занять около получаса, и состоял из длительного перечисления трудно выговариваемых терминов. Лихачев (уже поняв, что его нарочно заваливают) обиделся и отвечать на этот вопрос не стал. Задал этот вопрос, что интересно, знаменитый лингвист, который впоследствии ни в каких подлостях не был замечен, поэтому Лихачев не называет его фамилии.
Нам остается теперь только гадать, чем был продиктован этот «вопрос на засыпку»: политическим нажимом или «чисто научной» ревностью? Могло, кстати, сочетаться одно с другим. Но не будем слишком пессимистично думать о людях науки. Возможно, там случается и «подсиживание», но лучше запоминаются моменты солидарности.
Через некоторое время Виктор Максимович Жирмунский, великий ученый, университетский преподаватель Лихачева, при встрече деликатно сказал: «Я слышал, вы безрезультатно стучались в двери нашего института?» Лихачев отметил, что это самая деликатная формулировка из всех возможных. Через два года, пройдя через собственный арест (может, и это сыграло роль?), Жирмунский сам предложил Лихачеву поступить в Институт речевой культуры, где он работал и куда Лихачев пытался поступить. Однако Лихачев отказался. Вероятно, тут сыграло роль и уязвленное самолюбие. Лихачев, внешне мягкий, был памятлив и обид не забывал. Но главное — он уже был увлечен древней русской литературой.
После первого неудачного штурма науки он возвращается в корректорскую, и даже с некоторым повышением — в кресло редактора-организатора, который уехал в отпуск. Кресло это не зря называли гильотиной — место более опасное трудно представить. Любое принятое здесь решение могло стать последним. Присланный, а точнее подосланный новый главный редактор — партиец Даев умело подводит Лихачева к увольнению (за которым мог последовать арест). Даев собирает все отрицательные рецензии, в которых сомнительные рукописи отвергались, и выдает все рецензии за свои. «Проявил бдительность! А вот Лихачев на посту редактора-организатора ее потерял!» Лихачева увольняют, пообещав «работу по договорам». За этим может следовать арест. Но вместо этого происходит взлет! Одна из великих способностей Лихачева — не терять ориентации в минуту опасности, а, наоборот, сосредоточиваться и выигрывать! Лихачев оказывается в древнерусском отделе Института русской литературы (он же Пушкинский Дом).
Почти вся научная жизнь Лихачева связана с учреждениями на берегу Невы: сперва университет (бывшее здание Двенадцати коллегий, построенное еще при Петре архитектором Трезини), потом — издательство в Академии наук, классическом здании с колоннами, построенном Кваренги, затем — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) — высокое желтое здание с куполом, выстроенное архитектором Лукини возле Стрелки, где Нева разделяется на Большую и Малую (прежде там была Портовая таможня).
Институт русской литературы в Петербурге возник не сразу. В 1899 году была создана Комиссия по празднованию столетия Пушкина. Сначала она намеревалась лишь поставить памятник поэту, но потом возникла идея собрать рукописи, книги, предметы, связанные с жизнью великого поэта. На деньги, выделенные императором, была выкуплена пушкинская библиотека, потом была приобретена в Париже у крупнейшего коллекционера А. Ф. Онегина богатейшая пушкинская коллекция, после чего работа по собиранию реликвий и рукописей Пушкина и писателей его поры продолжалась. Основную часть коллекции собрал Б. Л. Модзалевский. Он же составил и «Положение о Пушкинском Доме». Официально открыт он был в 1905 году. Постепенно там были собраны коллекции, посвященные многим русским писателям. Сначала Пушкинский Дом ютился в Академии наук, но в 1927 году был переведен в великолепное здание бывшей Портовой таможни.
К 1937 году Пушкинский Дом имел уже второе название — Институт русской литературы и, помимо собирания рукописей, вел уже большую научно-исследовательскую работу. Здесь в Секторе древнерусской литературы и стал работать Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Привел Лихачева в ИРЛИ академик Александр Сергеевич Орлов, с которым Лихачева свела еще работа корректором. Орлов — человек широкий, смелый, размашистый, любивший стоять в Пушкинском Доме на площадке второго этажа и говорить со всеми проходящими громко и свободно, не стесняясь нелицеприятных оценок и язвительных словечек. Сперва Орлов сцепился и с Лихачевым из-за его мелочных, как показалось Орлову, корректорских придирок, потом они понемногу разговорились, и Орлов был поражен уровнем знаний этого «корректора», потом они стали подолгу беседовать при каждом визите Орлова в издательство, и когда Лихачева выгнали из издательства, Орлов безапелляционно заявил у себя в Пушкинском Доме, где он был заместителем директора: «Лихачева надо принять!» Сначала Лихачев был зачислен в издательскую группу Пушкинского Дома, но ходил на заседания Сектора древнерусской литературы. Однажды, обидевшись на высокомерное замечание в свой адрес, Лихачев ушел, но Орлов разыскал его и за руку привел в сектор — и Лихачев после этого проработал здесь 57 лет и стал тем, кем он стал. Так, властно и просто, Орлов определил его судьбу. И с 1937 года до своей кончины Дмитрий Сергеевич работал в этом Доме. Здесь прошла вся его научная жизнь.
В 1937 году отделом древнерусской литературы руководила Варвара Павловна Адрианова-Перетц. В жизни и работе Лихачева она сыграла выдающуюся роль. Разумеется, она знала «анкету» Лихачева, но это никоим образом не отразилось на их отношениях отрицательно — скорее наоборот. Варвара Павловна была представительницей настоящей русской интеллигенции, вдовой известного литературоведа, академика Перетца. В свое время он был очень известен благодаря многим интересным гипотезам. В частности, он любил читать лекции о так называемых «средних» русских писателях, незаслуженно забытых в сиянии гениев, утверждая, что именно средние писатели наиболее точно изображают свою эпоху, а гении пишут лишь из своей души и ума, и судить по их произведениям о той реальности не следует. Безусловно, некоторая доля правды в его рассуждениях есть. Варвара Павловна была его студенткой в Киевском университете, потом женой. Фотография того университетского курса с профессором в центре и сейчас висит в Секторе древнерусской литературы (позже сектор переименовался в отдел). При Варваре Павловне обстановка в отделе был исключительно благоприятной, свободной, творческой. В отличие от шумного, резкого Орлова Варвара Павловна была спокойной, доброжелательной, никогда не «разносила в пух и прах» выступавших, а всегда находила какой-то выход, путь к исправлению ошибки. Любимым местом для всех сотрудников был и ее замечательный дом, куда она часто приглашала их, щедро угощала — и мягко, дружески помогала им решать научные и житейские проблемы и, отлично чувствуя способности своих коллег, направляла их в нужное русло. Когда ее попросили написать главу о литературе XI–XIII веков для «Истории культуры Древней Руси» по заказу Института археологии, она перепоручила эту работу Лихачеву и не ошиблась.
Для Лихачева Древняя Русь была спасением. Еще на Соловках изучение замечательного монастыря, его икон уводило его от страданий и унижений. И теперь Лихачев спасался от ужасов современности в Древней Руси. Можно сказать — в Древнюю Русь его сослали из страшной современности — и он там спасся.
«…Помню тревогу не наладившейся еще жизни, — пишет Лихачев. — Отец давал немного денег Зине на хозяйство. Ни в кино, ни в театр не ходили. Брали много работы на дом. Дочки росли. Ходили в гости в комнату к дедушке, Сергею Михайловичу. Дедушка любил угостить их чем-нибудь вкусным — обедал в типографии, а на ужин покупал сам себе ветчину, осетрину (что было недорого). Бабушка Вера Семеновна была в постоянной ссоре с ним и по вечерам его не кормила».
Лихачев пишет о дочках-близняшках, совсем непохожих друг на друга. Вера была бойкая, во время прогулок с нянькой часто убегала, перебегала на ту сторону дороги (что словно бы уже предвещало ее трагическую гибель через много лет). На даче любила ходить в гости к соседям, к стеснительному мальчику, которого они называли между собой Дикарин. Вера таскала на плече кошку Мяколю…
«Летом снимали дачу в Мельничном Ручье, — вспоминает Лихачев, — в бане. Было душно… Когда жили в Новых Хлоповницах, я работал уже в Институте русской литературы и без конца переписывал и отделывал текст своей главы о литературе Киевской Руси (по заданию Адриановой-Перетц. — В. П.), за которую впоследствии, уже после войны, получил Сталинскую премию 1-й степени. Эту главу переписывал не менее десяти раз, каждый раз улучшая слог, пока она не стала звучать, как стихотворение в прозе. Жаль, что редактора нарушили ритмический строй».
11 июня 1941 года, продолжая жить с родителями и дочерьми в коммуналке, с краном на кухне, с проституткой за стеной, Лихачев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Новгородские летописные своды XII века».
БЛОКАДА
…Казалось, в то замечательное лето ничего плохого не могло произойти. Диссертация с блеском защищена, радуют и подрастают дочки. Тревожили лишь небольшие бытовые проблемы. Из-за того, что защита диссертации была лишь 11 июня и все внимание уделялось ей, не удалось как следует заняться дачными делами. Да и оклад младшего научного сотрудника требовал экономии во всем. Звание старшего научного сотрудника, с соответственным повышением жалованья, было получено лишь в августе — когда вся жизнь уже трагически переменилась. А пока — удалось снять лишь дешевую дачу, причем не на любимом Карельском перешейке, а в Сиверской, на юг от города, что чуть не погубило семью.
О войне услышали в воскресенье на пляже (в Сиверской, на реке Оредеж, под песчаными обрывами есть маленькие уютные пляжи). Кто-то шел поверху и говорил о бомбежке Киева. Тревогу сначала старались заглушить: наверное, не так поняли, наверняка речь идет о каких-то военных учениях, которые проходили тогда часто.
Но подтвердилось самое худшее. Война! Поначалу, как обычно, люди стараются отгородиться от беды, не давать ей затопить всё. Пусть беда будет где-то там, а мы здесь: вдруг она обойдет стороной и удастся продолжить прежнюю разумную, уютную жизнь, которую с таким трудом удалось наладить. Решено было оставить семью на даче, а Лихачев поехал в город, на работу.
Но прорыв немцев был стремительным, они подошли к Ленинграду вплотную. Семью Лихачева спас их сосед по даче Барманский, сотрудник издательства, бывший белый офицер. Как-то узнав о приближении немцев (из официальных сообщений никакой реальной картины представить было нельзя), он достал машину и вывез свою семью и семью Лихачевых из Сиверской — это их спасло: немцы вскоре оказались там.
Имеется очень важный снимок семьи Лихачевых, сделанный летом 1941 года на прогулке в Ботаническом саду — уже после начала войны. Девочки на снимке нарядны и веселы, сам Дмитрий Сергеевич выглядит очень импозантно в шикарном светлом пальто. Однако смотрит он как-то мимо объектива, и взгляд его полон тревоги, словно он видит уже все предстоящие беды. И он их действительно предчувствовал. Разумеется, ни о какой блокаде города власти речи не вели — люди были обмануты, никак не готовились, что и привело потом к гибели такого количества людей. Не это волновало вождей — главное, торжество их идеологии. Всякие разговоры о предстоящих опасностях пресекались и даже карались. Зато раздувалась шпиономания, причем, как обычно у нас, это привело не к борьбе с реальной опасностью, а лишь к дальнейшему угнетению населения, особенно тех, кто хоть как-то выделялся. Даже светлое пальто Дмитрия Сергеевича, вообще склонного к щегольству, не раз делало его «объектом подозрений» — особенно, как это ни прискорбно, со стороны детей. Они с особым увлечением играли в «бдительных чекистов» и несколько раз бегали за Лихачевым и, указывая пальцами на его пальто, кричали: «Шпион, шпион!» Новая идеология активно внедрялась в сознание: любой отличающийся от серой массы — враг!
Михаил Панченко, научный секретарь института, однажды шел с чемоданом в баню. К нему и тут привязались «бдительные граждане»: что в чемодане?
Все отвратительные свойства советской власти с началом войны особенно обострились. Было ясно, что забота о людях никоим образом не входит в планы начальства и надо самому думать, как спастись. Лихачев уже нечто подобное проходил — поэтому так мрачен и сосредоточен его взгляд на снимке в Ботаническом саду. И именно его горький лагерный опыт, привычка ждать плохого и по возможности готовиться к этому и спасли его семью в страшную блокаду. Главный зарок зэков: «Не бойся, не верь, не проси!» Надейся лишь на свои возможности и смекалку. Несмотря на все запугивания властей, резко пресекавших «панику», он запасся крупой, картошкой, несколько раз зайдя в аптеку, купил 11 баночек рыбьего жира: без него девочки не выжили бы. Насушил целую наволочку сухарей. Потом он проклинал себя: «Почему не додумал до конца, почему не запас больше?» Власть словно изощрялась в том, как «надежней» мучить людей. В лагере уничтожали «врагов народа» — блокада словно специально готовилась для массового уничтожения своих. Кольцо блокады сжималось, а из города по чьему-то приказу эшелонами вывозили продовольствие. Сгорело огромное количество продуктов на Бадаевских складах: вот так хваленая «бдительность»! Не туда, куда надо, направляли ее: на своих. Лихачев написал пронзительные, откровенные воспоминания о блокаде (одни из наиболее страшных, которые пришлось мне читать. — В. П.).
Лихачев вспоминает, как увидел над городом необычное, очень красивое облако. Это горело подсолнечное масло на Бадаевских складах. Скольких оно могло бы спасти!
Некоторые категории людей словно специально были обречены на гибель — хотя ничего «антисоветского» в них вроде бы не было. Сразу, после того как замкнулось кольцо блокады, к голодной смерти были приговорены командированные, наверняка оказавшиеся в городе не просто так, а по важным государственным делам. Тем не менее карточки им не выдавались, и им пришлось умирать. Не было шансов выжить и у крестьян, которые хотели спастись от немцев в городе, но в город их не пустили: телеги с людьми так и стояли кольцом вокруг Ленинграда.
Не лучше власть обошлась и с рабочими Кировского завода. Уж, казалось бы, их-то надо особо беречь: ведь рабочий класс, кажется, объявлен главным классом нашего государства? Кроме того, именно на них лежало выполнение важных военных заказов. Однако рабочих Кировского завода из-за близости фронта выселили из их квартир возле завода — и бросили. На новом месте карточек им было «не положено», и они стали умирать первыми. Плевать! Что именно государство — главный «враг народа», в блокаду проступило особенно четко. И именно Лихачев не побоялся написать об этом со всей ответственностью. Именно он проявил наибольшую смелость — поэтому и стал главным авторитетом страны.
Он не побоялся написать и о том, что условия, в которые власть поставила людей, привели не только к физической, но и к массовой нравственной деградации. Моральные нормы, которые действуют в обычных человеческих условиях, теперь, в условиях этого нечеловеческого эксперимента, стали разлагаться. И Лихачев бесстрашно об этом написал. Он перечислил немало случаев, когда родственники бросали своих близких, отвергали их, презирали за то, что те не сумели получить каких-то положенных им возможностей пропитания — и отворачивались, обрекая на смерть. Но главным преступником, уничтожающим население, было конечно же государство — и Лихачев в воспоминаниях «Блокада: Как мы остались живы» рассказывает об этом точно и бесстрашно.
В одном из интервью он сказал, что очередной ложью о блокаде было и то, что люди выживали и работали, получая в день «осьмушку» хлеба. Об этом в официальных фильмах о блокаде говорится даже с какой-то гордостью: «Какая стойкость!» На самом деле — какая ложь! На самом деле — и этой осьмушки не было! Чтобы ее получить, надо было, как Зинаида Александровна, вставать в два часа ночи, идти через ледяной город и всю ночь стоять в очереди. Так Зинаида Александровна спасла от голодной смерти семью. В других семьях, в которых некому было стоять ночь в очереди, и этой осьмушки не было, и вся семья умирала от голода.
Для правительства важно было свое — нарисовать картину «массового героизма». А во сколько жизней это обойдется?.. Чем больше жертв, тем «величественнее»!
По всем учреждениям была объявлена обязательная, якобы добровольная запись в «народное ополчение». Хроника гордо показывала необученных, невооруженных ополченцев, шагающих на фронт. Отсутствие оружия (одна винтовка на десятерых) скрывалось — военная тайна! Массовая гибель ополченцев тоже преподносилась с пафосом. Когда кто-нибудь (как, например, ученый секретарь института Михаил Панченко — отец будущего академика Александра Панченко) отказывался идти в ополчение — он сразу становился изгоем. После Михаил Панченко ушел в армию (организованную и вооруженную тогда не намного лучше ополчения) и вскоре погиб.
В самом институте шли массовые увольнения сотрудников — списки присылал новый директор института, который сам жил в Москве. Списки увольняемых (вывешиваемые время от времени в вестибюле) были, в сущности, списками смертников. Люди сразу лишались карточек и быстро умирали. Лихачев рассказывает об одном из уволенных сотрудников, который остался жить в институте, поскольку лишился квартиры, и превращался на глазах у всех в страшное привидение.
Эти беды Лихачева обошли. Он, опытный зэк, как мог приготовился к невзгодам. Ходил в теплом романовском полушубке (память о Соловках), с крепкой палкой, подаренной академиком Орловым. По здоровью, убитому каторгой, в армию его не забрали.
Зато он оставил самые точные, самые глубокие, самые бесстрашные (и самые страшные) воспоминания о блокаде. Он не работает на советские мифы, как это делали большинство пишущих, он пишет так, как было на деле. Миф о доблестных защитниках города, конечно, имеет свои основания — но Лихачев пишет и о том, как моряки с кораблей, которые стояли у набережных и стреляли из орудий по врагу, заходили в музей Пушкинского Дома, разбивали стекла шкафов и «заимствовали» ценнейшие экспонаты. Самые точные свидетельства об этой эпохе (как и о предыдущих и последующих) — именно лихачевские…
Он подробно и честно рассказывает о том, как спасся он и вся его семья (кроме отца). Запасы кофе, 10 килограммов картошки, 11 бутылок рыбьего жира. Кроме того, спасал антиквариат, еще подарки деда, Михаила Михайловича. Некоторое время можно было еще ходить к крестьянам, стоявшим на подводах вокруг города, и обменивать ценные вещи на еду, пока крестьяне сами не начали умирать от голода. Те горожане, которых посылали на рытье окопов, привозили крапиву и варили суп. Спасительницей Лихачевых, по инициативе Дмитрия Сергеевича, еще до блокады насушивших наволочку сухарей, была, конечно, жена Дмитрия Сергеевича, Зинаида Александровна. Кроме ночного выстаивания в очередях за хлебом, ходила на толкучку, меняла свои модные наряды на еду. На обмен шло не что попало — брали лишь самые модные женские вещи. «Царицами блокады», шикарно приодевшимися в то время, были, в основном, молодые женщины — подавальщицы столовых, поварихи, продавщицы.
А Лихачевы жили впроголодь. Внучка Зина в своих воспоминаниях говорит, что в дедушке и бабушке сразу можно было узнать блокадников — по неосознанному жесту, когда они сгребали крошки со скатерти в горсть и отправляли их в рот.
Лихачев вспоминает, как однажды долго и медленно (ноги плохо шли) переходил Дворцовый мост под обстрелом, и вдруг сказал себе: «Выдержу это — выдержу всё!»
Этот зарок, или молитва, или клятва, наверное, и помог ему вынести всё: испытания его жизни не закончились блокадой.
Одной из главных бед блокады именно Лихачев назвал не столько физические, сколько нравственные изменения людей. Чтобы спасти свою жизнь, приходилось совершать поступки, которые в обычной жизни казались неприемлемыми, даже невероятными — но невероятной была и та жизнь. Лихачев честно рассказывает, как раздражал его старый отец, который при еде сопел и громко чавкал. Конечно, отец был болен и постоянно голоден, как все в блокаду — но раздражение от этого не уменьшалось.
Сергей Михайлович умер уже тогда, когда самая страшная блокадная зима заканчивалась и положение с едой чуть улучшилось — но дистрофия его была уже необратимой. Улучшения в городе были весьма незначительными — жизнь все равно оставалась ужасной во всех отношениях: нельзя было даже думать о том, чтобы человека нормально похоронить. Покойников просто привозили на саночках и оставляли в парке возле Народного дома (где был потом, в парке Ленина, кинотеатр «Великан»). Оставляли — и уезжали. И так же Дмитрий Сергеевич привез на саночках и оставил там мертвого отца… Люди промерзли насквозь, и словно оледенели и их души.
Бросали и живых. Замечательного ученого Комаровича, специалиста по Достоевскому, жена и дочь привезли в стационар при Доме писателей (на улице Войнова, бывшей Шпалерной), и узнав, что пансионат откроется еще через несколько дней, оставили его на холодной лестнице. Иначе им было не успеть на поезд и не спастись. И было бы ханжеством их осуждать — людей ставили в нечеловеческие условия, где обычные законы морали были неприменимы.
Семья Модзалевских оставила на вокзале престарелую мать, которую не пропустил на поезд санитарный контроль. Были и случаи прямой подлости: один из институтских «чинов» вывозил на Большую землю под видом сотрудников Пушкинского Дома своих любовниц.
Блокада ломала все установившиеся человеческие нормы — и потом восстановить их в прежнем виде уже не удалось. Сороковые годы, как и тридцатые, нанесли морали общества, прежнему «благородному воспитанию» непоправимый ущерб.
Умер и отец Зинаиды Александровны, Александр Макаров. Она, конечно, навещала его, сколько могла — но все ее силы ушли на спасение семьи Лихачевых. Тогда людям приходилось делать страшный выбор — выбирать, кого спасать, а кого бросать на умирание.
Зинаиде Александровне удалось «завязаться» со спекулянтом Ронькой, который менял рис и масло на ценные вещи в их доме. Девочки ели глюкозу, которую давали на талоны усиленного питания, полученные Лихачевым. Заучивали наизусть, по настоянию Дмитрия Сергеевича, стихи Пушкина. По наблюдениям Дмитрия Сергеевича, выживали те, кто занимался творчеством: писал, рисовал. Творчество уводило их от отчаяния — а состояние духа значило тогда очень много.
Лихачев, тем не менее, к концу зимы был близок к гибели.
В марте 1942 года открылся пансионат с усиленным питанием при Доме ученых. Слава богу, что перед самой войной он успел защитить диссертацию — иначе не попал бы туда и погиб. Лихачев вспоминал, что именно там от запаха горячей пищи впервые после долгого перерыва захотелось есть. Силы Дмитрия Сергеевича отчасти восстановились. Зинаида Александровна пришла забирать его оттуда на санках, но они не понадобились: Дмитрий Сергеевич дошел до дома пешком. Кругом сверкали лужи. Весна!
Потом последовал вызов в Смольный. Лихачев вспоминал, что войдя в Смольный, был потрясен «сытным запахом» в его коридорах — и подумал об уволенном сотруднике, оставшемся без карточек, который, как привидение, бродил по Пушкинскому Дому, пока не умер.
Лихачев получил в Смольном «особое задание» — и вместе с литератором М. А. Тихановой в невероятно тяжелых условиях написал книгу «Оборона древнерусских городов». Книга получилась замечательная — патриотическая, простая, наглядная, примеры из древней истории поднимали дух бойцов, книгу, по воспоминаниям одного из свидетелей, читали даже на Ораниенбаумском пятачке, находившемся почти под непрерывным огнем. Лихачев уже нашел свой путь: воспитывать патриотизм на примерах Древней Руси, не касаясь слишком «неоднозначной» современности. Считается, что даже некоторые военные термины, которые применялись потом всю войну — «рвы», «надолбы», появились именно из этой книги.
Лихачев не только писал и спасал семью — он выполнял все, что было необходимо. Вместе с другими сотрудниками дежурил на крыше Пушкинского Дома при бомбежке, гасил зажигалки. В 1942 году он был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Внучка Зина вспоминает, что этой медалью он гордился больше, чем другими, даже самыми высокими наградами.
Успех книги и даже медаль не спасли его от несчастий — в то время легко губили людей и с бо́льшими заслугами. В том же году его вызвали в «органы» и потребовали «помогать им». Лихачев отказался. Тогда ему показали, что его ждет: инсценировали арест, и солдат с винтовкой отвел Лихачева в подвал. Лихачев, однако, уже имел тюремный опыт и знал, что самое страшное — сломаться. И когда его снова привели наверх, он опять отказался. И даже — посмеялся над ними. Ему подали бумажку:
— Распишитесь, что никому не расскажете об этом!
— Я не могу этого обещать! — сказал упрямый Лихачев.
— Почему?
— Я разговариваю во сне, — не без иронии сказал Лихачев.
Его выпустили… но тут же лишили прописки, что означало лишение карточек и голодную смерть… Но жизнь подтвердила еще раз, что праведный путь — самый верный. Семья попала в списки на эвакуацию (видимо, бдительные органы не успевали все отследить) — и смерть опять отошла.
ЧЕРНИЛЬНИЦА В КАРМАНЕ
Лихачевы попали в Казань. В годы войны именно Казань стала научной столицей — сюда были эвакуированы Академия наук и много научных учреждений.
Повезло Лихачевым еще в одном — было уже тепло, и они ехали не по льду Ладоги, не «Дорогой жизни», которую тогда называли «дорогой смерти». Существует немало рассказов о том, как машины объезжали полынью, где тонули дети из провалившейся под лед предыдущей машины, и никто не спасал их: подъехать к полынье — значило провалиться самим. Когда эвакуировались Лихачевы, лед на Ладоге уже стаял, и они сначала доехали на поезде до Борисовой Гривы. Вместе с ними ехал Каллистов, старый товарищ Лихачева еще по каторге, с которым они вместе работали в Тихвине. Теперь — настроение было приподнятое. Казалось — все горести позади. Когда приехали в Борисову Гриву, шутили: «Какой же должен быть Борис, если у него такая грива!» Вещи было приказано упаковывать мягким способом, и при пересадке на пароход с трудом нашли свои узлы среди чужих — все были свалены грудой на берегу. Лихачев и Каллистов еле успели запрыгнуть на отплывающий пароход. В то напряженное время это могло бы значить весьма долгую разлуку с семьей. Но с трудом, уже через большой просвет между пристанью и палубой, все же «долетели», рухнули на палубу.
Приплыли в Кобону. Оттуда снова поездом поехали в Тихвин, где были с Каллистовым в ссылке и откуда Лихачев вышел на свободу. И теперь снова Тихвин оказался «местом освобождения» — на этот раз из блокады! В Тихвине впервые сытно поели каши.
Потом поезд медленно, с долгими остановками, шел в Казань. В Иванове впервые после долгого перерыва помылись в бане. Добрались до Казани. Перед самой Казанью поезд долго шел по огромному мосту через Волгу.
На вокзале встретили хмурые работники Академии наук, отвезли эвакуированных в здание академии, разместили на раскладушках в актовом зале. Так жили два месяца. Здание было холодное, неуютное. Уборные были очень далеко. Ленин в вестибюле вытянутой рукой показывал дорогу как раз туда. Ситуация была неопределенная, тревожная. Ходили слухи о скором переводе в другое помещение, в другой город. Потом перевели в казанский Дворец труда. Лихачев вспоминает, что эвакуированные с мрачным юмором называли новое помещение «сарай труда», поскольку дворец по-татарски — именно «сарай».
Здесь семью Лихачевых — Дмитрия Сергеевича, его маму Веру Семеновну, жену Зину и двух дочек поселили в комнате, в которой еще жила и семья математика Никольского: муж, жена и грудной младенец. Жена постоянно убаюкивала младенца, притом пела очень громко и обижалась, когда ей делали замечания.
Удалось добыть мелкой картошки на зиму…
…Помню Казань той поры — поскольку я тоже жил тогда там, правда, ребенком. Помню низкую часть города, примыкающую к Волге — татарскую, и высокую часть, изрезанную оврагами — русскую. Помню крутой снежный спуск к красивой железной колонке, из которой носили воду…
Семья Лихачевых жила тяжело, как многие тогда. Зинаида Александровна продавала на рынке вещи, покупала еду. После тяжких сомнений решили отдать «рунчиков» (так они шутливо называли дочек — Верунчика и Милу) в детский сад, поскольку там детей всё же кормили.
Я тоже ходил в Казани в детский сад для детей научных работников. Может быть, в тот же самый? Помню тусклый свет под потолком, чувство неприкаянности, ненужности тут никому. Однажды, не выдержав тоски, убежал домой, стоял на дне оврага, смотрел вверх, видел наше окно — и сердце сжималось. Вот выглянула любимая бабушка — высунув кастрюльку, гулко скребла ее, отмывала. У меня текли слезы, я чувствовал, как люблю бабушку, и понимал, что не могу появиться перед ней и даже крикнуть: «Я тут!»
Лихачев вспоминает, что из двух дочек-близняшек Вера казалась более крепкой, была подвижнее. Мила шла в детский садик неохотно, капризничала. Вера, наоборот, шла с радостью. И именно она заразилась в детском садике коклюшем, перешедшим в тяжелое воспаление легких!
Хотя в Казань была эвакуирована научная элита — найти хорошего врача удалось не сразу. Отчаявшийся Лихачев вынужден был обратиться к сотруднику Пушкинского Дома по фамилии Скрипиль, с весьма сомнительной репутацией (полностью подтвердившейся после войны). Но чего не сделаешь для спасения дочки! Ненавистный Скрипиль жил как эвакуированный в доме знаменитого казанского профессора Меньшикова, специалиста по детским болезням. Меньшиков пришел, величественный, в богатой профессорской шубе, осмотрел Веру, сказал, что спасти ее может лишь сульфидин — но достать его тогда было очень трудно. Лихачев сумел пробиться к президенту Академии наук Несмеянову. Это был знаменитый химик. Одним из самых известных его изобретений, над которым тогда смеялись, была искусственная черная икра, которую делали из нефти. Секретарша Несмеянова, выслушав Лихачева, дала ему из сейфа упаковку сульфидина. Веру удалось спасти.
…Любую главу о каждом из этапов жизни Лихачева можно назвать так: «Победа в тяжелейшей ситуации!»
Несмотря на все лишения, Лихачев каждый день ходил в библиотеку Академии наук, и там, в холоде, сидя в соловецком полушубке, писал работу «Национальное самосознание Древней Руси».
Все тяжелые годы войны Лихачев не прерывал своей работы. «Я носил чернильницу XVII века в кармане, чтоб чернила не замерзали».
Летом жизнь стала чуть полегче. Помню, как я ходил рано утром вместе с родителями пешком на селекционную станцию, где они работали, и в первых лучах солнца светилось огромное казанское озеро Кабан. Обратно родители приносили в рюкзаках картошку, сахарную свеклу. Помню, как мы стоим посреди большого поля, собираем картошку — и мама распрямляется, запястьем отводит со лба волосы (руки грязные, в земле) и вместе со всеми всматривается в вечернее небо. Помню странные и почему-то почти неподвижные крестики на фоне заката. Идет спор: наши это самолеты — или немецкие? На наши — их силуэты известны всем — совершенно не похожи.
По Казани — об этом шептались даже мальчишки во дворе — ходили слухи, что на Казанском авиационном заводе проводят испытания захваченных немецких самолетов, и этим занимается не кто-нибудь, а сын Сталина Василий, специально присланный в Казань! Конечно, никаких официальных сообщений об этом не было, но шептали это с надеждой: скоро у нас все получится и мы победим!
Александр Панченко, будущий ученик Лихачева и тоже академик, сын погибшего на войне Михаила Панченко, тогда тоже еще мальчик, запомнил высокую, сутуловатую фигуру Лихачева на казанском картофельном поле… Рассказывает историю с детскими калошками, что попали к нему благодаря участию Лихачева в какой-то распределительной комиссии. И мама Саши Панченко потом, когда Александр уже сам стал крупным ученым и между ним и Лихачевым порой «проскакивали молнии», напоминала сыну: «Помни калошики!»
Научная работа в эвакуации не прерывалась. Ученый все свои мысли носит с собой, они не оставляют его никогда.
Рядом с Лихачевыми жила Варвара Павловна Адрианова-Перетц. В письме в Ленинград своей подруге Колпаковой Наталии Павловне она писала: «Лихачевы из соседней комнаты приносят мне кофе и кипяток, они же делают покупки, а я строчу с утра до вечера». Жила она в крохотной комнатке, где проходила вечно раскаленная труба из кухни. Лихачев вспоминает: «Варвара Павловна отдавала нам свой паек, приходила к нам обедать: ела по-птичьи из красной мисочки».
Я помню в Казани нашу комнату, озаренную колеблющимся светом из печки. В котелке парится сахарная свекла, сладко пахнет. Из черного репродуктора — возвышенно-трагический голос: «Воздушная тревога! Воздушная тревога! Не забудьте выключить свет!»
Немцы бомбили мост через Волгу, а до Казани, кажется, так и не долетели…
…Адрианова-Перетц в апреле 1944-го писала в Ленинград своей подруге Колпаковой: «Ахматову (вышедшую в Ташкенте) посылаю. Изрядно потрепали…» Имеется в виду книга. «Вера Семеновна читала стихи внучкам и те дуэтом декламировали: „Мне от бабушки-татарки“ и „Сероглазый король“».
Власти вдруг вспомнили о некоторых привилегиях, полагающихся ученым. «Великий Сталин» распорядился прибавить норму продуктов, выдаваемых по карточкам.
Дочки Вера и Мила с улицы Комлева, где жила семья, любили ходить в музей-квартиру Ленина, расположенный неподалеку… Помню его и я. Конечно, девчонок влекла вовсе не преданность дедушке Ленину. Просто им нравилась большая, уютная, хорошо обставленная квартира — таких они в жизни своей еще не видели — а кроме как у Ленина, таких квартир тогда больше негде было увидеть…
Бабушку Веру Семеновну удалось направить в Дом отдыха ученых в Шалангу на Волге. Туда надо было плыть на барже. Потом к бабушке направили Милу. Лихачев думал отправить к ней и Веру, но, посетив перед этим мать в Шаланге, передумал. Увидел, что после всех перенесенных испытаний, включая блокаду, у Веры Семеновны произошли некоторые изменения в психике. Она вдруг стала высказывать недовольство, что сын ее всего лишь кандидат наук! «Я тут дружу с сестрой самого Тарле!» — высокомерно заявила Вера Семеновна. Внучку Веру решено было к ней не посылать…
Блокада кончилась, и пора было думать о возвращении в Ленинград. Как мы знаем, многие заводы, институты и даже театры были оставлены после войны там, где они были в эвакуации.
Родной город встретил Лихачева неласково — как, впрочем, и проводил. Поскольку в 1942 году (после отказа быть стукачом) его выписали, квартира была занята. В один из дней командировки украли деньги, документы и карточки. И в послеблокадном Ленинграде можно было умереть от голода — жизнь там едва налаживалась. Спас его тогдашний уполномоченный по Пушкинскому Дому, сохранивший Дом в войну Виктор Андроникович Мануйлов, который спас еще многих. Выхлопотал ему карточки, документы.
…Я увидел Виктора Андрониковича впервые много лет спустя после войны, в комаровском Доме творчества — уже старенького, полного, круглолицего, в тюбетейке, он как-то задумчиво и отрешенно ходил по тусклым коридорам Дома творчества, похожий на доброго домового, что-то бормоча, порой по рассеянности заходя в чужой номер…
Из Ленинграда Лихачеву удалось съездить в командировку по научным делам в Новгород, один из любимых его городов. Перед рождением дочерей они отдыхали тут с Зиной. Теперь город было не узнать. Все заросло высокой травой, и было много опасных ям. В кремле были сделаны стойла: здесь стояла эстонская кавалерия. Побывала там и испанская «Голубая дивизия», после которой остались надписи по-испански…
Когда Лихачев после долгого отсутствия вернулся в Казань, на лестнице «сарая труда» встретил Милу, с кудряшками, которых раньше не видел. Мила вдруг засмущалась. Дочки росли, и надо было что-то решать. Но в первом списке эвакуированных, которым разрешалось вернуться в Ленинград, Лихачевых не оказалось…
В письме в Ленинград своей подруге Колпаковой Адрианова-Перетц пишет: «…скоро появится Митя Лихачев: он все расскажет о положении с переводом нашего института». И в другом письме, этой же Колпаковой: «…боюсь, что Лихачев, отвоевывая свою квартиру, не повидается с вами».
Квартиру, действительно, пришлось отвоевывать. Лихачев написал в «Воспоминаниях»: «Квартиру нашу заняли потому, что я не сделал броню. Меня выписали из Ленинграда в сорок втором, так как я отказался быть сексотом».
Один расторопный шофер занял лихачевскую квартиру дровами. Но Лихачев, когда надо, умел действовать резко:
«Выгнал его (он занял сразу несколько квартир), ввез казенную мебель, подготовил наш переезд».
Одно из последних моих воспоминаний о Казани — День Победы. Я выхожу из парадной. Солнечное утро. Бабушка о чем-то радостно разговаривает на скамейке с соседкой.
— Ну чего хмуришься? — улыбается бабушка. — День Победы же! Элька в школу побежала, узнать — не отменят ли занятия… Вон — счастливая, бежит, пятки в задницу втыкаются!
И я вижу вдали, на косогоре за оврагом, тонкую, подпрыгивающую фигурку моей старшей сестры… Война кончилась!
ДА СКРОЕТСЯ ТЬМА!
В 1946 году Лихачева наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Я хорошо помню эту медаль, потому что такой же наградили и моих родителей — агрономов — за работу на селекционной станции в Казани, где отец вывел новый урожайный сорт проса.
В Ленинград, однако, после войны разрешали вернуться не всем. Прежде всего пускали тех, кто был востребован. Не сразу, но все же семья Лихачевых разрешение получила.
Помню, как возвратилась в Ленинград наша семья. Город производил весьма странное впечатление — особенно по сравнению с теперешним. Во-первых, он казался очень пустым. Поначалу в нем жила очень незначительная часть от прежнего населения. Помню наш Саперный переулок. Город словно забыл себя, чуть ли не превратился в деревню: росли лопухи, бегали куры. И в то же время в нем чувствовались величие, тайна, трагическая красота — и это все действовало чрезвычайно сильно. Помню, как мы с ребятами играли в полуразрушенном храме Спаса на Крови. Собирали красивые камешки от мозаики, составляли свои картинки. Город волновал, вдохновлял даже тех, кто не знал еще его истории, его культуры.
Люди были измучены войной. Но наблюдался и небывалый подъем духа. Казалось, что уж после такой победы все должно пойти хорошо. Разрушенные дома восстанавливали очень быстро. Я помню, как мы ходили с отцом к нему во Всесоюзный институт растениеводства — на Исаакиевскую площадь по Малой Морской, мимо разбомбленного дома на углу Кирпичного переулка, и видели, как быстро, на глазах, вырастал дом.
Быт налаживался. Помню короткий звонок в дверь, я открываю и вижу: стоит веселая мама, обвешанная кульками. Из-за поворота лестницы медленно поднимается отец с огромной красной коровьей ногой перед собой, на весу.
— Отоварили лимиты, не полученные в Казани! — радостно объясняет мне бабушка.
Помню, как во рту было приятно при произнесении вкусного слова «лимит!». Помню булочную на углу нашего Саперного переулка — и восторг, когда туда вдруг привезли белые булки-сайки, которые можно было купить: карточки на хлеб отменили!
Комнаты в прежней квартире Дмитрию Сергеевичу удалось отвоевать, но она так и осталась коммунальной. Потом семейство Лихачевых сменило еще несколько квартир… может быть, в какой-то степени это отражало укоренившуюся еще с детства привычку Лихачева к «перемене мест» чуть ли не каждую осень. Мама Лихачева, Вера Семеновна, много сделавшая для воспитания внучек, была женщина добрая, но властная. Как многие женщины с сильным характером, она считала, что ее сыновья заслуживают большего — и не слишком одобрительно приняла женитьбу Дмитрия Сергеевича на Зинаиде Александровне, которая казалась ей «слишком простой» для их рода. Поэтому отношения их не сложились. И при первой возможности властная бабушка стала жить отдельно, недалеко от своего младшего (и возможно, самого любимого) сына Юрия. Тот был человеком влюбчивым, несколько раз женился, и Вера Семеновна принимала в этих событиях самое живое участие, надеясь, что «под ее руководством» хотя бы у одного сына будет «приличная», по ее понятиям, жена. Кроме того, у Юры был автомобиль, и он часто возил маму по ее важным делам. Разумеется, она наведывалась и в семью Дмитрия Сергеевича, там выступала весьма энергично и сделала много полезного. Однако такой власти, как в семье (точнее, в семьях) младшего брата, тут она не имела — Дмитрий Сергеевич был другой, никакие семейные дрязги не допускались, все внимание его было поглощено наукой. Всю войну он не прерывал научных трудов — и почти сразу поле войны, в 1945-м, все могли прочесть новые его книги «Национальное самосознание Древней Руси» и «Новгород Великий». Работал он быстро и результативно, забирался «глубоко», но был внятен, избегал сложностей изложения, которыми порой прикрываются псевдоученые, которым нечего сообщить, и «словесный туман» — их единственное спасение. В 1946 году он стал доцентом Ленинградского университета, однако преподавать ему дали лишь на историческом факультете — на филологический не допустили. Зайдя однажды в бухгалтерию, чтобы поинтересоваться, почему ему платят так мало, он с изумлением узнал, что ему назначена ставка лаборанта. «Недремлющее око» никогда не отпускало Дмитрия Лихачева, следило, чтобы этот зэк знал свое место. Однако Лихачева, который даже Соловки использовал для научной работы, удержать было невозможно. Научный его авторитет рос стремительно. В 1947 году выходит его книга «Русские летописи и их культурно-историческое значение», и в том же году он защищает докторскую диссертацию на тему «Очерки по истории литературных форм летописания XI–XVI веков». Между его кандидатской и докторской диссертациями проходит всего шесть лет — притом это были тяжелейшие годы, включая блокаду — и эти же годы были годами упорного и успешного его труда. Вспомним, как Лихачев в Казани носил чернильницу в кармане, чтобы чернила не замерзли. И они не замерзли!
В 1948 году он становится членом ученого совета Института русской литературы (Пушкинского Дома) — и, всё наращивая свой научный авторитет, пребывает в этой должности вплоть до своей кончины в 1999 году.
Несомненно, имел он и вкус к жизни, к тому же развитый хорошим воспитанием. С детства усвоил он, что летний отдых должен быть не только оздоровительным, но и воспитательным, познавательным — таким был и его отдых в детстве.
Они ездят в Прибалтику. Пожалуй, это самый правильный выбор. Несмотря на только закончившуюся (а там даже и не совсем еще закончившуюся) войну, Прибалтика была самой «европейской», самой ухоженной, самой культурной частью нашей страны. Для подрастающих девочек это был, пожалуй, лучший «пансион».
Имеется снимок: семья Лихачевых на перроне в Риге — Лихачевы уже весьма нарядны, особенно импозантен Дмитрий Сергеевич… В коллекции его вещей, переданных на хранение внучкой Верой, имеется трость из Сигулды с выжженной надписью: «1948 год».
Сигулда — красивый европейский курорт. Хозяйка дачи — латышка дарит чудный букет девочкам на день рождения. Каждый день — обязательные прогулки: интеллигентные родители с хорошо воспитанными детьми гуляют по красивым окрестностям, посещают пещеру Парадиз над рекой Гауей. Дмитрий Сергеевич мягко и ненавязчиво все время рассказывает что-нибудь познавательное. Лихачев отмечал потом, что нет ничего лучше для воспитания в детях интеллигентности, чем такие прогулки. Прибалтика в те годы была такой же «летней» Меккой для интеллигенции, какой прежде, до революции, была финская Куоккала: тамошняя жизнь воспитала Лихачева, заложила его интерес к культуре — примерно то же он пытается устроить сейчас и девочкам. Хозяйка дачи очень любила лихачевских воспитанных дочек, шутливо просила: «Оставьте мне Милу!»
…Почему — Милу? Может, тогда уже было заметно, что она чуть меньше любима в семье? Впрочем — это догадки…
Заходил снимающий дачу неподалеку артист МХАТа Кудрявцев, много и смешно говорил. Вечерами читали Диккенса.
Два лета в Прибалтике очень много дали воспитанию девочек: совместные с родителями прогулки, музеи в Риге, разговоры с историком Базилевичем. Тут был и весь клан Лихачевых. Младший брат Дмитрия Сергеевича Юра купил машину, и на ней ездили к бабушке Вере Семеновне в Кемери. Ездили в Выборг, в знаменитый парк Монрепо, что впоследствии пригодилось Лихачеву при создании книги «Поэзия садов». Так что о главном не забывали. Заходили в гости на дачу к филологам Романовым, сидели на их красивой террасе, Дмитрий Сергеевич занимался с хозяином подготовкой для печати «Повести временных лет».
И в 1950 году «Повесть временных лет» издана в «Литературных памятниках», в переводе и с комментариями Д. С. Лихачева и Б. А. Романова, и в том же 1950 году издано «Слово о полку Игореве» в переводе и с комментариями Д. С. Лихачева. Набирает силу главный «проект» его жизни — открытие современному читателю огромной семивековой древнерусской литературы.
В 1951 году опубликована его статья (над которой он со всей страстью работал еще «новичком» по заданию Варвары Павловны Адриановой-Перетц) в коллективном труде «История культуры Древней Руси», а в 1952 году в числе немногих избранных авторов тома он награждается за свою статью Сталинской премией 1-й степени.
Взлет его стремителен. В 1952 году издана его книга «Возникновение русской литературы». (Потом он говорил, что не любит этой своей работы — относился к своим трудам крайне требовательно.) В 1953-м он избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1954 году его книга «Возникновение русской литературы» удостоена премии Президиума Академии наук.
Может показаться, что наступили, наконец, безоблачные времена, когда каждый может успешно заниматься своим делом. Но если мы откроем газеты тех лет, то ужаснемся. Чего стоит только одно «дело врачей», когда по абсолютно бредовым обвинениям были уничтожены сотни ведущих специалистов, в том числе многие из врачей, обслуживающих Кремль. Это было не только убийство, но и самоубийство — абсолютно спятивший вождь убивал даже тех, кто его лечил.
Мне было 13 лет, разговоры о политике в нашей семье не культивировались. И тем не менее помню, как я застыл перед газетным стендом на скошенном, озаренном ярким солнцем углу Артиллерийского переулка. Газета выглядела абсолютно необычно — и уже на бессознательном уровне это воспринималось какой-то катастрофой: неузнаваемо изменилась главная правительственная газета страны — «Правда»! Обычно в ней были фотографии, четкие заголовки, разделы. Тут она была сплошь занята лишь одним мелким шрифтом, ни фотографий, ни заголовков — и вся эта сплошная рябь мелких букв складывалась в фамилии врачей-отравителей. Помню ужас. Откуда же их столько?
Готовились столь же обширные репрессии против ученых, деятелей культуры, военных. Вождю мерещилось, что наши люди после победы в Великой Отечественной как-то уж больно развольничались, слишком хорошо жили… Забыли страх! А без страха его власть долго бы не продержалась.
И сатрапы его «выполняли указание».
Успехи Лихачева в те ужасные годы могут показаться невероятными, даже странными. Много есть таких смельчаков, которые из наших, сравнительно безопасных времен гневно восклицают: «Да как он мог, в эти годы? Нужно было бороться!»
Один мой старый знакомый рассказывает эпизод, свидетелем которого он был, поскольку состоял с Лихачевым в доверительных отношениях, и у меня нет оснований не верить ему. Однажды мама Лихачева, женщина весьма активная, у которой были вполне веские причины не любить советскую власть, высказалась в таком роде в разговоре с одной своей знакомой. Очевидец рассказывает, что бывший при этом Дмитрий Сергеевич сильно разволновался и даже сказал в сердцах: «Мама! Не надо больше так говорить! Я уже сидел, и больше не хочу!»
Только совсем не чувствительный человек может осуждать его за это. Так что «смельчаков» из нашего времени, которые теперь точно знают, как надо было вести себя тогда, слушать не стоит. Неизвестно (а точнее, известно), как бы они вели себя в те годы. Уж точно — законопослушно.
Да — он не подписывал при Сталине никаких протестных манифестов, что было бы смертельно для него, «зэка на учете», как, впрочем, и для любого другого жителя нашей страны. Да таких манифестов и не было. Были, наоборот, гневные митинги трудящихся, единодушно требующих покарать «взбесившихся псов», врагов народа. То, что Лихачев ни разу не проголосовал «за» на таких собраниях — уже подвиг. Он работал. Думаю, что успешная научная работа по истории и культуре нашей страны вносила не меньший вклад в борьбу с дикостью и произволом, чем открытая борьба. Лихачев, во всяком случае, избрал такой путь и сделал для нашей Родины больше многих других.
Понятно, что он испытывал тогда, когда вокруг исчезали люди. Отчаяние и гнев. Государство не оставляло людей в покое. И Лихачев вовсе не был в стороне. Он боролся за справедливость — но именно там, в своей области, где его усилия могли что-то изменить.
Академик Александр Фурсенко вспоминает, что их с Лихачевым познакомил их общий учитель Борис Александрович Романов, знаменитый славист, в 1948 году. Тогда его фундаментальная книга «Люди и нравы Древней Руси» подвергалась резкой критике за ее якобы антипатриотическую направленность. Невежественные критики, оказывается, лучше знали, какими должны быть люди и нравы Древней Руси, чем ученый, посвятивший этому всю жизнь и называвший свою книгу «мое любимое дитя». 26 февраля 1949 года на шестидесятилетием юбилее Романова, устроенном на историческом факультете Ленинградского университета, Дмитрий Сергеевич выступил с подробным докладом о жизни и деятельности Б. А. Романова. Тогда, когда Романова травили, такое выступление значило много.
Зло, однако, наступало широким фронтом. В апреле 1949-го в роскошном актовом зале университета прошел весьма показательный ученый совет. На него, в нарушение всех традиций, были приглашены аспиранты и даже студенты, и по этому случаю были отменены все занятия, чтобы никто не вздумал там «отсидеться». Видимо, устроители очень надеялись на «политическую сознательность» молодежи. Ученый совет был посвящен главной теме тех лет — борьбе с космополитизмом. Главное, чего добивались зачинщики этой кампании — утвердить постулат: всё ценное в истории человечества создано или изобретено в России. Насмешники шутили: «Россия — родина слонов». Как ни странно — несмотря на грозное время, насмешников было много, иронический тон все более овладевал массами.
Начали ученый совет почему-то с осуждения академика Веселовского, великого ученого, одного из основателей Пушкинского Дома — давно уже покойного. В длинном ряду великих ученых, прославивших университет, в знаменитом здании Двенадцати коллегий стоял и его бюст. После того ученого совета его убрали.
Это сразу же было отмечено в комсомольской студенческой стенгазете. Огромное бумажное полотнище вывешивалось в коридоре филологического факультета, занимая довольно большое пространство между мужским и женским туалетами. Бытовала едкая шутка: «Комсомольская газета — от клозета до клозета». Но были «весельчаки» и среди авторов газеты: после свержения Веселовского появилась карикатура — бюст академика веревками стягивают с пьедестала. Грубые веревки появились неспроста — они, видимо, должны были олицетворять волю простого народа, который не допустит излишних умствований и «уклонов» в науке.
После Веселовского заседание перешло к современности — это и было основной целью. Обвиняемыми в космополитизме оказались действующие, более того — любимые студентами профессора Гуковский, Жирмунский, а также не появившиеся на совете, но представившие медицинские справки Азадовский и Эйхенбаум.
Устроители этого мероприятия, однако, просчитались. Настроение в зале было совсем не то, на которое они надеялись. Большинство молодых пришли в университет, чтобы получать серьезные знания под руководством авторитетных ученых, а вовсе не для того, чтобы участвовать в политических погромах, и понимали, что лучше всего их научат именно эти профессора, которых пытаются выгнать.
Декана филфака Г. П. Бердникова, главного «исполнителя», активно поддержал лишь аспирант Деменков, потребовавший, чтобы обвиняемые в преклонении перед Западом профессора тут же предъявили свои книги, которые служат воспитанию нового, сознательного поколения советских филологов.
Один из «прорабатываемых», Григорий Александрович Гуковский, был кумиром студенчества, на его лекциях аудитории всегда были переполнены. Он читал блистательные лекции по русской литературе XVIII и XIX веков, о Пушкине. На этом ученом совете он легко парировал предъявленные ему нелепые обвинения в «преклонении перед Западом», говорил, что любить и ценить западную культуру — вовсе не значит «идолопоклонствовать».
Профессор Жирмунский, крупный германист, также был весьма знаменит, его труды давали ему основание держаться независимо и даже насмешливо.
Вышел на трибуну Георгий Пантелеймонович Макогоненко, ученик Гуковского, впоследствии также знаменитый профессор. Зал замер. Тогда это было «в лучших традициях»: ученик предает своего учителя, говорит о недостаточном преклонении старорежимного профессора перед марксизмом, что привело в конце концов к серьезным политическим ошибкам, в которых должны разбираться соответствующие органы. Макогоненко, однако, не сказал ничего из того, что так ждали от него погромщики. В своем выступлении он не упомянул ни одного из «гонимых» — вместо этого долго рассуждал о космополитизме Жана Жака Руссо — и сошел с трибуны под аплодисменты. В те годы — не сказать ничего — уже было проявлением огромного мужества. С этой минуты в ходе собрания наступил перелом.
На трибуну вышел Николай Иванович Мордовченко, фронтовик, уже защитивший на факультете докторскую диссертацию и ждавший ее утверждения в Москве. Он абсолютно бесстрашно выступил в защиту Гуковского: «Бейте меня, режьте меня, но я абсолютно уверен, что Григорий Александрович Гуковский еще много сделает для советской науки!»
В зале зааплодировали. Аплодировали и некоторые коммунисты. Их потом прорабатывали на партбюро. Мордовченко не арестовали. Видимо, было указание не расширять списка преследуемых, сосредоточиться лишь на «космополитах». Однако в покое его не оставили. Докторскую зарубили. Мордовченко, переживая не только за себя, но и за науку, в которую вместо Ренессанса пришло Средневековье, заболел раком и рано умер.
Известный литературовед Александр Ильич Рубашкин, который был тогда студентом и присутствовал в зале, и рассказал мне все те подробности. Придя домой, он поделился своими чувствами с родителями. Сказал, что Жирмунского, наверно, посадят (держался слишком насмешливо и высокомерно), а Гуковского, говорившего взволнованно, с душой, — наверное, проработают. Вышло ровно наоборот. Гуковский был арестован через год на пляже Дома творчества писателей в Булдури, под Ригой. Прямо на берегу, где все были в купальных костюмах, к нему подошел человек и сказал:
— Вы арестованы. У вас есть какая-нибудь просьба?
— Могу я зайти в номер и собрать вещи?
— Нет!
— Могу я попросить об этом одного знакомого?
— Да, — «благородно» разрешил чекист.
Гуковский быстро подошел к одному знакомому и прошептал:
— У меня в номере на столе лежит рукопись книги о Гоголе. Возьмите ее и спрячьте.
Вот что было главное в жизни для этих людей. Он надеялся, вернувшись, продолжить труд. Но не получилось: вскоре он умер в лагере. Это одна из версий. Лихачев в своих «Воспоминаниях» пишет, что Гуковский был расстрелян.
Порой возникает недоумение: что за арест, за что, и почему так срочно — в отпуске, на пляже? У этого ведомства свои тайны. Впрочем, истоки некоторых тайн можно разгадать. Знающие люди говорят, что как раз перед арестом в органы пришли два доноса, от коллег Гуковского. Фамилии их начинаются на «П» и «Е». Мой старый знакомый, выпускник университета тех лет, назвал мне эти буквы, но отказался их расшифровывать: у них есть дети и внуки… Руководствовались те люди, конечно, не «политической бдительностью», а страхом, а также желанием убрать из науки больших ученых и таким образом чуть-чуть подняться самим.
Дочь Гуковского Наташа, которую я хорошо знал, гордилась своим отцом, ушедшим из жизни в 47 лет. После ареста Александра Гуковского (а также его брата Михаила) в деревянный домик Гуковских на 15-й линии Васильевского острова пришли многие — выразить сочувствие и поддержать дочь, причем некоторые — впервые. Люди уже набирались смелости, начинали говорить, что считали нужным… Зато некоторые из старых друзей, наоборот, забыли сюда дорогу.
Наташа Гуковская, как и все дети арестованных, была под угрозой. Спасение пришло от другой замечательной профессорской семьи. Костя Долинин, сын профессора и сам будущий профессор, женился на Наташе Гуковской, спасая ее, надеясь, что членов еще одной профессорской семьи, знаменитых Долининых, трогать не станут: и у злодеев, наверное, есть какие-то свои ограничения, обозначенные пределы. Наташу спасли. Самое меньшее, что ей грозило — высылка из города. А теперь она уже была членом семьи Долининых. Прежде Костю и Наташу связывали лишь дружеские чувства, но благородный порыв Кости был оценен Наташей по достоинству: семья получилась хорошая. Родились близнецы Юра и Таня. В октябре их привезли в дедовский дом, который не дожил до рождения внуков полгода.
Потом Наташа, уже Долинина, стала известным литературоведом, детским писателем. Я помню ее, восхищаюсь ее умом, талантом, доброжелательностью, бывал в ее доме, где гостило много достойных людей. Помню там ее близкого друга, замечательного актера Михаила Козакова, сына ленинградского писателя. Михаил с Наташей дружили с детства. Бывал там, пока жил в Ленинграде, знаменитый ученый Юрий Лотман и, уже переехав в Тарту, часто приезжал к ней. В своих воспоминаниях Лотман пишет, что брак с Костей Долининым спас Наташу.
Она и сама не раз совершала поступки благородные, смелые. Помню, как защищала она в 1974 году преследуемого властями профессора Ефима Григорьевича Эткинда. Его все-таки выслали, но дружба их продолжалась всю жизнь.
Так что нельзя говорить, будто интеллигенция была труслива, никак не сопротивлялась и в основном предавала.
Обвинения эти исходят от ничтожных людей, которые чувствуют, что в опасности поведут себя наихудшим образом, и пытаются всех поставить на тот же уровень. На самом деле — интеллигенция определяется именно благородством, все остальные, не способные на такое, к интеллигенции не принадлежат. И именно интеллигентность помогала выстоять. Помогало чувство не только морального, но и интеллектуального превосходства.
Даниил Александрович Гранин рассказывал мне такой анекдот. Когда арестовали профессора Беркова, то сказали ему:
— Вы человек литературный, напишите все сами!
— Что я должен написать?
— Ну… что вы шведский шпион и что вы собирались… взорвать Кронштадт!
Берков понял, что ему не выкрутиться. Но как бы написать так, что хотя бы потом по его показаниям поняли, что все это липа? И он написал:
«Я был завербован агентом Швеции, мы встречались с ним у Казанского собора, где он передавал мне задания и взрывчатку. Звали его Барклай де Толли».
И следователи все это «скушали» — так и осталось в документах.
Эрудиция, ирония, в числе прочих достоинств, помогали интеллигенции держаться, не сломиться. Многие были арестованы, уничтожены, но интеллектуальная жизнь продолжалась. На лекции Г. А. Бялого сбегались студенты не только из университета, но и из других вузов. Знаменитый «западник» профессор А. А. Смирнов читал блистательные лекции по Ренессансу, смущая скромных студенток слишком точным пересказом сюжетов «Декамерона».
Густой тогда был «лес», и, несмотря на постоянные «вырубки», талантливые и смелые люди все равно оставались. Полностью изгнать высокий дух из Ленинграда не удалось. Хотя — «пули свистели» рядом. Почему уцелел тогда Лихачев? Отчасти, может быть, этому способствовало получение им в 1952 году Сталинской премии?
Какую-то защиту это давало. Но не полную. «Проработчики», которым явно было дано задание «выполнить план», не унимались. И устраивали один «шабаш» за другим, в том числе и в Пушкинском Доме.
Главными «проработчиками» в городе на Неве были профессора Л. Плоткин, Б. Мейлах, П. Ширяева, доцент университета Г. Лапицкий. По воспоминаниям А. И. Рубашкина, Лапицкий преподавал в университете древнерусскую литературу, вел себя перед студентами заискивающе-любезно, часто, сладострастно закрыв глаза, произносил: «Замечательно! Пять с плюсом!» Однако эта его «любезность» не мешала ему играть самую черную роль в преследовании лучших ученых того времени.
Весной 1950 года у Лихачева разыгралась язва желудка. Как раз тогда по рекомендации Жирмунского и Орлова, известного «блоковеда», Лихачев был принят за его книги в Союз писателей СССР и сразу же — в великолепном здании Союза писателей, бывшем особняке Шереметевых, угодил на «коллективную порку» писателей, устроенную властями. И хотя Лихачева непосредственно это мероприятие не коснулось, он понял, что спасения нет нигде.
Вскоре «докатилось» и до него. На историческом факультете университета, где Лихачев был допущен к преподаванию, его вдруг перевели на ставку лаборанта, а он ведь был уже доктором наук. А скоро дело дошло и до его сочинений. Весной 1952 года в актовом зале Пушкинского Дома проходило обсуждение только что вышедших «Посланий Ивана Грозного». Книга завершалась статьей Лихачева о Грозном-писателе с комментариями сотрудника Пушкинского Дома Я. С. Лурье.
Обсуждение проходило ровно через неделю после вручения Лихачеву Сталинской премии за статью в сборнике «История культуры Древней Руси», о которой мы уже говорили. Однако и премия не оградила Дмитрия Сергеевича от нападок. Видимо, было получено указание сверху: «Можно. И даже — нужно!» Вышедший на трибуну сотрудник Пушкинского Дома Ю. Скрипиль (с которым Лихачев был в эвакуации в Казани и вынужденно поддерживал отношения) неожиданно прервал сугубо научное обсуждение сборника и набросился на Лихачева с обвинениями в «космополитизме», подтверждая обвинения сакраментальной фразой: «Не случайно Дмитрий Сергеевич сочувствует изменнику Родины — князю Курбскому!»
Как говорил Лихачев в одном интервью, вспоминая ту пору: «Душили подушками». Обвинив в «древнем космополитизме» Лихачева, Скрипиль перешел к разгрому Якова Соломоновича Лурье.
Однако разгрома не получилось. Настоящие ученые, которых всегда бывает немало, гораздо больше заинтересованы в поддержании добрых отношений с коллегами, нормальной обстановки для работы — нежели в раздувании всякого рода «пожаров», после которых «восстановить» науку порой невозможно. Бывает, разумеется, и вражда между ними, и интриги, но солидарность ученых (особенно против внешних врагов), как правило, существует. И «налетчики» уже начинали это чувствовать.
«Осуждение» закончилось ничем, и даже против Лурье, не защищенного лауреатскими лаврами, не было принято никаких мер. И хотя «органы» старались внедрить во все отрасли науки своих людей, солидарность ученых, взаимопонимание и поддержка помогали выжить. Однажды, после одного из очередных «разносных» ученых советов, Лихачев и Борис Эйхенбаум зашли в туалет Пушкинского Дома, и Эйхенбаум мрачно пошутил: «Вот единственное здесь помещение, где легко дышится!»
Взаимопонимание, взаимопомощь интеллигентных людей спасали их. Замечательный пример тому — семья Томашевских. Живя в одном доме с опальным Зощенко, они всячески ему помогали, носили еду. Настоящие интеллигенты в нашем городе не переводились никогда.
А времена менялись. Сразу после 1953 года стали происходить удивительные события, о которых раньше опасно было даже мечтать. Вдруг возник смелый план — провести очередной Международный съезд славистов всего мира в Москве! — после долгого отрыва русских ученых от мирового научного процесса. И одним из активных организаторов съезда сразу стал Лихачев. Знаменитый ученый-филолог Вячеслав Всеволодович Иванов, сын писателя Всеволода Иванова, вспоминает те годы:
«Ранней весной 1956 года… меня вместе с несколькими еще молодыми учеными (В. Н. Топоровым, О. Н. Трубачевым) позвали участвовать в заседаниях и развлечениях славистов, съехавшихся со всего мира на заседание комитета, готовившего международный съезд в Москве… Среди толпы пестро и непритязательно одетых знаменитостей Лихачев выделялся удивительной элегантностью костюма… это с присущей ему наблюдательностью отметил Виктор Владимирович Виноградов, шутливо обративший внимание шедших с ним на наряд Дмитрия Сергеевича… Мне запомнился светлый плащ, как-то на редкость ладно сидевший на нем — погода в тот день была неприветливая, а стройная фигура Лихачева вся будто светилась… Тот отвечал Виноградову, улыбаясь, но с достоинством, как бы не желая продолжения шутки… Во внешности и манере держаться Лихачева было то же несовременное благородство, что и в стиле понравившейся мне его книги».
В этом точном воспоминании ярко проступают характеры двух великих ученых — веселого, насмешливого, отнюдь не безобидного Виноградова и слегка застенчивого, но твердого Лихачева…
Далее Иванов пишет: «…и полтора года спустя, в сентябре 1958 года на самом Четвертом международном съезде славистов в Москве, наши разговоры касались преимущественно русского язычества, которым я тогда начал серьезно заниматься. Лихачев в особенности рекомендовал мне изучить посмертно изданную статью Комаровича о древнерусском культе Рода».
Съезд славистов в России, первый после снятия железного занавеса, имел огромное «оздоравливающее» значение для нашей науки. Он был важен и для русских славистов, и для зарубежных, съезжавшихся в Россию (после столь долгого перерыва) с огромным энтузиазмом и интересом. Приехали самые именитые специалисты — по литературе Средневековья, по поэтике, по источниковедению и текстологии. Встретились старшие и младшие поколения ученых, западные ученые (в том числе и эмигранты) и славянские (восточноевропейские) школы.
В книгах, изданных к съезду, были собраны труды лучших русских славистов, в числе которых были и прежде запрещенные или «нерекомендуемые». Среди звучных имен, внимание к которым заострилось именно благодаря съезду, — Н. К. Гудзий, В. Н. Перетц, Н. А. Мещерский, Д. С. Лихачев, И. Н. Голенищев-Кутузов, П. Г. Богатырев, В. Я. Пропп, В. В. Виноградов, А. Н. Робинсон, А. В. Флоровский, М. П. Алексеев, Н. И. Толстой. Изданы были в большом количестве и иностранные корифеи.
В 1958 году как раз вышла замечательная книга Лихачева «Человек в литературе Древней Руси». Один из сотрудников Лихачева, И. З. Серман пишет, что появление этой книги можно объяснить лишь наступившей оттепелью — в книге говорится не о государственных устоях, а о человеке, о его чувствах, заблуждениях, о его тяге к прекрасному с самых давних времен. Серман написал восторженную рецензию, отнес в «Новый мир», который был тогда в центре внимания всей читающей России — и рецензия была одобрена Твардовским и напечатана.
Лихачев сделал на съезде чрезвычайно всех заинтересовавший доклад «Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России».
Речь шла о южнославянском (в основном болгарском) влиянии на формирование древнерусского языка.
Один из крупнейших иностранных специалистов, участвующих в съезде, Дж. Броджи-Беркофф в своих воспоминаниях писал:
«В 1950–1970-х годах международные конгрессы славистов были почти единственной возможностью встречи между людьми, занимающимися славянской филологией и на Западе, и на Востоке. Это, конечно, уже само по себе — достижение таких съездов, несмотря на то, что сама идея их организации была вызвана идеологическими причинами и подлежала строжайшему контролю со стороны официальных аппаратов».
Но такие собрания авторитетных ученых всего мира, взаимная их симпатия и поддержка как раз вселяли надежду на то, что «строжайший контроль» и давление идеологии могут быть преодолены или, во всяком случае, ослаблены.
Далее — из воспоминаний В. В. Иванова:
«…Нередко мы говорили о Лихачеве с Романом Якобсоном (Якобсон — всемирно известный славист, уехавший из России и прославившийся поначалу за рубежом. — В. П.). Якобсон ценил его чрезвычайно высоко, подчеркивая, что Лихачеву не у кого было учиться, а каким прекрасным филологом он стал!
Чаще всего с Дмитрием Сергеевичем в начале 1960-х я виделся именно во время приездов Якобсона… Приехав в очередной раз на аэродром встречать Якобсона, я несколько неожиданно для себя увидел там Лихачева. Он сказал, что специально приехал из Ленинграда, чтобы повидаться с Якобсоном. В те годы это было небезопасно (меня незадолго до этого, выгоняя из преподавателей университета, обвиняли, кроме несогласия с официальным поношением „Доктора Живаго“, именно в поддержке статей и докладов Якобсона)… Вернувшись из поездки в Ленинград, Якобсон расхваливал Лихачева. Его восхищало, как хорошо тот знает буквально каждое здание и его историю. Но и дома у Лихачева ему очень понравилось. Он показывал, как жена Дмитрия Сергеевича потчевала его разными сортами варенья, приговаривая, как и из чего оно изготовлено: „Отведайте этого, оно брусничное…“ Та самая „естественная старорежимность“, которая была одним из главных секретов обаяния Лихачева, Якобсона пленила и в домашнем его обиходе».
Международные конференции с большим количеством иностранных гостей теперь уже не считались чем-то невероятным. Лихачев был одним из тех, кто после долгого перерыва распахнул заржавевшие ворота в большой мир.
ОСТРОВ
Я бы ни за что не взялся за эту книгу о Лихачеве, если бы не дружил со многими сотрудниками Пушкинского Дома, хорошо знавшими ДС (так они называли его между собой). Их рассказы, да и сама их жизнь в этом доме были очень интересны. И в Пушкинский Дом, в гости к приятелям — Игорю Смирнову, Александру Панченко, Саше Лаврову, Славе Багно, Эдуарду Шубину, Сергею Гречишкину — я ходил не раз.
За тяжелой входной дверью — и перед второй такой же — гулкий мраморный вестибюль. Как раз там я часто встречал моих молодых тогда друзей, у которых тут был свой «курительный клуб», место доверительных разговоров.
Как бы «среди них» стоял красивый мраморный памятник — Александру Веселовскому (1838–1906), одному из основателей Пушкинского Дома, бывшего поначалу лишь местом сбора пушкинских рукописей. Над ним высоко на стене — мраморные доски в память о выдающихся русских филологах, основателях Пушкинского Дома — ученого-хранителя, члена-корреспондента АН СССР Бориса Львовича Модзалевского (1874–1928) и первого директора академика Нестора Александровича Котляревского (1863–1925).
За второй дверью — гулкое фойе и три огромных пролета старинной мраморной лестницы. На одной из ее площадок — бронзовая скульптура Минина и Пожарского, а заканчивается она широкой светлой площадкой с копией знаменитой картины Айвазовского и Репина «Прощай, свободная стихия!» — где серое штормовое море изобразил Айвазовский, а стоящего на скале у воды Пушкина в «крылатке» — Репин.
В рабочий кабинет Лихачева, в Сектор древнерусской литературы, нужно подниматься выше. С площадки — влево, через темноватый директорский коридор, где расположены бюсты классиков и кабинеты начальства. Тут же тяжелая дверь одного из «лихачевских кабинетов», но так он стал называться уже позже и использовался Лихачевым для официальных высоких встреч, когда он уже стал возглавлять Фонд культуры.
Теперь там табличка: «Мемориальный кабинет академиков М. П. Алексеева и Д. С. Лихачева». Кабинет этот роскошен — старинные тяжелые столы, шкафы, но следов пребывания М. П. Алексеева и Д. С. Лихачева здесь не наблюдается. Кабинет помпезный и несколько холодноватый. Настоящий рабочий кабинет Лихачева в другом месте. Но туда надо еще подниматься и подниматься. Открыв незаметную дверку в директорском коридоре, оказываешься на черной лестнице — правда, тоже огромной. И до самого конца он одолевал эту лестницу сам. Иногда лишь, и то в последние годы, он позволял забрать его тяжелый портфель и нести рядом.
Отдел древнерусской литературы (его часто и сейчас называют «сектор», как раньше) расположен в четырех комнатах на третьем этаже, за небольшой белой дверкой.
В этом отделе Лихачев проработал с 1937 по 1999 год, до самой кончины, то есть 62 года без перерыва.
Долгое время сектор возглавляла замечательная Варвара Павловна Адрианова-Перетц, и веселые молодые сотрудники называли сектор «монастырь игуменьи Варвары» — при всем уважении и любви к ней.
Вскоре после войны Адрианова-Перетц передала Лихачеву руководство сектором, добившись при этом, чтобы его выбрали членом-корреспондентом Академии наук. Как говорила Варвара Павловна, «члена Академии собаки меньше кусают». Лихачев активно занялся подбором ученых для развития сектора. В секторе уже работали известные специалисты по древнерусской литературе И. П. Еремин и М. О. Скрипиль. Вскоре после аспирантуры были приняты Г. Н. Моисеева и Л. А. Дмитриев. Лихачеву хотелось взять уже опытных фольклористов, таких как К. В. Чистов и В. Е. Гусев, но они нашли работу, которая была ближе к их специальности.
Лихачев относился к формированию сектора очень ревностно. Когда он просил взять на работу Р. П. Дмитриеву, которую он знал еще как слушательницу своего семинара на историческом факультете в 1946 году, и не получил поддержки, он сгоряча даже опрокинул мраморный столик в кабинете научного секретаря. И Дмитриева была принята. Но такое было скорее исключением. Сама Дмитриева вспоминает:
«Как правило, он держался вежливо и сдержанно, даже если бывал недоволен. Он умел держать себя в руках. Вообще, по натуре он был человек застенчивый, но всегда собранный, благородный и элегантный, обладал интеллигентными манерами, не допускал возможности фамильярного поведения, а потому и его собеседники должны были быть сдержанными при общении с ним. При этом у него был особый дар собеседника: он умел располагать и очаровывать своих слушателей. Помню, как мы с ним пришли в Рукописный отдел Библиотеки Академии наук: мне нужно было получить рукописи для работы над кандидатской диссертацией. Дмитрий Сергеевич представил меня и стал вести приятную беседу с тремя пожилыми сотрудниками отдела — создалась очень хорошая обстановка, что в дальнейшем очень помогло мне в работе».
Главной целью Лихачева было создать в Пушкинском Доме крупный научный центр по изучению древнерусской литературы. И он добился этого, действуя спокойно и методично, вежливо, но упорно — как и во всех других случаях.
В одном из писем Лихачев пишет: «В нашем секторе остались лишь хорошие люди. Все плохие ушли». Лихачев вовсе не тихий кабинетный ученый, он — боец. Сила его не только в его научной гениальности — но и в умении своим авторитетом формировать научную среду. И ему удается в конце концов собрать в отделе древнерусской литературы не только талантливых, но и верных людей. Всех, кто работал в секторе (позже — Отделе древнерусской литературы) и помогал Лихачеву, и тех, кому он помогал в науке и жизни в разное время, трудно перечислить. Упомянем лишь основных сотрудников — Г. Прохорова, В. Бударагина, А. Панченко, О. Белоброву, Н. Понырко, Т. Краснобородько, М. Рождественскую, И. Смирнова, С. Фомичева, И. Лобакову, Е. Водолазкина, О. Панченко, Л. Лихачеву, А. Боброва, Р. Дмитриеву (упоминаю лишь тех, кто оставил воспоминания о работе с Лихачевым). Вместе они представляли реальную силу, и, опираясь на них, Лихачев уже мог бороться. И вскоре показал свою отвагу и силу, став главным заступником справедливости, непререкаемым авторитетом.
Стоит вспомнить хотя бы историю с Бельчиковым, присланным неожиданно из Москвы на пост директора института. Вскоре тот показал полную свою несостоятельность. Ретиво реализуя «полученные указания», он сумел добиться лишь одного — весь институт был охвачен склоками, обидами, измучен совершенно нереальными и никому не нужными заданиями.
И тут Лихачев — именно он — поднялся «во весь свой гигантский рост» — и спас институт. Он поехал в Москву, в Академию наук, поскольку там его уже знали и уважали. Он пришел в кабинет к академику-секретарю Отделения литературы и языка (ОЛЯ) АН СССР В. В. Виноградову, который «отвечал» за литературу и филологию — при этом был настоящим ученым и — хитроумнейшим аппаратчиком, используя этот свой «дар» чаще всего на пользу науке. К сожалению, потом его на этом посту сменил М. Б. Храпченко. У того уже вся энергия уходила на то, чтобы «внедрить» в научную среду постановления партии и правительства. А Виноградов был авторитетен, интеллигентен и независим, разумеется, в тех пределах, которые позволял ему высокий пост. Когда Лихачев вошел в кабинет Виноградова, Бельчиков сидел уже там. Лихачев приехал в Москву не один. С ним был еще Михаил Павлович Алексеев, авторитет которого в Пушкинском Доме был тоже довольно высок, и впоследствии он тоже стал академиком, весьма уважаемым. Алексеев приехал из Иркутска, успешно возглавлял сектор западной литературы, и тоже, как и Лихачев, сумел собрать у себя в отделе замечательных людей. Молва гласит, что они не слишком симпатизировали друг другу, хотя держались, разумеется, всегда корректно. На предложение Лихачева поехать в Москву Алексеев сразу же согласился.
Виноградов выслушал Лихачева. Суть речи Лихачева была в следующем: «Когда все воюют против всех, работа не ведется».
Виноградов выслушал затем Алексеева, Бельчикова, потом позвонил в отдел кадров Президиума Академии наук и сказал: «Ко мне приехал Лихачев и в присутствии директора института объяснил, почему он не может с ним работать. По-моему, Лихачев прав!»
Лихачев оказался сильнее. Бельчикова изгнали. Лихачев вернулся триумфатором.
Свой все более растущий авторитет он никогда не использовал в узкокорыстных целях (так и авторитета бы не осталось). Но что он использовал его весьма продуктивно — это факт. То, что он сделал — не удалось бы никому. Ольга Белоброва, в дальнейшем одна из активных сотрудников лихачевского отдела, вспоминает о их знакомстве.
В 1956 году Лихачев был в оргкомитете предстоящего Международного съезда славистов и вместе с другим членом оргкомитета, знаменитым нашим славистом Андреем Николаевичем Робинсоном привез к Ольге Белобровой в Загорск иностранных членов оргкомитета — Е. Хилла и И. Дуйчева. Они ходили по уникальным загорским храмам и музеям, и, конечно, вел их Лихачев. Наиболее страстно и трепетно он показывал иконы и старинное церковное шитье. Как и обычно, Лихачев был крайне корректен, дружелюбен. Особенно внимательно он рассматривал икону Феофана Грека, замечательно о ней говорил, что навело Белоброву, тогда сотрудницу загорского музея, на мысль о создании работы о Феофане Греке. И с этого визита началось долгое и продуктивное сотрудничество Лихачева и Белобровой, которая вскоре перешла в Отдел древнерусской литературы. Лихачев был замечательным организатором, всюду находил полезных и талантливых людей, благодаря этому ему удавались большие дела.
Продолжая издавать ежегодные тома «Трудов Отдела древнерусской литературы», он стал печатать еще и серию произведений древнерусской литературы. Проводил открытые научные заседания, на которых сотрудники читали свои работы, а потом начиналась дискуссия.
Заседания эти были открытыми, и на них собирался весь цвет ленинградской филологии — и во многом это происходило благодаря личности Лихачева. Н. В. Понырко, одна из учениц Дмитрия Сергеевича (именно она возглавляет сейчас древнерусский отдел), пишет в своих воспоминаниях о Лихачеве:
«Тогда на наши еженедельные заседания (как прежде, так и сейчас — в 2 часа дня по средам) собирались, в сущности, все „медиевисты“ („древники“) Петербурга: 13 человек сотрудников сектора и еще около двадцати (а порой и гораздо большее число) ближайших коллег-„древников“ из Рукописных отделов Публичной библиотеки и Библиотеки Академии наук, из Института истории, Эрмитажа, Русского музея; особую группку составляли студенты Университета… плюс приехавшие на недолгий срок зарубежные слависты, плюс в разные годы аспиранты и стажеры Сектора из Болгарии, Англии, Чехословакии, Италии, США…
Дмитрий Сергеевич неизменно председательствовал на этих заседаниях… Уже одно то, как протягивал он свою руку, приглашая докладчика взойти на кафедру, какими словами представлял его аудитории, с каким выражением слушал выступающего — одно это воспитывало своим благородством, давало ощущение присутствия в отдельном, не советском мире».
Именно это и притягивало многих. Лихачев сделал то, что хотел — их сектор становился главным центром изучения древнерусской литературы.
Весьма заметной фигурой в секторе был Александр Михайлович Панченко. Мне довелось знать его близко. Он был ярким, талантливым, самобытным ученым, знатоком Древней Руси, предпочитая допетровскую Русь, Петровские реформы считал ересью. Стал очень быстро академиком. Огромный, азартный, громогласный. Был тучен, размашист, не считал нужным сдерживаться в споре. Одно время крепко выпивал, «на память» об одном из инцидентов на внушительном носу его навечно остался шрам. Во всем он был противоположностью Лихачеву. Тем не менее, осознавая масштаб его таланта, Лихачев попросил его прийти работать в их сектор. История их отношений непроста: при огромном взаимном уважении и симпатии, при весьма высокой оценке трудов друг друга — постоянные споры, а потом и научная ревность. Некоторые говорят, что Панченко писал ярче, талантливее Лихачева — в этом вся причина, а дисциплинарные и прочие придирки — лишь повод. В жизни не всегда все бывает гладко — и талантливые люди могут быть не похожи друг на друга, и даже должны быть непохожи.
Тем не менее их сотрудничество — один из наиболее важных эпизодов в истории отдела и в деле изучения древнерусской культуры. По воспоминаниям Панченко, одно из «озарений» Никиты Хрущева, руководящего в то время страной, состояло в том, что главное — современность, прошлое изучать бессмысленно. Панченко вспоминает, как его сокурсники были изумлены, когда он принял приглашение Лихачева и поступил в Сектор древнерусской литературы: дело-то бесперспективное! То, что про «древность» забыли, шло отчасти на пользу, не терзали хрущевские «трепки», которые он устраивал во всех областях науки и искусства, от агрономии до живописи, а в лихачевском секторе можно было спокойно работать. Сектор не участвовал в печально известных хрущевских «кампаниях», не слишком рьяно искали среди знатоков Древней Руси «космополитов». Зато «Труды» отдела выходили беспрепятственно и ежегодно. Именно здесь Панченко «пришелся ко двору» и стал одним из крупнейших авторитетов, академиком. Конфликты были — особенно когда Панченко с рассказами о старой России тоже сделался вслед за Лихачевым «телезвездой». Но в основном их научные и человеческие принципы совпадали, и атмосфера в секторе была творческая, лишенная фальши и приспособленчества. «Никому не пришло в голову, — пишет Панченко, — написать работу „Маркс — Энгельс и древнерусская литература“. Сама атмосфера сектора просто не допускала этого».
Александр Панченко считает правильным, что «…мы не поддались и на левые вещи, например структурализм. Структурализм в Европе и Америке кончился в конце 1960-х». Лихачев, думаю, не был в этом вопросе так категоричен. Я знаю, что его аспирантом был Игорь Павлович Смирнов, занимавшийся как раз структурализмом, и работа их прервалась вовсе не по научным причинам, а по чисто внешним.
Конечно, разногласия в секторе были, но, в основном, чисто научные, разногласия интеллигентных людей, без подсиживания и подлостей. Лихачева и Панченко соединяло и то, что отец Панченко тоже работал здесь, был ученым секретарем института, и погиб на войне, и что Панченко-младший еще мальчиком был в эвакуации в Казани рядом с Лихачевым, копал картошку, и однажды по протекции Лихачева получил в какой-то комиссии детские калоши. «Калошики» Панченко всегда помнил.
«Это не значит, — вспоминает Понырко, — что у нас была тишь да благодать. Еще какие баталии случались, к примеру, при столкновении мнений извечных „противников“ — А. М. Панченко и Я. С. Лурье, когда они начинали высказывать свои суждения о состоявшемся докладе. Яков Соломонович смотрел на многое через призму своего „ренессансного“ мировоззрения… А Александр Михайлович опровергал его с аввакумовским темпераментом».
В организации и руководстве сектором Лихачев проявлял во все времена удивительную твердость и независимость от каких-либо указаний или даже «веяний». Так, Яков Соломонович пришел к нему в самый разгар борьбы с «космополитизмом», уволенный с прежней работы именно как «космополит»… И Лихачев после короткого с ним разговора взял его в сектор!
Лихачев заботился не только о процветании науки. Он видел все. Однажды после заседания сектора он спросил одного из сотрудников, Гелиана Прохорова, почему у него такой утомленный вид. Тихий вопрос Лихачева прогремел как гром. Собиравшиеся уже выходить из зала — вернулись. Многие уже знали из передачи радио «Свобода» об обысках в квартире и на даче Прохорова. Причиной обыска были отношения Гелиана Михайловича с Александром Солженицыным. В те годы не было более уважаемой, даже культовой фигуры в среде интеллигенции, чем Александр Солженицын. Все авторитеты, усиленно создаваемые советской властью десятилетиями, в тот период померкли, а мученик Солженицын, замечательно рассказавший в своих книгах о страданиях страны под пятой большевиков, стал героем. Власть не могла этого стерпеть. За одно только чтение солженицынской книги можно было схлопотать срок. Но это уже не помогало. Восхищение, преклонение перед именем Солженицына только росло. И Прохоров, как многие из нас, разделял эти чувства. И чтобы хоть как-то реализовать их, послал Солженицыну «Доклады отделения этнографии» Географического общества со своей статьей об этнической интеграции в Восточной Европе в XIV веке. Свои чувства Гелиан Михайлович высказал в подписи к статье. Вспоминая, что в «Раковом корпусе» герой ностальгически вздохнул о Фонтанке, Прохоров сообщил Солженицыну о готовности принять его на этой замечательной реке, возле которой тогда жил.
«К моему удивлению, — пишет Прохоров, — он мне ответил. Сначала я не понял, от кого эта открытка:
26. 4. 68. Многоуважаемый Гелиан Михайлович! Спасибо за присланную книгу. Такие вещи люблю, и интересно мне, и нужно — но нехватка времени, как ущелье, и не знаю, когда выберусь, когда доберусь. Всего доброго! Жму руку! А. Солж.».
Несомненно, открытка эта была зафиксирована органами и Гелиан Михайлович был «взят под колпак». И он это понимал. Но в те годы запах свободы пьянил, хотелось сделать что-то смелое, вольное, назло этой опостылевшей власти.
На конференции в Софии Прохоров познакомился с эмигрантом, сыном офицера Семеновского полка, который попросил передать Солженицыну мемуары своего отца «Моя служба в старой гвардии». Как раз тогда появился в «тамиздате» «Август Четырнадцатого», где Солженицын писал, что нуждается в мемуарах о предреволюционной России. Гелиан согласился и, вернувшись в Россию, через знакомых передал книгу Солженицыну. Сыну мемуариста послал открытку, что «книга на месте». К этой открытке чекисты и привязались.
На допросах следователь упрямо доказывал, что «книга на месте» — это, значит, у Солженицына. Гелиан утверждал: «на месте» — это значит на полке в квартире у того, у кого он брал эту книгу почитать. Человека этого не называл.
Ничего не доказав, чекисты прислали письмо в Пушкинский Дом, где вина Прохорова объявлялась доказанной. Они требовали читать это письмо во всех отделах, чтобы и другим было страшно.
После протеста Прохорова, поданного в прокуратуру, появилось второе письмо, еще более злое и «личное» — рассказывалось о «неискренности» Гелиана Прохорова на следствии. Вскоре в Пушкинский Дом явились представители КГБ и Василеостровского райкома партии, заставили провести общее собрание. На этом собрании они добивались, чтобы, как в «славные тридцатые», коллектив обратился к властям с требованием о лишении Прохорова советского гражданства и ученой степени кандидата филологических наук. Конечно, времена были уже не те, когда «единодушно» требовали расстрела, но, скажем, за отъезд дочери за границу могли «по требованию коллектива» лишить степени и уволить.
В Пушкинском Доме все пошло не так. Гелиан Прохоров вспоминает:
«Я произнес блеклую ответную речь, из которой следовало, что я этого не хочу (того, что требовали „органы“. — В. П.)… И мои сотрудники во главе с председательствовавшим директором, мало мне даже знакомым, Василием Григорьевичем Базановым, и двумя академиками в зале: Михаилом Павловичем Алексеевым и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, сделать это не согласились. Только стукач-завхоз и чекист-пожарник изо всех сил, но без успеха, старались помочь представителям двух ветвей, росших из одного корня. Сочетавший партийность с упрямым благородством, Василий Григорьевич был затем вызван в райком, и его настиг очередной инфаркт».
Спустя год после этих событий Прохоров был снова вызван в Большой дом на Литейном, где его измором заставили подписать бумагу о том, что он получил предупреждение о его деятельности, граничащей с преступлением. Когда измученный многочасовой «беседой» Прохоров подписал предупреждение, следователи возликовали: «Теперь мы с вами увидимся уже в другой обстановке!»
Дальше события, по воспоминаниям Прохорова, опубликованным в сборнике «Дмитрий Лихачев и его эпоха»[1], происходили следующим образом: «Мое непосредственное начальство, Дмитрий Сергеевич Лихачев был вызван в Смольный, в обком партии (хотя всегда был беспартийным), к всесильному секретарю обкома Григорию Романову, и тот, между прочим, упрекнул академика за то, что он оказывает покровительство таким людям, как я. Что сказал или пообещал ему Лихачев, не знаю, но Романов согласился прекратить преследование меня и начать выпускать Веру, его дочь, талантливую ученую, за границу. И свое обещание Романов выполнил.
Машины, дежурившие около дома в городе и вдруг освещавшие фарами ночных прохожих около дачи, исчезли; вызовы, допросы прекратились, слежка тоже — или пошла по другому режиму… Но главное — я остался на свободе, в России и в Пушкинском Доме, некогда приглашенный туда и сохраненный там Дмитрием Сергеевичем Лихачевым».
При этом вовсе нельзя сказать, что общая обстановка в Пушкинском Доме благоприятствовала Лихачеву и его благородным начинаниям. Скорее наоборот! Очень подробно о деятельности Лихачева и обстановке тех лет рассказывает сборник воспоминаний современников, составленный одним из ближайших сподвижников Лихачева Евгением Водолазкиным. Вот отрывок из воспоминаний Александра Васильевича Лаврова, ныне академика:
«В те недоброй памяти годы Пушкинский Дом являл собой диковинный симбиоз подлинного культурного оазиса, вместилища замечательных умов и талантов с оголтелой партийно-пропагандистской конторой».
В институте и среди научных сотрудников было полно ортодоксов, пытающихся «верностью советской власти» компенсировать свою малую одаренность и недостаточную образованность. Они яростно ненавидели этого «аристократа» Лихачева и не упускали случая его «укусить». Они старались набирать себе подобных, и благодаря их усилиям Пушкинский Дом в некоторые десятилетия имел репутацию весьма реакционного и даже черносотенного заведения. Вот в такой обстановке существовал и действовал Лихачев.
«Будучи председателем редколлегии „Литературных памятников“, ДС активно содействовал выходу двух книг, к которым мне довелось иметь отношение — „Петербурга“ Андрея Белого и „Ликов творчества“ Максимилиана Волошина, — вспоминает Лавров. — При содействии его была выпущена и другая знаковая книга — книга прозы Пастернака „Воздушные пути“, после того как имя Пастернака многие десятилетия было под запретом, и к тому же после выхода скандального для начальства „Доктора Живаго“. Комментарии к „Воздушным путям“ делали А. Лавров и С. Гречишкин, вступительную статью написал Лихачев».
Именно он, опираясь на лучших, талантливых, смелых молодых сотрудников, возвращал нам запрещенную русскую литературу.
Вспоминаю Сашу Лаврова той поры — веселого, румяного, с короткой интеллигентной бородкой. Ходил он очень быстро, почти бегал. В огромном раздутом портфеле, с которым он не расставался, соседствовали самые смелые книги «тамиздата» с бутылями прекраснейшего портвейна. Этот «джентльменский набор» был весьма характерен для молодых интеллектуалов той поры. И этот «багаж» вовсе не оказался губительным — скорее наоборот. Александр Лавров стал академиком, одним из главных специалистов по Брюсову, Белому, Соллогубу. С восторгом вспоминаю годы веселой, отчаянной молодости, выпущенную А. Лавровым и С. Гречишкиным книгу весьма смелых, даже шокирующих рассказов Валерия Брюсова, которого у нас долгое время рисовали верным слугой Советов. А Гречишкин и Лавров «освободили» и Брюсова из-под гнета! Замечательно было тогда. И многое происходило именно под «патронажем» ДС, как его кратко, но почтительно называли молодые интеллектуалы.
Вспоминаю и я свою первую встречу с Лихачевым в те годы. Непосредственного отношения к филологии я не имел, увлекался больше литературой, но крепко дружил с молодыми специалистами из Пушкинского Дома, особенно с Игорем Павловичем Смирновым, работавшим тогда в Секторе теории литературы (расположенном в верхней башне, откуда открывался чудный вид на разлив Невы у самой Стрелки и Петропавловку).
Однажды мы «отдыхали», а точнее — веселились с Игорем Павловичем в Доме творчества в Комарове, у Финского залива, а поскольку ночь была белая, мы и не заметили, как она наступила. Поняли мы это, лишь когда обнаружили, что магазин, который нам очень был нужен, — закрыт!
Открывался он лишь в девять утра, а продажа алкоголя начиналась аж в одиннадцать. Это было, конечно, разумно. Начинать пить с утра было неправильно, разве что за исключением некоторых особых случаев.
Явившись в девять и получив отказ, правда, мягкий, от знакомой продавщицы, буянить мы и не думали.
Мы просто вышли и прямо напротив витрины смиренно встали на колени на чудесный, желтый, сухой песок (Комарово стоит на отличном песке, поэтому и комаров в нем очень мало). Мы смиренно и даже, я бы сказал, отрешенно стояли на коленях. Лишь иногда, когда продавщица, оборачиваясь, смотрела на нас, мы низко, до самой земли — точнее, до песка — кланялись. Это было совсем не трудно, и даже полезно для мышц, поэтому не скажу точно, через какое время продавщица обернулась и призывно махнула рукой. Мы робко вошли и интеллигентно взяли лишь «маленькую», чем, надо сказать, приятно поразили и продавщицу, и себя. Но весь день топить в водке мы и не собирались: так, по рюмочке для большей сообразительности, и — работать. Впереди был упоительный день, писать с Игорем Павловичем мы любили, каждый свое. Игорь Павлович был тогда аспирантом Дмитрия Сергеевича Лихачева, о чем неоднократно рассказывал, упоминая шефа с уважением, что в эпоху торжествующего нигилизма было редкостью.
«Маленькая» сияла в утренних лучах, радость жизни играла в нас, и мы придумали (начал Игорь) — перекидываться «маленькой» на ходу, что было увлекательно, но опасно. Перебрасываясь бутылочкой, мы перешли шоссе и двигались по зеленой Кавалерийской. Игру мы все более усложняли, ловить сосуд приходилось все в более трудных бросках. И, наконец, — я не допрыгнул, и «маленькая», тихо звякнув, соединилась с обломком кирпича, неизвестно как оказавшимся в траве. Я поднял лишь горлышко.
— Ладно! — сказал Игорь Павлович. — Я виноват. За это я пойду к Дому творчества на коленях!
— Может, купим другую? — гуманно предложил я.
— Нет! — горько произнес Игорь, рухнул на колени и так пошел. Когда мы приблизились к Дому творчества, калитка вдруг открылась сама собой. Ее открыл и вежливо придержал высокий, стройный, благожелательный человек в очках. После многочисленных рассказов Игоря о своем шефе я сразу догадался, кто это был… кто еще поведет себя так?!
— Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич! — вежливо поздоровался мой друг, не поднимаясь с колен. — …Проходите!
— Нет, нет! Пожалуйста, вы! — улыбаясь, произнес Дмитрий Сергеевич, продолжая придерживать калитку.
— Спасибо! — поблагодарил Игорь Павлович (впоследствии крупный ученый) и на коленях вошел.
За ним прошел я, робко поздоровавшись. И лишь затем вышел Дмитрий Сергеевич, прикрыв калитку.
…Да-а-а. Такого шефа и я хотел бы иметь!
И вот уже в наши дни, по протекции тоже моего старого знакомого, а ныне директора Пушкинского Дома Всеволода Евгеньевича Багно, я оказался в Отделе древнерусской литературы.
…Через общую рабочую комнату, где стоят несколько столов сотрудников, шкафы и картотеки, проходим в кабинет Лихачева. Вот тут действительно чувствуется его рабочее место! Стол (бывший стол академика Шахматова, а затем — Лихачева) и сейчас в рабочем состоянии, заполнен книгами и журналами, раскрытыми или переложенными многочисленными закладками. За креслом Лихачева — большие стеллажи, старинные книги, переплетенный дореволюционный журнал «Исторические записки», а также подаренные Лихачеву тома «Брокгауза и Ефрона». В углу диван с изогнутой деревянной спинкой — подарок Варвары Павловны Адриановой-Перетц.
Среди немногочисленных фотографий на стенах — групповой портрет университетского семинара в Киеве во главе с профессором Перетцем. Среди слушательниц — молодая Варвара Павловна.
У окна, выходящего на Ростральную колонну, почти вровень с ее верхушкой, стоит еще один стол и сбоку от него — фотопортрет Льва Александровича Дмитриева, члена-корреспондента, с которым Лихачев делил кабинет и работал над редактурой многотомного сборника древнерусской литературы.
Ирина Анатольевна Лобакова, главная помощница Лихачева, надежная хранительница его времени, управляющая потоком желающих встретиться с ним, и сейчас работает здесь. Она написала в своих воспоминаниях:
«Как величайшую удачу жизни я вспоминаю семь лет моей работы с Дмитрием Сергеевичем в качестве его последнего референта.
…Впервые я увидела Дмитрия Сергеевича студенткой-первокурсницей в 1975 году: на филологическом факультете университета проходила конференция, посвященная 175-летию издания „Слова о полку Игореве“… И самое яркое впечатление — Дмитрий Сергеевич Лихачев!.. Много лет спустя я узнала, что именно в этот день на него было совершено нападение, а после доклада пришлось обращаться к врачу…
С 1976 года я приходила по средам в Пушкинский Дом на научные заседания Отдела древнерусской литературы, где Дмитрий Сергеевич почти всегда вел их и выступал по поводу услышанного. Эти выступления были удивительны. Неизменная корректность, доброжелательное внимание, готовность поделиться своими идеями, стремление подчеркнуть сильные стороны в исследовании выступавшего, определение перспектив дальнейшей работы, четкость замечаний — часто производили большее впечатление, чем сделанный доклад. На всех заседаниях царили дух свободы в обмене мнениями, отсутствие панегирического тона, научная строгость и доброжелательность. Лишь дважды на моей памяти Дмитрий Сергеевич вышел из себя, столкнувшись с редким соединением в выступлениях приезжих докладчиков полного отсутствия профессионализма с бесцеремонной самонадеянностью».
Сотрудник О. В. Панченко вспоминает:
«Когда я впервые вошел в Отдел древнерусской литературы, то на доске объявлений увидел „распоряжение“ заведующего отделом Д. С. Лихачева, шутливо-начальственным тоном приказывающего сотрудникам отдела незамедлительно посетить выставку Казимира Малевича в Русском музее… Рядом с этим „приказом“ висел еще один, в котором Дмитрий Сергеевич приводил список слов и выражений, запрещаемых для употребления в „Трудах Отдела древнерусской литературы“: „переживать“, „впечатляющий“, „регион“, „по какому вопросу“, „в части чего“…
Лихачев изгонял как канцеляризмы, так и излишне „чувствительные“ выражения, создавал строгий канон речи и письма, в котором недопустимы были банальность, общепринятые в то время штампы — но так же и многозначительная псевдонаучность. Тем самым наряду с „перегибами“ речи он отсекал и „перегибы“ поведения… во всяком случае — в своем отделе».
…Комнаты рядом с кабинетом Лихачева заполнены книгами, старой мебелью (самые красивые вещи попали сюда из квартиры В. П. Адриановой-Перетц). На стенах — портреты академика А. С. Орлова (сыгравшего в жизни Лихачева решающую роль) и профессоров Гудзии, Еремина, Абрамовича — корифеев филологии.
На одном из столов я заметил синий переплетенный машинописный том — кандидатскую диссертацию Лихачева «Новгородские своды» — с закладкой: и сейчас у кого-то в работе. На стене увидел шутливую картину: пассажиры автобуса искривленно-комично отражаются в переднем зеркальце автобуса, среди них — Лихачев.
— Это Лихачев с сотрудниками едут на семинар в Новгород, Гелиан Прохоров нарисовал! — сказала сотрудница отдела Л. Соколова.
Гелиана Прохорова, по всем рассказам о нем, я считал человеком исключительно серьезным, как и всех в отделе — но и веселье, оказывается, случалось. Вспоминает М. В. Рождественская, одна из ближайших сотрудниц Лихачева:
«…60-летнего юбилея Д. С. в секторе я не застала, только не раз слышала подробные рассказы об этом событии, когда Мариной Алексеевной Салминой на любительскую кинокамеру был снят фильм-пародия на детектив под названием „Шухер на бану“, по-моему, еще до выхода на большой профессиональный экран подобных пародий Э. Рязанова и Г. Данелии. В качестве актеров выступали сотрудники Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома.
К 70-летию Дмитрия Сергеевича в 1976 году мы решили тоже сочинить нечто подобное… Выступления Д. С. Лихачева на тему о Предвозрождении в русской культуре собирали многочисленные аудитории и вызывали большой научный интерес и споры… Размышления Дмитрия Сергеевича на эту тему, высказанные впервые на четвертом съезде славистов в Москве в 1958 году, а затем в книге „Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого“, были продолжены им в начале 1970-х годов, особенно в монографии „Развитие русской литературы X–XVII веков“… Вот эта тема — европейского Возрождения и русского Предвозрождения была обыграна нами в капустнике 1976 года, который мы представили за праздничным ужином в Доме ученых, куда нас пригласил Дмитрий Сергеевич по случаю своего юбилея… Сначала произносился текст шуточного доклада, сочиненный А. Панченко и И. Смирновым, главными авторами этого капустника. Мы с Гелианом Прохоровым были подмастерьями…
Какое, право, заблужденье На нашем искреннем пути! Так и помрем без Возрожденья, Его бы надо нам найти. Когда сановникам давала Екатерина верный шанс, Она и не подозревала, Что это — русский Ренессанс. А может быть, и в самом деле Связать веревочкой одной Боккаччо и Макиавелли, И „пунша пламень голубой“?Дмитрию Сергеевичу наши шутки понравились, он от души смеялся, мгновенно включаясь в нашу игру».
Проведение капустников, веселых поздравлений стало хорошей традицией в отделе. Особенно хорошо получались шуточные стихи у вполне серьезного сотрудника В. П. Бударагина:
Пусть слово «древники» — жаргон, Но право, профессиональный… Однако суть совсем не в том: В столице северной, опальной, Сегодня кубки в Вашу честь Подъемлет «древников» дружина…Частые веселые вечера никоим образом не отвлекали от серьезной работы, наоборот — поддерживали дух дружбы, сотрудничества. А работа велась самая серьезная. Отдел, по инициативе Лихачева, часто отправлялся на выездные семинары, в основном — в древние города, имеющие памятники истории, старые рукописи, исторические музеи. По воспоминаниям М. В. Рождественской: «Дмитрий Сергеевич очень серьезно относился к таким поездкам и старался побудить всех сотрудников в них участвовать. К 1976 году мы успели провести их в Пскове, Петрозаводске, Чернигове и Киеве».
Научные интересы, разумеется, превалировали — но обстановка в этих поездках была самая непринужденная, дружеская (о чем и свидетельствует картина Гелиана Прохорова, подаренная им отделу)…
— А где вы собирались, пили чай? — спросил я.
— Вот — в 304-й комнате! Пойдемте! — сказала Соколова.
Комната чуть попросторнее, одно окно на Ростральную колонну, другое — на Малую Неву… Там за Биржевым мостом — маленькая площадь, недавно названная площадью Лихачева. Там же установлен памятный знак.
В комнате, узкой и длинной, посередине — старинный овальный стол, за ним обычно сидел Лихачев во время обсуждений и чаепитий.
Евгений Водолазкин вспоминает:
«Семейное отношение было перенесено Лихачевым на Отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома (по первоначальному наименованию его до сих пор называют сектором…). В нем, как в любой семье, бывали свои радости и неприятности, и это была его семья. Роль его, как своего рода pater familie, выражалась уже хотя бы в том, что в секторе давно уже не было ни одного сотрудника, которого бы он не принял на работу лично… Одному из наших сотрудников Лихачев однажды сказал: „Вы не понимаете, что живете на острове“. Это был действительно остров, куда можно было причалить и работать, не обращая внимания на бушующие стихии… Венцом его грандиозного замысла явилась двадцатитомная (!!!) Библиотека литературы Древней Руси…
Он создавал атмосферу храма, а есть вещи, которые в храме делать неприлично. Их и не делали. Это же можно отнести и к нескончаемому потоку посетителей Лихачева, состоявшему из людей весьма и весьма разных. Можно было наблюдать, как они „подтягивались“ в его присутствии. Порой складывалось впечатление, что в его кабинете они открывали в себе неведомые им самим запасы благородства… То, как они пытались говорить с ним его языком, было подобно первым послеоперационным шагам — трогательно и обнадеживающе».
…Над книжным стеллажом в отделе большой портрет Лихачева. Гелиан Прохоров изобразил Лихачева в иконописной и в то же время слегка кубистской манере. В углу картины чуть прорисована приближающаяся конная дружина князя Игоря, и над ней — черное, в момент затмения, солнце — как об этом сказано в «Слове».
— Портрет этот был на похоронах, — говорит Соколова. — Потом принесли сюда, на поминки. И вот — повесили здесь.
Здесь был действительно «Остров Лихачева».
ВОЗВРАЩЕННЫЕ СЕМЬ ВЕКОВ
Рассказ о Лихачеве, сколько бы ни говорить о его достоинствах, будет все же не полон без главного в его жизни — его книг.
Глядя на них, занимающих в библиотеке длинную полку, я тяжко вздыхал, думая: «Ну вот, это уж точно не подниму! Сколько томов!..» Но оказалось вдруг — не оторваться. Даже мне, не специалисту! Забирает, волнует, тащит! И написано просто, без заумных сложных терминов, которыми так любят иные филологи «отгораживаться» от толпы, надеясь хотя бы так продемонстрировать свою «ученость», когда им нечего по сути сказать. Лихачев этого греха начисто лишен — ему, наоборот, есть что сказать, поэтому он старается сделать это предельно доступно, донести до всех… Ни в коей мере — не легковесно… но — легко! В этом, может быть, объяснение того, что Лихачев своей популярностью превзошел всех. Но легкое как раз и дается тяжело — упорной работой. Поднять древнерусскую литературу из мрака забвения было нелегко. А между тем именно древняя русская литература была определяющим «жанром» своего времени — от нее шла и иконопись, отражавшая не жизнь, а лишь литературные духовные сюжеты, и музыка (духовные распевы). Вернув интерес к древнерусской литературе, Лихачев вернул семь веков русской жизни — прежде мы лишь думали, что ее знаем.
Вся древнерусская литература была, разумеется, религиозной — а какой она еще могла быть? И возвращать эту литературу в советские времена, когда с религией боролись, было нелегко. Ученый секретарь Пушкинского Дома Сергей Александрович Фомичев рассказывал, как перед началом работы над созданием многотомного сборника древнерусской литературы кто-то из чиновников спросил Лихачева: с какого произведения это собрание надо начинать? Лихачев сказал, что конечно же с самого древнего — «Слова о Законе и Благодати» Илариона. Но в государственном издательстве, где собрание готовили к печати, Лихачева «послушались» так, что «Слово о Законе» вышло лишь в самом последнем томе, и то неполным! Его усилия встречали упорное сопротивление властей. Один чинуша поставил ему удивительное требование — «показывать святых не как в писании, а как все было в действительности»! Лихачев, однако, с его спокойной и мудрой улыбкой, все преодолел.
Его усилия по сохранению древней культуры огромны, ибо «древнерусская культура» оказалась не только противной начальству, но тягостной и для облегченного сознания развращенной толпы. Оперы Бородина «Князь Игорь» многим людям вполне хватало для того, чтобы считать себя знающими Древнюю Русь… а Лихачев звал их куда-то дальше. Но дальше им идти было лень, и однажды к Лихачеву обратились с предложением: «А что, если вам с вашим авторитетом обратиться к церкви, чтобы богослужение велось не на древнерусском, а на современном языке? Это ведь облегчение для всех!» — «Еще бы не облегчение! — ответил Лихачев. — Отбросить семь веков нашей истории!»
Однако свои работы о древнерусской литературе Лихачев писал доступным, хотя вовсе не упрощенным языком. Они рассчитаны на обычного интеллигентного читателя. В его работах всегда есть что-то интригующее, неожиданное — научные книги редко бывают столь увлекательны.
В статье «Заметки об истоках искусства» Лихачев ставит вопросы первоначальные: как и от чего возникли древняя литература, древняя культура? Ответы он дает очень конкретные и в то же время несколько неожиданные: от боязни!
От боязни пространства, боязни бесконечности ставили на высоких местах церкви, как опору сознания, как утешение: Бог, духовность присутствуют на этой бесконечной равнине, она уже очеловечена, не пуста! Долгие протяжные песни возникали для того же — чтобы одолевать бесконечное окружающее пространство, осваивать его. Для того же и колокольный звон: соединять воедино людей, тоскующих в одиночестве. Для преодоления страха смерти и безвестности — насыпали над могилами курганы, чтобы они были долго: курганы разрушить труднее всего. Если курган срыть, убрать — такой же курган из этой же земли возникнет рядом. Искусство возникает для того, чтобы быть «„нестрашным“ изображением» всего, что происходит с людьми, увести их от страха.
Уже тогда, как лучшая защита от ужаса, появляется юмор, попытка унизить, а значит, победить врага смехом. Перед битвой 1118 года с польским королем Болеславом появляется насмешливое обращение к нему: «…прободем трескою (щепкою) чрево твое толстое!»[2].
Продолжение — и развитие этой традиции — знаменитая картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Искусство создает свои стройные модели вместо хаоса, что помогает освоить все, даже горе. Искусство не уничтожает горе, но отменяет хаос, гармонизирует все — в том числе и беду. И вместе с тем, считает Лихачев, понятия хаоса, ужаса бесконечного, отменять нельзя — мир становится мертвым и плоским.
Иногда, когда хаос, ужас жизни, пытаются забыть, надо напомнить о хаосе. Этим занимались как и древние, так и самые новейшие направления искусства. Лихачев приводит пример Пикассо, который «снова впускает первобытный ужас в искусство», чтобы прекратить слишком привившееся в салонном искусстве сладенькое, неубедительное нивелирование хаоса… Искусство призвано бороться с хаосом… путем совершенного изображения хаоса. Задача искусства — вовсе не покой, а «упорядоченное беспокойство». Всякое «обнаружение хаоса» есть в какой-то мере внесение в него упорядоченности. Среди великих творцов встречаются пророки, прорицающие картины будущего ужаса, а значит — предостерегающие, спасающие человечество.
«Тайные враги искусства», как называет их Лихачев, стремятся закрыть свои глаза и глаза других на беспокоящее искусство, наводят свой «поверхностный порядок», становятся критиками и искусствоведами.
Дольше всего, по мнению Лихачева, держалось средневековое искусство, поскольку оно отражало не реальность, а «высокие устои», вечные и нетленные.
В книге «Очерки по философии художественного творчества» Лихачев рассматривает важную проблему — соотношение истины и мифа. «Миф — это ложь?» — спрашивает Лихачев… Но ведь и истину трудно определить, это понятие весьма субъективное… Она появляется только из чьих-то конкретных уст и всегда искажается страстью говорящего, попыткой притянуть ее к чему-то актуальному для доказательства своей правоты. И поскольку истин множество и единственную не избрать — их заменил миф, стройный и убедительный, в котором изображена наиболее совершенная картина мира. Без систематизирования, без мифологизации не может быть воспринята данность. Хотя и мифы тоже могут быть субъективны. Есть несколько вполне убедительных и даже совершенных, но абсолютно несхожих мифов о Достоевском… Есть Достоевский Леонтьева и Достоевский Мережковского, Бахтина. Миф — удобство в обращении со сложной данностью. Миф упрощает мир.
С эпохами, утверждает Лихачев, стиль мифа меняется, в связи с потребностями общества. Стиль должен обновляться, чтобы будоражить мысль человечества, готовить и объяснять новую эпоху.
В этой главе, к сожалению, можно вместить лишь несколько сокращенный пересказ лихачевских открытий…
Стили — романтизм, реализм возникают сами, и лишь потом ученые формулируют их, определяют их законы. И когда законы нового стиля определены и объяснены — стиль умирает. В его недрах уже зародился новый стиль, но его рождение каждый раз требует особых усилий, особой талантливости и даже гениальности.
«Этим объясняется, — пишет Лихачев, — почему наиболее выдающиеся творцы обычно возникают на стыке стилей. Шекспир принадлежит барокко и классицизму, Пушкин — романтизму и реализму, Гоголь — романтизму и натурализму. Последним двум течениям принадлежит и Достоевский. Растрелли строил в стиле барокко с элементами рококо… Новый стиль создается на „свободном“ материале хаоса… Вглядываясь в череду сменяющих друг друга стилей, мы замечаем одну характерную особенность: простой стиль, постепенно усложняясь, становится декоративно-сложным, а затем, внезапно обрываясь, без всякой постепенности и без переходов сменяется снова простым стилем, но не похожим на предшествующий».
Соотношение творения и творца оказывается отнюдь не однозначным, в разные эпохи «вес» того и другого меняется. В древнерусских летописях автор не ценится (хотя мастерство его несомненно) — события происходят как бы сами собой, что придает им достоверности.
В дальнейшем развитии литературного процесса Лихачев отмечает две противоречивые тенденции: рост личностного начала, индивидуальных моментов, чувство собственности (особенно с XVI века) — и все увеличивающийся разрыв автора и его творения — и это делается специально. В литературе Нового времени — с XVII века — автор стремится создать как бы самостоятельно существующее произведение, как будто чужое, не его. Эта тенденция развивается в XVIII веке. Это — век театра (то есть действий, диктуемых персонажами, а не автором). Это — век пародий, автор которых как бы «пасует» перед великим первоисточником и лишь отмечает в нем некоторые недостатки, достойные насмешки. Это век авантюрных повестей, словно бы найденных в «старинном сундучке» и не имеющих ни малейшего отношения к автору, лишь опубликовавшему рукопись. Большинство напечатанных книг этого века — якобы найденные записки, не роман — а просто связка случайно обнаруженных писем. Все это, несомненно, делалось для большей убедительности: автор ничего не выдумывал, а лишь представил чью-то жизнь так, как она протекала на самом деле.
Хитрость эта долго бытовала в литературе, порой становясь весьма изощренной. Замечательный русский писатель Лесков не только выдавал свои рассказы за чужие, будто бы услышанные или найденные «в тумбочке» — он давал к ним свои комментарии, нарочито нелепые, неверные, еще раз убеждая читателя, что события — подлинные, а их публикатор — лицо случайное, не имеющее никакого отношения к их созданию: вон какую чушь несет, ничего даже не понял в происходящем… о каком авторстве может идти речь?
Лихачев замечательно подметил и описал всю сложность отношений между автором и его творением — что полезно не только авторам всех эпох, но и ученым, и взыскательному читателю.
В своих трудах Лихачев разобрал и весьма важную проблему взаимодействия соседних культур. Агрессивно ли их общение — или плодотворно? Мы знаем и те, и другие случаи. Лихачев словно уже предвидел проблемы, которые возникнут на границах культур. Лихачев определяет два типа границ между культурами. «Если граница сохраняется как зона общения, — пишет он, — она обычно и зона творчества. Зона формирования культур»[3].
Такие границы некоторые из нас еще помнят. Потери их переживались трагически. Помню, я написал статью «Русскому языку шел акцент». Как приятно было вдруг шутливо — и ни для кого не обидно — перейти на акцент соседнего дружеского народа: «Эт-то ошень тороко!» или — «Паслюшай, дарагой!» Кроме любви к соседу, чувства уюта ничего другого здесь не было. Настали времена, когда любая шутка опасна. Русский язык, ставший вдруг в некоторых странах «языком агрессора», страдает и гибнет.
Лихачев предвидел такую ситуацию и обозначил все четко. Он писал: «Если граница — зона разобщения, она консервирует культуру, омертвляет ее, придает ей жесткие и упрощенные формы»[4].
Главная научная заслуга Лихачева — в возвращении нам семи веков древнерусской литературы. И до него многие блестящие ученые занимались Древней Русью, но картина, созданная им, наиболее полная и убедительная.
В своей книге «Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси» Лихачев страстно убеждает нас (а также своих многочисленных оппонентов): русской литературе без малого тысяча лет! Она старше английской, французской, немецкой! Начало ее относится ко второй половине X века, возникла она с появлением христианства, учреждением церкви, необходимостью проповедничества, требующего письменности и литературы. Одним из питающих ее источников был фольклор, существовавший и раньше. Письменность пришла из Византии, тогдашней столицы христианства, от Кирилла и Мефодия, через южнославянское влияние, в основном через Болгарию (не случайно Лихачев столько внимания уделял болгарским рукописям). Итак — письменность пришла на Русь из Болгарии, от переведенных там византийских рукописей. Культура речи, философский язык возник вместе с первыми церквями, первыми службами, с переводом и освоением Библии.
К тому времени, когда Лихачев начал «открывать» нам великую древнерусскую литературу, уже была знаменита архитектура древнерусских церквей, славилась иконопись — а главным источником познания древнерусской литературы для большинства из нас была опера «Князь Игорь», с ее весьма упрощенным переложением «Слова о полку Игореве». Лихачев «отмыл» для нас великую древнерусскую литературу, как гигантскую запыленную фреску. До него древнерусская литература считалась лишь достоянием пыльных архивов и источником скучных диссертаций. Лихачев показал нам — литература первична, а все другие искусства произошли от нее.
Основа литературы, по Лихачеву, — «героическое». К примеру — знаменитая, одна из древнейших, «Повесть временных лет» 1111 года (Ипатьевский список) говорит о походе Мономаха на Дон, когда слава Мономаха дошла до Рима.
Лихачев показал нам, «ленивым и нелюбопытным», величие жизни, величие человека далеких веков. Его существование, его сознание было значительно выше, чем сейчас. Не случайно даже в могилу его клали головой на запад, чтобы он лицом встречал солнце, участвовал в великих явлениях природы. Лихачев приводит древний «Апокриф о Адаме и Еве», где говорится: «От облака — мысли… от ветра — дыхание».
Однако главное содержание древнерусской литературы — мировая история. Словно с огромной высоты мы видим движение людских масс. Герои древнерусских летописей — конкретные лица, проявившие и прославившие себя в истории: Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский.
Русская история не предстает «затерянным островом», она вписана в мировую, их события взаимосвязаны. Несомненно — первоисточником знаний о мировой истории служили переводы с греческого, а также и другие источники, отраженные и многократно переработанные в летописях.
«Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба» предваряется и определяется ходом всей мировой истории.
«Повесть о Горе-Злосчастии», о пьянице и игроке, дошедшем до последних ступеней падения, начинается с Адама и Евы.
В летописях отражены главные события тех веков: битвы с половцами, смена князей, отнюдь не всегда бескровная, завоевание Константинополя турками, присоединение княжеств к Москве.
Лихачев отмечает в летописных сводах мифологизированность, повторяемость, присущую жанру мифа. Александр Невский выходит с малой дружиной против бесчисленного войска захватчиков — и врагов побивает ангел, спустившийся с небес.
Точно также, в другой летописи, побеждает князь Довмонт. То есть, отмечает Лихачев, в древнерусской литературе, особенно героической, наблюдается стремление вовсе не к созданию живого портрета, а скорее — к канонизированию, к созданию образа великого воина, с Божьей помощью побивающего врагов.
Наиболее полно и ярко, как отмечает Лихачев, в летописях отражены две самые главные для Руси исторические эпохи — время Владимира Красное Солнышко, время принятия христианства (X век) и сражения с половцами. И вторая эпоха — XVI–XVII века, драматическая история независимости Новгорода.
Лихачев отмечает чрезвычайно пышное «кружево слов» на этих старинных, но сохранившихся листах, многозначительность, некоторую зашифрованность, таинственность. Безымянные авторы то и дело приводят образчики мировой мудрости, побуждают восхищаться ею. Величие содержания подчеркивается и великолепием издания, роскошью оформления не только обложек, но и страниц.
Однако в те далекие века возникают и другие — не государственные, а скорее народные жанры — «Повесть о Дракуле» и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Интересно повторяющееся в разных летописях сказание «Герасим и лев» — о святом Герасиме, к которому шли дикие животные, а лев даже лег на его могилу и охранял ее. Возвышенная и в то же время трогательная история, чрезвычайно в те времена популярная, судя по повторяемости ее в разных летописных сводах.
Наряду с торжественностью, государственностью древнерусских книг, Лихачев отмечает и проникновение в них жанров глумления, скоморошества — живая душа народа пробивается через каноны. Прежде всего тут выделяется «Моление Даниила Заточника», о проходимце, который глумится над святостью и благополучием, своими неприличными шутками преступает все запреты. Возникает тема нестандартной личности, индивидуальности, выбивающейся из канонов. Сюда же можно отнести и «Повесть о Горе-Злосчастии», герой которой проиграл в кости все, что мог, пал чрезвычайно низко и даже не раскаивается.
Самое удивительное, что и столь «низкие» жанры отнюдь не преследовались, и неоднократно переписывались, наряду с каноническими, и столь же тщательно издавались. Это говорит о необычной свободе древнерусской литературы — видно, и в «свободных жанрах» видели смысл. Даже Иван Грозный в своих сочинениях любил надевать на себя маску «юродивого», великого грешника.
Одно из главных творений древнерусской литературы, подробно изученное, прокомментированное и в 1950 году изданное Лихачевым — «Повесть временных лет», о начале русской земли и народа, о становлении Русского государства, о его победах и поражениях.
История в «Повести временных лет» изложена со времен Всемирного потопа, от Ноя и его детей — Сима, Хама и Иафета, от которых произошли все люди, западные, восточные, южные племена. Из повести следует, что славяне (словене) жили по Дунаю. Расселение — и разделение их на отдельные ветви шло под напором волохов (академик А. А. Шахматов считает, что так летописец называет западных франков). Ляхи расселились вдоль Вислы, поляне — по Днепру, дреговичи — на Двине, древляне — в лесах около Ильменя, где и возник потом Новгород. Основателями Киева названы поляне Кий и Хорив.
Однако общее понятие «славяне» сохраняется. В «Повести» говорится, что славянам платили дань другие народы: чудь, неря, весь, мурома, черемисы, мордва, печора, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, либь. Говорится о столкновениях южных славян (полян) с половцами, о вражде с хазарами: хазары сначала угнетали славян, потом славяне победили хазар и обложили их данью.
Много и подробно говорится о княжеских раздорах — как, например, Ярослав победил Святополка и Болеслава, о ссоре Владимира и Рогнеды, когда малолетний сын Изяслав вступился за мать с мечом в руках.
Но главное, определяющее содержание «Повести» — походы русских князей в центр Европы, на богатейший и могущественный Константинополь. Знакомый нам по школе (благодаря Пушкину) «вещий Олег» предстает тут перед нами во всей красе: он поставил свои корабли на колеса и на парусах подошел к Константинополю с суши, где не было укреплений — и великий город пал перед ним. Миф о гибели его от коня — тоже из этой летописи.
«Повесть временных лет» — галерея портретов русских князей. Здесь — и знаменитые пиры князя Владимира, где «множество от мяс, скота и зверины». Тут и отважный Святослав, прославившийся на все времена восклицанием: «Иду на вы!» Этот же Святослав, захватив город, не обратив внимания на дары побежденных, богатства и яства, взял в руки лишь захваченное оружие, чем поверг горожан в ужас. В «Повести» указаны точные даты самых важных событий, княжеских правлений и их походов. «Повесть», безусловно, важнейший источник для изучения древней истории и литературы, «поле боя» множества талантливых ученых, своими разными, порой противоречивыми толкованиями «Повести» сделавших себе большое научное имя.
В «Повести» указаны важнейшие даты:
898 год назван годом обретения славянской письменности, созданной Кириллом и Мефодием.
907-й — год похода князя Олега и договор с греками.
911-й — год появления кометы, вызвавшей самые различные толкования, появление нового текста договора Олега с греками и смерть Олега от коня.
Достоверность изложения тех событий уже не раз обсуждалась самыми именитыми историками и филологами. Академик Обнорский исследовал текст приведенного в «Повести» договора Олега с греками в 907 году и счел перевод его неискусным, во многом противоречивым и непонятным.
Академик Алексей Александрович Шахматов, предшественник Лихачева в изучении древнерусской литературы, считал, что договора 907 года вообще не существовало и он скомпилирован задним числом на основе договора 911 года по какой-то политической необходимости.
Распутывать невероятные хитросплетения «Повести временных лет», объяснять причины различных нестыковок — давнее занятие филологов и историков. И Лихачев внес в эту работу значительный, если не главный, вклад.
В «Повести временных лет» называются даты призвания варягов — 859 и 862 годы. Само слово «Русь» автор считает варяжским — так называлось одно из варяжских племен. Почему же среди скандинавских племен во время создания «Повести» не оказалось такого племени? Да потому, утверждает автор «Повести», что все это скандинавское племя переселилось к нам и в Скандинавии из этого племени никого не осталось. Воля автора проявляется все настойчивей: для подтверждения своей теории он даже вставляет «Русь» в более древние хроники и перечисления варяжских племен, где раньше такого слова не было. Чем же объясняется такая настойчивость автора? Политическим заказом?
«Вот именно!» — утверждает Лихачев и убедительно доказывает это в своем исследовании «Повести временных лет», объясняя все странности, нестыковки и натяжки, обнаруженные им в тексте, «государственным заказом», вызванным политической необходимостью тех лет.
По Лихачеву, задача «Повести временных лет» такова. Византия, принесшая на Русь христианство, со временем стала тяготиться излишним диктатом удалых русских князей, и им приходилось проводить свою политику весьма хитро — не теряя «религиозного покровителя», но и отстаивая самостоятельность. Когда Византия в очередной раз прислала в Киев своего митрополита, князь Ярослав в противовес ему канонизировал, ввел в ранг святых Ольгу, а также братьев Бориса и Глеба. Братья приняли мученическую смерть от руки своего старшего брата Святополка — и культ Бориса и Глеба стал усиленно насаждаться на Руси, вытесняя византийское влияние.
И в конце концов — на трон духовной власти взошел Иларион, первый русский митрополит в Киеве. Однако почувствовав силу, он не только перестал подчиняться Византии по линии духовной, но стал править и политикой, и вот уже церковь стала распоряжаться княжескими делами. Игумен Киево-Печерского монастыря Феодосий проклял Святослава и стал возносить молебны за Изяслава, его старшего брата. Когда, наконец, наступило примирение князя с монастырем, оно оказалось весьма полезным для обеих сторон. На радостях Святослав дарит землю на берегу Днепра для Успенского собора Киево-Печерского монастыря, и монастырь, расширив свои владения и влияние, становится самым влиятельным центром православия на Руси.
Чрезвычайно важен образ автора «Повести временных лет». Очевидно, что она создавалась не одно десятилетие, в ней собраны и волей автора «подогнаны под заказ» значительно более древние летописи. Рука автора, его воля явно прослеживается в «Повести». Так кто же он? Изучая этот вопрос, Лихачев вступает в спор из одним из главных авторитетов древнерусской истории, академиком М. Д. Приселковым. Академик Приселков, один из мировых авторитетов по древнерусской литературе, называет возможными авторами (составителями) «Повести временных лет» двух великих летописцев — Илариона (автора замечательного «Слова о Законе и Благодати») и Нестора. Некоторые исследователи даже отождествляют их, считая, что под разными именами скрывается один автор.
Лихачев уверенно называет автором «Повести временных лет» Нестора. Авторство Илариона Лихачев отрицает. Иларион писал намного раньше, во времена противоборства княжеской власти и духовенства. «Повесть временных лет» написана уже абсолютно «в государственном русле», с прославлением великой и могучей княжеской власти. Поэтому автором «повести» может быть только один великий летописец — Нестор, писавший уже во времена полного согласия духовных и светских властей. Присутствие четкого «государственного заказа», «княжьей воли» Лихачев доказывает тонкими, а для некоторых специалистов спорными аргументами. Однако в его изложении, написанном весьма талантливо, его аргументы кажутся убедительнее. Лихачев потому и оказывался не раз победителем в филологических спорах, что писал ярче, эмоциональнее других, его мозг быстрее находил нужные аргументы и цитаты. И он замечательно показал на примере Нестора, как сила и талант могут влиять на историю, создавать мифы, нужные в данный момент, и притом — убедительные.
Влияние Византии, столь благотворное прежде, с развитием сильной княжеской власти кажется уже гнетом.
И Нестор блистательно выводит происхождение России и ее правящих князей от варягов. А Византия вроде и не имеет к нам прямого отношения! Блистательный политический ход. С происхождением князей от варягов, от Рюрика сразу решается и другой щекотливый вопрос: где корни? В далекой Скандинавии! Иначе — пришлось бы исследовать корни князей в местной почве, и наверняка у большинства из них выявилось бы происхождение самое простое, а так — далекий Рюрик их пращур! Таинственно и значительно. Таким образом гениальный Нестор решил так легко сразу два острейших вопроса: подарил князьям безупречное, хотя и несколько таинственное происхождение — и подвинул Русь от «руководящей» Византии к Скандинавии.
В «Повести временных лет» сообщается о Труворе, варяжском предке русских князей в Изборске, о варяге Рюрике, правившем в Новгороде в давние времена, о правлении в белозерских вотчинах варяга Синеуса. Нестор объявляет этих варягов родоначальниками всех русских князей.
Лихачев в своей книге четко показывает нестыковки этого мифа и объясняет необходимость его возникновения в ту пору. Нестор уверенно — но без достаточных оснований — называет всех этих трех варягов родными братьями (для того, чтобы провести столь нужную идею «братства» всех русских князей).
Лихачев защищал кандидатскую диссертацию на тему «Новгородские летописные своды XII века» и поэтому вполне веско заявляет, что новгородские летописные своды имеют антиваряжскую направленность (для новгородцев эти соседи были весьма некстати) и ни о каком варяжском княжении в «сводах» не говорится.
Лихачев подвергает сомнению весьма популярную (и по сей день!) идею варяжского происхождения русского дворянства, считая ее лишь гениальной выдумкой автора. С этой красивой легендой многие не хотят расстаться и сейчас. А может — они и правы? В филологии — как и в литературе — порой все решает талант пишущего. Главная научная победа Лихачева, конечно, не над Нестором — тот сделал свое дело блестяще, направил историю «в нужное русло», его уже никак «не переспоришь». Тут важнее победа Лихачева над прежними неоспоримыми авторитетами филологии, создание своей теории и своего имени. Увы, это не проходит безболезненно. Новое имя, новая теория часто воздвигаются на чьих-то «костях». Только со стороны филология кажется тихой, пыльной наукой — на самом деле там кипят страсти, и бескровным это дело назвать нельзя: победа одного означает поражение другого, порой — с риском потери авторитета и даже доброго имени. Такую «филологическую трагедию» Лихачеву предстоит в скором времени испытать и самому. Но не с «Повестью временных лет» — тут особо «кровопролитных» филологических боев не случилось (хотя большинство ученых придерживаются «варяжской версии»).
Главная задача Нестора состояла в апологетике православия, в демонстрации ее спасительной силы. Нестор, в числе прочих источников, использует «Корсунскую легенду» — о князе Владимире, давшем Руси православие. «Корсунская легенда» на первый взгляд ужасна, в ней говорится о том, как Владимир обесчестил дочь корсунского князя на глазах у родителей, потом убил и родителей, потом был врагами ослеплен, но после крещения — прозрел, не только буквально, но и духовно. Нестор считает, видимо, что «Корсунская легенда» отнюдь не хула, а хвала: именно только так, показывая ужас и тьму дохристианской жизни, можно доказать необходимость и живительную силу православия. Основная идея Нестора величественна, и главное, необходима молодому государству: последний из призванных к христианству, русский народ должен стать первым в историческом процессе!
Лихачев, споря с Нестором, указывая реальные причины его «исторических фантазий», тем не менее восхищается его талантом и «государственным умом», приводит нам примеры замечательной художественности, порой взятых из фольклора или других летописей.
Замечательно живописно, хоть и жестоко изображено сожжение Ольгой города Коростеня с помощью горящих птиц.
В духе лукавых народных баек — история о белгородцах, которые наполнили свои колодцы киселем и убедили осаждавших их город печенегов, что сама земля их кормит, поэтому осада бесполезна — и печенеги ушли.
Если бы не труды Лихачева — гениальные творения древнерусской литературы не были бы доступны широкому читателю, а остались бы лишь «полем битвы» узкого круга специалистов.
Читая Лихачева, мы познаем те времена. Время нашей жизни, нашего сознания продлевается на семь веков — в древность. Без Лихачева бы мы туда не пришли.
Гроб с нетленными мощами Нестора хранится в пещерах Киево-Печерской (от слова «пещеры») лавры, где можно увидеть в полутьме тесной галереи то руку, то лик великих старцев, чудесным образом сохранившихся.
Другое великое творение древности, которое приблизил к нам Лихачев, — сочинение князя Владимира Мономаха, известное под названием «Поучение».
Если в «Повести временных лет» потрясают масштабные исторические картины, то здесь мы встречаем ощутимый портрет конкретного человека того времени с абсолютно индивидуальными, неожиданными и даже поразительными свойствами. «Поучение» создано в конце XI — в начале XII века, и изумляет психологическая точность, доступная русской литературе уже тогда.
Рукопись эта дошла до нас случайно в составе так называемой Лаврентьевской летописи в единственном списке. Рукопись эта могла сгореть вместе со списком «Слова о полку Игореве» в московском пожаре 1812 года в собрании рукописей графа Мусина-Пушкина, знаменитого собирателя древностей. Если бы эта рукопись сгорела, как «Слово о полку Игореве», то и ее существование и древнее происхождение оспаривалось бы, как и в случае со «Словом» — настолько многие детали изложения изумляют, кажутся современными и невероятными для тех далеких веков. И хотя рукопись существует — бытует много легенд о ее «не подлинности», о ее создании в XVIII веке с целью поддержки власти царей, которым как бы передает поучения сам Владимир Мономах! Ведь именно знаменитая шапка Мономаха, хранящаяся в сокровищнице Кремля, со времен Мономаха и до сих пор — символ власти.
Сам жанр рукописи скептики считают абсолютно нетипичным для XI–XII веков. Однако Лаврентьевская летопись — и это уже научно доказано — один из самых древних и, безусловно, подлинных списков, дошедших до нас. И в нем содержится само «Поучение», а также жизнеописание Мономаха и его письмо князю Олегу Святославичу (Гориславичу, как его называли за горе братоубийственных войн).
Письмо это в изложении Лихачева, сохранившего максимально возможное приближение к оригиналу, производит сильнейшее впечатление: тут потрясает не великая история, а живая жизнь, полная чувств, удивительный — и абсолютно неожиданный образ Мономаха. Предыстория такова.
В 1096 году под стенами Мурома в битве с войсками Олега был убит сын Мономаха Изяслав. Старший сын Мономаха Мстислав послал Олегу письмо с требованием отступить от Суздаля и Мурома, предлагая за это помирить Олега и Мономаха.
Владимир Мономах был женат на дочери последнего англосаксонского короля Гаральда — Гите. Гаральд погиб в битве с норманнами при Гастингсе в 1066 году. Таким образом, Мстислав был королевской англосаксонской крови и в честь деда даже имел второе имя — Гаральд. (Академик М. П. Алексеев, работающий одновременно с Лихачевым в Пушкинском Доме — о их отношениях в книге уже упоминалось, — написал капитальный труд «Англо-саксонская параллель к Поучению Владимира Мономаха».)
Ответив отказом на предложение Мстислава, свирепый и коварный Олег был разбит Мстиславом и бежал за пределы Руси. Мстислав пытался его удержать и обратился к Мономаху с просьбой — написать Олегу и помириться с ним (убитый Изяслав был крестным сыном Олега. Таков был ужас междоусобной вражды!). И Мономах в своем письме прощает и даже утешает Олега: «Жизнь в руках Божьих — виноватых нет!» Пишет фразу, смысл которой прост, но неожидан в его устах: «Что удивительного в том, что муж убит на войне?»[5] — и просит отпустить сноху, молодую вдову Изяслава.
Пожалуй, это первое в истории столь откровенное проявление душевных мук и христианского прощения.
Конечно, тут был и политический расчет — Мономах начал проповедовать мысль о том, что феодальное дробление не означает вражды. При нем был введен обряд крестоцелования — что означало клятву в отказе от вражды.
Мономах поддержал и создание «Повести временных лет», и религиозный культ Бориса и Глеба, и идею варяжского происхождения князей — всё, что вело к единению Руси и победе над половцами.
Второе сочинение Владимира Мономаха — «Поучение» — возникло так. К нему пришли послы его братьев с предложением выступить против Ростиславичей и выгнать их. Владимир для начала открыл Псалтырь и нашел в нем утешение, обратив его к своим братьям, а потом к детям и всем, кто его услышит. В «Поучении» Мономах учит и военному искусству, и управлению землей, и призывает братьев отложить их обиды, не предавать крестного целования, довольствоваться своим уделом, не доверять наемным тиунам и воеводам, напоминает христианские заповеди: «Малое — лучше богатства», «не уклоняться учить увлекающихся властью», а также — «птицы находят свое место». Обращается он и к торговцам с призывом: «Напойте и накормите!»[6]
Знаменательно и происхождение его жизнеописания. После семилетнего сражения Владимир Мономах не захотел продолжения кровопролития и отдал Олегу Чернигов, его вотчину, а сам переехал в Переяславль. «И выйдохом на святого Бориса день из Чернигова», как говорится в его жизнеописании. Общий тон его — задушевный, много цитат, примиряющих высказываний Отцов Церкви, князя Василия Великого, есть и псалмы царя Давида.
Сочинения князя Владимира Мономаха, по мысли Лихачева, — первые проявления русской христианской души, этики, мудрости, особенно важные потому, что исходят из уст правящего князя и, значит, определяют устои жизни той поры. Благодаря Лихачеву мы узнаем, что древнерусская литература — это вовсе не собрание пыльных рукописей, интересных лишь дряхлым монахам да профессорам, это — увлекательное чтение, в котором содержатся, кстати, все те моменты, которые привлекают читателя и сейчас.
Одна из лучших книг Лихачева — «Поэтика древнерусской литературы», изданная в 1967 году и в 1969 году удостоенная Государственной премии, вызвала большой интерес не только «древников», но и всего общества. Лихачев наглядно показал, что древние сочинения — гениальны, не уступают современным, а превосходят их. Олег Басилашвили, не только замечательный актер и общественный деятель, но и страстный читатель, в своих воспоминаниях рассказывает, что «Поэтика» Лихачева сразу стала дефицитной в книжных магазинах, за ней охотились, книголюбы ее выменивали, причем за одну «Поэтику» давали три «Королевы Марго»! Случай небывалый. Успех книги был определен и безусловной политической смелостью автора. Хрущев как раз объявил тогда «антирелигиозную семилетку». Религия должна была исчезнуть отовсюду. И вдруг — эта книга о древнерусских летописях, в основе своей — религиозных. Такое мог позволить себе только Лихачев! Растет не только его научный — политический вес! Он становится фигурой, к которой прикованы взгляды общества. В своей «Поэтике» он показывает замечательную духовность, художественность древнерусских сочинений — и люди невольно сравнивают это богатство с убожеством и нелепостью хрущевских речей. Лихачев вроде бы тогда не занимался вплотную политикой — но стал одной из самых заметных политических фигур.
Еще одним замечательным «древним бестселлером», открытым для нас Лихачевым, была «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Оказывается, все читательские соблазны, безотказно действующие и сейчас, были освоены еще в древнерусской литературе. «Соблазненная и покинутая», после испытаний нашедшая свое счастье, козни злых сил, благородное самопожертвование, чудесное спасение, затем смерть влюбленных в один день — все это, столь заманчивое для читателя, в «Повести о Петре и Февронии Муромских» уже есть.
Повесть содержит два весьма причудливых, увлекательных сюжета: о змее-соблазнителе и о мудрой деве.
Первый сюжет тесно переплетен со вторым. Начинается повесть с того, что к жене благоверного князя Павла летает змей — насильник, принимающий образ самого Павла. Жена его мистическим образом узнает способ убить змея — «от Петрова плеча, от Агрикова меча».
Князь Петр, брат Павла, понимает, что речь идет о нем, и мужественно берет на себя это опасное дело. Остается найти Агриков меч. И Петр находит его во время своей поездки для уединенной молитвы — в загородном храме, в алтаре между «керамидами», то есть керамическими плитками, закрывающими погребение.
Встретив змея в образе Павла и убедившись, что это змей, Петр убивает его. Кровь змея попадает на его кожу, и кожа покрывается струпьями, князь превращается в подобие мумии. Болезнь эта неизлечима.
И тут появляется простая дева Феврония, олицетворение народной мудрости, таланта, мистической силы.
Используя все свои чудесные знания, Феврония изготавливает снадобье и начинает лечить Петра. Поначалу Петр не хочет жениться на простой, кроткой девушке, но постепенно, познавая ее чистую душу, ту благодать, что исходит от нее, влюбляется и женится. Чванливые жены бояр не принимают «простушку» — и тогда Петр и Феврония уединяются, живут простой жизнью, полной счастья и даже чудес. Жерди в их ограде расцветают, а они сами легко разгадывают мысли встречных.
Любовь их трогательна и помогает выжить, а в конце концов — и в этом главная идея сочинения — по-своему одолевает и смерть.
Почувствовав смерть, они сделали общий гроб. Приняли монашество, но оказались в разных монастырях. Когда Петр стал умирать, послал людей — призвать Февронию: «Умри вместе со мной!»
Феврония в это время праведно несла монашескую службу, вышивала для Храма Богородицы «воздух» (покрывало) для святой чаши, и передала Петру, что сначала должна закончить работу. Петр позвал ее второй раз — и снова она не смогла оставить работу. Такой «троекратный заход», когда главное случается лишь с третьего раза, весьма распространен как в древней литературе, так и в теперешней. В третий раз Петр передал ей: «Уже хочу умереть и не жду тебя»[7].
Феврония дошила покрывало, потом — это описано очень подробно — воткнула иголку, обмотала ниткой и послала сказать Петру, что готова умереть вместе с ним.
Лихачев в своем исследовании подчеркивает значительность этого «действа» с иголкой и ниткой. Это и символ земных трудов, которые нужно завершить перед кончиной, и потрясающей точности реалистическая деталь. В этом повествовании такая деталь выглядит находкой, прорывом в будущую литературу — поскольку столь реалистические, бытовые детали прежде в летописях не встречались.
Феврония пришла к Петру, и они умерли вместе. Но их положили, как водится, в разные гробы. Однако наутро они оказались в одном гробу. Так их и похоронили. Смерть взяла свое — но любовь восторжествовала над смертью. Таков великий смысл этого замечательного сочинения. В XV веке в Муроме появился культ Петра и Февронии. На иконах Феврония обычно изображалась ткущей полотно, а перед ней скакал заяц, олицетворяющий ее связь с всемогущими силами природы.
В подлиннике, на древнеславянском, немногие в наши дни смогли бы постичь это сочинение — Лихачев, замечательно пересказывая, дарит нам еще один шедевр.
Огромную популярность этого сочинения во все века Лихачев тонко и точно объясняет удивительной интонацией сочинения, простотой и беззлобием персонажей, а значит, и автора, а также простодушным, лишенным какого-либо экстаза подходом к чудесам, которые вплетаются как приметы обычной жизни, выглядят доступными, «домашними».
Многие литературные шедевры, возникшие в разных странах и в разное время, порой таинственно связаны между собой. Лихачев отмечает некоторое «созвучие» «Петра и Февронии» с «Тристаном и Изольдой». Там Тристан превращается в цветущий терновник и спускается к гробу любимой своими корнями.
Лихачев поведал нам, что в древнерусской литературе были не только замечательные тексты, но и гениальные, навсегда отпечатавшиеся в истории писатели. Одним из них, несомненно, был протопоп Аввакум, величайший писатель XVII века (хотя он сам себя писателем не считал — лишь жил, мучился и записывал). Конечно, «Житие протопопа Аввакума» было знаменитым и в прошлые века — но нашему веку подарил его Лихачев. Он изучает текст, анализирует и делится мыслями и открытиями. Аввакум, идеолог старообрядчества, «твердокаменный» блюститель старины, старых канонов, оказывается при этом самым смелым и свободным писателем XVII века, проникшим во все будущие века. Когда его враг, Никон, пытаясь объединить русское, белорусское и украинское православие, предложил церковную реформу «на греческий манер», где, в частности, предлагалось сократить время богослужения, Аввакум яростно восстал против этого. А поскольку «тишайший» (он же хитрейший) царь Алексей Михайлович, уверяя Аввакума в своей преданности и поддержке, встал, тем не менее, на сторону «реформатора» Никона — Аввакум и его товарищи оказались в суровой ссылке. В конце он оказался в Пустозерске, на Севере, на Белом море, где последние 15 лет своей жизни провел в яме, откуда он лишь изредка выбирался. И проявил при этом удивительную силу духа, страдая, но не унывая, ибо уныние — есть худший грех. В Пустозерске в «земляном гробу» он написал свыше шестидесяти челобитных, множество толкований, поучений, посланий, бесед, и главное — великую книгу — «Житие протопопа Аввакума», слава которой простирается по сей день и которая, без сомнения, входит в «короткий список» лучших книг, созданных человеком.
Старовер Аввакум проповедует небывалую по тем временам свободу — разрешает крестить детей мирянам (поскольку священники на Севере — редкость), разрешает умирающим причащать самих себя… Речь автора свободна, красочна, народна. «Невозможно Богу солгати!»; «Несть на мне ни нитки, токмо крест с гайтаном, да в руках чётки, тем от бесов и боронюся!» Тон его весел и ласков. Он любит уменьшительные названия и обращения — «миленький», «мучка», «хлебец».
Дух его весел — свою речь он называет «вяканьем», свое писание — «ковыряньем».
Он — что ново для тех времен — дает удивительно точные бытовые картины: «…плачучи, кинулся ко мне в карбас».
Ему и его верному спутнику Досифею отрезали языки, но они выучились говорить обрубками, при этом еще дразнились и потешались. При такой жизни Аввакум даже хвастался — и вроде был и вправду доволен: «Я веть богат: рыбы и молока много у мня!»
Ирония спасает его: «Давеча был блядин сын, а топерева батюшко!» Но главное, что вызывает наше сочувствие и любовь — необыкновенно нежная, добрая душа автора: «Будьте мудры, как голуби, потому что прячут головы, когда их бьют, просты, как голуби — потеряв гнездо, вьет новое. Попович я, голубятник был!»
Но самым, пожалуй, поучительным — и наиболее часто цитируемым местом «Жития» является эпизод, когда их гонят из одной ссылки в другую, и они с попадьей по очереди падают, обессиленные, и жена спрашивает Аввакума:
«— Долго ли муки сея, протопоп, будет?
— До самыя смерти, Марковна, до самыя смерти.
— Добро, Петрович, ино еще побредем»[8].
Аввакум был апологетом старой веры, терпел за нее муки и за нее погиб. И притом его образ отпечатался в «Житии» как чрезвычайно обаятельный, веселый, вольный. Аввакум утверждал, что сам человек создает нравственные нормы в своей душе. Аввакум бесстрашно высмеивал слабость царя, церкви, патриарха и епископов, их бездушие и лукавство.
Аввакум предлагает стоическую, но отнюдь не закостенелую мораль: нужно радоваться жизни, и как особый дар Бога принимать посланные им страдания. Долг каждого — мучиться до смерти, пока существуют на земле грех и неустойчивость в вере. Мученичество — единственное, что избавит человека от страданий совести.
И усвоив это, утверждает Аввакум, можно жить в мире с собой и даже в счастье. Вот пример настоящей высоты духа! «Житие протопопа Аввакума» написано вольно, размашисто, содержит разговоры весьма смелые и даже обращения к царю абсолютно «на равных»: «Ведь ты, Михалыч, русак!» Кроме того, что Аввакум прописал на все века свою неповторимую личность, в «Житии» есть и точные портреты других людей — его жены Марковны, воеводы Пашкова, его сына, казаков — в общем, той жизни… Аввакум — великий писатель, продвинувший русскую литературу намного вперед, давший ей живость, гибкость, индивидуальность, удаль и силу духа.
Лихачев показал нам и другого замечательного писателя, жившего еще в XVI веке, — Ивана Грозного. О его таланте, как утверждает (и доказывает) Лихачев, говорит многое. И прежде всего — виртуозное владение речью, используемая с жестокой точностью смена «масок» и интонаций. В его письменном наследии сочетаются горькая искренность и шутовство, чувство превосходства — и притворное самоуничижение, которое часто предшествует внезапному и коварному нападению, «вынесению приговора».
Столь мастерское владение словом, объясняет нам Лихачев, требовало, кроме врожденного таланта, еще и серьезного образования. Среди воспитателей «царя-писателя» — лучшие, самые известные литераторы того времени — поп Сильвестр, автор знаменитого «Домостроя», главной книги той поры, утверждающей семейные и государственные устои, а также — митрополит Макарий, составитель книги «Великие Четьи-Минеи», сборника самых важных религиозных текстов, необходимого тогда в каждом доме. По указаниям Макария для юного еще Ивана была расписана сюжетами, необходимыми для образования и воспитания, Золотая палата Кремля.
Честолюбивый Иван поставил перед собой задачу — «в мудрости никем побежден бысть!». Еще в молодые годы он вел прямые, без боярской поддержки, переговоры с послами на их языке. В 1572 году распространял глумливые письма против короля Сигизмунда на немецком языке. Возможно, он писал не сам, а диктовал свои послания писцам, но выбор слов, владение стилем, безусловно, идут от него.
Наиболее известное письменное наследие Ивана Грозного — его письма изменнику князю Курбскому, сбежавшему в Литву в 1564 году.
Первое письмо — пышно, торжественно, скорбно. Автор как бы еще надеется на раскаяние и возвращение беглого князя. Второе написано уже после взятия города Вольмера, где скрывался Курбский. Его тон уже издевательски-глумливый: «Хотел отдохнуть в Вольмере, да и тут Бог нас принес».
«Шедевром» царского шутовства и глумливости можно назвать переписку Грозного с князем Васюткой Грязным, своим бывшим любимцем. Лихачев «препарирует» этот «почтовый роман» очень подробно, демонстрируя виртуозные языковые возможности авторов. Васютка, надо отметить, человек тоже не из последних. Он из ближайшего царского окружения. И считает поэтому возможным разговаривать с царем почти на равных, не стесняться красочных, колоритных выражений, что делает их переписку особенно интересной.
В 1573 году Васютка Грязной, любимец царя, командовал заслоном против крымцев, и когда они окружили его и навалились, легко им не дался: до смерти «перекусал над собою» шесть человек и пятьдесят ранил. Об этом он не без гордости сообщает в письме царю из татарского плена, надеясь в награду за такой героизм на скорую выручку: или выкуп за те деньги, какие попросят захватившие его в плен, или — в обмен на знатного татарского пленника Дивея Мурзу. Грязной сообщает, что в плену признался, что он у Грозного человек «беременный», то есть на языке того времени — приближенный, любимец. Васютка, видимо, был большой хитрец — рассчитывал, что, узнав об этом, татары сразу же, потирая руки, займутся обменом. А то, не дай бог, в шутку отрубят голову, не зная его настоящей цены.
Но главное «зверство» проявили «свои». От Ивана Грозного пришло изуверское, глумливое письмо. Он не хотел отдавать врагу ни денег, ни пленных. Гораздо легче было ему пожертвовать Васюткой, тем более он и так уже в плену.
«Будет ли прибыток крестьянству от такого обмена? — издевательски спрашивает он. — …Васютка, вернувшись домой, будет лежать по своему увечью, а Дивей Мурза станет воевать!»[9]
Это слегка напоминает жестокое, сталинское: «Я маршалов на солдат не меняю!» (когда ему предложили вернуть старшего сына, находящегося в немецком плену, в обмен на маршала Паулюса). Не случайно Сталин обожал Ивана Грозного и даже «вдохновил» режиссера Сергея Эйзенштейна на фильм-шедевр.
Обидевшись на царя, Васютка Грязной пишет Грозному, напоминая: «…не у браги увечья добыл, не с печи убился». Но царь словно любуется своей жестокостью, продолжая изощренные издевательства, как бы изумляясь высокой цене выкупа: «…а доселева такие по пятьдесят рублей бывали!»[10]
Конечно, писатель Иван Грозный весьма жестокий — и Лихачев подчеркивает это, но признает и другое — по владению языком, его оттенками для достижении своей цели, нужного впечатления и даже воздействия писателю Ивану Грозному не было равных.
Он бывает и обаятелен, к читателям обращается: «Милые мои!» — но чаще всего такая «ласка» бывает лишь маневром для подготовки коварного, изощренного издевательства.
Шедевром литературы — и образцом царского лукавства, притворного смирения было его письменное обращение в 1572 году к Церковному собору за разрешением жениться в четвертый раз. Тут использован один из любимых приемов Ивана Грозного — игра в убожество, обращение как бы от имени смиренного монаха Парфения Юродивого. Издевательский тон, который действовал в его письмах страшнее прямых угроз, без труда прослеживается и в этом письме. Грозный, не знающий удержу в своих страстях, «смиренно» называет себя Парфений, что означает — «девственник»!
Разумеется, чрезвычайно важно, что писатель этот был царем — и именно это дало ему смелость писать все, что захочется, разрушать и даже издеваться над принятыми и узаконенными формами письма, например, он часто использует и пародирует форму челобитной, то есть государственной формы прошения. Другие бы сделать это побоялись. И лишь царская должность позволила Грозному стать писателем «кусательного стиля», выражать свои эмоции так, как ему хотелось.
Грозный сочинял не только послания «прямого назначения», преследующие какую-либо конкретную цель, чаще всего — ужасную, он писал и на государственные, и на философские темы, размышлял о жизни и об ужасе смерти.
С искренним страхом — и мужеством написан им «Канон Ангелу Грозному воеводе», то есть архангелу Михаилу, считавшемуся ангелом смерти. «Страшный воин!» — называет он его. И далее: «Да не ужаснуся я твоего зрака!»[11]
Завещание Ивана Грозного написано в лирическом, приподнятом стиле. Больших писателей тогда было не так много, как сейчас. И через сто лет, уже в XVII веке, другой замечательный писатель — протопоп Аввакум опирался в своих сочинениях именно на «батюшку Грозного царя».
В своих трудах Лихачев рассматривает все наиболее известные творения древнерусской литературы, прослеживает изменение этических норм в разных сочинениях. Этика Владимира Мономаха была лирична, человечна. Сочинения Аввакума дышат духом любви и добра. Способом насаждения «правящей этики» во времена Ивана Грозного была казнь. Грозный ради торжества своей «правды» залил кровью страну, а после казней «смиренно» слал в монастыри поминальные записки с именами казненных. В своих писаниях он подавлял риторикой, глушил совесть пышностью слов. Он был многоречив, так как боялся, что в нем заговорит совесть, если он остановится. «Его пышные обличения были продолжением и одной из форм его пышных казней», — пишет Лихачев.
Есть такое поверье — нельзя раскапывать могилы фараонов — это опасно. И как раз с изучением наследия Ивана Грозного начались напасти уже в «мирной», вроде бы уже увенчанной лаврами и заслугами научной жизни Дмитрия Сергеевича.
Как уже упоминалось, в 1952 году, при обсуждении в Пушкинском Доме сборника об Иване Грозном с материалами Д. С. Лихачева, на него «в худших традициях» обрушилась травля с обвинениями в «космополитизме», хотя Дмитрий Сергеевич был относительно спокоен после получения Государственной премии. Досталось и другому участнику этого сборника — Я. С. Лурье. Однако времена понемногу менялись. Авторитет Лихачева устоял, и относительно Лурье также не было принято никаких мер.
Что советская власть «неровно дышит» к Лихачеву, было известно, но он со стойкостью закаленного зэка все это переносил. И продолжал упорно работать. И главным, «знаковым» его деянием были труды, связанные со «Словом о полку Игореве». Еще в 1950 году в серии «Литературные памятники» было издано «Слово» в переводе и с комментариями Д. С. Лихачева. И именно по этому изданию все теперь знакомятся с великим шедевром. Но события, эмоции вокруг «Слова» на этом отнюдь не закончились, а скорее — разгулялись с размахом, невиданным в предыдущие века в «тихой» науке филологии. «Слово», особенно после перевода, издания и комментариев Лихачева стало одним из самых читаемых, горячо обсуждаемых и спорных явлений в истории мировой литературы! Почему это произошло? И какова в этом роль Лихачева? Ведь «Слово» было известно давно, переводилось и издавалось не раз, вызывало острый интерес и споры и прежде, но особого накала все это достигло при Лихачеве.
Отчасти это произошло потому, что и переводом, и комментариями Лихачев доказал гениальность, исключительную художественную ценность «Слова» среди прочих признанных шедевров древнерусской литературы, но именно гениальное всегда вызывает наибольшее приятие — и самое острое неприятие, завистливое желание стащить «зарвавшегося гения» с пьедестала в грязь и растоптать. Таких примеров в истории было немало. Немало досталось и «Слову», и самому Лихачеву: и гонений и славы. Содержание «Слова» вроде бы вполне естественно и понятно, в его тексте нет никаких дерзких отклонений от канонов истории и древнеславянского письма. Начинается с описания выхода князя Игоря Святославича Новгород-Северского с дружиной «в поле» против половцев, чтобы, как поэтично сказано в «Слове»: «Испить шеломом Дона».
Следует описание битвы, пленения Игоря половцами, и наконец, его побег и возвращение, к радости супруги и всех горожан. И происходит чудо — текст «пронзает» душу, вызывает, благодаря замечательной образности, эмоциональности, впечатление сиюминутности, соучастия, сопереживания. Мы сразу «захвачены в плен» этим текстом. Игорь с дружиной только выступил — а «уже беды его подстерегают птицы по дубравам, волки грозу накликают по оврагам, орлы клекотом зверей на кости зовут, лисицы брешут на червленые щиты! О Русская земля! Уже ты за холмом!».
Еще сильнее это написано на древнеславянском языке, звуки и смыслы «скручены» еще крепче и жестче, но языком тем сейчас мало кто владеет, а перевод Лихачева максимально нас приближает к подлиннику.
Вот: «Русичи великое поле червлеными щитами перегородили, ища себе чести, а князю — славы», «…тут копьям преломиться, тут саблям побиться о шеломы половецкие, на реке на Каяле, у Дона Великого». И — картины битвы: «…бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы», «никнет трава от жалости», «тоска разлилась по русской земле!».
«Слово» впечатляет не только высокой художественностью, но и глубоким анализом истории. От Святослава, отца князя Игоря, мы слышим стенания по поводу разобщенности князей, приведших Русь к позору и поражению. «В княжеских крамолах сокращались жизни людские, черна земля под копытами, костями посеяна и кровью полита; горем взошли они на русской земле!.. Своими крамолами начали вы наводить поганых на землю русскую!» Моральный смысл повести — глубокое раскаяние, осуждение самодовольства и буйства князей, приведших Русь к позору и поражению. И сам главный герой «Слова» князь Игорь Святославич Новгород-Северский дважды раскаивается в совершении междоусобных княжеских преступлений, особенно горестно тогда, когда оказывается в плену половцев.
И за осознанием и раскаянием следует спасение. Первую надежду пробуждает горестный и прекрасный «плач Ярославны», супруги Игоря: «Полечу кукушкою по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-реке, утру князю кровавые его раны на могучем его теле». В подлиннике написано — не «кукушкою», а «зегзицею», что впечатляет еще сильнее, хотя буквальный смысл «зегзицы» непосвященным неясен. Но после прочтения «Слова» в переводе обязательно надо прочесть его и в подлиннике, на древнеславянском — и те века проникнут в тебя, и ты почувствуешь, что жизнь твоя наполняется «шумом древности». История станет твоей жизнью: за раскаянием в грехах придет просветление, и к тебе, как к князю Игорю, придет спасение, избавление от мучительного плена. «Игорю князю бог путь указывает из земли половецкой… Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслию поле мерит от Великого Дона до Малого Донца». Замечательно сказано о бегстве Игоря — «Игорь князь поскакал горностаем к тростнику, и белым гоголем на воду, вскочил на борзого коня, и соскочил с него серым волком». И — апофеоз: «Солнце светит на небе, а Игорь князь в Русской земле, девицы поют на Дунае, вьются голоса их через море до Киева… села рады, грады веселы… Князьям слава и дружине! Аминь!»
Однако нам восклицать «Аминь!» еще рано — долгое и довольно мучительное «дело» по поводу «Слова о полку Игореве» началось не вчера и, похоже, кончится еще не завтра. К «Слову» Лихачев обращается во многих своих книгах.
В 1952 году он издает книгу «Возникновение русской литературы», в 1953 году его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР. Во многом это произошло стараниями Варвары Павловны Адриановой-Перетц, которая после этого передала Лихачеву руководство Сектором древнерусской литературы. В 1954 году за «Возникновение русской литературы» он получает премию Президиума Академии наук СССР, в 1955-м — становится членом бюро Отделения литературы и языка АН СССР.
Приобретенными чинами он не пользуется для приобретения благ — новые звания лишь увеличивают на его столе груды папок с чужими рукописями и материалами, требующими срочной проработки.
В 1958 году его в первый раз (после многочисленных вызовов) командируют в Болгарию для работы в рукописных хранилищах (что опять же резко увеличивает число папок). В том же 1958 году он издает книгу — «Человек в литературе Древней Руси».
Внешне его труд выглядел во все годы примерно одинаково — стол, заваленный рукописями, у стен — полки с книгами, некоторые из них распахнуты на столе перед Лихачевым — небольшое пространство для рукописи, письменный прибор. Позже Лихачев выучился печатать на машинке. Машинка была старая, еще с буквой «ять». И методично, день за днем, Лихачев пишет свои труды, которых за всю жизнь создано великое множество, и почти каждый его том — значим, весо́м, имеет большой резонанс.
Вроде бы налаживается и жизнь семьи. Дочки выходят замуж. В 1959 году у Людмилы родилась Вера, первая лихачевская внучка.
В 1961 году имя Лихачева уже популярно не только в научных кругах, но и в обществе: его избирают депутатом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
И в этот же год он пишет книгу, которую коллеги-ученые ставят выше всех его книг. Наверное, эта удача не случайна. Писалась книга в тот недолгий период, когда Лихачеву казалось, что страдания, преследующие его всю жизнь, закончились и он может, наконец, всецело предаться науке. Обе дочки замужем, мужья их симпатичны и талантливы, обстановка в обществе явно меняется к лучшему, — так казалось ему. Вся большая семья Лихачевых жила летом в Зеленогорске, вместе снимали дачу на Лиственной улице… может, то было самое счастливое время в жизни Дмитрия Сергеевича, когда спокойно и хорошо работалось. Он писал книгу о текстологии.
В общем-то, текстология существовала давно, но раньше можно было скорее назвать это «критикой текста», и так долгое время это и называлось. Критиковали текст: при издании старых рукописей отслаивали более поздние наслоения, описки, а также слишком своевольные искажения и добавления, допускаемые переписчиками, стремились к подлиннику, подвергая критике все, что искажало первоначальный текст.
Потом возник термин «текстология». Весьма популярна и уважаема в научной среде была книга Б. В. Томашевского «Писатель и книга: Очерк текстологии: 1928 год». Но там были изложены открытия в области текстологии только до 1928 года.
Одновременно с Лихачевым занимался проблемами текстологии и такой большой ученый, как Б. М. Эйхенбаум. Но его труд был построен на анализе текстов «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина.
Книга Лихачева, вышедшая в 1962 году в издательстве АН СССР, называлась «Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков». И — как это было со многими лихачевскими книгами — вызвала повышенный интерес и оживленную полемику. Лихачев никогда не опускался до тавтологии, рабского пересказа чужих трудов, и если писал, то всегда сообщал что-то новое и неожиданное.
Лихачев первый заявил, что текстология — не прикладная дисциплина, а самостоятельная наука, изучающая историю текста. По обилию материала, богатству идей, самостоятельности и глубине трактовки, эрудиции автора — книга его не имеет равных в своей области. Лихачев обосновывает и расширяет все основные положения текстологии. Пишет о влиянии «сводов» (собраний рукописей, в которых текст находился) на сам текст и о многом другом. Указывает методы закрепления выводов изучения истории памятников литературы в виде так называемых генеалогических схем, составляющих «родословное дерево» памятника.
И как всегда — главная новация книги подсказана дерзкой, нестандартной мыслью Лихачева. Его предшественники (да и большинство более поздних авторов) стремились всячески «обезличить» памятник, отскрести с него наслоения, подсказанные историческим временем снятия копии, индивидуальностью или корыстными интересами переписчиков, в общем — убрать все личное, свести к канону, стандарту. Таково стремление большинства ученых, строителей трафаретов и схем: установить все незыблемо, неизменно — и, наконец, успокоиться. Гении — это те, кого схемы бесят, в ком бушует личностное начало. И вывод «Текстологии» Лихачева таков: «Текстология имеет дело прежде всего с человеком, стоящим за текстом»![12]
Безусловно, для всех — и не только филологов, но и каждого, пригревшегося в своем кресле, для всех ученых (и не только ученых) посредственностей это был гром среди ясного неба, пощечина по их сытой, гладкой физиономии, оскорбление! Им хотелось блюсти устоявшийся стандарт, и при этом хорошо зарабатывать, для них главное — сытый покой и никакой «самодеятельности»… их-то личности давно уже «ни за чем не стояли», да и личностей не было, потому и придумали, что личность вредна для науки, смущает ее… И вдруг — Лихачев: «Главное — личность! Во все века!» А где ее взять?! Уже столько веков занимались тем, что изгоняли ее отовсюду. И вдруг — опять? Главная привлекательность — и беда Лихачева — в яркой индивидуальности его книг, за которой не угнаться! Можно лишь попытаться их «утопить» — что многие пытались сделать, но безуспешно.
Один из самых известных читателей Лихачева Олег Басилашвили писал о нем: «Его занятия древнерусской литературой, формально не неся в себе ничего антисоветского, чрезвычайно противоречили системе. Например, тома замечательного издания „Памятники литературы Древней Руси“ я покупал в Болгарии, в Польше — но не у нас. Почему эти книги не лежали открыто на полках книжных магазинов? Чем они были опасны?.. Образ Лихачева всегда связывался в моем сознании с какой-то большой хрупкостью (страшно разбить!), и в то же время с очень большой стойкостью. Это сочетание несочетаемого меня восхищало и даже пугало. Таких людей, как Лихачев, я никогда не встречал».
Когда Гранин спросил Лихачева: «Какой главный итог вашей деятельности?» — тот ответил: «Возрождение интереса к семи векам древнерусской литературы».
ЕРЕСИАРХ
…И при всех успехах, наградах и званиях смута вокруг Лихачева не утихала, а наоборот — разрасталась. Может быть, как раз потому, что успехи его казались кому-то чрезмерными? Смута эта есть и сейчас. Узнав, что я собираюсь писать книгу о Лихачеве, мои друзья-филологи прореагировали почти одинаково:
— Да ты что?!
— А что?
— Пропадешь!
— Почему?
— Да ты не представляешь, сколько разных групп, даже противоположных, считают себя «наследниками» Лихачева! Сколько у него до сих пор завистников и врагов!
— У Лихачева? Врагов? Через двенадцать лет после его смерти?! Чем же он им насолил?
— Чем человек успешнее — тем больше завистников! Съедят тебя! Или скажут — «не допочтил», или наоборот, «приукрасил»! Все знают, как надо — и к Лихачеву не подпускают.
— …Ладно. Пусть занимаются интригами, а я — напишу всё, как было!
— Ты не представляешь, сколько «подводных камней». Одна история с Зиминым чего стоит! Осторожней будь!
Про Зимина я уже слышал. То, что произошло с Зиминым — до сих пор «на слуху» и часто вспоминается как дело не очень ясное: мол, увитый лаврами, властолюбивый Лихачев убрал талантливого соперника не совсем корректными методами. Правда, разговоры эти идут не от профессионалов, а в основном от «сочувствующих», которым всегда лучше видно со стороны, как правильно было нужно сделать.
Лихачев ретроградом не был. Скорее — он был просвещенным консерватором. Но и «умеренный консерватизм» уже многих раздражал. «Новаторам» хочется крайностей, ведь именно только в крайностях тебя и заметят, ибо все остальное уже занято людьми, сделавшими что-то настоящее.
Прежде на Лихачева все больше нападали сверху, угнетали власти. И вдруг вспыхнула «внутренняя война» — на него напали «свои». Его, в сущности, обвиняли в том же, что и всегда — в излишней увлеченности, субъективности. Но теперь еще и в том, что он «субъективно» подыгрывал властям, создал вокруг «Слова о полку Игореве» некий фальшивый «патриотический апофеоз». Лихачев вполне лояльно относился к тем изыскам науки, которые он сам не разделял. Но времена менялись, приходили новые люди — и им казалось, что Лихачев «загораживает дорогу». Его «величие», непререкаемость стали кое-кого раздражать: мол, что он сделал для науки, кроме прославления старого, созданного давно и не им? Почему же он — везде, почему всюду — лишь «Лихачев, Лихачев»? Почему именно он, консерватор, стал символом всей современной культуры? И удар был нанесен по основной его «базе» — древнерусской литературе, которой он создал такую славу!., а заодно и себе, добавят завистники.
— А так ли уж безупречна созданная им картина? — заговорили оппоненты. — Может, эта «картина» — подделка?!
Для объективного изучения этого конфликта мне необходимо было пойти в Пушкинский Дом. Там, в Отделе древнерусской литературы, где уже 12 лет как нет Лихачева, до сих пор идет изучение драматической истории, связанной с Зиминым, главным противником Лихачева в вопросе о «Слове». Сотрудница отдела Л. В. Соколова подарила мне огромную, почти восьмисотстраничную книгу, содержащую полную и объективную историю гипотезы Зимина и ее обсуждения в научных кругах. Книга называется «История спора о подлинности „Слова о полку Игореве“». Л. В. Соколова, как указано под обложкой, была составителем книги, писала вступительную статью, готовила тексты и комментарии. Ответственным редактором книги была доктор филологических наук Н. В. Понырко, нынешний руководитель Отдела древнерусской литературы. Рецензировали книгу доктор исторических наук М. Б. Свердлов и доктор филологических наук М. В. Рождественская.
Книга эта не только объективно представляет историю обсуждения версии Зимина, но и точно рисует картину жизни науки и общества в те годы.
Версия о том, что «Слово о полку Игореве», которое Лихачев относил к XII веку, на самом деле «подделанная древность», стилизация, существовала уже давно. Скептики уверяли, что «Слово» всего лишь подделка, выполненная лишь в XVIII веке архимандритом Спасо-Ярославского монастыря Иоилем (Быковским) по заказу Екатерины II для подъема патриотизма, поддержки ее наступательной, или, иначе сказать, захватнической внешней политики.
То, что рукопись «Слова» находилась в собрании известного коллекционера древних рукописей графа А. И. Мусина-Пушкина, тоже вызывало некоторые сомнения в ее подлинности, поскольку Мусин-Пушкин был страстный, но не всегда строгий коллекционер. Версия, что рукопись сгорела в 1812 году, во время нашествия Наполеона на Москву и знаменитого пожара, тоже подвергалась сомнениям. Скептики утверждали, что там, где должна была находиться рукопись, пожара на самом деле не было, и «подлинник» был уничтожен специально, чтобы дальше было уже невозможно разоблачить подделку. Сохранились лишь более поздние издания «Слова». В 1960-е годы, когда пересмотру подверглось все, новаторы-филологи обратили свои критические взгляды на многострадальное «Слово о полку Игореве».
Для Лихачева, конечно, это было очень опасно — ведь главное его «послание» заключалось в том, что древнерусская литература в совершенном и гениальном виде существовала уже семь веков, с XII века — и вдруг противник «выдергивает» один из главных «столпов» древнерусской литературы и переносит его в гораздо более позднее время, объявляя фальшивкой, подделкой!
И многие, уже поседевшие новаторы считают до сих пор, что Лихачев, оплот всего старого, древнего, застойного, остановил тогда главного новатора — Александра Зимина.
Для выяснения этого вопроса стоит рассмотреть ситуацию с самого начала.
«Слово о полку Игореве» после соответствующей научной работы с подлинником было впервые издано в 1800 году.
До этого «Слово» общественному вниманию не представлялось. Незадолго до публикации появилась статья H. М. Карамзина, признававшая «Слово» подлинным. Немецкий ученый Август Шлёцер, один из авторитетных знатоков истории литературы, сразу же усомнился в подлинности «Слова», вдруг представшего перед всеми несколько неожиданно, столько столетий спустя после своего сочинения. Однако после ознакомления с текстом Шлёцер свои подозрения снял и признал его древнее происхождение. Сомнения, однако, возникали регулярно. В 1812 году профессор М. Т. Каченовский раскритиковал «Слово» — логика слаба, многие события не вяжутся между собой. Известны отрицательные отзывы авторитетного литератора XIX века М. Н. Каткова, назвавшего «Слово» «нелепицей без всякой цели».
Сомнения на время прекратились после 1852 года, когда В. М. Ундольским был опубликован текст другой древней рукописи — «Задонщины», о Куликовской битве 1380 года. Подлинность «Задонщины», созданной либо в конце XIV, либо в XV веке, сомнений ни у кого не вызывала, поскольку сама рукопись имелась даже в нескольких списках. Сходство «Слова» и «Задонщины» было несомненно. А поскольку «Слово» повествовало о значительно более ранних событиях, о пленении князя Игоря половцами, этим как бы подтверждалось и более раннее его происхождение. Об этом же говорили исторические и текстологические анализы.
Однако скептики не унимаются никогда, и для них разрушить что-то великое даже более престижно, чем что-то создать. Созидание — не их профиль. Выдвигается такая версия: да — сходство между «Задонщиной» и «Словом» существует, но это объясняется тем, что как раз «Слово» было сделано опытными мистификаторами после «Задонщины», и хотя события «Слова» относятся ко временам значительно более древним, тем не менее оно создано позже и является мистификацией с использованием стиля и языка «Задонщины».
Эту смелую теорию выдвинул в конце XIX века французский славист Рене Леже, а с тридцатых по шестидесятые годы XX века ее усиленно развивал тоже французский славист Андре Мазон. Основой этого «открытия» было изучение трех разных списков «Задонщины». Изучением и сравнением трех этих списков еще раньше занимался чешский ученый Ян Фрчек, и Мазон строил свои гипотезы на основе его наблюдений. Филология — удивительная наука. Она в большей мере строится на полемике между учеными, их согласии или несогласии, в гораздо большей степени их интересуют мнения дружественных или враждебных коллег о каком-то предмете, нежели сам предмет изучения. Это уже не отображение изучаемого предмета, а отражение уже отраженного в чужом зеркале, а затем появляется множество других повторных отражений, и всё запутывается окончательно. Понятно и интересно это уже только им, и влияет уже только на одно — на их взаимоотношения. И со стороны кажется удивительным, что сам предмет обсуждения, то есть конкретное произведение, давно скромно маячит в сторонке, а все сводится к битве авторитетов, и все внимание филологического мира приковано к этому: кто кого? И действительно — что им может сделать безымянный автор «Слова о полку Игореве»? А вот доктор такой-то или членкор такой-то, с его новой теорией, к которой надо пристраиваться (или бороться?), может очень конкретно помочь — или навредить. Все эти хитросплетения весьма ярко проявились в борьбе вокруг датировки «Слова о полку Игореве».
Фрчек считал (в общем-то, как это у них принято, на основе исследований более ранних ученых), что «список» (для нас более привычно слово «оригинал») «Задонщины» в Кирилло-Белозерском монастыре является самой древней и самой краткой версией и относится к XV веку. Имеются еще две рукописные версии, более пространные — Фрчек считает их более поздними — второй и третьей. Отмечено безусловное сходство «Слова о полку Игореве» с той версией «Задонщины», которую, с подачи Фрчека, принято считать третьей. Из этого Мазон выводит свое «открытие»: раз «Слово» больше всего походит на третью, самую позднюю версию «Задонщины», значит — автор «Слова» ориентировался на эту позднюю версию «Задонщины», и поэтому «Слово» никоим образом не могло быть создано раньше. А поскольку «Слово» было обнаружено в Кирилло-Белозерском монастыре в XVIII веке, то авторство ее стали приписывать настоятелю монастыря и довольно известному литератору того времени Иоилю (Быковскому). Некоторые, например Мазон, приписывали авторство коллекционеру Мусину-Пушкину, в собрании которого и объявилось «Слово». Эти версии нашли много сторонников. Всегда искусительно разрушать что-то устоявшееся, быть смелым. А какие статьи и диссертации можно тут написать и вполне сделать карьеру! И скептики (или, может, просто желающие прославиться) стали с ликованием обнаруживать в тексте «Слова» признаки «позднего происхождения» — модернизмы, полонизмы, галлицизмы, приметы оссианства и даже американизмы.
Однако теория Мазона после долгого изучения была отвергнута серьезными учеными как в России, так и за рубежом. Но «смута» поднимается вновь и вновь. Казалось бы — зачем мучить себя и всех? То, что «Слово о полку Игореве» — великий шедевр, никто вроде не спорит: это слишком очевидно. Но — ревность тщеславных, но недостаточно гениальных людей, к великому сожалению, существует и в культурной среде проявляется в формах более-менее скрытных, «беспристрастных» и «сугубо научных». Шедевр «обгрызается» как-то «по краям». Да — шедевр, но… дальше идут придирки самые разные, и эмоциональная суть их ясна: шедевр, да не совсем, не тогда создан да и не тем. Казалось бы, что мне из того, что «Борис Годунов» написан Пушкиным не в Михайловском, а… в Риме, где Пушкин, оказывается, побывал! Небывалое открытие! Тянет на докторскую!.. но нам-то что? Наше счастье от прочтения шедевра, от всех этих «открытий» ничуть не убывает. Но не убывает и число желающих «подпилить устои»: а вдруг «оно» рухнет и еще один великий, к их тайной радости, окажется «не великим».
Казалось бы, ясно: «Не оспаривай глупца!» Но с изобретением диссертаций и научных званий ситуация значительно осложнилась: тебя могут обвинить не только в некомпетентности, но еще и в интригах, «перекрывании дороги» кому-то и т. д. И Лихачеву пришлось доказывать подлинность, значимость «Слова», защищать его от нигилистов, которым хотелось бы стащить «Слово» с пьедестала, а заодно — и самого Лихачева. Как раз второе, может быть, и было для многих главным.
Лихачев пишет спокойную, ничуть не агрессивную статью «Изучение „Слова о полку Игореве“ и вопрос о его подлинности», где он анализирует и отметает причины, по которым его противники относят «Слово» к гораздо более позднему веку, когда подобные сочинения уже не создавались.
Первый аргумент «ниспровергателей» был такой: «Слово», которое Лихачев относит к XII веку, было обнаружено не в древнем списке рукописей, а в более позднем, бумажном — а бумага стала использоваться никак не раньше XV века, а широкое распространение получила и того позже. Лихачев пишет в ответ: да, не оригинал, более поздняя копия — но и многие другие сочинения, чье древнее происхождение ни у кого не вызывает сомнений: «Слово о Законе и Благодати» Илариона, «Поучения Феодосия Печерского», «Хождения игумена Даниила», «Моление Даниила Заточника», обнаружены именно в позднем, бумажном варианте, а все известные подделки, с шумом разоблаченные, как раз были подделаны, для большей убедительности, под древние, «добумажные» рукописи, причем очень умело — ведь этим занимались такие знаменитые и понаторевшие фальсификаторы XIX века, как Бардин и Сулакадзев.
Отметает Лихачев и подозрения ниспровергателей насчет того, что Мусин-Пушкин специально сжег во время пожара 1812 года «Слово», чтобы скрыть факт подделки — то есть, как иронизирует Лихачев, «сжег вместе со своим домом, имуществом и исключительно ценным собранием рукописей». Неужто все это специально сжег?!
В том, что список «Слова» действительно существовал, подтверждает сам H. М. Карамзин, видевший его и сделавший из него выписки. «Слово», доказывает Лихачев, никак не могло быть создано в XVIII веке, поскольку оно было расшифровано и понято с большим трудом — вряд ли подделка может быть столь трудна для понимания: их всегда делают более «доходчивыми». Рукопись была записана слитными буквами, и было весьма непросто разъять их на слова, поскольку смысл многих слов рукописи был уже неизвестен. Лихачев указывает на многие случаи, когда слова не были разгаданы или разгаданы неверно и смысл оказывался темным или искаженным. Потребовалась долгая работа по расшифровке рукописи, и лишь намного позже темные места были расшифрованы. Для подделки это слишком сложно.
Лихачев вступает в спор и с главным тогдашним ниспровергателем «Слова» — французским филологом А. Мазоном, выпустившим свою книгу о «Слове» в 1944 году. Лихачев отвергает все доводы Мазона. Например, указывает на то, что рукопись «Слова» находилась в огромном томе других сочинений. Неужто были поддельными все сочинения — или в них было искусственно вставлено «поддельное» «Слово»? Такого история не знала: все известные подделки вовсе не «прятались» подобным образом, а, напротив, настойчиво демонстрировались. Дальше Лихачев проводит подробный анализ текста, доказывая несомненное его древнее происхождение.
В 1962 году в СССР был издан капитальный сборник «„Слово о полку Игореве“ — памятник XII века», содержавший обстоятельную, мотивированную научную критику Мазона многими авторитетными учеными. И, тем не менее, стоило «поднести спичку» — как все вспыхнуло опять! Именно после прочтения того солидного сборника, состоящего из весомых статей солидных авторитетов, Александр Александрович Зимин, доктор исторических наук из Москвы, окончательно решил заняться «Словом» сам.
«Надоела брехня!» — написал он. В 1960-е годы, во времена «оттепели», все хотели растопить какую-нибудь «льдину» из прошлого, что-нибудь разоблачить или опровергнуть — из прежней невыносимой жизни, в которой, однако, многие преуспели. 42-летний Александр Александрович Зимин был уже известным, уважаемым историком. Ни в какой нелояльности прежде замечен не был. Всегда, где нужно, вставлял цитаты из классиков марксизма и современных вождей, но при этом имел репутацию вполне серьезного, честного ученого. В пятидесятых — шестидесятых годах вышла целая серия солидных, научно обоснованных книг Зимина: «Реформы Ивана Грозного», «Опричнина Ивана Грозного». Его связывали хорошие, уважительные отношения с ведущими историками — Рыбаковым, Грековым, Тихомировым, Черепниным. В 1959 году он стал доктором исторических наук, а в 1962 году баллотировался в членкоры. Рекомендовали его два крупнейших авторитета (современные журналисты могли бы написать — два «крестных отца» исторической науки тех лет) — академики Борис Александрович Рыбаков, Михаил Николаевич Тихомиров и член-корреспондент Артемий Владимирович Арциховский. Так что назвать Зимина изгоем научного общества никак нельзя. При всем драматизме случившейся истории, при всех взаимных обидах, Зимина ни в коей мере нельзя назвать человеком непорядочным. Несдержанным — да. Человек он был, безусловно, одаренный и честный, и действовал из самых лучших побуждений: азартно решил рискнуть ради истины в науке, «не щадя живота своего».
«Слово о полку Игореве» давно привлекало его как историка, и он вполне искренне писал в одном из писем: «Филологи текст проанализировать не смогли, и придется кому-то за это браться».
Лихачева давно уже связывали самые сердечные отношения с известнейшим зарубежным филологом, выходцем из России, Романом Якобсоном. Якобсон стоял во главе «новейшей филологии», Лихачев не был приверженцем новых методов (некоторые из них, казалось, ближе к математике) — тем не менее Лихачева и Якобсона связывали самые дружеские, уважительные, устоявшиеся отношения. И в одном из писем Якобсон сообщает Лихачеву: «Уже два-три года назад Мазон рассказывал, что советский историк готовит веский материал о „Слове“, как продукте Екатерининской эпохи, и его авторе Иоиле».
Сам Зимин писал: «Эта борьба получила благожелательный отклик в сердцах многих людей доброй воли еще и потому, что им было тошно от казенного лжепатриотизма, расцветшего в 1940–1950-е годы».
Такой поворот казался Лихачеву особенно обидным и незаслуженным. Его, каторжника, обвиняли в заискивании перед государством, в создании мифов, угодных власти! Может быть, это заставило его и задуматься — а вдруг доля истины в этих обвинениях есть? Но держался он твердо, не отступал, боролся — при этом нигде и ни разу не переступил границы приличий, хотя, конечно, был сильно уязвлен.
Особенно горько было ему оттого, что среди сторонников Зимина оказались люди, близкие Лихачеву, в преданности которых он был прежде уверен. Одному из них, Я. С. Лурье, Зимин писал: «…Я в экстазе. Сижу и тружусь… Речь идет о „Слове о полку Игореве“ и „Задонщине“…»
Другому почтенному сотруднику Пушкинского Дома, Владимиру Ивановичу Малышеву, создателю институтского Древлехранилища, Зимин писал: «Дело чрезвычайной сложности. Нужна осторожность и тщательность… Нельзя ли как-нибудь приобрести книги Мазона и Фрчека, Прага, 1948 год, очень серьезный труд».
В следующем письме Малышеву в середине января 1963 года он писал: «…работы еще лет на пять. Решать надо солидно и наповал. Ваш разбойник Сашка Зимин».
Азартный характер Зимина выступает во всей этой истории вполне ясно и не может не вызвать сочувствия. Не сумев вытерпеть даже года из тех «пяти лет», о необходимости которых он писал Малышеву, уже 15 февраля 1963 года он пишет письмо заведующему Сектором древнерусской литературы членкору Лихачеву: «Дорогой Дмитрий Сергеевич! Не смогли бы Вы поставить на заседании Вашего сектора в ближайшее свободное время мой доклад на тему „К изучению ‘Слова о полку’…“ Всегда Ваш А. Зимин».
Он так спешил не только по горячности своего характера. Ситуация поджимала. Он знал, что в США готовится к выпуску книга болгарского эмигранта В. Николаева на эту тему, также готовит новые работы и сам Мазон…
Может быть, в спешке или почему-то еще Зимин в своем письме не открыл Лихачеву сути своего сообщения.
Доклад состоялся 27 февраля 1963 года в Пушкинском Доме. Вроде бы это было обычное заседание Сектора древнерусской литературы. Но поклонники Зимина уже поведали всем, что зреет сенсация — и явилось множество слушателей, в том числе не имеющих отношения к древнерусской литературе. Но, кроме науки, в жизни интересно и еще кое-что. В секторской «Книге протоколов заседаний» расписались 110 человек.
Лихачев на заседании не был в связи с недавно произведенной операцией (язва желудка). Суть доклада Зимина сводилась к уже известной версии: «Слово» ближе к последней, третьей редакции «Задонщины», а значит, произошло от нее и, хотя содержит события гораздо более древние, чем «Задонщина», описывающая Куликовскую битву, написано оно вовсе не в XII веке, а представляет гораздо более позднюю стилизацию под древность — «пастиш» (этот термин употреблял Мазон). Заседание продолжалось три часа с лишним. И к никакому четкому выводу не пришло. Но «круги по воде» расходились долго и далеко.
Я. С. Лурье в письме Зимину отмечал «нормальную научную обстановку» на этом заседании. Один из авторитетнейших сотрудников сектора, О. В. Творогов писал: «Зимин не дал ответа на основной вопрос: „Как и на каком языке было написано ‘Слово’ Иоилем?“» Действительно, появление такого текста в XVIII веке труднообъяснимо.
«Шум» дошел до «инстанций», и Зимину за его несдержанную (руководство считало — необоснованную) позицию пришлось объясняться перед руководством Института истории АН СССР, где он работал (что, естественно, увеличило число горячих его сторонников, особенно среди молодежи). 12 марта 1963 года Зимина вызвал академик-секретарь Отделения истории АН СССР Е. М. Жуков. Передал просьбу вице-президента Академии наук СССР, члена ЦК КПСС П. Н. Федосеева — больше ни с какими докладами подобного рода не выступать. Аналогичная беседа состоялась у Зимина и с директором Института истории В. М. Хвостовым.
Слегка испуганный Зимин посетил главных «светил» исторической науки того времени, у кого он прежде имел постоянную поддержку — М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина, Н. К. Гудзия, Б. А. Рыбакова, но никакого одобрения на этот раз не добился.
Зимин оправдывал свое выступление против подлинности «Слова» аргументами, в которых было больше эмоций, чем научных оснований. Писал: «Нужно „Слово“ из мумии превратить в памятник живых человеческих страстей!» Академик Л. В. Черепнин отметил «таинственность его работы».
Но появилось много сочувствующих Зимину молодых историков, филологов, археологов, отыскивающих новые аргументы, наводивших справки в музеях, архивах и библиотеках в поддержку «бунтарской» гипотезы. По «бунту» молодежь стосковалась. «Очень рад, — писал Зимин в письме, — что молодежь занимает такую благожелательную позицию».
Терпения, выдержки, осмотрительности, умения понять доводы оппонентов Зимину явно не хватало — ему казалось, что всё сразу получится так, как хочет он. И такие люди, как правило, терпят поражение.
Обычную сдержанность, корректность внешне невозмутимого ДС он принял за благожелательность: так хотелось ему как можно быстрей отпраздновать победу. Лихачев прокомментировал события так: «Зимин поступил плохо, скрыв тему доклада от меня. Малышев знал и держал в секрете, а в последний день наприглашал кучу народа».
Лихачев никак не мог быть нейтрален: Зимин пытался зачеркнуть (или сильно «омолодить», что было равносильно гибели) «Слою о полку Игореве» — безусловно, самое талантливое в древнерусской литературе (скажем, «Задонщина» написана значительно более тускло). Кроме того, Зимин еще разрушал и вторую «опору» Лихачева — Сектор древнерусской литературы, с такой любовью Лихачевым созданный. Ему казалось, что он подобрал самых талантливых и преданных людей — преданных и работе, и лично ему. И вдруг в замечательном прежде коллективе пошли трещины, появились сложности, инициированные Зиминым.
В мае 1963 года в Секторе древнерусской литературы решили издать сборник статей, посвященный «Задонщине» и ее отношению к «Слову о полку Игореве». В письме Робинсону Лихачев пишет об этом решении, но добавляет, что «во время обсуждения вопроса в секторе были неприятные разговоры. Лурье и Малышев выступили против этой темы. Нельзя, дескать, писать о „Задонщине“, не зная работы Зимина. Пусть ее сперва издадут и пр… Разлад по поводу „Слова“ в секторе очень меня раздражает».
3 декабря 1963 года, без каких-либо объяснений и указания мотивов, на заседании Редакционно-издательского совета (РИСО) АН СССР готовившийся сборник о «Задонщине» был снят из проекта плана редподготовки издательства «Наука» на 1964 год.
Лихачев, понимая, что «подкоп» под дело всей его жизни нужно остановить, действует решительно — и на самом высшем уровне. Лихачев не только большой ученый, но и великий стратег, он умеет разговаривать весомо и убедительно с самым грозным начальством — поэтому ему удались все те большие дела, которые он вел. Он тут же пишет письмо не кому-нибудь, а вице-президенту АН СССР П. Н. Федосееву, члену ЦК КПСС. Заканчивается письмо так:
«…Искренне скажу Вам, что не знаю сейчас гуманитарной работы, которую необходимо было бы издать в защиту русской культуры в более срочном порядке, чем та, о которой я Вам пишу. Ее ждут все педагоги, не только филологи и историки; ее ждут писатели и пр.
С уважением, Д. Лихачев, член-корреспондент АН СССР».
Лихачев умел находить нужные слова, веские и не подобострастные. В результате сборник, посвященный соотношению «Слова» и «Задонщины», подготовленный Сектором древнерусской литературы под руководством Лихачева, был восстановлен в проекте плана редподготовки на 1964 год.
Возникает вопрос, каким образом он, скромный кабинетный ученый, отдающий все силы древнерусской литературе, вдруг стал главным авторитетом страны? Рецепт прост, но труден в исполнении. Лихачев с самого начала своей деятельности находился в неустанной борьбе за справедливость, как он ее понимал — в то время когда другие шли на уступки и компромиссы. Лихачев не отступал никогда.
Книга Зимина, еще не написанная, уже вызвала большой интерес за границей. Для понимания того надо хорошо представлять обстановку тех лет. Всех интеллектуалов Запада (во всяком случае, многих) увлекала тогда чрезвычайно смелая идея: «Всё, что было создано в СССР, должно быть сметено, это всего лишь продукт партийной идеологии! А теперь должен быть дан ход новым людям, отрицающим все старое и создающим новое!» И Зимин с его теорией под эту категорию весьма подходил. Глеб Струве, известный публицист и общественный деятель зарубежья, писал в газете «Русская мысль»: «…Со стороны очень трудно поверить, что если бы какой-то советский ученый просто повторял взгляды Мазона, ему дали бы возможность выступить с докладом на заседании ученого совета и был бы поднят вопрос об издании книги».
То есть Струве хочет сказать, что работа Зимина обладает такими достоинствами, что рухнули все советские «стены» и случилось нечто небывалое. Чувствуется, что Струве не бывал на ученых советах в советских учреждениях и явно переоценил уровень нашей научной и политической бдительности. На самом деле на наших ученых советах нередко произносились речи неожиданные, а зачастую и абсолютно абсурдные — при этом «стены» даже не шелохнулись.
Однако с каким-то даже упоением поддавшись слухам о гениальности Зимина, столкнувшего Лихачева с «парохода современности» (а точнее, древности), некоторые зарубежные университеты спешно вычеркивали «Слово о полку Игореве» из программы изучения древнерусской литературы. Для этого, правда, надо быть начисто лишенным литературного слуха — чтобы не расслышать гениальную гармонию «Слова» — но, увы, далеко не все, посвятившие себя литературе (точнее, посвятившие литературу себе), умеют отличить алмаз от стекла.
В престижнейшем издательстве «Ауфбау» было приостановлено библиофильское издание «Слова» в переводе на немецкий. Даже великий Якобсон просит Лихачева прислать тезисы Зимина. Правда, познакомившись с ними, Якобсон напишет Лихачеву: «Какое убожество — выходка Зимина! — Но потом добавит: —…наименее грамотные расположены кадить Мазону и развенчивать „Слово“». К сожалению, после доклада Зимина в Секторе древнерусской литературы недоброжелатели окрепли в своих заблуждениях. Якобсон пишет Лихачеву: «Мистер Хилл, английский издатель, отказался от английского перевода „Слова“, обсуждался вопрос об исключении „Слова“ из антологии древнерусских текстов в Оксфорде. Каждый оксфордский студент-славист спрашивал меня, что со „Словом“, правда ли, что это подлог. Я рад, что встретил Алексеева, порассказавшего мне о выступлении Зимина. Мне кажется, что по крайней мере протокол заседания с прениями следует опубликовать». Но и с этим все обстояло не просто. Отчет о докладе и дискуссии был написан Л. А. Дмитриевым для публикации в журнале «Русская литература». Изложение доклада, по настоянию Зимина, было исполнено им самим. В том же журнале «Русская литература» просят статью Зимина, чтобы еще более обстоятельно ознакомиться с вопросом. Но Я. С. Лурье предупреждает в письме Зимина: «Несомненно, если статья и будет напечатана, то в сопровождении полемического ответа».
Начинается нагнетание ситуации. Зимин пишет Малышеву: «Это ловушка, ясно и понятно… но дам лишь один из разделов — и только, а в сноске скажу, что это часть большой работы… если на этот вариант не согласятся, то кричать уже буду я».
Сдержанному Лихачеву, воспитанному в прежних традициях, очень трудно вести полемику со столь несдержанным оппонентом. Он пишет в письме Робинсону от 2 июня 1963 года: «…с Зиминым я могу быть еще вежливее (учитывая, что он может пострадать), но разгромить Зимина (научно) я, конечно, хочу — без брани, без обвинений, без копания в психологии противника — только в пределах науки. При случае разъясните это ВВВ — (В. В. Виноградову, академику, секретарю Отделения литературоведения АН СССР. — В. П.). Мне самому об этом писать не хочется. Думаю, что из текста моего письма с предложением издать книгу Зимина — все было ясно. Но что-то он не понял все же. Или он считает, что и научным возражениям работу ААЗ (А. А. Зимина. — В. П.) подвергать не следует?..»
Виноградов был не только замечательный ученый, но и большой мастер научных интриг, отчасти благодаря которым он и занял столь высокий административный пост. В отличие от других академиков, он благоволил к Зимину, поощрял его и даже приглашал к себе домой. Правда, практически никак не поддержал и о книге Зимина не написал ни строчки. Видимо, Виноградов следовал давно известному принципу всех властолюбцев: «Разделяй — и властвуй!», имей союзников по обе стороны конфликта — и тогда будешь неуязвим и в любом случае сможешь предъявить «выигрышную карту». Если понадобится — можно использовать Зимина против Лихачева, который набрал уж очень большой авторитет — таков, вероятно, был тонкий расчет Виноградова. Человек он, судя по воспоминаниям, был веселый, общительный, остроумный, но отнюдь не безобидный. Уже упоминался эпизод о поездке ведущих славистов в 1958 году в Ясную Поляну, когда Виноградов пытался развеселить группу ученых, насмешливо комментируя наряд несколько чопорного, старомодного Лихачева, и получил в ответ его отповедь — с улыбкой, но и с достоинством… Большие ученые зачастую люди далеко не простые, и с ними надо держать ухо востро. И игра вокруг еще не законченной книги Зимина, в которой многие преследовали не только научные, но и всяческие побочные цели, утомляла и раздражала Лихачева. В продолжении того же письма Робинсону Лихачев писал:
«…Эта бедность доклада Зимина меня раздражает, так как спорить совсем неинтересно и даже бесполезно. Если он так обходится с литературой вопроса, то он так же обойдется и с нашими возражениями. Впрочем, я не удивлен: так он спорит и по другим вопросам… Теорию „полезности“ работы Зимина по „Слову“ выдвигают сейчас Лурье и Дмитриев, Салмина (робко) и пр. лица, находящиеся под влиянием ЯС (Я. С. Лурье. — В. П.). Меня раздражает, что в десятый раз надо будет повторять одно и то же. Сколько бесцельной траты времени и сил предстоит… А между тем многое в этом споре будет решаться для отдельных лиц не научными аргументами, а какой-то „подкорковой“ субпсихологией (как у Малышева, который в отношении „Слова“ не выдвигает никаких аргументов и только бубнит). Бубнит и ВВВ. Я спрашивал его — какие у него основания? Он сослался на мою рецензию на книгу Бешаровой, где я писал, что в одной и той же фразе в „Слове“ могут быть употреблены глаголы в формах разного времени и пр. ВВВ утверждает, что в XII веке это невозможно. А я после этого посмотрел, и нашел и у Кирилла Туровского то же самое, и в Прологе, и в Киево-Печерском патерике. Больше ВВВ, несмотря на мою настойчивость, ничего привести не смог или не захотел. „Подкорка“! Многим нравится „оппозиционность“ концепции ААЗ. Со всем этим трудно бороться научной аргументацией».
В другом письме А. Н. Робинсону Лихачев опять возвращается к больной теме: «Зимин силен только своей позицией (соблазнительной для всех любителей оппозиции)».
Тем не менее вокруг Зимина собрались люди отнюдь не слабые. Первый — это, конечно, всемогущий, влиятельнейший, авторитетнейший академик Виктор Владимирович Виноградов, лингвист и литературовед, человек яркий, незаурядный. В 1934 году был арестован, с 1934 по 1936 год отбывал наказание, в 1940 году защитил докторскую диссертацию. С 1941-го по 1943-й был в ссылке, но продолжал свои научные исследования, и в 1944 году стал профессором, деканом филологического факультета, завкафедрой русского языка МГУ. Он — создатель и главный редактор журнала «Вопросы языкознания», председатель Международного и Советского комитетов славистов, член нескольких зарубежных академий, академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР. Считал нужным, из каких-то своих соображений, поддерживать Зимина.
Второй — профессор, доктор филологических наук, научный сотрудник Сектора древнерусской литературы Яков Соломонович Лурье, исследователь русского летописания, древнерусской публицистики XIV–XVI веков, истории внешней политики Московского государства, а также творчества русских писателей XIX–XX веков (Льва Толстого, Михаила Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова).
Третий — тоже весьма почтенный и заслуженный человек, Владимир Иванович Малышев, литературовед, археограф, на момент дискуссии — кандидат филологических наук, собиратель древнерусских рукописей, создатель Древлехранилища Пушкинского Дома, которое в настоящий момент носит его имя. Лихачев всегда относился к Владимиру Ивановичу с величайшим уважением, проводил после его смерти «Малышевские чтения», написал вступительное слово к сборнику памяти Малышева. Но в то время, о котором идет речь, из-за гипотезы Зимина отношения Лихачева и Малышева испортились.
Кроме перечисленных, было еще немало ученых, в той или иной степени поддерживающих Зимина, было много сочувствующих, советующих, помогающих ему в работе, в поисках материалов. «Бунтарское» поведение Зимина в те годы встречало горячую поддержку в обществе, бурно стремящемся к переменам.
Противостоять этому, как бы «передовому» мнению, Лихачеву было нелегко. Однако и в этой критической ситуации он держался безупречно, не совершил ни одного некорректного поступка, нигде «не ставил ножку» Зимину. И даже искренне возмущался, когда нечто подобное было. Он пишет: «Я получил от секретаря академика Тихомирова его возражения на тезисы Зимина. Возражения его столь же грубы, сколь и беспомощны… Если только эти возражения станут известны, то позиции Зимина еще больше укрепятся».
Лихачев пишет письмо академику-секретарю ОЛЯ АН СССР В. В. Виноградову с предложением не делать секрета из работы Зимина, опубликовать ее, дать возможность спорить с ней.
Однако время тогда было глухое — и победила «партийная» идея закрытого обсуждения книги. А. А. Зимину было предложено представить в Отделение истории АН СССР рукопись книги для закрытого обсуждения, чтобы успеть закрыть эту проблему до сентябрьского Всемирного съезда славистов.
Друзья советовали Зимину уклониться от этого явно «разгромного» мероприятия, но того «увлекла идея, — как писал его ученик Каштанов, — покорить читателей и слушателей смелой гипотезой и стройной системой доказательств… А. А. был страстным полемистом, любил споры и рвался в бой, веря в правоту своих выводов».
Книга его росла стремительно. В своих письмах друзьям и сочувствующим в марте 1963 года Зимин сообщает о семи авторских листах рукописи, в начале мая — о шестнадцати, в конце июня — о двадцати, а 11 июля — уже о двадцати двух авторских листах.
Один из сторонников Лихачева, Владимир Борисович Кобрин, в своих воспоминаниях удивлялся: «Как этот человек успевал за год, а иногда и в считаные месяцы создавать книгу объемом 25–30 авторских листов?»
9 июля книга в объеме 22 авторских листа была представлена Зиминым в дирекцию Института истории. Уже на следующий день Отделением истории (совместно с вице-президентом АН СССР и Идеологическим отделом ЦК КПСС) было принято решение — напечатать рукопись в двенадцати экземплярах и устроить узкое, закрытое обсуждение.
Лихачев действует решительно, отстаивая главное: свою репутацию и репутацию «Слова», он пишет члену ЦК КПСС академику П. Н. Федосееву, от которого зависела судьба книги: «Хотя я всей работы А. А. Зимина не читал, но я убежден, что нужно опубликовать всю работу Зимина, не делая из нее никакой секретности. Так как читать ее будут не только специалисты, а люди, которым по неосведомленности может показаться, что в аргументах А. А. Зимина много нового и убедительного, то публиковать ее надо не отдельно, а в составе сборника „К вопросу о подлинности ‘Слова о полку Игореве’“, где должны быть напечатаны ответы и доказательства подлинности „Слова“ — членкора В. П. Адриановой-Перетц, мои, некоторых лингвистов, востоковедов и фольклористов».
Однако все пошло по-другому — хуже и для Зимина, и для Лихачева, заинтересованного, чтобы книга была издана и покров таинственности и значительности исчез. Но вместо этого обиженный Зимин забирает книгу, поскольку его обманули: обещали 150 экземпляров, а теперь печатают 20.
Эта история еще долго будет интриговать всех: как же все было на самом деле? События тогда особенно накалялись из-за того, что приближался Пятый международный съезд славистов в Софии в сентябре, и власти, курирующие эту тему, конечно, хотели до этого решить вопрос относительно одного из главных столпов славистики — «Слова о полку Игореве». Но они все сделали, как и обычно, с медвежьей грацией.
С подачи В. В. Виноградова возобладало такое мнение: «…автор честный, но увлекающийся… надо до съезда обсудить книгу». В ЦК созрело решение: отпечатать книгу на ротапринте в количестве двадцати экземпляров и раздать на отзыв специалистам, и затем устроить обсуждение. Сторонники Зимина всячески советовали ему уклониться — но Зимин, опьяненный чувством своей правоты, рвался в бой.
Зимин просит Лурье набросать список авторитетных специалистов, на чье мнение можно положиться, чтобы пригласить их на обсуждение. Этот список всячески варьируется. Лихачев, ознакомившись с ним, отмечает, что в нем почти нет специалистов по «Слову о полку Игореве». Если бы послушались Лихачева и напечатали книгу, напряжение давно бы спало, а так история все более накаляется и запутывается.
Уже измотанный, отчаявшийся Зимин пишет Л. А. Дмитриеву, также сотруднику сектора, ученику Лихачева: «Я дал 180 человек… подскажи, кого еще. Хотят провернуть до Съезда славистов».
Обсуждение снова переносится в Институт истории, но оттуда следуют все более и более абсурдные предложения. Читая их, вспоминаешь горькую шутку той поры: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!» Следуют такие предложения: напечатать 26 экземпляров!.. но на руки никому не давать. Затем: напечатать 100 экземпляров, но пригласить 30 человек… и на руки никому не давать!
Умеют у нас издеваться.
Зимин понимает, в конце концов, что единственный, кто постоянно держит одну и ту же честную позицию — это Лихачев. И он пишет ему и благодарит за письмо Лихачева Федосееву, в котором Лихачев настаивал на широком издании книги Зимина.
«…Я очень виновен перед Вами… что вольно или невольно доставил Вам волнения, как раз тогда, когда Вы больше всего нуждаетесь в покое, заботе и внимании (после тяжелой операции. — В. П.). Зная Вашу сердечную и старинную дружбу, прошу Вас только одно — поймите меня и, если можете, простите… Еще раз от всей души благодарю Вас за все добро, что Вы сделали и для меня, и для нашей науки. Желаю Вам здоровья и еще раз здоровья.
Всегда Ваш А. Зимин».В результате, как это обычно бывает у нас, все произошло наихудшим образом. И книга Зимина к Съезду славистов не была ни обсуждена, ни опубликована (что, естественно, произвело самое худшее впечатление на участников съезда, тем более зарубежных), и сам Зимин не поехал на съезд.
1 августа он уезжает в Крым. Это, конечно, слабое утешение — вместо успешного, как казалось ему, выступления в Софии. В письме Малышеву он сообщает: «Решил отказаться от поездки в Софию сам. Этак будет лучше. Пришла бумага, что я могу ехать как турист. Зачем мне это нужно? Пускай едет Лева Дмитриев со своим шефом». — И добавляет в конце: «Книга будет издана! Уверен до конца!»
Пишет и Л. А. Дмитриеву: «Ты едешь, а я этой возможности лишен. Не стань рупором лжи!»
Окончательное совещание по поводу судьбы рукописи состоялось уже после Съезда славистов, 12 сентября 1963 года в Отделении истории АН СССР. Съезд славистов прошел, и теперь можно было особенно с Зиминым не церемониться.
Было принято решение: напечатать в количестве ста экземпляров и обсудить на закрытом заседании, куда пригласить тщательно отобранных людей. Зимин решил посоветоваться со своим однокашником по университету, И. И. Удальцовым, ставшим заместителем заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС. Удальцов посоветовал условия принять. Зимин раздал рукопись многим авторитетным ученым. Собрал 50 отзывов. Среди них были отзывы Ю. М. Лотмана, академика Л. В. Черепнина. Не все соглашались с выводами книги, но все рекомендовали книгу издать. К обсуждению были привлечены также известные писатели — Константин Симонов, Юрий Домбровский, Наум Коржавин.
Тем временем у Зимина окончательно сдают нервы (что, возможно, усугубляется и его болезнью) — и он пишет резкие письма, в том числе и верному своему другу и помощнику Я. С. Лурье. Тот отвечает, тоже в сердцах: «Сашенька! Вы псих… И всегда — эта ваша свинская обойма: „невмешательство“, „отмолчаться не удастся“, „между двух стульев“».
Михаил Борисович Храпченко, ставший академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР вместо умного, дипломатичного Виноградова, сразу начинает проводить политику значительно более грубую, пытается отстранить Лихачева, который своим авторитетом может помешать «решениям партии и правительства». «Зачем вам соваться?» — пишет ему он.
Лихачев, похоже, и сам устал от этой истории. Но стоит на прежней, принципиальной позиции: он, как и раньше, за широкую публикацию книги Зимина, но вовсе не намерен при этом лукавить и поддерживать его сомнительные тезисы. И когда от Е. М. Жукова из Института истории приходит приглашение принять участие (и как всегда — срочно!) в обсуждении книги Зимина, Лихачев отвечает несколько раздраженно: «Надо подготовиться! Я по-прежнему не видел рукописи Зимина. Я назвал фамилии двадцати трех специалистов по „Слову“… Приглашены ли они?»
Лихачев понимал, что поддержки ведущих специалистов Зимин не получит. Адрианова-Перетц писала Лихачеву: «…сегодня я пробовала ее читать (рукопись Зимина. — В. П.). Она вызывает у меня такое сердцебиение, что я просто не могу себе позволить читать ее подолгу».
Однако Лихачев по-прежнему твердо стоит за открытость науки, за возможность высказаться всем, за публикацию книги Зимина. Жуков пишет секретарю ЦК КПСС Л. Ф. Ильичеву: «По Лихачеву — не издать книгу сейчас — значит, вызвать кривотолки». Жуков предлагает издать книгу Зимина вместе со статьями главных авторитетов — Лихачева, Рыбакова, Тихомирова, что положило бы конец кривотолкам о зажиме в науке. Однако «мудрая политика партии» все время странным образом направлена на то, чтобы эти «кривотолки» не гасли, а разгорались. В результате — собрали на обсуждение довольно много народа, но еще до начала осуждения было сообщено решение ЦК: «Обсуждение состоится. Но книга напечатана не будет».
Ход того заседания подробно изложен в книге Л. В. Соколовой «К истории спора о подлинности „Слова о полку Игореве“ (Из переписки академика Д. С. Лихачева)». Приношу ей глубокую благодарность. Однако привести удастся лишь выдержки из нее.
«…У Зимина случилось обострение болезни, и на первое заседание он не пришел. Не обошлось и без скандала — некоторых приглашенных не пускали в зал, говоря, что их нет в каких-то списках. Недоумение, конечно, вызвала и сама нелепая ситуация: обсуждение будет, но на издание книги никак не повлияет: уже решено „наверху“, что издана она все равно не будет. Все это было как-то унизительно. Из зала был задан вопрос президиуму:
— Правильно ли я понял, что данная часть заседания… никакой результативной части иметь не будет?
— Безусловно! — ответил из президиума академик Жуков.
— А резолюция?.. Решение?
— Это не наше дело. Мы имеем поручение прорецензировать рукопись…
— И голосования не будет?
(Смех в зале.)
— Какое же может быть голосование?
Тем не менее обсуждение было долгое и серьезное. Большинство ученых, как выяснилось, дорожили своей репутацией и не собирались ради „решений партии“ от нее отказываться, и выступали обстоятельно и объективно. Лихачев выступил с большим докладом в первый день. И почти в самом начале сказал: „Мне кажется, что работа А. А. Зимина — это его большая научная неудача. Зимин и не мог написать в данном случае сильной работы, так как основной тезис работы о ‘Слове’ ложен и можно обосновать его только путем больших натяжек и тенденциозных искажений… Резко отрицательное отношение к данной работе Зимина я не распространяю на другие его труды“».
Среди многих других аргументов, доказывающих, что «Слово» создано в XII веке, а вовсе не написано в XVIII архимандритом Иоилем, Лихачев приводит и такой аргумент:
«…Предполагаемый А. А. Зиминым основной автор — архимандрит Иоиль, несомненно, менее удачен, чем ранее предполагавшийся Мазоном Мусин-Пушкин. Если о литературных способностях Мусина-Пушкина мы ничего не знаем и поэтому можно было бы объявить его тайным гением, то произведения Иоиля до нас дошли и поэтому их можно сравнить со „Словом“: самая низкая посредственность Иоиля, различия в манере, в языке, в понимании литературы и пр. — убийственны для концепции А. А. Зимина».
Подробнейший доклад Лихачева в итоговом сборнике занимает 48 страниц. Он разбирает множество специальных аспектов — и исторических, и текстологических, и всюду находит доказательства ошибочности теории Зимина.
Окончание доклада Лихачева (в некотором сокращении) звучит так:
«Не будем создавать незаслуженной рекламы работе Александра Александровича. Не будем чинить серьезных препятствий работе ученых — специалистов по „Слову“, которые сейчас лишены возможности защищать „Слово“ и открыто выступать против Зимина. Работа Зимина должна стать доступной… Если работа Зимина будет считаться секретной, то это придаст спору вненаучный аспект, набросит на нее тень обвинений, которых она не заслуживает.
…Работа Зимина слабая, незаслуженно отнявшая много времени многих специалистов, и автор ее вполне заслуживает того, чтобы все вопиющие недостатки его работы были выставлены на публичное обозрение.
Издание сочинения А. А. Зимина должно быть изданием автора (т. е. без марки Института истории АН СССР); пусть только сам автор за него и отвечает. (Такого рода издания у нас есть.)
Извините, что я отнял у вас столько времени. Но вопрос о подлинности „Слова“ очень важен».
В тот день было еще несколько выступлений, еще больше 5 и 6 мая, когда были и утренние, и вечерние заседания. Многие соглашались с выводами Лихачева, и никто из противников опровергнуть его не смог.
Потом были противоречивые, искаженные слухи об этих заседаниях, говорили, что Лихачев «из кожи лез вон» и даже выступал дважды, что неверно. В последний день заседания он вышел на трибуну лишь для того, чтобы прочитать выводы отсутствующего на заседании П. Н. Беркова.
Ни один из выступавших не предъявил Зимину политических обвинений. В те годы это было уже «не модно» и даже грозило потерей доброго имени навсегда. Тем не менее среди «сведущих людей», знающих больше, чем присутствующие на заседании, утверждалось, что такие обвинения Зимину конечно же предъявлены были. Якобы академик Рыбаков обвинил Зимина в том, что он выполнял «сионистский заказ». Однако в стенограмме речи Рыбакова ничего подобного нет.
Зимин появился на второй день, а на третий день сказал свое заключительное слово. Вот там он, действительно, не удержался от политических обвинений в адрес своих противников, волею судеб оказавшихся за рубежом — Якобсона, Лесного…
Позже, когда в Россию приезжал сам Мазон и ему по его просьбе выдали в Институте истории ротапринтную копию работы Зимина, Александр Александрович и тут вспылил: «Без моего разрешения!» Мазон, ознакомившись с книгой, сказал свое слово в письме Малышеву: «Издание этого замечательного труда — дело чести советской Академии».
Хотя книга Зимина издана тогда так и не была, его гипотеза стала известна научным кругам по его тринадцати статьям, вышедшим в свет в 1965 году. Зимин вовсе не был «уничтожен» — его статьи печатались в таких авторитетных изданиях, как «Вопросы литературы», «Русская литература», «Археографический ежегодник», «История СССР», «Русский фольклор». Лихачев продолжал настаивать на полной публикации книги Зимина, о чем неоднократно писал в разные инстанции.
Карьера Зимина, увы, пострадала. По требованию академика Тихомирова Зимин был снят с поста заместителя председателя Археографической комиссии. К чести Зимина, он не держал на Тихомирова зла и в 1964 году написал Малышеву: «Под Новый год был у МНТ (М. Н. Тихомирова. — В. П.) и помирился со стариком». А когда Тихомиров умер, Зимин написал Малышеву: «Михаила Николаевича очень жаль — это был хороший человек и настоящий ученый».
Подводя итоги, можно сказать, что в общем все авторитетные, уважаемые ученые в этой истории вели себя достойно, и если «повергали» своих соперников, то не роняли достоинства — ни своего, ни противника. Другое дело — партийное руководство: там долго еще говорили о работе Зимина как об «идеологической диверсии».
Некоторое время спустя Зимин сумел-таки отделить научную критику от партийных проработок, и у него хватило ума и души восстановить сердечные отношения со своими коллегами, в том числе и с Лихачевым. С одной стороны — Зимин потерял надежду на академическую карьеру, с другой стороны, как вспоминает его ученик Каштанов, — «освободившись от карьерных соблазнов, он обрел большую внутреннюю свободу. Все свое время и энергию он мог целиком посвящать творчеству. За оставшиеся шесть лет своей жизни, будучи уже серьезно больным человеком, Зимин создал 11 книг, из них восемь научных монографий, одну научно-популярную книгу и два сочинения мемуарного характера».
У Зимина была опасная легочная болезнь — пневмосклероз, и он был вынужден много времени, и даже зимы, проводить в Крыму. Вот одно из писем Зимина к Лихачеву из Фороса от 2 января 1977 года:
«Дорогой Дмитрий Сергеевич!
Спасибо за дружеский презент (имеется в виду присланная книга — Лихачев Д. С., Панченко А. М. „„Смеховой мир“ Древней Руси“. — В. П.). Скажу Вам по секрету — мне кажется, что сборник во всех отношениях получился выдающимся… Сейчас в моей жизни наступила пора, когда хочется оглянуться на прошелестевшие опавшими листьями годы и многое продумать сызнова. Нас с Вами разделяет многое в характере мышления — но люди ведь бывают разные. И при всем этом, при налете горечи и обид я восхищаюсь Вашим красивым талантом и низко кланяюсь Вам за все доброе, что Вы сделали для тех, кто любит нашу многострадальную Русь.
Все личные досады и огорчения во мне замолкают, когда я думаю о Вашем жизненном подвиге.
С глубоким уважением, по-прежнему ересиарх Александр Зимин.
02.01.1977.
Валентина Григорьевна передает Вам свой поклон».
«Ересиарх» — это проповедник «ереси», считающий ее почему-то необходимой. Умер Зимин в 1980 году.
До сих пор все, кому не лень (а особенно кому лень вникать в суть), поминают загубленного Зимина. Но и Лихачев конечно же пережил это все нелегко. Прошла какая-то трещина, некоторые преданные прежде люди (но далеко, конечно, не все) как-то отдалились. Например, один из любимых учеников Лихачева, Дима Буланин, вдруг стал удаляться от Лихачева, сделался издателем и в 1990 году издал, наконец, многострадальную книгу Зимина полностью. Но, как и предполагал Лихачев, книга не стала сенсацией, тем более что в те годы на нас буквально обрушился поток прежде неизвестной замечательной литературы.
…Все же мучает вопрос: «А может ли настоящий интеллигент наносить „ответные удары“, да еще и столь меткие? Как это удавалось Дмитрию Сергеевичу? Не разрушает ли это образ мягкого, деликатного, столь внимательного к людям академика?» Оставим этот вопрос для размышления. Отметим только: Лихачев ответные удары наносить мог — и притом сокрушительные.
Зимин, проигравший Лихачеву, тем не менее вспоминается с симпатией и любовью. Что-то есть в его истории схожее с популярной русской сказкой о судьбе русского гения, нескладного Левши, который со всеми своими талантами по-настоящему своей державе так и не пригодился.
ЗАСТУПНИК
А книги Лихачева до сих пор на виду. Кроме трудов о древнерусской литературе, которую нам во всей полноте явил Лихачев, у него есть еще и много томов других интереснейших работ, даже вкратце пересказать которые в этой книге, все же не научной, хотя и посвященной ученому, невозможно. Но коснуться хотя бы некоторых надо, поскольку там содержится множество важных и тонких размышлений о литературе и жизни, которые и сейчас поддерживают наш интерес к классике.
В книге «Литература — реальность — литература» весьма впечатляют его размышления о Пушкине, Гоголе, Достоевском.
В анализе «Мертвых душ», например, поражает мысль о близости образа Манилова… с Николаем I. Казалось бы — что общего у слезливого мечтателя Манилова с властным, холодным государем? Однако Лихачев, великолепный знаток истории, подробно разбирающийся во всех тонкостях, убеждает нас. Черты романтической мечтательности, сентиментальности, оказывается, были присущи и жестокому Николаю I. Известна история, как однажды Николай, встретив на мосту бедные дроги с гробом воина-инвалида, вдруг покинул императорскую карету и пешком шел до кладбища. Известны и другие «маниловские причуды» в поведении Николая — он воздвигал романтические строения с сентиментальными названиями, однажды выстроил в парке простую деревенскую избу и «совсем просто» жил там, всем, кто проходил, представлялся «бедным инвалидом» — хотя все, конечно, знали, что это за инвалид.
В книге «Литература — реальность — литература» много пронзительных наблюдений, интересных не только читателям, но и писателям. Анализируя Достоевского, Лихачев пишет о том, что автор всячески избегал банальных ситуаций, предсказуемых мыслей — и всё у него скорее нереально и фантастично, нежели обыденно. А убедить читателя в достоверности происходящего он старается абсолютной точностью, документальностью «декораций» — скрупулезностью описания домов и улиц, называнием конкретно существующих адресов, точным числом шагов, которые прошел Раскольников до места своего преступления, и т. д.
Интересно написано Лихачевым об отношении Достоевского к времени: время у Достоевского на «коротком поводке» — обо всем рассказывается впритык, сразу после событий, что моментально создает ощущение тесноты, напряжения, торопливости — нужно решать и делать все быстро, «долгого времени» в романах Достоевского никому не дано. Перевозбужденный герой как бы торопит, мучает время, а время, не давая никакой перспективы для размышлений, подгоняет и мучает героя. Лихачев точно отмечает сумбурность диалогов, часто они без начала и без конца, смысл их не сразу ясен, они будто не сделаны для чтения, а подслушаны, являются случайными (а значит, достоверными) кусками жизни.
Рассматривая сочинения писателей XIX века, например загадочного и недооцененного Лескова, Лихачев делает такое открытие: «Стыдливость формы придает реальности». То есть — изложенное как бы неумелым, стесняющимся рассказчиком внушает большее ощущение достоверности.
Модному течению той поры, так называемому «чистому литературоведению», Лихачев противопоставляет созданное им «конкретное литературоведение». «Чистое литературоведение» шло от модного лозунга: «Искусство для искусства». Предлагалось рассматривать «чистую ценность» каждой строки, без каких либо «наценок», как то: биография автора (героическая или трагическая), сходство с жизнью (никак не повышает ценности текста), время создания (не нужно рассматривать, поскольку оно не убавляет и не прибавляет ничего к «чистой красоте» текста). Не случайно все эти модные «чистые литературоведы» вместо поэтического слова «поэма», «баллада» или даже просто «отрывок» больше используют сухое слово «текст», без каких-либо «эмоциональных добавок». Так какими же критериями оценивать текст? Предлагается некий набор малоубедительных способов.
Лихачев в ответ предлагает конкретное литературоведение, нечто пограничное между реальностью и литературой. Текст, а лучше сказать — строка, тем лучше, чем больше она «пахнет» временем, жизнью, массой других обстоятельств, диктующих строку, — так считает Лихачев, и с ним трудно не согласиться. Почему, спрашивает Лихачев, так волнуют нас строки:
Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. На третье в ночь.Потому, объясняет Лихачев, что здесь скрыто затаенное, присущее всем нам крестьянское чувство страха перед неурожаем: если долго не выпадает снег, озимые в земле замерзают, и грозит голод.
Что значит, спрашивает Лихачев, — «его лошадка, снег почуя…»? Какой такой дополнительной информацией, убедительной точностью эта строка волнует нас — хотя разгадку мы уже давно забыли? Люди, хорошо знающие лошадей, объясняет Лихачев, конюхи, крестьяне, кавалеристы — знают эту тайну: лошади, оказывается, подслеповаты и часто больше доверяются нюху, чем зрению. Поэтому «снег почуя» трогает нас почти забытой, но волнующей правдой. Такой вот тайный подтекст всегда обогащает строку, делает ее загадочной, многозначной, волшебной. В этой теории Лихачева звучит отзвук еще университетских штудий, семинара у знаменитого профессора Льва Владимировича Щербы — «семинара медленного чтения», когда они долго читали одну строку, стараясь понять все ее тайные смыслы. Например, в «Медном всаднике» долго изучали одну строчку — «не одолев их буйной дури», пытаясь понять, к чему относится слово «их» и какие еще тайные, вторые и третьи смыслы заложены в этой строфе.
Не побоявшись в очередной раз стать немодным, Лихачев заступился за классическую литературу, показал ее красоту, ее душу, не дал ее высушить, умертвить, «расчленить» заумным теоретикам, входившим тогда в моду.
Лихачев заступался не только за литературу. В 1960-е вдруг поднялась большая волна — взбаламученная властями, но поддержанная на этот раз и массами — идея обновления Невского проспекта. Я помню, ажиотаж тогда был большой. Многим тогда казалось, что от «обновления» обшарпанный Невский выиграет. Предполагалось полностью изменить первые этажи, сделать сплошной ряд витрин, и все эти помещения отдать ресторанам, кафе. Многие большие люди поддерживали эту идею — главный художник города, архитекторы, дизайнеры… В те годы слово «дизайн» стало самым приятным, отодвигая надоевшие термины — архитектура, политика… Надоело! Дизайн! Вот что спасет и украсит нашу жизнь! Помню, как мы выкидывали надоевшие, громоздкие бабушкины дубовые столы и медные люстры и, буквально дрожа от счастья, вешали красные пластмассовые бра, привезенные аж из самого Таллина! Дизайн! И пили кофе из керамических чашечек, привезенных оттуда же, гордо ставя их на «журнальные» столики с дрожащими паучьими ножками… Новая жизнь! Порываем со старым! Уже несколько новых ресторанов на Невском работали — например сейчас неизвестно куда канувший страшно модный тогда ресторан «Нева». Помню — даже обмывал там свой диплом. Одна стена — черная, поперек ее — красная! И все! Красота! Помню, как потирал руки мой друг Арканя, дизайнер: «Сколько работы предстоит! Весь Невский украсим!» Тогда для оформления ресторанов еще художников брали… и получалось отлично! И живописцы ликовали — и их картины наконец-то стены найдут себе! И вдруг — Лихачев… как тень отца Гамлета.
Вспоминает Гранин: «В шестидесятые годы возникла идея перестройки Невского проспекта. Я помню, как тогда Дмитрия Сергеевича это взволновало. Вместе с ним я присутствовал на заседании архитектурного художественного совета. Перестройка была намечена основательная. Нижние этажи всех домов предполагалось соединить в одну общую витрину, создать особое пространство, сделать его пешеходной зоной. Грандиозный проект во славу наших архитекторов и городского начальства, которое хотело себя увековечить и отличить. И вот началось обсуждение.
Дмитрий Сергеевич выступил с речью. Он доказал, что перестройка Невского губительна для всей культуры Ленинграда, России, через которую проходит Невский проспект. Я эту речь, если бы было можно ее разыскать, повесил бы в Архитектурном управлении. Мы его поддержали, но, конечно, именно она сыграла решающую роль и, прежде всего благодаря Дмитрию Сергеевичу, Невский был спасен».
В 1970-е много было разговоров о строительстве гостиницы «Ленинград» на берегу Невы, портившей «небесную горизонталь», и Лихачев выступил в прессе против этой гостиницы, что, говорят, испортило отношения Лихачева с зятем, архитектором Юрием Курбатовым, принимавшим участие в проектировании этой гостиницы. Лихачева это не остановило! Чтобы столько десятилетий спустя выяснить истину, пришлось обратиться к самому Курбатову.
Юрий Иванович, человек уже седой и почтенный, доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент двух академий — РААСН[13] и МААМ[14], сперва был со мной строг, подозревая, видимо, во мне агента «желтой прессы», но когда я стал рассказывать ему, сколько я уже знаю о Лихачеве, с каким интересом я прочел воспоминания его дочери Зины в «Нашем наследии», он немного оттаял.
— Сколько, вообще, людей ищут негатив! — сказал он. — И потом пытаются его продать! Но мои воспоминания о Дмитрии Сергеевиче лишь самые лучшие. Для меня было замечательной удачей — попасть в эту семью! Ведь моя любимая архитектура — продолжение слова, порождение идей! Когда нет мысли — нет и интересной архитектуры: упадок сразу касается всех сторон жизни. Поэтому роскошь языка, литературы, уровень мышления, с которыми я столкнулся в этой семье, вывели и мою работу на новый уровень. Влияние Дмитрия Сергеевича на мою жизнь я не могу сравнить ни с чем другим. И я старался держаться на уровне, и притом быть максимально полезным ему — был рад, когда моя помощь пригодилась в его работе над «Поэзией садов»… Относительно истории с гостиницей «Ленинград»… Хочу заметить, что архитектурная мастерская Сергея Борисовича Сперанского, народного архитектора СССР, где мне удалось поработать, была мечтой многих архитекторов, и не только молодых. В эпоху засилья типового строительства эта привилегированная мастерская была одной из немногих, где занимались не типовым строительством, а художественными, элитарными проектами — и таким проектом, безусловно, был и проект гостиницы «Ленинград». Ее строительству — на столь видном месте, на излучине Невы — уделялось большое внимание, и привлекались лучшие силы. Однако форма ее, вытянутый параллелепипед, установленная после многих замечаний и поправок, была тяжеловата, своей прямолинейностью не вписывалась в поворот Невы. И высота ее казалась тогда большой — 42 метра. Мы, однако, всеми силами пытались разнообразить хотя бы внутренний интерьер: я, в частности, разрабатывал криволинейное пятно — сад при входе в ресторан.
— Помню! — оживился я. — Не раз ходил по этой кривой дорожке! Рядом как раз был бар! Один раз я оттуда даже в милицию попал!
— Ну вот, — дождавшись окончания моих восторгов, продолжил он, — и вдруг однажды утром мой коллега Коля Каменский, один из авторов гостиницы, сын главного архитектора города Каменского, пришел на работу и, как всегда, развернул свежую газету. Нельзя сказать, что он трудоголиком был — и день всегда начинал с долгого чтения газет… Ну — сын главного архитектора города! Но человек, в общем, хороший. И вдруг — возмутился: «О! Эти гады академики разносят наш проект в пух и прах!» Я заглянул в газету и увидел под статьей подпись — Д. С. Лихачев. А ведь он знал, где я работаю, но это ни в коей мере не остановило его… Правда для него была важнее семейных отношений.
— Да? — спросил я Курбатова. — И как вам это? Не чересчур? Не думаю, что для вас это было слишком приятно.
— …Конечно, это был шок. Я посидел некоторое время, приходя в себя. В мастерской, кажется, не знали, чей я зять… Может, обойдется? Но потом все же встал и пошел к Сперанскому. Мой принцип — быть честным во всем. «Знаете, — сказал я Сперанскому, — в газете появилась разгромная статья о нашем проекте… что мы портим всю перспективу Невы». «Да, слышал об этом, — спокойно проговорил он. — И что?» — «Дело в том, что автор этой статьи, академик Лихачев — мой тесть». Сперанский был умный и очень порядочный человек. К тому же отличался быстротой реакции. «Ну и что? — тут же сказал он. — Идите и работайте».
— И ваши отношения со Сперанским не испортились?
— Да нет. Скорее, даже наоборот. До этого он как-то не выделял меня из общего числа сотрудников, а тут вдруг начал общаться и даже посылать в интереснейшие командировки: почувствовал мою откровенность, честность, что ли…
— А почему Дмитрий Сергеевич был против? Форма не понравилась? Слишком простая?
— Ну, не совсем так. Неверно считают его исключительно поборником старины, классицизма. У него еще в школе Мая был замечательный учитель рисования и черчения, который внушал им, по моде тех лет, что будущее архитектуры — в пересечении первичных геометрических форм.
— Кубизм?
— Конструктивизм. Так что Лихачев любил новую архитектуру. Из одной поездки даже привез мне альбом Корбюзье. Но в данном случае — многое было против. Как раз общественное мнение поворачивалось к сохранению исторического наследия, а при строительстве гостиницы предполагался снос исторического дома хирурга Пирогова. Против этого Лихачев и выступил. Кроме того — не устраивала его высота гостиницы — более 42 метров. Он писал, что в этой акватории есть уже одна доминанта — Биржа, и появление второй доминанты разрушит гармонию. В общем — был прав.
— А что дома? Как вы после этого с Дмитрием Сергеевичем… пили чай?
— Так же, как и раньше — абсолютно дружески. Тему гостиницы не затрагивали. Ну — Вере я, конечно, высказал свое огорчение… Но что делать? Общественное для него было выше личного! Об этом я и говорю во всех интервью…
— А вы как относились к реконструкции Невского? — спросил я Юрия Ивановича. Раз я сумел оказаться в его обществе — выясню заодно и эту тему, к которой прикасался Дмитрий Сергеевич.
— Тоже отрицательно. Я как раз тогда приехал из Вильнюса. Там было много новых интересных архитекторов. Здорово строили новые дома, но и на главной старинной улице перестроили интерьеры первых этажей. Что мне не понравилось. Приехал сюда — и тут на углу Невского и Литейного открылось как раз знаменитое кафе «Сайгон». Интерьеры полностью переделаны. И на стенах — петухи. И я тогда написал статью в «Ленинградскую правду» — «Нужны ли Невскому петухи?». Тут как раз приехали немецкие журналисты и стали говорить на встрече с Куртыниным, главным редактором «Ленинградской правды»: вы пишете только то, что вам велит ваша партия! И Куртынин показал им мою статью: «Вот, начальство за переоборудование Невского, а мы печатаем статью против!» Так что мы с Дмитрием Сергеевичем действовали независимо, но — в одном направлении. А его выступление на Градостроительном совете против реконструкции Невского было встречено аплодисментами!
…Да. Обуздал он не только власть, попытавшуюся нарушить традиции, но и хваткое, удалое племя художников… И Невский тогда остался, как был: в обшарпанных, но строгих фасадах.
А роль Лихачева в городе — и в стране — все возрастала. Его уже боялись — и прислушивались к нему. Хотя любили не все. Ему уже приходилось бороться не только с властями — порой недовольство его вызывали и «новые голоса».
Чрезвычайно знаменательна и довольно рискованна (для репутации Лихачева в глазах «передовой общественности») была его схватка с весьма модным тогда, чрезвычайно талантливым и смелым молодым казахским поэтом Олжасом Сулейменовым. Стихи его поражали яркостью, смелостью. Особенно его любили за то, что «вспыхнул» он в феодально-партийном Казахстане, где, казалось нам, все давно покрыто толстым слоем пыли и уже никогда не шевельнется. И вдруг! Помню, с каким упоением мы цитировали его яркие, дерзкие стихи: «Строители опять „строили“»…
В смысле — сообразили на троих.
«…Потом, как водится, стравили».
Цитирую по памяти — не хочется лезть в пыльный архив… Казахский ренессанс — вот чем был для нас Сулейменов! Олжас выпустил свою очередную лихую книгу «Аз и я», где среди прочих дерзостей вдруг высказал мысль о тюркских корнях «Слова о полку Игореве». Такой «вольности» Лихачев не мог простить даже «звездному» Сулейменову. И появилась суровая отповедь Лихачева — причем в партийной газете. «Правда», где он вполне обоснованно разбил все доводы Сулейменова. Разумеется, обвинений в национализме Лихачев не выдвигал, но зато постарались другие. Клеймо «буржуазного националиста» надолго прилепилось к Олжасу, и 17 лет его не печатали. Но популярность его не проходила, и он выдержал опалу и вернулся во славе. В одном из своих интервью он говорит об уважении к Лихачеву и его позиции и о том, что ни в коей мере не считает его «организатором гонений». Хотя смелость Лихачева в этом деле надо признать. «Приструнив» Сулейменова, он рисковал — клеймо «реакционера», «гонителя свобод» в те бурные годы можно было заработать легко — и надолго. Но Лихачев не уступил, стоял на своем. И не гнулся ни в одну сторону — ни «вправо», ни «влево». Он был заступником!.. Но порой — заступником идей, а не людей. Идеи для него были выше.
Но когда деятельность конкретных людей совпадала с его идеями — тут его заступничество было очень активным. И уж репутация «душителя» и «гонителя» никак не подходит к нему. Он столько сделал для поддержки и даже спасения новой литературы!.. Но только той, что была ему действительно по душе, а не навязана «капризной модой». Всеобщая любовь именно к Лихачеву — одному такому среди других великих — объясняется просто: другие великие кажутся «бронзовыми», в них уже не проникает ничто, а он многое любил действительно и горячо, в том числе настоящую литературу, и бился за нее.
Может, он и «приложил» сгоряча замечательного поэта Сулейменова, но зато скольких он поддержал, порой — рискуя! Именно он увлеченно и бескорыстно способствовал громкой славе замечательного петербургского поэта Виктора Сосноры. Это поэт трудный, не для толпы и тем более не «для начальства», чтобы услышать его, нужны были тонкий литературный слух и трепетная душа — и все это у Лихачева было, в отличие от многих увенчанных, но замкнутых в себе. Лихачев видел, что Соснора — человек неуправляемый, дерзкий, в те годы, как и многие из нас, бурно выпивающий, порой на грани и за гранью скандала. Но «чопорного», «аскетичного» Лихачева стиль письма и образ жизни Сосноры отнюдь не отпугнули — литературу он ставил превыше всего. Не просто зная, но «переживая душой» историю литературы, он не мог не чувствовать, что настоящее искусство всегда «на грани», на риске — и часто нуждается в спасении. И «сомнительного» для властей Соснору он спас. Конечно, особенно Лихачев полюбил Соснору за то, что тот поначалу писал «древнеславянские стихи». Первая книга Сосноры «Всадники» вышла в 1961 году со вступительной статьей Лихачева — без нее она бы не вышла.
Я всадник. Я воин. Я в поле один. Последний династии вольной орды. Я всадник. Я воин. Встречаю восход С повернутым к солнцу веселым виском. Я всадник. Я воин во все времена. На левом ремне моем фляга вина. На левом плече моем дремлет сова, И древнее стремя звенит. Но я не военный потомок славян. Я всадник весенней земли.Помню стихи Сосноры в чрезвычайно популярном тогда «Огоньке» с его миллионными тиражами. Появиться там — значило прославиться на всю страну. И Соснора прославился. И, конечно, именно благодаря вступлению, написанному Лихачевым, он оказался там. Помню ту глянцевую страницу в «Огоньке» и поразившие меня своей веселой музыкой «Песни Бояна». Конечно, можно сейчас раскопать в пыли на полке тот журнал, а тем более — отыскать строки в Интернете. Но то будет уже реставрация, реанимация. Главное, как это отпечаталось в душе и помнится до сих пор (пусть даже с какими-то ошибками).
И заиграл о Загорье, о загорелых ратниках, о тропках, что зигзагами уводят в горы раненых.Сказы и мифы хрустели в его руках, издавая (не без влияния Маяковского, Хлебникова, Бурлюка) диковинные звуки.
Аленушка, трудно? Иванушка, украли? Эх, мильонострунно играйте, играйте!И в конце:
Расторгуйте храмы, алтари разграбьте, на хоругвях храбро играйте, играйте! На парных перинах предадимся росту! Так на пепелищах люди плачут, поэты — юродствуют.Соснора — что для поэта вовсе не вредно — прожил бурную жизнь, мальчиком побывал на Кубани в партизанах, скрывался с ними в плавнях, о чем тоже написал — как умеет лишь он:
Фашист шевелюрою тряс импозантно. И падали, падали мы, партизаны!…и заканчивается, кажется, так:
И нету ни Дона уже, ни Кубани…Соснора необычен во всем. В поэты попадали тогда в основном геологи, потом — филологи, а он после армии работал на заводе, и экстравагантность поведения русского мастерового выделяла его из толпы: на «гениального слесаря» шли тогда толпой даже иностранцы.
Потом его на долгое время затмила блистательная московская когорта — Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. С некоторыми из них, особенно с Ахмадулиной, он дружил, все они им восхищались, но столь шумного успеха, как они, он не имел. Что-то в «эстрадном шуме» его не устраивало, ему интереснее была тихая, кропотливая возня с буквами. Один лишь раз прозвучал его дружеский упрек поэту Евтушенко, в стихотворении, посвященном ему:
Почему ты вышел в люди, а не вышел в море?Соснора так никуда и не выходит из «моря» букв (а зачем?) и постоянно находит там новые течения и глубины. И оказалось, что эта «игра звуков» долговечнее любой моды. Он далек от обычной узкой лирической тропки, по которой шли и идут многие поэты, но Лихачев выбрал именно его, и выбор был абсолютно безошибочный. Соснора — остался. И сейчас творческая молодежь обожает его, считает кумиром и эталоном, «неразменным рублем», не поддающимся никаким кислотам. Теперь он — уже глухой, с трудом выговаривающий слова, но ничуть не унывающий, счастливый своей работой, которую никто и ничто не в силах у него отнять.
…сани, сани, сани, сани, сани, сани… Наступают неустанно россияне.Соснора — один из главных поэтов века, его любила аж Лиля Брик!.. а вывел его в свет — Лихачев. Притом нельзя сказать, что Лихачев следует лишь за модой, непременно старается «быть в струе». Другой его любимый поэт — замечательный Александр Кушнер, которому он тоже очень помог, — поэт строгой нормы и живых чувств.
Много славных дел сделано Лихачевым. И даже если кто-то когда-то обижался на него, то хорошее, что он сделал, все равно перевешивает.
ТАЙНАЯ ПАПКА
На всех фотографиях рабочего места Лихачева мы видим заставленный и заваленный папками стол и так же заполненные близстоящие тумбочки, кресла и стулья. И в каждой папке — отдельная жизнь: любимая или не очень, рвущаяся наружу или дремлющая… Тайну этих папок знал только он один, только он чувствовал, к какой надо протянуть руку, а какая должна ждать своего времени, хранить тайну. Одну папку он так и не опубликовал при жизни, хотя все время добавлял в нее новые странички. И даже, умирая, ничего не сказал о ней — видимо, стесняясь. Но, наверное, все же надеялся, что ее откроют. А может — такая папка не одна? Ведь архив Лихачева до сих пор еще полностью не разобран, многие листки и пачки листов до сих пор еще все не прочитаны — и это еще больше поддерживает не гаснущий интерес к Лихачеву: а вдруг в его архивах откроется еще что-нибудь?! Вдруг к портрету безупречного академика, стойко выдерживающего все гонения и неуклонно идущего своим путем, добавится еще что-то?
И добавилось! К безупречному портрету классического академика (многие и считают его таким) добавилась тайная история переживаний и страданий, которые прежде он, видимо, не хотел открывать, скромно считая это излишним, отвлекающим от главных дел. И вот — открылось. Но лишь после смерти… Дачу уже продали, часть папок отдали в комаровскую библиотеку, и вдруг искусствовед Ирина Снеговая, прежде работавшая в Пушкинском Доме, а теперь занимающаяся историей Комарова, принесла Зине Курбатовой попавшую к ней лихачевскую папку с надписью, сделанной рукой Лихачева: «Зине и ее детям». Ясно, что имелась в виду внучка Зина. Она стала читать эту рукопись… и явился целый мир! Зина многое знала и о многом догадывалась, но многое изумило и ее. Прежде ей казалось, что деда, кроме науки, ничто не интересует, и он порой даже с несколько демонстративной сухостью отстраняется от всех семейных проблем: «Не мешайте работать!» Работа — главное в жизни для него, если не единственное. Дмитрий Сергеевич был словно красивый старинный шкаф, в котором все разложено по ящичкам, и на виду лежит то, что относится к науке, все остальное — пусть дожидается своего часа, свободного времени, которое появится, очевидно, лишь после смерти. Тогда уже пусть глядят! И — в этой папке открылась жизнь, полная страданий, которые строгий Лихачев не позволял себе обнаруживать. Эта его вторая, не публичная, семейная жизнь по драматизму ничуть не уступает внешней, видной всем. Теперь, когда уже эти чувства не повлияют на его равновесие, на подготовку очередного семинара или важную встречу, он словно сказал: «Ладно! Читайте!» Прежде он прятал больную душу и работал так, словно страдания не раздирали ее. Не показывал ее никому, как эту папку, и только после его смерти открыл. Его знаменитые «Воспоминания» заканчиваются возвращением с каторги, приходом в Пушкинский Дом, потом было еще «Как мы выжили в блокаду». После чего личная жизнь Лихачева как бы не существует. Далее — лишь научные книги. Именно это, как решил Лихачев, должно быть в центре общего внимания. Все остальное — в тени. И вдруг — эта рукопись!.. Вот, оказывается, с какой страстью, с какой ясностью Лихачев помнил и переживал все!.. Просто не счел возможным отвлекать внимание своими страданиями от самого главного — более необходимых, как он считал, научных книг. Видимо, толчком — и страшным толчком, побудившим его написать то, что в папке — послужила трагическая судьба дочери Веры… причем не только сама гибель, но — судьба!
Он начинает с событий давних, с рождения дочерей (эти странички использованы мною в главе «Возвращение», где говорилось о семье). Главное, что потрясает в этой папке — пронзительные воспоминания Лихачева о погибшей дочери Вере.
…Вера, по воспоминаниям Лихачева, отличалась от своей сестры-двойняшки Милы, была более активной и подвижной.
Когда дочки заканчивали школу, обе захотели заниматься искусствоведением. Казалось бы, это не сулит никакой драмы. Решили, что Вера будет изучать искусствоведение в Академии художеств, а Мила — в ЛГУ.
Когда Вере нужно было выбирать специализацию, то знакомый Лихачева еще по Соловкам, давний друг семьи Каллистов посоветовал выбрать тему Византии, поскольку тут есть связь и с Древней Русью, столь важной для семьи Лихачевых, и — выход в эпоху Возрождения. Вера все делала добросовестно, и чтобы лучше изучить Византию, кроме занятий в Академии художеств, ходила еще в ЛГУ и занималась греческим.
Вера замечательно училась в академии, и когда настало время определяться с работой, Каллистов посоветовал поступить ей в Эрмитаж. Хранительницей Отдела Византии и Ближнего Востока была Алиса Владимировна Банк. «Работает одна, уже пожилая, помощь будет нужна», — сказал Каллистов.
Лихачев посоветовался с другим знакомым — тоже «соловецким сидельцем», Анциферовым, у которого Алиса Банк училась: «Что она за человек?» — «Я ее простил!» — уклончиво ответил Анциферов и вдаваться в какие-либо подробности отказался.
Заведующий кафедрой зарубежного искусства Академии художеств Михаил Васильевич Добросклонский отмечал успехи Веры в византологии, но о планах ее поступления в Эрмитаж отзывался уклончиво. Какая-то опасность тут явно намечалась, хотя громко об этом никто не говорил. Может быть, если бы Дмитрий Сергеевич так активно не участвовал в ее судьбе, Вера сама бы почувствовала противодействие и поступила бы иначе, избрала бы другой путь. Но раз этого хотел сам Дмитрий Сергеевич — тема не обсуждалась. Вера только заметила, что когда она проходила практику в византийском отделе, ее поразил царивший там беспорядок. Но трудности предстоящей работы не пугали ее. Директор Эрмитажа Артамонов устроил Веру экскурсоводом, затем изыскал аспирантскую ставку в отделе Византии и издал приказ о назначении Веры. Сделано это было во время отпуска Банк. Оказалось, что это не случайно: властолюбивая Алиса Владимировна не любила намеков на свой возраст и отнюдь не нуждалась ни в каких помощницах, которые явно метят на ее место. И — началась война. Алиса Владимировна всюду, где могла, сообщала: «Дочка у Лихачева бесталанная, но всемогущий папа толкает ее!» Лихачев страдал. Понимал, что его имя и помогает дочке — и сильно мешает. Как бы успешно ни работала она, злонамеренные люди будут шептать: «Дочь Лихачева!» Понимал, что это месть людей ему, элементарная зависть: «О! Вознесся!» И от этого никуда не денешься. Оборотная сторона славы. Его тронуть боятся — мстят дочке.
А ведь Вера так старалась, столько работала!.. За что это ей? Когда в профкоме образовалась путевка в Англию и Вера хотела поехать, Банк отказала ей в положительной характеристике под предлогом: «Не участвует в общественной работе». Хотя добросовестная, отзывчивая Вера всегда выполняла все, о чем ее просили.
Приближалось время защиты диссертации. Иметь у себя в отделе такую специалистку, кандидата наук — явно не укладывалось в планы Банк. Она вдруг пригласила Лихачева в Эрмитаж для «беседы по душам». Они сели с ним в зале Малых голландцев, и Алиса Владимировна начала внушать Лихачеву: к сожалению, его дочь лишена исследовательских способностей, не умеет мыслить и даже просто как-то увязать отдельные явления между собой. Обвинений в адрес Веры было много, но Лихачев, вполне подготовленный, методично и убедительно разбивал все обвинения Банк. Отбив все удары, Лихачев встал и удалился.
К предзащите Вериной диссертации в Отделе Византии Алиса Владимировна тщательно подготовилась, подготовила и тех, кто должен был выступить. Особенно резко высказывался профессор М. С. Лазарев. Предзащита была провалена.
Дмитрий Сергеевич, как мог, успокоил расстроенную дочь, и, посовещавшись, они нашли выход: защищать диссертацию не в Эрмитаже, а в Академии художеств, где Веру любили. На защиту ее диссертации в Академию художеств пришла Алиса Банк с большой «группой поддержки», собираясь сорвать защиту. Но здесь было не ее царство! Защиту вел проректор академии профессор И. А. Бартенев. Он сразу же объяснил Банк, что она не может выступать, потому что научным руководителям запрещено говорить о работе соискателей, а Алиса Владимировна вначале была научным руководителем Веры.
Защита прошла успешно. Но Банк подняла почти весь Отдел Востока, и они написали письмо в Москву, в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), где утверждаются все диссертации. Профессор Лазарев даже написал свое отдельное письмо.
Вера к тому времени вышла замуж за Юрия Ивановича Курбатова, архитектора, и у них только что родилась дочка Зина. Вера приехала в ВАК с грудным ребенком и с другой Зиной — Зинаидой Александровной, женой Дмитрия Сергеевича, своей мамой. Когда Веру вызвали в кабинет, она оставила Зину на руках у Зинаиды Александровны.
Вера блестяще ответила на все вопросы комиссии, опровергла все обвинения, содержащиеся в присланных из Эрмитажа письмах. Доказала свою научную правоту. Не обошла и детали: пояснила, что те фразы, в которых указаны стилевые неточности, являются цитатами, принадлежавшими другим авторам, причем некоторые — профессору Лазареву. После обсуждения диссертация была утверждена. Вера вышла в коридор и покормила дочку.
Лихачев, вспоминая Веру, пишет о ее собранности, силе ума и характера. Вспоминает, как они с Верой, когда у нее от всех переживаний открылась язва, вместе были в Кисловодске, много ходили, разговаривали.
Вышла их совместная книга «Художественное наследие Древней Руси и современность». Книга замечательная — но опять начались усмешки: «Папа написал!» Лихачев снова переживал: когда же люди, наконец, поверят, что у знаменитого ученого может быть талантливая дочь? Неужели — никогда?!
Литературовед Александр Рубашкин вспоминает, как однажды Лихачев обратился к нему:
— Неужели и вы думаете, что книжку написал я?
— Нет, — ответил Рубашкин, — думаю, что про литературу написали вы, а про живопись — она!
— Верно! — обрадовался Лихачев.
Защита Вериной докторской прошла уже гораздо легче — авторитет ее был несомненен, все уже убедились в таланте Веры, поняли, что все свое она делает сама, и делает хорошо. Уже у нее было много хороших книг, она читала замечательные лекции. Привлекал и ее характер — скромный, сдержанный, отзывчивый.
Хорошо шла и домашняя, семейная жизнь. Муж Веры, архитектор Юра Курбатов, зарабатывал достаточно, чтобы съездить в Финляндию и купить там машину — правда, нашего «москвича», но в то время и это было шикарно. Они стали много ездить, бывали, например, в селе Рождествено, смотрели дом Набокова, которого Вера очень любила. Как раз были изданы, после долгого перерыва, Пастернак, Цветаева, Мандельштам. Вера знала их наизусть, часто читала.
Лихачев вспоминает, как они однажды были в Новгороде и как замечательно провела Вера экскурсию — выразительно, коротко, отчетливо, ни одного лишнего слова. Вообще — она была немногословна, не терпела телефонной болтовни — только по делу. Отличалась замечательным тактом, подходом к людям. Лихачев много написал об этом в той папке: например, как вдруг у него испортились отношения с его учителем, Владиславом Евгеньевичем Евгеньевым-Максимовым, и только Вера сумела их восстановить. Профессор Евгеньев-Максимов, человек уже пожилой, вдруг стал холоден с Лихачевым: похоже, завидовал его успехам и даже его зарубежным поездкам. Сам Евгеньев-Максимов оказался невыездным. Однажды Лихачев поделился своими переживаниями с Верой — и та все устроила: легко, не напряженно, естественно и как бы само собой. Вера как раз вернулась из Англии, где познакомилась с ученицей Евгеньева-Максимова — Дики Пайман, и чтобы рассказать о ней, пригласила Евгеньева-Максимова в гости. Вечер прошел чудесно, Евгеньев-Максимов подобрел, снова потеплели их отношения с Дмитрием Сергеевичем. И нигде Вера не совершила ни одной ошибки, ни разу не сказала ничего такого, что бы вызвало его зависть: ведь Евгеньев-Максимов, несмотря на все заслуги его, за рубежом не был ни разу.
Лихачев вспоминает, как Вера быстро и красиво накрывала на стол, как умела для каждого гостя найти тему, близкую ему, и все уходили счастливые. Была всегда подтянутой, деятельной, работала много — и всегда четко, нацеленно… словно знала, что отведено ей немного.
Однажды зашедший в гости профессор филологии Виктор Андроникович Мануйлов, всерьез увлекавшийся гаданиями по руке, предсказал Вере короткую жизнь. Вера побледнела. Мануйлов, спохватившись, стал оправдываться, что-то бормотал…
Гибель ее выглядит нелепой и случайной, но на самом деле — во всем есть тайная закономерность, характер формирует судьбу, навевает надежды — и предчувствия. Потом, когда горе уже случилось, вспоминаются даже какие-то знаки судьбы. В сознание Дмитрия Сергеевича впечаталось, как однажды мальчик попал под трамвай, в котором ехал Лихачев, и он видел лицо мальчика, когда его ноги попали под колеса. С тех пор «тема транспорта» у Лихачева вызывала ужас. С детства Вера словно играла с этой опасностью — убегала от няньки через дорогу. Когда они переехали на Басков переулок и ездили в старую школу на трамвае по улице Салтыкова-Щедрина, каждый день Лихачев волновался. И о волнениях своих написал в этой папке, которую «позволил» прочесть только после его смерти… Подыскали школу поблизости — на улице Маяковского. Как Вера не хотела переходить в новую школу: бросалась на колени, умоляла!
А когда вышла замуж, муж Юра приобрел машину — сначала был «москвич», потом «жигули». Лихачев волновался, умолял Юру (и Вера тоже водила!) ездить осторожно. «Как было страшно, — пишет Лихачев, — когда однажды по крыше машины ударил шлагбаум!»
«При всей ее деловитости и аккуратности, — вспоминал Лихачев, — Вера всю жизнь спешила, словно знала, что время ее ограничено — со всеми ее статьями, диссертациями, поездками за границу. И как много она успела! Когда мы с мамой ездили по Волге — в каждом музее были Верины ученицы, и говорили о ней с уважением и благодарностью.
Вера и дома работала как автомат — быстро накрывала на стол, быстро убирала со стола, быстро мыла посуду. Когда на Пасху шли в Шуваловскую церковь к могилам родственников, убирала их… И погибла она по-своему прекрасно — спешила на родительское собрание».
В парке Лесотехнической академии, возле которого, на Втором Муринском, жила вся семья Лихачевых, есть место, где много гаражей, автобаз. Там Вера и погибла — обходила спереди стоявший у тротуара грузовик и попала под легковую машину.
«Я больше всего боялся за девочек, — пишет Лихачев. — Учил их, переходя улицу, смотреть сначала налево, потом направо… Налево она не посмотрела. А направо уже не успела посмотреть!»
Когда погибла Вера, Лихачевы-старшие были в поездке… Очевидцы вспоминают, как их привезли на машине к дому, как они вышли и медленно пошли под руку — немолодые уже люди.
Александр Рубашкин вспоминает, как его сестра-медик, вместе с мужем-реаниматологом, жившие в том же доме, пытались привести Лихачевых в норму. Лихачев отказался смотреть на мертвую Веру до похорон.
Лихачев вспоминал: «Вера и Мила (Мила тоже стала искусствоведом, работала в отделе Древней Руси Русского музея. — В. П.) благодаря своим красным музейным книжечкам проводили нас всех в музеи, в дом Китаевой, в Павловске — на выставки костюма, портрета, мебели… Вера с Юрием Ивановичем и Зиной ездили в Пушгоры».
Вспоминаются более ранние записи Лихачева: «Интеллигентность создается незаметно, воспитывается в разговорах, в выборе мест для прогулок, в замечаниях по поводу виденного».
По воспоминаниям лихачевской сотрудницы Н. Ф. Дробленковой, горе было всеобщим:
«Как трагический финал последних „проработок“ Лихачева прозвучало для всех нас известие о внезапной смерти 11 сентября 1981 года дочери и соавтора Дмитрия Сергеевича, Веры Дмитриевны Лихачевой. Она была сбита машиной, которая внезапно вынырнула из-за угла, как будто именно ее и поджидала. В этом году вышла четвертая ее книга „Искусство Византии IV–XV веков“, но уже с некрологом Г. К. Вагнера.
Хоронили Веру Дмитриевну на Комаровском кладбище. Накануне мне передали просьбу Дмитрия Сергеевича прийти с фотоаппаратом. Однако день был пасмурный, моросил мелкий дождик, лесное кладбище было слишком темным: и хотя я, заливаясь слезами, отсняла всю пленку, ни одного кадра не получилось. В памяти нашей Вера Дмитриевна Лихачева навсегда осталась живой.
Дмитрий Сергеевич держался спокойно, но когда первый ком земли упал на крышку гроба, раздался его стон и он быстро пошел к воротам кладбища…»
Лихачев сам нарисовал крест для могилы Веры по северным русским образцам. Захотел делать его из дерева: если поставить мраморный — будет ли теплым?! Потом целовал крест: теплый! Натирал крест воском — и дождь скатывался с него… Сейчас они лежат рядом.
Памятник на могиле В. Д. Лихачевой на Комаровском кладбище. Крест по северным русским образцам выполнен по наброску Д. С. Лихачева. Рисунок И. А. Бартенева. 1983 г.
Записки Лихачева в «тайной папке» начаты уже после смерти Веры и ее похорон.
«…На Вериных похоронах шел дождь. И под дождем над головами и зонтами собравшихся летала какая-то большая птица».
«…Синицы прилетали, когда я был на кладбище и думал о Вере… Перед отъездом в Узкое (санаторий Академии наук. — В. П.) я ходил на кладбище, и я громко обращался к Вере: „Слышишь ли меня?“ — и просил ее помочь воспитать Зиночку счастливым и хорошим человеком. Прилетела маленькая птичка и трижды издала писк, похожий на приглушенный звонок».
Лихачев, расчувствовавшись, уходит от своего строгого научного восприятия, позволяет себе отнюдь «не научные» наблюдения:
«Однажды на дачу зашла знакомая, знавшая Веру с детских лет — и вдруг птица со всего размаху ударилась о стекло нашей спальни. Но не упала, сделала круг и снова ударилась в стекло, упала и лежала, как мертвая. Но ожила».
Открылась больная, кровоточащая лихачевская душа. Лихачев в этих записях так откровенен, что рассказывает даже свои сны:
«…Сажусь в машину с Зиной, и вдруг вижу — не Зина, а Вера!»
…Дочка Зина, действительно, очень похожа на маму!
Другая запись Лихачева:
«…B 1982 году на поминки 11 сентября во сне появилась Вера. „Будут пирожки с мясом!“ — но слово „поминки“ не сказала… словно не хотела признавать, что ее уже нет… На Комарове кое кладбище приехал целый автобус от Академии художеств… Могила была очень красивая, и Игорь Александрович Бартенев восхищался крестом (деревянным)… Были пирожки с капустой, самодельная вкусная семга, миноги, индейка, рыбное заливное. Все очень хорошо говорили о Вере. Подчеркивали ее воспитанность, ум, такт, лучезарность, женственность, приветливость к людям, к молодежи и ученикам. Когда выходили ее книги и статьи, они всегда поражали серьезностью. Не подозревали в ней столько воли, смелости, способности к борьбе и умения сохранять спокойствие. Ее хорошие отношения с иностранными учеными объяснялись ее женственностью, воспитанностью, умением себя держать, интеллигентностью. После печальных тостов, когда пора уже было уходить, поднялся общий интересный разговор. Лучше всех о Вере говорили — Дмитриев, Юзбашьян, Медведев, Гривнина, Бартенев (сказывается все же дворянское воспитание)».
Еще одна запись Лихачева:
«Сегодня 2 мая. В этот день Вера всегда выносила кресло в сад — даже если еще лежал снег. Садилась в кресло и, закрыв глаза, загорала. Когда не смотрели на нее, лицо ее делалось скорбным и усталым. Сколько ей пришлось пережить!»
И Дмитрию Сергеевичу — тоже.
…Написание истории семьи Лихачевых продолжил автор не совсем «ожиданный»: внучка Зина. Наверное, неслучайно мудрый и проницательный Лихачев именно ей завещал свою «тайную папку». И записки Зины явно подсказаны «тайной папкой», завещанной ей. Именно она продолжила описание семейной жизни Лихачевых — так же пронзительно и откровенно, как ее дед.
Нелегко в детстве остаться без мамы. Трагедия ужасна еще и тем, что не заканчивается сама собой, а неизбежно прорастает в будущее, губит и его. Наблюдательнейший Даниил Александрович Гранин рассказывал мне: «Когда мы узнали о несчастий, собрались с Риммой и поехали к Лихачевым. Дмитрий Сергеевич сначала не мог говорить. Потом все же взял себя в руки и заговорил — о том, какая замечательная была Вера: умная, талантливая, красивая, как ее все любили и уважали. Он говорил очень долго — и вдруг Мила встала и вышла из комнаты».
Трагедия с Верой ударила и по второй дочке. Всеобщее внимание и любовь к Вере, вызванные ее гибелью, вдруг стали обижать Милу: «А она что? Ничто?» Некоторые близкие говорят, что для обид ее были основания: Дмитрий Сергеевич больше внимания уделял Вере, оказавшейся более способной, добившейся больших успехов в науке. Но это, скорее, домыслы. После гибели Веры Мила стала для отца опорой в жизни, помогала ему во всем, когда он уже ослабел, ездила с ним за границу, была рядом с ним в самых трудных, ответственных делах. Но какая-то ревность, похоже, осталась. И отразилась она больше всего на той, что больше всех походила на Веру — ее дочке Зине. Воспоминания Зины были опубликованы только в юбилейном лихачевском 2006 году, в журнале «Наше наследие».
Начинает она с ранних воспоминаний: как они с ее другом детства Васей Кондратьевым, сыном академика, строили песчаные крепости на берегу залива в Комарове.
Внучка Зина вспоминает деда еще относительно молодым, веселым. Даже о Соловецком лагере он рассказывал весело, все это выглядело почти как сказка: заключенные построили из белого кирпича огромного слона (СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения), и на слоне была выложена красным кирпичом буква «У», что означало — управление. Управление СЛОНА. Зине тогда казалось — по рассказам деда, — что это такая веселая игра, а Соловецкий лагерь — это нечто вроде пионерского.
Но главная часть ее воспоминаний относится к более позднему времени, когда вся семья Лихачевых собралась в квартире на зеленой окраине города, на Втором Муринском проспекте, у парка Лесотехнической академии.
Лихачеву, с большим его семейством, предлагали и другие квартиры — например, в знаменитом старинном Доме академиков, сплошь увешанном мемориальными досками, на углу набережной и 7-й линии Васильевского острова. Выбирая квартиры — мы выбираем жизнь, а не только какие-то стены. Дом этот был совсем близко от Академии художеств, где потом Зина стала учиться, и приезжая сюда со Второго Муринского, она чувствовала себя, как признавалась сама, «девочкой из провинции». А если бы они жили возле Академии, с видом на Неву… Было бы все по-другому? Уже не узнать.
Решал все Дмитрий Сергеевич — и никто с ним не спорил. Ему эта квартира в престижном Доме академиков не понравилась. Другим, может быть, эта квартира и добавила бы важности. Но Лихачев был этому чужд. «Я не типичный академик! — говаривал он. — …Чванства нет». Так что критерии были другие. Как пишет в своих воспоминаниях Зина: «Квартира показалась слишком темной. Сам дух Васильевского острова, с его уходящими в вечность туманными линиями, темными подворотнями и сомнительными обитателями был ему не близок».
Как всегда в этой семье, все подчинялись «патриарху» — он искал спокойное место для работы, не перегруженное излишними эмоциями (как Васильевский), — и нашел: выбрал квартиру на окраине города, на Втором Муринском проспекте. Что слишком далеко от «петербургских мест» — его это не волновало, он за свою долгую жизнь был уже «переполнен Петербургом», знал все необходимое для его работы, а что девочки вырастут на окраине — это казалось не таким важным. Дмитрий Сергеевич достаточно заботился о их воспитании, занимался ими непрестанно!..
А квартира на Муринском была действительно просторной, светлой. Были и гостиная, и кабинет Дмитрия Сергеевича, и комнаты для дочек с мужьями и внучками.
У Дмитрия Сергеевича был культ семьи, в ней он старался найти успокоение от невзгод.
Зина вспоминает свое любимое место в квартире — под письменным столом деда, возле корзины для бумаг. Она был медной, вставленной в настоящую, шершавую ногу слона. Мечтательно обняв ее, Зина погружалась в счастливое созерцание. «Запах герани, пыль, кружащаяся в солнечном свете, запертые за стеклом красивые книги»… Не случайно потом Зина выбрала профессию художника книги.
Книг было множество — в шкафу, на столе, на креслах. Лихачев восклицал в отчаянии: «Я погибаю от книг!» Кроме книг, нужных для работы, были еще подаренные книги коллег, книги, на которые требовалась рецензия, отзыв. Но главное в его кабинете — это собранная им огромная библиотека. В ней были, например, все издания «Слова о полку Игореве». Книги, по разрешению Дмитрия Сергеевича, можно было брать — но по прочтении обязательно ставить на место. Зина вспоминает весьма грозный крик деда: «Где Достоевский? Почему не на месте?» Воспитанию внучек уделял большое внимание. Давал им смотреть самые разные журналы, но при этом (трогательная деталь) удалял ножницами картинки, которые считал неприличными.
Во всем был старорежимным. Даже к завтраку выходил в галстуке. Был щеголь, любил красивую одежду — шляпы, кепи (кепка из Парижа, кепка из Хельсинки), «галстухи», как он называл их на старинный манер. Любил грустно пошутить: «Сегодня бы я мог в новом синем костюме делать доклад в Лондоне». Несмотря на многочисленные приглашения, за границу его пускали редко. Был педантом — в шкафу аккуратно были сложены коробки с обувью, на которых были надписи его летящим почерком — например: «Ботинки Лихачева для слякоти № 2».
Работал, когда был дома, очень долго, и все это время запрещалось шуметь. Зина вспоминает, как облегчение, резкий скрип дверей: это значило — Дмитрий Сергеевич шел отдыхать. Иногда включал телевизор. Любил передачи «В мире животных», «Клуб кинопутешествий», и даже познакомился и дружил с ведущим «Клуба» Юрием Сенкевичем. Другие передачи, особенно политические, не терпел. «Новости» стал смотреть лишь с началом перестройки. Любил английские фильмы, где, по его мнению, абсолютно точно переданы костюмы и дух эпохи. Ненавидел советское бодрячество — и фильм «Волга-Волга» внучки смотрели без него.
В 1970-е годы родители Зины Вера Дмитриевна и Юрий Иванович стали собирать старинную мебель, покупали красное дерево в комиссионке на Марата. Юрий Иванович замечательно реставрировал, квартира стала очень красивой и уютной. Дмитрий Сергеевич сначала возмущался: «Мещанство, стыдно, недостойно!» — потом эту обстановку, напоминавшую ему детство, полюбил, и когда приходили его фотографировать, садился на кресла с лазурной обивкой, и за спиной были полосатые занавески, ламбрекены.
В институте он всегда появлялся безупречно одетый, спокойный, благожелательный — но какие страдания при этом скрывал он в своей душе! В семье все было отнюдь не гладко.
Мама Лихачева, Вера Семеновна, оказывала большое влияние на жизнь семьи — вспомним хотя бы, как она учила с ними в Казани стихи Ахматовой. Вера Семеновна прожила свою, особую жизнь. Как положено «светской даме», нигде не работала, но при этом требовала от сыновей успехов в обществе и часто бывала ими недовольна (вспомним, как в Казани она упрекала Дмитрия Сергеевича за то, то он еще кандидат, а она уже дружит с сестрой академика Тарле!). Звание члена-корреспондента Лихачеву дали в 1953 году, а затем, к неудовольствию Веры Семеновны, звание академика долго не давали, «прокатывали» на голосовании три раза!.. Не так уж безобиден мир науки! И лишь в 1970-м Лихачев получил звание академика! Вера Семеновна прожила жизнь долгую и умерла в 1971 году, все-таки успев увидеть своего сына академиком.
Однако жизнь Лихачева с годами не делалась легче, а наоборот — тяжелее. Дочь Вера, которую он явно готовил в помощницы в своей научной работе, нелепо погибла. Судьба второй дочери, Милы, тоже оказалась несладкой.
В 1958 году Милу и ее подругу Ивкину исключили из комсомола за то, что они самовольно уехали из колхоза, куда, по обычаю тех лет, послали студентов университета (она училась на искусствоведческом). Лихачев повел себя в этой ситуации удивительно (видимо, сказалась его тайная ненависть ко всему советскому): «Из комсомола? Ничего страшного!» Исключать их из университета не стали, а послали на «исправительные работы» — на стройку в городе, где работали и другие «провинившиеся» в чем-либо перед комсомолом. На этой стройке Мила и познакомилась с Сергеем Зилитинкевичем — человеком, который сыграл немалую роль в истории их семьи.
Те события трактуют по-разному, и я решил обратиться к непосредственному свидетелю, который был тогда в самой гуще событий, — Юрию Ивановичу Курбатову. Он был женат на Вере, а Сергей Зилитинкевич женился на Миле. Так что общались они довольно тесно.
По поводу Сергея и Милы сначала, как водится в приличных семьях, была тревога: что за скоропалительное знакомство, так быстро перешедшее в близость (что молодые и не скрывали). Были экстренные встречи родителей — к счастью, семья Зилитинкевичей была вполне приличной, глава семьи был профессором Политехнического института, сын учился в университете на физическом факультете.
Был он невысокого роста, но очень складный, ловкий. «Этакий симпатичный кузнечик! — с улыбкой описал его Юрий Иванович. — Лицо довольно красивое, интеллигентное».
Правда, он один раз уже попал в «историю», благодаря чему и оказался на «исправительных работах»… но ведь и Мила там оказалась! Молодым свойственно порой бунтовать против рутины. А «прегрешение» Сергея не было таким уж особенно страшным — тем более с точки зрения Лихачева. Сергей всегда старался быть модным, поэтому вдруг нарисовал несколько абстрактных картин и выставил их на факультете, что сочтено было «идеологической диверсией». Впрочем, судили тогда уже не слишком строго. Молодые поженились. В 1959 году у них родилась дочка Вера. Единственным, кто сразу не принял Сергея, была мать Лихачева Вера Семеновна. Несмотря на преклонные годы, она держала «великосветский тон». Но она вообще была слишком властной — ей не нравился никто, с кем ее сыновья и прочие родственники связывали свою судьбу. По воспоминаниям Зины, Вера Семеновна, увидев Сергея, одетого как нормальный «стиляга» тех лет, высокомерно расхохоталась.
«Было недолгое время благоденствия, — вспоминает Юрий Иванович. — Помню, мы все вместе снимали дачу в Зеленогорске, на Лиственной улице. Дмитрий Сергеевич был очень доволен, светел. Все было хорошо. Обе дочери вышли замуж за симпатичных, талантливых молодых людей… Дмитрий Сергеевич много работал в своей комнатке — он писал тогда книгу „Текстология“, которую многие из специалистов считают лучшей, самой глубокой из всех его капитальных трудов.
Жили дружно. Что я замечал — но тогда вовсе не считал это недостатком, — поразительную сообразительность, быструю реакцию Сергея Сергеевича. Зинаида Александровна утром кормила всех перед отъездом на работу кашей — и помню, каша у нее получалась почему-то с комочками. Сергей Сергеевич, съев одну ложку, вдруг кидал взгляд на часы и восклицал: „Ой, опаздываю!“ — и убегал. И это повторялось каждое утро. А я послушно доедал кашу до конца».
Разговор наш с Юрием Ивановичем происходил в его квартире на Каменноостровском. Потолки были довольно высокие. Но было не совсем ясно: новый дом или старый?
Юрий Иванович, архитектор и знаток истории архитектуры, дал исчерпывающий ответ:
— Это послевоенная пристройка к старому дому. Но выполненная очень известными архитекторами — Гурьевым и Фромзелем, построившими тогда много домов на Каменноостровском. Знаете, например, дом 17, где Райкин жил?
— Да.
И мы вернулись к главной теме.
— Зилитинкевич был уникальный человек! — сказал Юрий Иванович. — С поразительной амплитудой… в том числе и в моральном смысле. От, — Юрий Иванович показал на потолок, — и до! — указал на пол. — Ничего, в том числе и советской власти, он абсолютно не боялся — и делал все, что хотел. Способности у него были блестящие и всесторонние — среди всего прочего, он отлично ладил с нужными людьми. И когда Московский институт океанографии решил завести свое отделение в Ленинграде, его директором без колебаний назначили молодого, талантливого ученого Сергея Сергеевича Зилитинкевича, обладавшего, помимо прочего, выдающимися деловыми качествами.
Беспокойство, по словам Юрия Ивановича, стало возникать как-то постепенно и проступило вначале в отношениях Сергея и Милы: его жизнь была как-то непрозрачна, он часто не говорил, куда и насколько уходит… И вдруг — следствие, арест! По версии следствия, Зилитинкевичу и его заместителю Барангулову вменялись весьма серьезные злоупотребления служебным положением. Если верить обвинению — Зилитинкевич был одним из «пионеров» столь распространившегося сейчас «распила денег», выдаваемых как бы на нужды науки… Сейчас, увы, это стало почти обыденностью жизни многих предприятий и министерств. Его изобретательный ум открыл «ворота в будущее», ставшее эпохой коррупции. Но тогда таких «пионеров» еще строго наказывали. Нельзя сказать, что Зилитинкевич открывал «ворота в будущее» совсем без страховки. Он умел просчитывать все, или почти все. Его заместителем в институте был Барангулов, сын какого-то крупного партийного деятеля Узбекистана. Тогда тоже были «крыши», и пока Барангулов имел такую защиту, никакой следователь не посмел бы возбудить против него дело. Но тут как раз началась громкая история с разоблачением узбекских вождей, руководство страны решило «сдать» слишком зарвавшихся узбекских начальников — видимо, для того, чтобы улучшить свою собственную репутацию. Помнится, тогда вся страна жила этими событиями. Следователи узбекского дела — Иванов и Гдлян затмили в ту пору всех телезвезд, даже Аллу Пугачеву. Вся страна с замиранием смотрела на экраны: неужели что-то началось? Неужели действительно накажут партийных руководителей такого ранга… пусть даже и в далеком Узбекистане? Неужели началось то, что все так давно ждали: разоблачение злоупотреблений властей — пусть даже начавшееся с окраин? Конечно, подавалось это не как «разоблачение», а, наоборот, как «очищение рядов», и без жертв тут было не обойтись. Руководство проявляло в этом деле определенную настойчивость. И вот, как только разоблачения в Узбекистане дошли и до родни Барангулова — тут же арестовали и Барангулова-младшего и Зилитинкевича. Можно сказать, что они попали под «кампанию» — в то время дела, связанные с узбекскими разоблачениями, расследовались с особой, показательной строгостью. Конечно, сиял тут и «зуб», который власти давно имели на Лихачева — как не воспользоваться таким шансом? Для них тут сразу многое «удачно сошлось» — поэтому дело велось с особым рвением.
Дмитрию Сергеевичу «дистанцироваться» от этого компрометирующего его события никак не удалось. Дочь Мила в отчаянии требовала все более активного его вмешательства. Дмитрий Сергеевич дошел до главного прокурора города. Как рассказывал Юрий Иванович, есть версия, будто бы прокурор сказал Лихачеву: «Вы хоть знаете — кого вы защищаете?!» — и показал Дмитрию Сергеевичу весьма компрометирующие Зилитинкевича снимки «веселых вечеринок». Лихачеву пришлось вынести и это и, более того, продолжать свои усилия в этом направлении: состояние Милы было весьма тяжелым, и отойти от этого дела Дмитрий Сергеевич не мог. При этом он не мог и не понимать, какой урон наносит эта его деятельность его престижу (академик покрывает преступника!) — и насколько труднее будет теперь «работать с властью» для достижения главных его задач, для защиты культуры. «Не много ли сразу просите? — могли теперь сказать они ему. — Выбирайте что-нибудь одно!» Но и это пришлось ему перенести.
Внучка Зина в сделанном ею фильме «Частные хроники», посвященном Лихачеву, упоминает его письмо, в котором содержатся такие слова: «Мебель продали удачно. Теперь можем нанять хорошего адвоката». Дело Зилитинкевича рассматривалось судами очень долго и, усилиями опытнейшего адвоката Яржинца, постоянно пересматривалось, и все больше проступала тема: Зилитинкевич пострадал невинно, власти таким путем пытаются подобраться к неприступному Лихачеву и воздействовать на него. Тема эта становится довлеющей, и передовая общественность горячо поддерживает эту версию. Разоблачать происки власти было тогда самым важным занятием интеллигенции. И надо сказать, власть многое делала для того, чтобы ее не любили. Была сурова. Предприимчивость каралась, как и инакомыслие. Хотя к инакомыслию многие уже относились одобрительно… впрочем, как и к предприимчивости.
Александр Васильевич Лавров, теперешний академик, пишет в своих воспоминаниях: «В январе 1981 года мы с моим другом и соавтором Сергеем Гречишкиным собирали письма в защиту нашего общего друга, известного литературоведа и переводчика Константина Азадовского, ставшего жертвой провокации со стороны „доблестных органов“ и арестованного (ныне реабилитированного)… С аналогичной просьбой обратились мы и к Дмитрию Сергеевичу, но он отказался — и отнюдь не из соображений осторожности. „Письмо с моей подписью только ухудшит в данном случае ситуацию. Для них мое имя в одном может сыграть свою роль — убедить дополнительно в том, что они правильно поступили“… И перешел на больную тогда для него тему — арест зятя, ученого-океанографа Сергея Зилитинкевича, сидевшего тогда в „Крестах“ в ожидании приговора по сфабрикованному обвинению. Д. С. воспринимал это как косвенную попытку расправы с ним».
Возникла угроза конфискации имущества, которая могла коснуться и имущества других членов семьи, в том числе и коллекции икон Дмитрия Сергеевича. По словам Зины, именно в отчаянной суете, в попытках найти транспорт для вывоза вещей, которые могли быть несправедливо конфискованы, и погибла ее мама, попав под машину. Можно считать эти воспоминания не объективными, но воспоминания и не бывают объективными, всегда это чьи-то личные переживания, и сомневаться в их искренности не приходится.
Но больше всех, конечно, страдала Мила. Вспоминая те тяжелые годы, Юрий Иванович Курбатов сказал:
— Конечно, Сергей Сергеевич был поразительным человеком: умел договариваться с кем угодно. Однажды, когда он отбывал наказание на поселении (это было более мягкое наказание, чем тюрьма), у нас раздался звонок, и веселый, приятный голос спросил: «Нет ли у вас сейчас Сергея Сергеевича Зилитинкевича?» Я поразился такой неосведомленности — и вынужден был сказать, что Сергей Сергеевич отбывает наказание. «Да знаю я! — сказал голос. — Как раз оттуда и звоню. Договорились с ним — отпустил его, так он вовремя не явился. Случайно — он не у вас?» Я вынужден был сказать, что ничего об этом не знаю, и добавил: может, Людмила Дмитриевна что-то знает? И имел неосторожность спросить ее… Можно себе представить ее реакцию!
Тяжко переживал все это, конечно, и Дмитрий Сергеевич. Он так надеялся на тихое счастье в семье, отгороженной от всех общественных бурь. И вот — одна дочь погибла, другая — страшно страдает. Конечно, Мила вела себя уже очень несдержанно — и одно несчастье, как это водится, тянет другое. Вдруг ее дочь Вера заявила об отъезде за границу — причем матери она сказала об этом лишь накануне отъезда! Видимо, отношения между ними были уже накалены, при спокойной обстановке в семье такого, конечно, быть не могло. Дочь Милы и Зилитинкевича, Вера, родилась в 1959 году, была на семь лет старше Зины, родившейся в 1966-м.
Решение Веры еще больше пошатнуло равновесие — и в семье, и в отношениях Дмитрия Сергеевича с властью. В 1978 году он начал трудиться над изданием монументальной серии «Памятники литературы Древней Руси». Он знал, что это — главное его дело, все остальное мешает. Он сделал выбор — стараться всеми допустимыми способами работать, развивать науку, не идя на компромиссы, но ни в коем случае не обостряя обстановку специально. И тут его самые близкие люди так обострили всё — дальше некуда!
Внучка Лихачева Вера и ее муж Владимир Тольц познакомились в доме сотрудника сектора Якова Соломоновича Лурье, с которым и так отношения были не простые (еще со времен истории Зимина, выступавшего против Лихачева, — Я. С. Лурье его активно поддерживал). И вдруг Лурье выступает чуть ли не в роли свата! Существует злопыхательское мнение, что Лихачев в отместку за это выгнал Лурье из отдела. Это, конечно, преувеличение, на такого рода месть Лихачев не шел никогда. Но что досада поселилась в его сердце — это безусловно. Наиболее уравновешенные свидетели трактуют ситуацию так: Лихачев прикрывал, как наседка, своими крыльями своих «птенцов» от разного рода преследований — и, может, в какой-то раз «не прикрыл», и Лурье попал под плановое сокращение. Впрочем, научная карьера его не прекратилась и он еще много сделал для науки. Строгие судьи, которые сами в своей жизни не делали ничего плохого (но и хорошего тоже), подшили и это к «списку провинностей» Лихачева. Только им ли его судить?
Уверен, что он просил Веру не выходить замуж за Тольца вовсе не в угоду властям, а, главным образом, из-за собственных, личных переживаний: жених, уже известный диссидент Владимир Тольц был более чем на 20 лет старше внучки. Не нравилась и его деятельность, тон его выступлений на радио «Свобода», и довольно странная его биография (Тольц попал в Москве под машину немецкой гражданки, с тех пор хромал и получал довольно приличное пособие за нанесенное ему увечье)… Всё это вместе как-то не укладывалось в «шкалу ценностей», которые проповедовал Лихачев. Всё было, как специально, «ножом по сердцу».
И вот — отъезд Веры, еще один удар по Лихачеву. Страдал он и за Милу, понимая, как подкосит ее отъезд дочери — причем никак не согласованный, демонстративно конфликтный. Сказать, что это было некстати — мало сказать, компромат на «зэка» Лихачева, так и не ставшего «настоящим советским гражданином», был властям очень кстати. Лихачев уговаривал Веру не уезжать — ее отъезд мог разрушить многое в жизни Лихачева, погубить многие его полезные начинания, но она была непреклонна. Конечно, тут важна была и политическая составляющая: негативное отношение к властям в 1970–1980-е годы стало почти всеобщим — и власть немало в этом отношении постаралась. Стоит вспомнить хотя бы крайне непопулярное вторжение в 1968 году в демократическую Чехословакию. Достала всех и постылая, бездарная демагогия-идеология. Несмотря на усиленные меры властей по борьбе с инакомыслием, оно стало почти что нормой. На самом деле лишь начальники якобы верили в светлое будущее страны — большинство населения относилось к властям и строю крайне негативно. Ходило множество анекдотов, каламбуров, присказок на эту тему. «Прошла зима. Настало лето. Спасибо партии за это!» Так что в критических настроениях юной Веры Зилитинкевич ничего исключительного не было. Но вот покинуть страну — на это тогда еще решались немногие. Все знали, что это непременно ударит по жизни близких, их могут выгнать с работы с «волчьим билетом», да и самого «путешественника» могут обвинить в диссидентстве или в чем угодно и вместо Запада отправить далеко на Север. Но отчаянной решимости Веры способствовала еще и обстановка дома: отец сидел, мама стала невыносимой, дед уговаривал остаться — явно больше беспокоясь о безопасности своей карьеры и его «великих дел»!
И Вера уехала. Это очень сильно ударило и по сознанию, и по официальному положению Милы, и особенно Дмитрия Сергеевича. Такие отъезды родственников тогда весьма осуждались на парткомах и резко сказывались наделах остающихся! Положение Дмитрия Сергеевича стало критическим и могло привести к очень тяжелым последствиям — в лучшем случае, все важное, за что он так страдал, могло сорваться, «барский гнев», нарастая, мог бы парализовать работу Лихачева: выбор их методов воздействия, как мы уже видели, был широк, и я бы сказал, ничем неограничен — вплоть до «случайной гибели». Спасение пришло с Горбачевым и перестройкой.
Впрочем — в семейной жизни Лихачева никакого просветления не наступило. Зилитинкевич, выйдя из заключения, был по-прежнему энергичен — и с репутацией несправедливо осужденного уехал за рубеж: тогда такая шумная биография была хорошим трамплином для карьеры.
Милу он с собой не взял — однако и не развелся, предпочтя оставаться зятем Лихачева.
Страдания Милы ничуть не уменьшились — если не увеличились. Часто она направляла свои эмоции на племянницу Зину. При этом, вспоминает Юрий Иванович, она была человеком душевным и добрым, и когда страдания отпускали ее, она делала хорошее.
Однажды, вспоминает Курбатов, к ним в дом пришла знакомая спекулянтка, уже почти подруга дома, и вдруг вынула из сумки отличные брюки — как раз на Юрия Ивановича. Домашние притихли, зная характер Милы. Разговор о покупке брюк для Юрия Ивановича мог вызвать у нее вспышку гнева. И тут вдруг Мила произнесла:
— Да что тут думать? Отличные брюки, и Юре в самый раз!
Он вспоминает, с каким облегчением все вздохнули. То был один из уже редких мгновений счастья в этой семье.
Поскольку такие мгновения были большой редкостью, Юрий Иванович ярко запомнил еще один. Однажды Дмитрий Сергеевич дарил Юрию Ивановичу, с которым у них были самые теплые отношения, свою новую книгу и уже начал подписывать. Тут нужно вспомнить, как красиво подписывал Дмитрий Сергеевич книги: создавал как бы целую картину из букв. Обычно он красиво рисовал заглавную букву на целый лист, и потом внутрь ее помещал каллиграфически выписанные маленькие буковки. Он уже начертал заглавную «Д» — и тут, вспоминает Юрий Иванович, в комнату вошла Мила. Дмитрий Сергеевич застыл с пером в руке.
— Ну чего ты? — проговорила она. — Уж пиши «Дорогому»!
Однако такое согласие было уже нечастым в этой семье.
Решительная Вера переехала с Тольцем сначала в Прагу, потом в Мюнхен и стала работать на радиостанции «Свобода», где работал и Тольц. Трудилась она в исследовательском отделе, занималась довольно узким направлением — историей Академии наук СССР.
Когда я был в Мюнхене на литературной конференции под названием «Бавария читает всё», я видел ее в гостях у моего друга филолога Игоря Павловича Смирнова, который женился на немке — Ренате и преподавал в Германии. Игорь созвал довольно много гостей-земляков, живших теперь в Германии. Помню веселье, вольность разговоров — все, в том числе и я, демонстрировали абсолютную смелость речей, хотя я-то как раз собирался возвращаться, но поддался этому пьянящему ощущению долгожданного «праздника свободы». Помню, что среди гостей была и юная Вера — Игорек с особым пиететом представил ее: внучка Лихачева. В непривычно ярком для меня сиянии ламп (у нас тогда в очередной раз была «Россия во мгле») я вспоминаю ее симпатичное лицо. Знал бы тогда, что сяду за эту книгу, — поговорил бы и записал. Но хотелось всего сразу. На следующий день мы были у веселого бывшего ленинградца художника Игоря Росса, принявшего нас в халате с павлинами и угощавшего душистым грушевым самогоном. Потом были на его «хеппенинге»: вода гулко падала в таз из продырявленного подвешенного бака, мюнхенские аристократы и толстосумы почтительно взирали, а потом внимали дерзкому питерскому художнику, вырвавшемуся из духовного застенка на свободу, дабы встряхнуть их тут и кое-что вытряхнуть. Потом мы ехали с Игорем Смирновым через половину Германии в университет на границе со Швейцарией, где он преподавал… по дороге то и дело «нарушая режим». Ощущение озорства, лихости жизни пьянили меня. Отчаянные ребята собрались тут!
В 1981 году у Веры с Тольцем родился сын, правнук Лихачева, Сергей. И внучке Вере, и деду хватило ума и души восстановить добрые отношения, простить взаимные обиды. Лихачев бывал у нее еще в Мюнхене, видел правнука, встречался у нее в доме с друзьями-эмигрантами, бывшими соотечественниками, в том числе и со своим аспирантом Игорем Смирновым. Игорь вспоминает, что общение было абсолютно свободным, говорили обо всем. Весело обсуждали последние новости и анекдоты из жизни как эмигрантов, так и питерских и московских коллег.
Помнится, говорит Игорь, заговорили об Александре Панченко, замечательном ученом, с которым у Лихачева на тот момент испортились отношения — может, отчасти и оттого, что Панченко тоже, как и Лихачев, начал широко выступать по телевизору, и с немалым успехом, хотя, как считали строгие филологи, с некоторыми научными погрешностями. Кто-то сказал, что Панченко здесь называют «Лжедмитрий Сергеевич», и шутка Лихачеву понравилась, он смеялся.
Опасения Лихачева насчет «странного брака» внучки Веры подтвердились — он продержался недолго.
Потом ее перевели на работу в Манчестер, в Англию, некоторое время она там страдала от одиночества, а потом вышла замуж за Йорама Горлицкого, тоже советолога. Отношения с семьей Лихачевых Вера поддерживала, и приезжала с мужем и даже его мамой в Ленинград, и их встреча с Дмитрием Сергеевичем была вполне родственной.
В 1982 году вышла одна из самых знаменитых книг Лихачева — «Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей». В том же году он был избран почетным доктором Университета Бордо (Франция). В 1983 году он становится председателем Пушкинской комиссии АН СССР. В 1984 году имя Лихачева присвоено малой планете № 2877, открытой советскими учеными. Ясно, что присваивать имя Лихачева планете заставили не власти — это решили сами астрономы по случаю всеобщей любви к Дмитрию Сергеевичу.
Сергей Сергеевич Зилитинкевич сейчас почтенный профессор Хельсинского университета, автор солидных трудов, удостоившихся восторженных похвал, участник и организатор международных конференций, проектов. Его труды и труды его учеников, посвященные туманам, облакам, волнам и другим явлениям морской стихии, необходимы летчикам, морякам. Скандальная история давних лет нигде не упоминается, даже в Интернете. Теперь уже ясно вполне — Сергей Сергеевич Зилитинкевич крупный ученый, великолепный организатор, все остальное — мелочи жизни, наследие проклятого социалистического прошлого. Теперь та история всплывает порой лишь в воспоминаниях о Лихачеве.
— А еще он как-то приобрел приставку «фон». Теперь он «фон Зилитинкевич», — так закончил Юрий Иванович рассказ о своем родственнике.
Однако все происшедшие в их семье события весьма обострили и без того не простые отношения Дмитрия Сергеевича с властью, и «барский гнев» с новой силой обрушился на него.
«БАРСКИЙ ГНЕВ»
Все, кто жил в те годы, помнят жутковатый обычай — перед каждым советским праздником, а их было множество, многие окна на фасадах домов завешивались огромными полотнищами — размером минимум на два этажа!
На этих полотнищах были гигантские лица наших лидеров — членов Политбюро ЦК КПСС. Набегающий ветер слегка морщил их, казалось, что они нами недовольны. То, что в занавешенных квартирах наступает мгла и люди ничего не могут из своих окон увидеть, в том числе и радостного праздника на улицах, во внимание не принималось. Кроме «линии партии», тогда мало что принималось во внимание. Эти занавеси вешали даже на окна Большого дома, на время их закрывая. «Как же им за нами следить-то?» — шутили мы.
Некоторые гигантские лица были знакомы — например не стареющий и не теряющий власти уже много десятилетий Анастас Микоян. С другими было сложнее. Оказывается, у них там шла борьба, и порой появлялись незнакомые лица, что-то они олицетворяли, за каждым что-то стояло, но люди не очень этим интересовались. Известна шутка Иосифа Бродского, который поглядел на портрет Мжаванадзе на своем фасаде и спросил Довлатова: «Кто это? Похож на Уильяма Блейка».
Но одно лицо того времени врезалось в память сильно.
Другие порой казались даже симпатичными. Художники, естественно, старались придать благородства и обаяния своим героям. Но в отношении одного из персонажей — Григория Васильевича Романова — им это не удалось. В любом формате и исполнении характер его прочитывался сразу — властный, самонадеянный, круглые его глаза, чуть навыкате, полны презрения к нам, мелкомасштабным. Его появление означало конец недолгой «оттепели» шестидесятых.
Один мой друг, работавший на «Ленфильме», рассказывал, как однажды они пригласили Романова консультантом на одну картину — и партийный вождь охотно согласился. Наверное, потому, что фильм, в духе того времени, был о партийном деятеле, который своей мудростью исправляет ошибки, возникшие при строительстве нового комбината. Поправки Романова были точны и очень конкретны: «У вас второй секретарь ходит в каракулевой шапке-пирожке. Такого не бывает: такие шапки носят лишь первые секретари. У вас в фильме в кабинете третьего секретаря стоит холодильник. Это не правда — холодильники положены, начиная со второго секретаря». Романов четко знал, что кому положено в этой стране. И вдруг кто-то нарушает этот четкий и разумный порядок. Какой-то профессор, чье дело рыться в пыльных свитках бумаг, и даже не член партии, вдруг поднимает голову и начинает указывать властям, что делать и что не делать. Ему несколько раз указывали, что он забывается — но он упорно продолжает свое!
И действительно — Лихачев не слишком соответствовал эпохе. В спальне у него стоял портрет царевича Алексея, убитого большевиками (в детстве Лихачев походил на него — особенно на фотографиях в матросском костюмчике). В кабинете за стеклом были безделушки и фотографии — философа Мейера, Астафьева, Солженицына, Пастернака, брата Михаила, мамы Веры Семеновны, стоял портрет его отца, Сергея Михайловича. Щеголь в чеховском пенсне, чья жизнь была переломана революцией. Главный инженер «Печатного двора», проигрывал царские подарки в карты, пил с пролетариями, боясь, что те выскажут ему «классовое недоверие», как уже высказали однажды. Из-за чего находился в постоянном конфликте с женой Верой Семеновной, которая зачастую даже не давала ему ужинать. Лихачев его нежно любил.
Революцию Лихачев не признавал, никогда даже не произносил этого слова, говорил «до несчастья». Никогда не ругал царя. Только Распутина. Когда водил дочерей и внучек по городу, рассказывал: «Здесь жил мой учитель Аничков, а здесь вот, на Шпалерной, я сидел».
Ненавидел фильм «Чапаев», говорил, что тот любил расстреливать пленных белых офицеров из пулемета.
При всех его научных успехах — советская власть явно не любила его, использовала любую возможность, чтобы унизить. Лихачев рассказывал своему другу профессору Илье Захаровичу Серману удивительную историю. Однажды он пробился в Смольный к третьему секретарю обкома Кругловой и задал вопрос: «Почему меня не отпускают на международные конференции, если меня приглашают?» Ответ был странный: «Мы боимся за вас! Вдруг вам что-нибудь впрыснут и вы не то скажете!» Лихачев спросил с изумлением: «И что, я могу рассказывать об этом всем?» — и получил потрясающий ответ: «Конечно можете!»
Его плохие отношения с властью, прежде как-то маскируемые с обеих сторон, вырвались наружу.
В атаку, надо отметить, пошел сам Лихачев. В обществе явно намечалось противостояние властям, у всех накопилось немало претензий, и нужны были отважные люди, чтобы посметь это высказать. И Лихачев сразу сделался ключевой фигурой. Еще в 1964 году состоялось его выступление по телевидению на тему вроде бы нейтральную — о защите исторических садов. Тема, казалось бы, мирная, но Лихачев своим тихим, размеренным, интеллигентным голосом впервые сказал о попустительстве властей, о их равнодушии к русской культуре. Эта «тихая» передача прозвучала как взрыв. Были уволены редактор передачи И. Муравьева, директор телевидения Б. Фирсов, который прежде был секретарем райкома партии Дзержинского района, потом возглавил Ленинградскую студию телевидения, проникся там новыми идеями и стал затем весьма заметным, прогрессивным и знаменитым человеком в нашем городе, доктором философских наук. Менялись времена, по-новому раскрывались люди. Появлялись новые, смелые ученые. Помню переполненные залы на выступлениях знаменитых прогрессивных социологов — Ядова, Кона — идеи их резко противоречили «партийным установкам».
Успехи Лихачева тех лет весьма впечатляют.
В 1961–1962 годах он, на волне его славы, избирается депутатом Ленинградского городского совета.
В 1962 году издает книгу, одну из наиболее ценимых коллегами, — «Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков».
В 1963 году он избран иностранным членом Болгарской Академии наук. Награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени на Пятом международным съезде славистов в Софии. В том же году он командируется АН СССР в Австрию для чтения лекций. На бумаге это выглядит здорово. Но реальность тех лет отнюдь не была сладкой.
Александр Рубашкин рассказал мне о встрече с Лихачевым в 1963 году в Ялте. Накануне его приезда он зашел к директору Дома творчества и увидел на его столе телеграмму: «Приезжаю такого-то. Профессор Мейлах». Репутация профессора Мейлаха из Ленинграда была далеко не безупречной, на воротах его каменной двухэтажной дачи в Комарове висела вывеска: «Злая собака», и кто-то дописал от руки «и беспринципная». Однако изображать великого ученого и высокий чин — он умел. Телеграмма его оказала действие, администрация готовила ему лучшие покои. Прибытие же Лихачева с семьей, назначенное на тот же день, никакого рвения у обслуги не вызывало. Рубашкин увидел в расписании, что Лихачевым предназначен чуть ли не самый плохой, сырой номер. И он сказал директору: «А вы знаете, кто на самом деле великий ученый и выдающийся человек? Лихачев!» Слова его возымели действие. Лихачевым отвели хороший номер. Вечером в день прибытия Лихачев, с присущей ему деликатностью, подошел к Рубашкину и поблагодарил: «Я слышал, что вы за нас хлопотали. Спасибо вам!» Постепенно они сдружились. Там же отдыхала сестра Рубашкина, врач, и Лихачев советовался с ней по поводу обострения язвы, начавшегося в Австрии, куда он был командирован практически без денег. Такова была реальная жизнь: почести на бумаге — и унижения на земле.
Противостояние Лихачева и власти становилось все более острым. Он не собирался прощать этой власти ничего, и прежде всего своей каторги. Он начинает заниматься восстановлением «бесславной истории» нашей власти — вопреки все нарастающей какофонии прославления очередных вождей, их непрестанных награждений друг друга и т. д. Дмитрий Николаевич Чуковский, внук Корнея Чуковского, режиссер документального кино, вспоминает, как однажды они вместе с Лихачевым, готовя материалы по изучению и сохранению памятников старины, сумели проникнуть в Красногорский киноархив и увидеть съемки Соловецкого лагеря 1929 года.
Д. Н. Чуковский пишет: «Дмитрий Сергеевич проработал смену, ничем не выдав своего волнения от увиденного более чем через полвека лагеря, где он сидел несколько лет… А вот когда мы возвращались в Москву, Дмитрий Сергеевич дал волю своим воспоминаниям. Тот просмотр в архиве через несколько лет дал толчок к созданию первого фильма о концлагерях СССР — „Власть Соловецкая“».
Из этого же родился и другой фильм — «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю», снятый замечательным питерским документалистом Владиславом Виноградовым. Тот написал: «На съемках этого фильма Лихачев сам греб по соловецким каналам, чтобы показать печально знаменитую Секирку (место ужасного карцера. — В. П.). Потом мы долго поднимались по крутой деревянной лестнице к вершине горы».
Лихачев сказал Виноградову тогда: «Сделайте фильм так, чтобы было видно — я им не продался».
Лихачев был не одинок, было еще несколько великих фигур, на которых с надеждой глядели люди, учились у них мужеству и стойкости.
О. В. Панченко, один из учеников Лихачева, сотрудник Древлехранилища, вспоминает:
«…Дмитрий Сергеевич рассказал, что обычно он приходил к Ахматовой вместе с В. М. Жирмунским. В Комарове она принимала их, сидя за письменным столом, расположенным поперек окна, слева от которого была полочка со сборниками ее стихов. Не поднимаясь, Ахматова доставала один из этих сборников и начинала разговор о стихах… По словам Дмитрия Сергеевича, это был удивительный праздник, во время которого у него возникло ощущение, будто они перенеслись совсем в другую, давно ушедшую эпоху».
Общество выбрало кумиров, за которыми готово было следовать. И Лихачев был среди них.
В 1964 году он становится почетным доктором наук Университета имени Николая Коперника в Торуне (Польша).
В 1965 году он участвует в симпозиуме «Юг — Север», организованном ЮНЕСКО в Дании.
В 1965–1966 годах он — член оргкомитета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
В 1966 году его награждают к шестидесятилетию орденом Трудового Красного Знамени. Награда для знаменитого ученого — далеко не самая престижная.
В 1967 году он издает книгу «Поэтика древнерусской литературы», удостоенную в 1969 году Государственной премии. В этом же году он избран почетным доктором Оксфордского университета и приглашен в Англию для чтения лекций.
В 1970 году избран академиком, действительным членом Академии наук СССР.
В 1971 году избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств. А также ему присуждена степень почетного доктора наук Эдинбургского университета. В том же году издает книгу «Художественное наследие Древней Руси и современность» (совместно с дочерью Верой).
С 1971 по 1999 год является председателем редколлегии серии издательства АН СССР «Литературные памятники» и проделывает там огромную работу.
В 1973 году становится иностранным членом Венгерской академии наук. Издает книгу «Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили», награжденную в 1975 году золотой медалью ВДНХ.
В 1975 году он издал книгу «Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси».
Власть понимала, что все больший авторитет в обществе завоевывают ее противники. Порой она пыталась вступать в диалог, но чаще предпочитала действовать нахрапом.
Когда однажды Лихачев спросил Романова прямо — почему он препятствует его делам и поездкам, Романов ответил так же прямо: «Потому что ваши друзья на Западе — наши враги!»
Партийный вождь Толстиков, несмотря на возражения общественности и даже на телеграмму, пришедшую из Москвы, взорвал церковь на Сенной площади, сказав своим подчиненным: «Я никакой телеграммы из Москвы не видел!» Лихачев откликнулся на это так: «Постоянное разрушение русской культуры, начавшееся с войны 1914 года».
В том же 1975 году произошло знаковое событие: Лихачев открыто заявил о своем несогласии с происходящим в стране. Ему позвонил академик-секретарь ОЛЯ АН СССР М. Б. Храпченко и предложил подписать письмо членов Президиума Академии наук против «художеств», как выразился он, академика Сахарова, с предложением исключить Сахарова, великого физика, из академиков. Храпченко предложил за это некий куш, правда, не очень понятный: «С вас будут сняты все подозрения и претензии». Не очень было понятно, о чем идет речь. Впрочем, Лихачев даже не стал вникать в суть предложения и сразу отказался. «Я не могу этого подписывать, тем более не читая!» — сказал Лихачев. «Ну, на нет и суда нет!» — сказал Храпченко.
Потом Лихачева спрашивали: «Правда ли, что вы демонстративно порвали письмо Храпченко на глазах у всех?» — «Надо знать, что такие предложения делались по телефону. Кроме того, — заметил Лихачев с мягкой улыбкой, — это не мой стиль».
Действительно — пафос не был его стилем, скорее, ему была присуща ирония, именно поэтому он и пользуется такой любовью — пафосные персонажи кажутся фальшивыми и быстро надоедают. С той же иронией он рассказывал и о последующем — вслед за отказом подписать письмо — покушении на него.
Какой-то крепыш с наклеенными усами и в шапочке подскочил к нему на лестнице и ударил в живот — но новое двубортное пальто из толстого драпа смягчило удар, после чего он ударил кулаком в сердце — но там как раз лежала папка с докладом про «Слово о полку Игореве» и смягчила удар. «„Слово“ спасло меня!» — шутил Лихачев. Шутил, хотя, как выяснилось, тогда ему сломали ребра, но он пришел на заседание, сделал блестящий доклад и только после этого обратился к врачу.
Было совершено и еще одно нападение — в этот раз на квартиру Лихачева. Связано оно было, несомненно, с публикацией в 1974 году в книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» материалов Лихачева о СЛОНе. Лихачев передал Солженицыну свой лагерный дневник. Это был смелый шаг. Автора дневника легко вычислили — хотя Солженицын прямо не называл его имени, но код, которым Солженицын «зашифровал» имя Лихачева, легко разгадывался.
Агония режима, как называют некоторые историки 1970–1980-е годы, отличалась событиями довольно драматическими. «Бои» шли во всех сферах жизни. Наступление «нового искусства» встречали бульдозерами — именно так была разогнана одна из выставок художников-неформалов. В 1976 году в Ленинграде произошло несколько явных поджогов мастерских художников, неугодных власти. При одном из таких поджогов погиб художник Евгений Рухин, уже набиравший известность, входивший в моду и, главное, «нарушавший идеологию», пользовавшийся спросом за границей.
Тем же способом воздействовали и на Лихачева.
Юрий Иванович Курбатов рассказывает, как однажды приехал на машине с дачи и еще с улицы увидел, что дверь на балкон распахнута и в комнате горит люстра — тогда как на самом деле в квартире никого быть не должно. Он поднялся наверх, почувствовал резкий запах, увидел, что дверь и стена рядом с ней чем-то заляпана. Тут же поднялся сосед снизу, с которым Юрий Иванович дружил, и рассказал, что поздно вечером накануне вдруг загудел «ревун» — сигнал тревоги на лихачевской двери. Когда все двери на лестницу стали отворяться, какие-то люди побежали вниз.
Вскоре подошел капитан милиции, объяснил, что это они вместе с вневедомственной охраной открыли дверь, поскольку сработала сигнализация. Он сказал, что, по всей видимости, была сделана попытка поджога квартиры. Были обнаружены на месте происшествия канистры с зажигательной смесью, резиновая трубка, через которую, по-видимому, пытались закачать жидкость в квартиру и потом поджечь. Но дверь оказалась железной, и чтобы как-то раскачать ее и расширить щель, злоумышленники вставили в щель ломики — и в этот момент сработал «ревун», о существовании которого они не знали. Видимо, они действовали так нагло, потому что были уверены в отсутствии сигнализации. Это наводит на мысль, что действовали они в контакте с правоохранительными органами, которые сказали им, что сигнализации нет. Действительно, охраны, зарегистрированной на имя Лихачева, в квартире не было — и это и ввело в заблуждение поджигателей (и их вдохновителей). Проще говоря, подвела обычная расхлябанность, плохая подготовка. Охрана квартиры была зарегистрирована на имя Юрия Ивановича Курбатова, которого Лихачев попросил установить систему сигнализации. Но до этого «разведка» не докопалась — из-за чего план сорвался. Обычная халатность! Но чувство угрозы, разумеется, осталось. Власти почти демонстративно «спустили это дело на тормозах». Куда-то вдруг исчезли канистры, и не удалось определить состав зажигательной смеси, многочисленные отпечатки на стенах не заинтересовали следствие… все это наводит на мысль, что имена поджигателей «органы» и так знали, более того — они и заставили уголовников совершить поджог. Власти не собирались прощать Лихачеву его независимости.
Сам Лихачев понимал это ясно и четко: «Майский поджог — за мое участие в написании черновика главы о Соловках в „Архипелаге ГУЛАГ“».
А слава Лихачева все росла. Самый пик его популярности произошел при его «воцарении» на телевидении. Одно лишь появление такого человека на экране — учтивого, старомодного, с «прежней», «дореволюционной» изысканной речью уже наносило советской власти непоправимый удар, превосходящий воздействие всех «вражеских голосов». «Вот как надо! — говорило все его поведение. — А не так, как это делаете вы!» Советские идеологи, безусловно, это чувствовали. В те годы на телевидении были чрезвычайно популярны транслируемые на всю страну встречи знаменитостей с публикой в Колонном зале. Времена менялись, на телевидение приходили новые люди, и на эту встречу в Колонном обычно приглашались личности не просто известные, но прогрессивные, одним своим существованием отрицающие прежний застойный дух.
Организатор тех встреч, редактор Татьяна Земскова, вспоминает, что первую встречу с Лихачевым в Колонном зале они организовали еще в 1984 году. Авторитет Лихачева в обществе и особенно среди интеллигенции был очень высок. Астрономы, открыв неизвестную малую планету, решили назвать ее «Лихачев» — «конкурентов» Дмитрию Сергеевичу не нашлось. Выступлений его — впервые перед столь широкой аудиторией — ждали с нетерпением. Уже были распроданы, причем мгновенно, все билеты. Все жили тогда переменами, жаждали их — и огромные надежды возлагались на Лихачева. Но тогда, в 1984 году, несмотря на то что билеты были полностью раскуплены (а может, и именно поэтому), последовал внезапный приказ Лапина, тогдашнего начальника радио и телевидения: «Лихачева — не надо!» Никаких объяснений не последовало. Все и так всё понимали.
В то время наше неугомонное руководство чрезвычайно настойчиво готовило новый гигантский проект — поворот северных рек. Кто стоял когда-нибудь на берегу Енисея, видел эту бескрайнюю, стремительно несущуюся массу воды, тот понимает, что это такое: остановить, а тем более развернуть назад эту мощь! Но такие проекты были чрезвычайно важны для советской власти, для идеологии: если не удается сделать обычное — накормить страну, нормально одеть людей, то поразим весь мир необычным, таким, на что другие страны не способны: запустим спутник, экономя на еде, в невероятных, нечеловеческих условиях выстроим БАМ (как вскоре окажется, не очень и нужный)… что бы еще?.. Повернем северные, самые мощные реки! Зачем? Объяснение подберем. Например — для орошения пустынь, превращения их в цветущий сад!..
Но в 1986 году (жизнь тогда менялась очень быстро) выступление Лихачева в Колонном зале с трансляцией на всю страну состоялось. И это воспринималось тогда с колоссальным восторгом: «Уже можно и такое! Новое побеждает!»
— Как можно поворачивать северные реки, — говорил он со сцены Колонного зала, — если при этом исчезнут старинные русские города, наша история, жемчужины Севера: Каргополь, Тотьма!..
Увидев, как огромный зал аплодирует Лихачеву и потом встает, власти сдались и отменили указ. Север был спасен. И не только Север. Может — впервые за все время тоталитаризма частный человек одолел систему. И с этого дня началась его не только научная, но и всенародная слава. И открылась его настоящая сила. Только Лихачеву, больше никому, удавалось своим словом не просто влиять на людей, но и отменять уже принятые постановления правительства!
Одно только появление на экране учтивого, старомодного, седого, красивого, здравомыслящего человека не совмещалось с «совковым», серым и одновременно наглым стилем подачи казенных материалов. И победил — он. «Вот как надо жить и говорить!» — поняли все, увидев, наконец, Лихачева на голубом экране! И жизнь наша перевернулась. Оказалось, что он гораздо важнее и ближе миллионам телезрителей, чем все прочее, что «варили» на этой кухне.
Он сделался кумиром. Вся страна теперь знала его в лицо, и не только знала, но восхищалась им.
Конечно, были завистники, считавшие, что Лихачев похитил их славу незаслуженно и что он специально подбирает лишь самые резонансные дела, чтобы прославиться. Ходила байка: правительство специально поворачивает реки, чтобы Лихачев разворачивал их как надо. Это, конечно, злая шутка. Отношения Лихачева и власти благостными не были никогда. Он показал нам всем пример настоящей стойкости. Он не изменял ни своей научной, ни гражданской позиции, вел упорную работу по охране памятников культуры, он продвигал проекты восстановления церкви Спаса-на-Сенной и Путевого дворца на Средней Рогатке, защитил храм Святой Екатерины в Мурине, боролся против вырубок в парках Царского Села и реконструкции Невского.
Он написал: «Достаточно посмотреть список моих газетных и журнальных статей, чтобы понять, как много сил и времени отнимала у науки борьба в защиту русской культуры».
Лихачев пережил, преодолел «барский гнев» — и не сбился с дороги, сделал свое. Впереди у него было испытание тоже непростое — «барская любовь».
«БАРСКАЯ ЛЮБОВЬ»
Первой приметила Лихачева Раиса Максимовна Горбачева, ей чрезвычайно понравилась его книга «Письма о добром и прекрасном». И вскоре на даче Лихачева вдруг появился, к всеобщему изумлению, государственный фельдъегерь и торжественно вручил Лихачеву письмо от Раисы Максимовны. Лихачев прочел весьма лестное для него письмо, был, естественно, доволен, но никаких «оргвыводов» не сделал и хотел просто отложить его в сторону. Пришлось присутствующему там Д. Н. Чуковскому пояснить хозяину, что просто так, в порыве эмоций, первые лица государства писем не пишут и с фельдъегерями не присылают: наверняка предстоят очень серьезные изменения в отношениях Лихачева с государственной властью, и, похоже, в лучшую сторону.
Книга «Письма о добром и прекрасном», сыгравшая столь важную роль в жизни Лихачева, — это сорок шесть его писем, адресованных молодежи, где он размышляет о том, что же делает человека счастливым. Названия глав привлекают и интригуют — «Большое в малом», «Молодость — всю жизнь», «Самая большая ценность — жизнь», «В чем смысл жизни?», «Цель и самооценка», «Быть веселым, но не быть смешным», «Когда следует обижаться?», «Честь истинная и ложная», «Про карьеризм», «Человек должен быть интеллигентен», «Искусство ошибаться», «Как говорить?», «Как выступать?», «Как писать?». То есть это не высокомерные нравоучения, а практические советы человека, много повидавшего и много добившегося. Лихачев спокойно и мудро рассказывает, как не навредить, в первую очередь — себе, как стать успешным, уважаемым, авторитетным, как в трудных жизненных испытаниях не потерять себя. Там же он пишет об «экологии культуры», затрагивая не только гуманитарную, но и материальную сферу — науку, производство. Он говорит о недопустимости лжи в точных науках и производстве, где присутствие лжи — лжи ради сиюминутной выгоды — может привести к огромным убыткам, к тупикам в науке и жизни. Он пишет: «Все большее значение приобретает качество, а не количество».
Должна быть, утверждает он, тесная связь между наукой и доброй совестью. «В жизни надо иметь служение… — утверждает он, — …увеличивать добро в окружающем нас».
Переходя к весьма важной для него теме — теме искусства, он отрицает модный тезис об «имморализме искусства», утверждая, что доброе и прекрасное должны быть всегда рядом. Лихачев не боялся показаться устаревшим, немодным — в те времена было принято как раз проповедовать «свободное искусство», свободное от каких-либо обязательств, а уж тем более «служений» — ни правящей партии, ни государству, ни морали и никаким прочим обузам, сковывающим свободный полет.
И тут вдруг Лихачев с его моралями! И — последовавшее за этим его приближение «ко двору»!
А в моду тогда входили совсем другие ученые. Создание самых волшебных стихов они объясняли каким-нибудь «кастрационным комплексом Пушкина» — в духе нахлынувших тогда «передовых» теорий… а «поучения» Лихачева воспринимались с высокомерной усмешкой: «…размяк дедушка!»
Порой действительно хочется с Лихачевым поспорить: такая ли уж неразрывная связь между совершенством и добром? Как прекрасен лермонтовский Демон — а ведь он гений зла, «тот, кого никто не любит, и все грядущее клянет».
Помню, и мне привелось участвовать в одной из модных дискуссий, и я, помнится, защищал необходимость греховности в искусстве… а как же без нее? Благостности мы наелись уже в советской школе! Долой!
Помню, я приводил такой пример: юная девушка сидит на скамейке, а когда встает, сзади на ее ногах выше сгиба остаются ровные розовые вмятины от реек скамейки… что же — художник, писатель не должен этого видеть, не может об этом написать? Надо отводить взгляд? Нет!! Художник не должен отводить своего взгляда ни от чего, находить красоту во всем — и в том, что морально и что аморально! Лихачев, однако, проповедует лишь чистое, святое. «Не собирайте себе сокровищ на земле… — цитирует он, — …но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют…» «Возлюби ближнего своего, как самого себя…» Возлюби? И только?
А как же, думаю я, мои любимые строки: «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю…»? Или — еще более любимые, но еще более страшные: «Швед, русский — колет, рубит, режет»? Это — что? Не искусство?! А Лихачев призывал нас к умиротворению, благостности!
Зато это пришлось по душе начальству — сперва Раисе Максимовне, а потом и Михаилу Сергеевичу. И их тоже можно понять: им нужно было срочно как-то образумить «свихнувшуюся» страну, теряющую мораль, становившуюся бандитской. Им нужно было как-то гасить то и дело возникающие очаги межнациональных конфликтов. И теперь понимаем: может, Лихачев специально сделал этот «непопулярный» шаг — вовсе не для того, чтобы впасть в милость начальству, а чтобы как-то воспитать народ, впадающий в дикость? Тут Лихачев с его пропагандой добра и совести был как нельзя более кстати. Может, хоть его услышат? Кстати, терпимости и доброты не хватало тогда и «распоясавшейся» прессе, смакующей грязь, «жареные» факты… может быть, призыв Лихачева к прекрасному как-то угомонит их?.. Большие надежды связывали Горбачевы с Лихачевым. Оправдал ли он их?
Дмитрий Сергеевич чувствовал, что попал в сети, но понимал, что и уходить от диалога нельзя… слишком много было у него дел, которые без поддержки власти было не решить.
Одно из славных лихачевских дел той поры — защита и возрождение Дома Цветаевой. По воспоминаниям Надежды Ивановны Катаевой-Лыткиной, последней жительницы цветаевского дома, которому грозил снос, «как-то по весне 1985 года в Москве, в треснувший по фасаду выселенный дом по Борисоглебскому переулку, „ни с того ни с сего“ приехал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев… Жизнь в этом доме теплилась лишь в одной квартире. Приезд его был — нечаянная радость, необычайное происшествие!».
Одна из цветаевских поклонниц, что собрались в последней уцелевшей квартире, воскликнула: «Вот бы академик появился!» Раздался взрыв хохота — и звонок в дверь. Катаева-Лыткина открыла. В дверях стоял действительный член Академии наук СССР, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
«Веселой толпой, легко и просто, все пошли осматривать дом. В этом доме с 1914 по 1922 год жила Марина Цветаева. В нем было написано 11 книг из пятнадцати, вышедших при жизни — все лучшее, что было написано в России… Перегороженный тонкими перегородками в советское время, дом все еще сохранил свою уникальную планировку. Не тронутый ремонтом со времен Гражданской войны, дом сохранил резные белые двери, хитро вьющуюся лепнину потолка, фрагменты дубовых панелей, обломанный мрамор камина и изразцовые печи. Над белой парадной лестницей блестели битые цветные стекла витража… У Дмитрия Сергеевича было врожденное свойство располагать к себе людей, раскрепощать их, приглашая к диалогу. „Здесь будет музей, — сказал Дмитрий Сергеевич, — и я помогу вам!..“ Хорошо было бы здесь, в этом доме, образовать Центр по изучению Серебряного века и собирать сюда на творческие вечера московскую элиту».
И, благодаря Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, все это сбылось. Помню, и мне довелось быть в этом доме в 2005 году, в связи с вручением ежегодной премии «Нового мира», при большом стечении замечательной публики. В тот же вечер там же вручалась и премия имени Юрия Казакова… Великолепное там собралось общество!
И возможным это стало лишь благодаря Лихачеву, возглавившему в 1986 году Фонд культуры.
О возникновении общего их детища — Фонда культуры Михаил Сергеевич Горбачев написал так: «Знакомство мое с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым вначале было заочным. Как-то, отдыхая в Крыму, я прочел одну его книгу, затем другую и с тех пор старался не пропускать его работ… Я написал Дмитрию Сергеевичу письмо. Вскоре наше заочное знакомство перешло в очное. В 1986 году был создан Советский фонд культуры. Д. С. Лихачева пригласили возглавить эту организацию. Он приложил много усилий, чтобы Фонд мог реально содействовать развитию культуры в нашей стране. В состав правления вошла и Раиса Максимовна. С того времени наши личные контакты стали более или менее регулярными».
Из воспоминаний М. С. Горбачева следует, что Фонд культуры был как бы «барской милостью», подарком Лихачеву, следствием «мудрой политики». Однако случилось это далеко не сразу и во многом благодаря упорству Лихачева и помощи единомышленников. В первые годы горбачевской «оттепели» все письма Лихачева относительно защиты того или иного объекта культуры, направленные Горбачеву, спускались на уровень завотделов и возвращались с отписками.
Все решила случайность, а точнее — инициатива снизу, «поймавшая» шанс. Один из друзей Д. Н. Чуковского Рустем Хаиров, в то время заведовавший лабораторией в Институте проблем управления АН СССР в Москве, обладал сверхпробивными способностями. На одном из вечеров в Центральном доме литераторов Хаиров завел Лихачева, будто бы для отдыха, в кабинет Маркова, тогда всемогущего секретаря Союза писателей СССР, и тут же по телефону «с гербом» позвонил начальнику секретариата Горбачева Александрову и сказал, что здесь находится Лихачев, который хочет передать генеральному секретарю ЦК КПСС письмо. Все застыли от ужаса… но остановить это было уже нельзя. Письмо было написано, и появившийся фельдъегерь государственной службы забрал его.
И идея фонда стала воплощаться стремительно.
Советский фонд культуры был учрежден 12 ноября 1986 года. Разместился он в особняке Сергея Третьякова на Гоголевском бульваре, дом 6. Времена, конечно, были удивительные. Чтобы сейчас, в эпоху «развитого капитализма», был отдан учреждению культуры старинный особняк — представить невозможно… Опорой Дмитрия Сергеевича в Фонде культуры были приглашенные им академики, профессора, музейщики, работники библиотек и архивов, университетские преподаватели, художники, артисты, режиссеры, представители духовенства, деловые люди. Образовались правление фонда и его президиум. Заседания проводились в Дубовом зале. В более простором Амурном зале проходили мероприятия, встречи, собиралось много зарубежных гостей и еще больше гостей из провинции.
Поначалу Дмитрий Сергеевич очень гордился этим успехом и даже приезжал в Фонд с семьей — Зинаидой Александровной, Людмилой. Особенно он любил слушать там концерты старинной музыки. Тогда лицо его становилось почти счастливым. Казалось, что всё, о чем он мечтал, получилось!
В 1986 году, к восьмидесятилетию, Лихачеву присваивается звание Героя Социалистического Труда. Горбачев считал его гарантом того, что с культурой теперь у нас все будет в порядке.
На самом деле, трения пошли с самого начала. Лихачев настаивал: «Никаких зарплат, должностей, только на общественных началах. Штат только из технических работников». Но дело уже находилось в крепких чиновничьих руках. Был назначен внушительный штат с неплохими зарплатами. От денег отказался лишь Дмитрий Сергеевич Лихачев.
С сотрудниками Фонда Лихачев объезжал заброшенные памятники культуры и приходил в отчаяние не только из-за руин… В подмосковном имении Вяземского Остафьево, где гостил Карамзин, работавший там над «Историей государства Российского», был теперь дом отдыха Совета министров РСФСР, и чинуши устроили в кабинете Карамзина номер люкс с удобствами. Лихачев с гневом накинулся на них!.. И те вроде бы поняли, обещали «исправить оплошность». Лихачев гневался редко — но гнева его боялись.
Но не только «наверху» случались столкновения. По пути из Остафьева он заехал в село Дубровицы, где шла надолго затянувшаяся реставрация Знаменского храма, представлявшего собой редчайший образец московского барокко. Там на него буквально набросились верующие: когда, наконец, будет восстановлен храм и начнутся службы? И на такие вопросы приходилось давать ему ответы — причем далеко не всегда популярные. И тут он сурово ответил верующим, что в храме находится уникальный деревянный резной иконостас и для сохранности его необходим особый температурный режим — несовместимый, увы, с ежедневными богослужениями. Можно представить себе реакцию верующих — но Лихачев, взяв на себя ношу, выдерживал и такое! Пришлось вступать в конфликты даже с православной церковью — в спорах о принадлежности церковных раритетов: церкви они должны принадлежать или Фонду культуры? Лихачев всегда держал сторону Фонда и даже спорил с всемогущим московским мэром Лужковым, берущим, как правило, сторону церкви.
По правилам той поры у беспартийного Лихачева обязательно должен быть партийный заместитель. Дмитрий Сергеевич, имея достаточный опыт, опасался, что назначат такого, который погубит все. Правда, «патронаж» самой Раисы Максимовны, весьма влиятельной жены Горбачева, неравнодушной к культуре, дарил Дмитрию Сергеевичу некоторую свободу действий, и он решил этот вопрос сам. Точнее, по рекомендации знаменитого реставратора и культурного деятеля Савелия Ямщикова, который уж точно «играл» не на стороне властей, Лихачев пригласил на должность своего заместителя второго секретаря Пензенского обкома КПСС Георга Васильевича Мясникова. Мясников сделал в фонде много полезного, причем такого, что мог сделать только он, с его связями и опытом… но порой его «партийное мышление» приводило Лихачева в отчаяние. Как раз во время той поездки в Остафьево, видя, как измучен Лихачев постоянными поездками из Петербурга в Москву и обратно, он «с партийной прямотой» предложил Лихачеву сделать квартиру в Москве и подмосковную дачу: «Как раз Свиридову сейчас оформляем».
Лихачев гневно ответил: «Дача у меня в Комарове, и больше никогда к этому вопросу не возвращайтесь!» Так и мотался в Москву и обратно, из последних сил. Но — занимаясь восстановлением русской культуры, видел в ней принципы не только эстетические, но и этические, несовместимые с какой-либо корыстью.
И. А. Лобакова, сотрудница Отдела древнерусской литературы и главная помощница в лихачевских делах, вспоминает, с каким недоумением была воспринята чиновниками Фонда идея принципиального Лихачева. «Фонд спасает и собирает культурные ценности, в том числе и из-за рубежа, но собственником этих ценностей не является! Памятники культуры не могут быть чьей-либо собственностью», — заявил Лихачев. Изумление чиновников было искренним: «Как же так? А кто же — является?..» Так для чего же они трудятся тут, ночей недосыпая? Лихачев не пришелся ко двору… Но держался долго.
Выдержка его была потрясающей! Вспомним хотя бы некоторые из его дел.
…Неоднократно он говорил о неподобающих условиях хранения в Пушкинском Доме пушкинских рукописей и других бесценных раритетов — но власти обходились отписками. Тогда Лихачев публично заявил, что, если не будет средств для создания приемлемых условий хранения, он сложит с себя звание академика! Это подействовало, и необходимый минимум был выдан.
Больше всего его беспокоило то, что нет никакой официальной программы по сохранению и развитию культуры, и каждое действие по защите тех или иных объектов начинается словно бы заново, словно в первый раз. И Лихачев, отложив на время свои научные штудии, пишет и передает Горбачеву на рассмотрение проект «Декларации прав культуры»… Но наш любимый и уже знаменитый на весь мир Горби знал, что всё, что его просят, исполнять нельзя — «потеряешь контроль», и он со своей обаятельнейшей улыбкой принял у Лихачева декларацию и передал ее в свой аппарат для «некоторых поправок», после которых ее было не узнать. Аппарат свое дело знал, соображал, как надо работать: ведь не все же «добрые обещания» вождей следует исполнять на самом деле, надо уметь их «гасить»… за это им деньги платят и ценит руководство. Потом, конечно, вождь посетует на «нерасторопность чиновников»… но как бы он жил без них? Что бы было с ним, если бы пришлось выполнять все данные в пылу речей обещания?
Все труднее становилась работа Лихачева в Фонде. Опытные партийцы, владевшие искусством пустопорожней говорильни, побеждали и тут. В огромном томе воспоминаний о Лихачеве, собранном его учеником Е. Г. Водолазкиным, приводится фрагмент заседания правления Советского фонда культуры:
«Лихачев:
— Товарищи! Я сегодня хотел бы говорить о некоторых недостатках в нашей работе, потому что о наших достижениях и достоинствах, явных и очевидных, говорить не имеет смысла, потому, что там не нужно ничего исправлять… О некоторых недостатках, которые мне видятся из Ленинграда, а это достаточно далекое расстояние… я не в курсе всего, и вообще плохо информирован о том, что в Москве происходит. Тут нужно будет что-то перестроить, может быть, в чем-то я не прав, но…
Горбачева:
— Дмитрий Сергеевич, извините, я плохо слышу.
Лихачев:
— Значит, Раиса Максимовна, я хотел бы говорить не о наших достоинствах, которые явны, например появление журнала, это огромное событие в нашей жизни, которое дает лицо фонду; дары, которые мы получаем; приемы, которые мы устраиваем… премьеры — это все, несомненно, наши успехи, но говорить об успехах не буду, потому что мы сами знаем их хорошо и исправлять тут ничего не нужно, поэтому я буду говорить главным образом о том, что мне кажется в работе фонда недостаточным и неправильным, но поддающимся улучшению.
Цель фонда — это поднятие культурного уровня страны; цель фонда — в широком смысле этого слова. Это не только цель нашего фонда, но и нашего сознания, потому что это сейчас чрезвычайно важно: без поднятия культурного уровня, без поднятия гуманитарных культур не может развиваться нравственность и никакая система, никакие постановления и узаконения, ничего не будет действовать, если нравственность и общекультурный уровень страны будет недостаточно высок…»
Удивительно: знаменитый своим красноречием Лихачев выступает тут сбивчиво, невнятно, совершенно не похоже на его выступления перед коллегами, в любимом своем Секторе, где он четко владеет ситуацией и аудиторией… Здесь он явно «плывет» — словно ему неловко тут выступать, словно он стыдится чего-то.
И Раиса Максимовна не слышит его… Впрочем, его слова о «нравственности и культурном уровне» еще хуже были бы расслышаны сейчас, когда нравственность и культурный уровень «ушли вдаль».
Когда в Фонде разбирался вопрос о создании Музея нового современного искусства, на заседании присутствовала Раиса Максимовна Горбачева. Дмитрий Сергеевич волновался. Он доказывал ей, что необходимо немедленно организовать новый музей, пока все ценное еще не вывезено из России, говорил, что художники не имеют поддержки и вынуждены продавать шедевры за бесценок… Раиса Максимовна разговаривала с Лихачевым примерно так, как ее муж Михаил Сергеевич разговаривал с академиком Сахаровым, стоящим на трибуне Верховного Совета, перебивала, не давала досказать… Дмитрий Сергеевич не выдержал. Хотел уйти. Он встал, тяжело ступая, пошел к выходу… Дойдя до двери, он помедлил и вернулся на свое место.
Понимал, что надо терпеть, что никто его не заменит.
Напрягались отношения и с церковью. Он работал для сохранения русской культуры, а вовсе не в угоду каким-то инстанциям, и даже церкви.
Именно в Фонд культуры (для большей сохранности), а не в церкви направлял он гибнущие в запустении, спасенные им замечательные образцы церковного искусства, уникальные вышивки, что, естественно, вызывало недовольство церковных властей. Нелегко делать намеченное дело — столько препятствий и «уважительных причин», чтобы не сделать! Лихачева бесило неумение, а уж тем более — нежелание людей сделать даже вполне возможное. Особенно — когда это прикрывалось высокими мотивами!
Когда зашла речь о сохранности фресок Андрея Рублева в Успенском соборе города Владимира, чиновник, ответственный за них, сделавшийся, по примеру партийного начальства, «глубоко религиозным», вдруг вымолвил: «Значит, Богу угодно, чтобы этих фресок не стало!» Как был взбешен Лихачев! «При чем здесь Бог? Это просто спекуляция! А вы закройте глаза и попытайтесь перейти Невский в потоке машин — это ведь примерно такой же по убедительности способ узнать, желательно ли Ему ваше пребывание в этом мире!»
Лихачев изнемогал! Сколько говорунов — а дело доверить некому!
Он с отчаянием понимал, что все может утонуть в бесконечных «согласованиях» и ни к чему не приведет. Главный принцип чиновников: «Любое конкретное дело может оказаться опасным. Поэтому — ни в коем случае никаких конкретных дел! Только — круговорот бумаг!» Одна знакомая заведующая из Смольного, выйдя уже на пенсию, рассказывала мне, что главный их рабочий принцип звучит так: «Завести рака за камень!» То есть — встретить ласково, а потом запутать, чтобы гость уже никогда не нашел дороги к цели. И этот принцип стал бодро воплощаться и тут. Все горели энтузиазмом — в предвкушении высоких зарплат и заграничных командировок, при этом зная: не дай бог сделать что-то конкретное; к любому сделанному делу всегда придерутся. У Лихачева появилась идея создания журнала, посвященного сохранению культуры: хоть что-то конкретное останется от их деятельности — хотя бы снимки «уходящих» шедевров! Он стал искать человека, который мог бы сделать достойный журнал. Все тот же Д. Н. Чуковский назвал Енишерлова из сверхпопулярного тогда «Огонька», выходящего миллионными тиражами и немедленно раскупаемого. Там были тогда статьи, от которых нельзя было оторваться. Помню статью «Ждановская жидкость», где разоблачался идеолог-людоед Жданов. А «ждановской жидкостью», оказывается, назывался до революции состав, который подливали в гроб, чтобы отбить трупный запах.
От прессы того времени кружилась голова, пол уходил из-под ног. «Обком Крутовского обкома партии собрался в полном составе и высказал недоверие первому секретарю обкома Скакунову Б. И., и тот подал в отставку!» Хотелось с опаской оглянуться, держа такую прессу в руках, не заметут ли? Раньше за такое «мели»… еще, кажется, год назад? Не сон ли? «Первый секретарь Нижнеподгузского райкома Лупякин У. Е. собрался в полном составе и высказал полное недоверие райкому, и тот подал в отставку!»… Восторг!
Выбор оказался правильным — Владимир Енишерлов сделал отличный журнал «Наше наследие». И сейчас, в эпоху самых роскошных изданий, берешь в руки его увесистый том с трепетом: «Какие замечательные фотографии дворянских усадеб, царских сервизов! Какие замечательные, умные, образованные авторы!» Прекрасный журнал. Его еще и теперь полезно читать!.. или «уже теперь»? «Уже теперь» особенно полезно — когда снова наступает «культурный провал» и всюду маячит лишь «глянец»? Как Енишерлов его создал тогда — когда даже школьные тетради исчезли, не говоря об учебниках? Создал!.. И конечно — при неустанной поддержке Лихачева, его огромном авторитете, который удалось приложить к хорошему делу.
Из переписки с Енишерловым видна вся острота и напряженность работы Лихачева. В письмах этих видны и израненная душа Лихачева, и разочарование в Фонде, и главное — в людях, которые хорошее дело превращают в торжище, в место удовлетворения своих амбиций!
Страдал он и от наступающей «свободы безответственности», «свободы разрушающей» — «модных нигилистов» становилось все больше, и сражаться с ними было «по плечу» разве что Лихачеву. Но как ему было тяжело — бороться еще и против неумеренных «прогрессистов». Вот одно из его писем:
«В. П. Енишерлову, 18. 6. 91.
Дорогой Владимир Петрович!
Я послал Вам письмо относительно статьи Гр. Померанца — претенциозно-легкомысленной, которую печатать ни в коем случае нельзя (статья была посвящена весьма „прогрессивной“ трактовке Троицы. — В. П.)… Она многих оттолкнет от журнала (особенно эмигрантов, и может вызвать сходную реакцию с той, которую имели „Прогулки с Пушкиным“ Синявского).
Письмо короткое, чтобы оно имело значение документа для Вас. Вы мое письмо можете показывать в нужных случаях.
28. 6 переезжаем из „Белых ночей“ в Комарово.
5 августа я открываю в Москве Всемирный конгресс византистов. Но до конца конгресса не пробуду в Москве — приезжает из Мюнхена внучка…
Прошел невропатологов. Решил нести ношу, не останавливаясь. Олег Волков (дворянин, одноклассник Набокова, прошедший через репрессии. — В. П.) допустил в 4-м „Нашем современнике“ выпад против меня, провоцирует меня на некоторые поправки к его воспоминаниям…»
В те годы Лихачеву хватало сил на всё, он ясно видел, куда надо направить в данный момент главные усилия. Летом 1986 года В. П. Енишерлов и Д. Н. Чуковский посетили Дмитрия Сергеевича в гостинице «Россия», где он жил вместе с другими делегатами Восьмого съезда Союза писателей СССР. В толпе его узнавали, приветствовали даже незнакомые люди, подходили, чтобы познакомиться и о чем-то посоветоваться. Потом Дмитрий Сергеевич пригласил Енишерлова и Чуковского в номер. Лихачев был в хорошем настроении, чувствовалось, что ему нравится разговаривать с людьми, которые его ценят. Номер у него был замечательный, на одном из верхних этажей, с прекрасным видом на Красную площадь и Кремль. Лихачев оживленно говорил, показывал на хорошо отсюда различимые зубцы Кремлевской стены, которые, как объяснил он, ошибочно сравнивают с «ласточкиными хвостами» — на самом деле форма зубцов повторяет знак итальянских гибеллинов: взмах орлиных крыльев. Вскользь вспомнил эпизод истории, которой все, наверное, должны знать. Когда Москва была объявлена Третьим Римом, был приглашен для строительства Кремля итальянский архитектор Фиораванти, отпечатавший свой знак на зубцах Кремля. Лихачев восхищался видом на Соборную площадь Кремля с главной святыней Московского государства — Успенским собором с усыпальницей московских митрополитов. Чуковский в своих воспоминаниях особенно отмечает те деликатность и непринужденность, с которыми Лихачев провел свою маленькую лекцию — никакой назидательности, высокомерия — дружеский разговор на равных, академик лишь деликатно просвещал.
Затем Дмитрий Сергеевич стал советоваться с гостями насчет речи, которую он собирался произнести на предстоящем заседании съезда писателей.
Тогда, в 1986 году, он первым решил выступить с требованием публикации прежде запрещенных авторов — Гумилева, Платонова, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Зощенко, Ходасевича, Набокова. Гости были потрясены. Все, конечно, чувствовали, что власть дает людям некоторую свободу — но границ этой свободы не знали, боялись рисковать, а Лихачев сразу решил добиться многого. Потому он и стал лидером.
Речь его произвела фурор. Никто до него не говорил так смело. Он открыто обвинял тех, кто десятилетиями разрушал Россию, ее культуру и славу. Вот фрагмент его речи:
«…Агрессивно беспамятны те, кто взорвал гробницу Багратиона на Бородинском поле и построенный на народные деньги в честь победы над Наполеоном храм Христа Спасителя, те, кто запрещал читать Ахматову, Цветаеву, Гумилева, Пастернака, Платонова, Зощенко, Ходасевича, Клюева, Набокова… еще не до конца оценен тот вред, который был ими нанесен нашей культуре, нашей нравственности, нашему патриотизму!»
Аплодисменты были бурными, хотя, как было замечено, в президиуме хлопали не все.
После своего успеха он, с присущей ему деликатностью, поблагодарил друзей, с которыми советовался, написал письмо Енишерлову: «…спасибо за подсказки — употреблял некоторые ваши выражения».
Слава его росла — благодаря смелой гражданской позиции. В эпоху гласности, во времена разоблачения прежнего режима Лихачев-мученик, Лихачев-лагерник вовсе не намеревался молчать.
Большое воздействие на общество произвела премьера фильма Марины Голдовской «Власть соловецкая». Тут мы впервые увидели по-настоящему звериный оскал советской власти, которая, по сути, всегда была «властью соловецкой», концлагерной. И, конечно, фильм прозвучал так сильно благодаря участию в нем Лихачева. Осуждение из его уст было убедительным для всех. Даже для тех, кто до этого сомневался — «чья правда». В те годы, кстати, далеко еще не было ясно, чья возьмет. «Мешок на голову» будут пытаться накинуть еще не раз — и Лихачев, как никто другой, это чувствовал, но он сделал свой выбор и действовал бесстрашно.
Пожалуй, с этого фильма началась и его международная слава. В Лондоне князь Георгий Владимирович Голицын организовал в своем роскошном доме просмотр фильма и пригласил режиссера Голдовскую и Лихачева. Пришел весь цвет русской эмиграции, были князь Георгий Васильчиков, писатель-эмигрант Александр Зиновьев, весьма тогда знаменитый, и даже — принц Майкл Кентский, внучатый племянник Николая II.
Огромный успех имел не только фильм, но и сам Лихачев, своей статью, манерами, разговором покоривший всех. Он стал полпредом обновленной России, которому все доверяли полностью.
Лихачев не только просто общался с представителями лучших фамилий, но и выполнял свою миссию. Он обратился с призывом к эмиграции: давать рукописи, делиться воспоминаниями — это весьма ценно и необходимо для страны. Ему поверили и откликнулись. Так образовался замечательный Архив русского зарубежья в Москве в Доме-музее Марины Цветаевой, содержащий сотни бесценных «единиц хранения».
Одной из главных задач возглавляемого им Фонда культуры Лихачев считал собирание русских раритетов, оказавшихся за рубежом. В тех случаях, когда он считал приобретение раритетной вещи важным для России, при всей его сдержанности и интеллигентности проявлял завидное упорство, совершал поступки весьма решительные.
Так, он счел необходимым приобретение черновой рукописи романа Тургенева «Отцы и дети». Рукопись находилась в коллекции лондонского букиниста-антиквара лорда Пармура. Когда тот назвал цену, то эксперты Министерства культуры сочли ее чрезмерной. Но Лихачев не привык отступаться от своих планов. Он позвонил Николаю Ивановичу Рыжкову, тогдашнему главе правительства, и прочел небольшую лекцию. Через некоторое время появился фельдъегерь и вручил Лихачеву плотный темно-синий пакет. В нем была вожделенная рукопись.
Вскоре, благодаря его авторитету и его хлопотам, в Фонде появились и другие бесценные документы: записная книжка-дневник Зинаиды Гиппиус, неизвестное прежде письмо Пушкина, письмо Ремизова. Разумеется, все подобного рода ценности находились в чьей-то собственности, в коллекциях, составляя порой важную часть состояния владельца, и даром отдать это соглашались далеко не все. Нужны были огромные средства — и они были найдены. Никому другому толстосумы бы не поверили, уже зная, как у нас «тырятся» огромные суммы, выделяемые на благие дела. Доверяли лишь бескорыстному Лихачеву.
…Можно себе представить, каким «бомондным» был тот московский вечер, как блистали нарядами дамы в роскошном Амурном зале третьяковского особняка!
К открытию в начале 1990-х годов официального офиса алмазодобывающей компании «Де Бирс» в Москве была приурочена выставка в Фонде культуры раритетов, выкупленных из различных коллекций при помощи компании «Де Бирс». Самая мощная алмазная империя мира решила спонсировать программу «Возвращение». Никому, кроме Лихачева, они бы не стали помогать — он был абсолютно безупречен.
Главная «роскошь» выставки находилась в выставочных витринах — письма Цветаевой, Бунина, Ремизова, архив Марка Алданова, полные комплекты ставших уже драгоценными журналов «Современные записки», «Числа», альманаха «Воздушные пути», фото с автографами Шаляпина, Павловой, Кшесинской. Лихачев водил вдоль витрин очень пожилого главу империи «Де Бирс» Гарри Оппенгеймера. Богатые люди, вопреки расхожему мнению, довольно часто бывают широко образованны и столь же досконально разбираются в искусстве, как и в бизнесе. В тот визит Оппенгеймер подарил Фонду копию письма Льва Толстого Махатме Ганди, которое хранил в своей библиотеке в Йоханнесбурге, но, проникшись к Лихачеву симпатией и доверием, сказал: «Когда будете у меня в гостях в Южной Африке, я передам в Россию через вас подлинник этого письма».
В конце экскурсии, оценив, с каким пониманием, вкусом, тщательностью Лихачев расходует выделенные деньги, Оппенгеймер сказал: «Мы поняли, что в России сохранили честь и достоинство!»
Лихачев вернул России доброе имя. Он становится главным «культурным атташе» нашей страны — и лишь благодаря его авторитету, неповторимому облику, интеллигентности, аристократизму и высоким знакомствам ему удаются удивительные дела.
Лидия Борисовна Варсано (урожденная Ногина), унаследовавшая весьма значительное состояние, преклонялась перед Дмитрием Сергеевичем, и благодаря ее поддержке Лихачев мог подробно исследовать самые разные материалы и раритеты, представляющие интерес для Фонда. Есть замечательная фотография — Лидия Варсано и Лихачев в Венеции в 1993 году. Дмитрий Сергеевич импозантен, элегантен и благороден, вполне «в стиле» выпавшей ему высокой миссии.
Лихачев, исключительно благодаря своему имени, смог посетить замечательного коллекционера Александра Яковлевича Полонского, который вынес ему жемчужину своей коллекции — автограф Пушкина «На холмах Грузии». Лихачев тщательно осмотрел рукопись, выразил восхищение ее состоянием (как он говорил — рукописи любят, чтобы их читали, ласкали, иначе они погибнут) — но покупать ее для Фонда культуры не стал. К средствам, выделяемым Фонду, он относился с большой ответственностью. Автограф стоил недешево, а в хранилище Пушкинского Дома уже имелся автограф Пушкина с вариантом этого стихотворения. Зато он купил тогда редчайшие, отсутствующие даже в наших спецхранах комплекты эмигрантских изданий и книг русских парижских издательств и передал их в Архив русского зарубежья в Доме-музее Цветаевой.
В 1991 году в Лондоне Николай Васильевич Вырубов, потомок знаменитой фрейлины двора, вручил Лихачеву для Фонда культуры коллекцию уникальных гравюр. Лихачев был на этой церемонии в шапочке и мантии доктора Оксфордского университета.
…Может быть — собрание той бесценной коллекции и есть главный смысл работы Лихачева в Фонде?
Лихачев возглавлял Фонд культуры с 1986 по 1993 год — и в конце концов вынужден был из него уйти. В частности, и из-за того, что исторический путь «прогрессивного развития» привел страну не к очищению, как надеялся Лихачев, а к разгулу бесправия и пошлости. В письме Енишерлову, главному редактору журнала «Наше наследие», который был любимым «детищем» Лихачева в Фонде культуры, он писал:
«5. 1. 94
Сообщите Георгию Иларионовичу (Васильчиков — князь, литератор, историк, бывший в то время консультантом „Де Бирс“ в России. — В. П.), что я теперь никого отношения к РФК не имею (не могу быть в одной компании с Глазуновым и пр.), поэтому договор, заключенный мной с Оппенгеймером, в подобной обстановке не действителен».
Пожалуй, только журнал «Наше наследие» из всех созданий Фонда и радовал Лихачева до самого конца. И после его смерти — к столетию Лихачева — вышел юбилейный лихачевский номер «Нашего наследия» с множеством замечательных материалов.
В письме В. П. Енишерлову от 5 июня 1995 года Лихачев пишет:
«…Хорошо, что Вы придаете большое значение провинции и соединяете этот интерес с интересом к интеллигенции… Обещают через месяц выпустить мои „Воспоминания“… Я Вам очень благодарен, что в былое время Вы меня повозили по подмосковным музеям: Шахматово, Середниково, Мураново. Сейчас это стало для меня как-то душевно важно».
…Это уже похоже на прощание с Фондом. Лихачеву в его деятельности очень помогла поддержка Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны, в то же время идиллического взаимопонимания и взаимодействия не получилось, да и получиться вряд ли могло — люди они были слишком разные, с непохожим жизненным опытом, с разными целями и разными способами достижения целей. Сперва были столкновения с «партийной дисциплиной», с советскими пережитками в сознании Горбачевых, потом, наоборот — с наступившими излишними «вольностями», засильем коммерческих интересов в обществе. «Барская любовь» и не может быть художнику «впору». Трения неизбежны. Вспомним, как Николай I журил Лермонтова за то, что не того он взял «Героем нашего времени»… Однако Лихачев с пользой использовал и время «барской любви», и сделал все, что было в его силах — и не противоречило его принципам.
…Но дальше уже было — «не для него». Государство бросает Фонд культуры как надоевшую игрушку, и становится необходимым изыскивать средства на его существование — а Лихачев на такие дела не мастак. И чиновники, запуганные перспективой утраты зарплат, голосуют за кандидатуру Никиты Сергеевича Михалкова на пост председателя… уж он-то обнищания Фонда не допустит и заманчивые иностранные командировки не прекратятся! Лихачев становится весьма условным «почетным председателем», но несмотря на это не раз еще спорит с Михалковым по принципиальным вопросам…
Из письма Енишерлову:
«И вот сейчас все рушится… Никита Сергеевич по непонятным причинам хочет библиотеку (Архив русской эмиграции. — В. П.) перенести (из Дома Цветаевой. — В. П.) к себе в фонд, который не стал, как кажется, центром культуры (особенно неудачно, что часть помещений сдается посторонним по духу организациям и, следовательно, уют и близость людей перестали в нем существовать)».
…После долгих переговоров библиотека осталась в Доме-музее Марины Цветаевой: последняя, может быть, победа Лихачева в Фонде культуры! В одном из писем у Лихачева вырывается фраза: «…порой и из желанного ребенка вырастает чудовище!»
ОТ ГОРБАЧЕВА ДО ЕЛЬЦИНА
Лихачев и Горбачев. Две ключевые фигуры того времени. Горбачев спас Дмитрия Сергеевича: если бы не он, прежние власти так или иначе расправились бы с неугодным Лихачевым — попыток такого рода было уже немало. И Горбачев «выбрал» Лихачева из всех — и Лихачев очень был благодарен ему за помощь в делах. Как два гиганта, переделывающие жизнь, они не могли не взаимодействовать — но их пути различались.
В 1987 году Лихачеву было прислано приглашение в Смольный на встречу Горбачева с представителями города. По словам профессора Бориса Федоровича Егорова, с которым Дмитрий Сергеевич делился впечатлениями, дело было так: пунктуальный Лихачев пришел в Смольный за полчаса до начала, но была какая-то досадная неразбериха со списками приглашенных: фамилию каждого охрана разыскивала очень долго. Выстроилась очередь. Когда удалось войти и подняться по лестнице — зал был уже набит битком.
Он сел в задних рядах — третьим от прохода. Вышел Горбачев и говорил долго, и когда заговорил о ленинградской интеллигенции — все телекамеры повернулись к Лихачеву.
После своего выступления Горбачев не скрылся в дверку за сценой, как это делали до него другие начальники, а демократично пошел через зал, по центральному проходу между креслами. Никто не решался выйти в проход и поздороваться, дабы не мешать его движению. Некоторые здоровались прямо с мест, Горбачев здоровался в ответ, но нигде не останавливался. Остановился лишь возле Лихачева. Сказал, что видел его из президиума. Лихачев поклонился. Чуть помолчав, Горбачев спросил, будет ли он принимать участие в работе Детского фонда. Лихачев замялся, не совсем, видно, понимая, о чем речь. На помощь пришла Раиса Максимовна, которая уже общалась с Лихачевым в Фонде культуры. Она с улыбкой произнесла, что Дмитрий Сергеевич и так перегружен. Благожелательно кивнув, Горбачев проследовал дальше. Эта встреча продемонстрировала всем, что Горбачев сделал свой выбор. Тогда многие пытались перетащить его на свою сторону. По рукам ходил текст обращения к Горбачеву группы черносотенцев — «истинных патриотов», как они себя почему-то называют, сделавших из своего «патриотизма» профессию, состоящую в том, чтобы поливать грязью всех тех, кто не так назойливо, как они, говорят о своем патриотизме, а заодно и тех, кто тоже говорит назойливо, но не состоит в их компании. О Лихачеве в том тексте сообщалось, что он не любит Россию, поскольку предпочитает Шагала отечественным мастерам. Наверное, Горбачев знал о письме (наверняка влиятельные авторы позаботились об этом) — но демонстративно, при всех, обласкал Лихачева, решив, видимо, что этот сдержанный, воспитанный человек не станет нарываться и лезть на рожон и своим авторитетом сможет влиять на настроения интеллигенции в нужном направлении.
И началась стремительная общественная карьера Лихачева. Б. Ф. Егоров пересказывает рассказ Лихачева в Пушкинском Доме — 23 февраля 1987 года — о кремлевском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества»:
«Участники. Марина Влади. Каждый день — новый костюм. Первый день — в трауре, посетила могилу Высоцкого, затем — яркие тона. Главным образом — красные. Евгений Евтушенко — в кумачовом костюме. Грэм Грин. Питер Устинов. Барон Фальцвейн из Люксембурга, большой друг России (по материнской линии Епанчин)… Свободно говорит по-русски. Очаровал обслугу в гостинице, она ему — „Товарищ барон!“… Обещает найти доступ к Голландскому королевскому архиву (закрытому), где есть письма Николая I о высылке Геккерна… Встреча в Кремле. Большинство везли на автобусах. На „Чайке“ — Грин (вот оно, преклонение перед Западом!), и — Лихачев. И Генрих Боровик. Вот она, советская аристократия!»
Помню, как я, автор этой книги, оказался именно в те дни в Москве по делам. Дела были плохи. Благодаря «экономической свободе», объявленной Горбачевым, все старые государственные издательства померли, а новые, «самопальные», вели себя кое-как. Денег не было — ни выпить, ни закусить. Да и выпивка с закуской исчезли. Помню, как мы с двумя московскими коллегами шатались по бесприютной Москве, промокли насквозь, особенно ноги. И в то же время поперек чуть ли не каждой улицы висели растяжки: форум «За безъядерный мир, за выживание человечества». Предполагалось, видимо, что это мероприятие вызовет у нас трепет и восторг: какими важными делами занимаются эти важные люди, тратя свое драгоценное время! Однако, помню, лозунги эти вызывали у нас лишь досаду. Во, устроились! Кто же не знал, что «борьба за мир» всегда была для властей и примкнувшим к ним сладкой кормушкой, «окном на Запад» — но только для них. И как только кто-нибудь из прежде любимых писателей — Константин Симонов, Илья Оренбург, Николай Тихонов — появлялся вдруг среди наших холеных «борцов за мир», на нем как писателе можно было ставить крест. И вот снова, холеные наши, «борются» под икру и коньяк, под усиленной охраной. Помню, как один из нас вдруг вспомнил, что у него же на этом форуме есть кореш, в одной из комиссий, и сейчас у нас все будет! Из гостиницы «Космос», где проходили некоторые заседания, нас выгнали в шею. Охрана всегда гениальна: она безошибочно отделяет настоящих «борцов за мир» от самозванцев. Мы только успели увидеть, как там, в манящей дымке, плывут «удостоенные». И то, что Лихачев оказался там «своим», в наших глазах его отнюдь не красило. Боюсь, что если бы он увидел тогда нас, то «не узнал бы», даже если кого-то и знал. Сверху — не видно ничего. Лучше все же для человека честного суровый «барский гнев», нежели лукавая «барская любовь»!
Продолжение рассказа Лихачева о форуме (в пересказе Б. Ф. Егорова).
«Ужин в Кремле: члены правительства ходили по рядам… (небывалое счастье!), Е. К. Лигачев (главный тогда идеолог) подошел к Лихачеву: „На что теперь жалуетесь?“ — „На Новгород!“ — сказал Лихачев (там строился опасный для памятников культуры химкомбинат). Лигачев сказал, что сменили первого секретаря обкома и теперь Новгород будет спасен… Ждали Горбачева. Фальцвейн демонстративно заложил руки под мышки: „Не буду аплодировать!“ — но когда Горбачев появился, в большом окружении официальных лиц, дипломатов — не удержался и зааплодировал. „Аплодисменты, переходящие в овацию“ — штука заразительная».
Как же влияла на Лихачева «барская любовь»? В 1986 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награда эта никоим образом не «приручила» Лихачева, он по-прежнему считал своим долгом быть в гуще самых острых событий. Весной 1988 года перед Владимирской церковью, как раз там, куда выходили окна квартиры его сурового деда и где Лихачев играл еще мальчиком, начались бурные события. Много дней без перерыва там происходил несанкционированный митинг. Официальный повод — защита исторического дома Дельвига, который власти хотели снести при строительстве станции метро «Достоевская» (мог ли представить себе такую ситуацию Достоевский?). Но на самом деле — это был митинг неповиновения, неподчинения государству, его опостылевшим законам и действиям. Известно было, что Лихачев выразил поддержку демонстрантам. И это еще больше вдохновляло их. Власти, однако, вовсе не думали поощрять подобное своеволие. Обещания свободы, «гласности», брошенные в народ Горбачевым, вовсе не предполагали столь непредсказуемых для власти последствий. Карательную машину никто не отменял — и она заработала. Участники той демонстрации вспоминают, что их участь могла бы быть печальной — и всех спасло лишь личное обращение Лихачева к Горбачеву в их защиту. Горбачев его послушался. Демонстрантов выпустили из кутузки. Дом Дельвига сохранили. Это было победой.
Нужно отметить, правда, что выступления те шли под знаком защиты города, его истории и культуры, что несколько облегчало задачу Лихачеву. Против «защиты культуры» властям трудно было возразить. Также под покровительством Лихачева успехом закончилась демонстрация в защиту гостиницы «Англетер», которой тоже грозила опасность. Таким образом, все больше укреплялся статус Лихачева — главного защитника справедливости перед властями, и он становится популярен и среди бунтующей молодежи — как в свое время Достоевский или Некрасов.
В 1989 году Лихачев согласился баллотироваться в Верховный Совет СССР и на волне огромной своей популярности был избран. На него возлагали очень большие, часто нереальные надежды: «Ну, раз уж Лихачев в Верховном Совете — начнется справедливая жизнь!»
Теперь, когда он ехал на сессию, у его вагона каждый раз собиралась толпа просителей — с просьбами, которые мог решить «только Лихачев». И многие просьбы действительно были «по его теме», и он их старался решить. Нагрузка его еще больше увеличилась. Смеясь, он рассказывал, как однажды вышел из душа голый и вдруг увидел в номере незнакомого человека, который как-то пробрался к нему «с неотложной просьбой». Годы работы Первого съезда народных депутатов было временем огромных надежд. Еще бы — там оказалось столько любимых, уважаемых всеми людей — Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Ролан Быков, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Дмитрий Лихачев!
Олег Басилашвили вспоминает:
«Дмитрия Сергеевича необычайно ценили те люди, которых мы называем демократами первой волны… На Съезде народных депутатов возникали ситуации, когда необходимо было чье-то слово, которое перевесило бы демагогию наших оппонентов, коммунистов. Мы всегда пытались прибегать к поддержке Дмитрия Сергеевича и знали, что он никогда не откажет. Этот человек, уже очень немолодой, безотказно приходил на различные совещания, съезды. Откладывал в сторону свои научные дела. Им руководило российское, интеллигентное сознание долга».
Лихачев, в отличие от многих уважаемых людей, которые считали свою партийность делом неприятным, но необходимым, никогда в коммунистической партии не был, и даже ни разу не был приглашен в нее вступить, и тем более в нее не просился — что вполне ясно показывает отношение власти к нему и его к власти. Поэтому и в Верховном Совете он оказался в оппозиции, которая в те годы была необычайно велика и, казалось, сильна (такого больше не повторилось). И он всегда голосовал с демократами по всем вопросам. Но главной его темой была русская культура, и больше всего он говорил о ней — и на Первом, и на Втором съездах народных депутатов. «Культура, — повторял он, — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации». В своих выступлениях — и с трибуны съезда, и на разных приуроченных к съезду комиссиях, и на сессиях Академии наук, и в Фонде культуры он говорил о самом для него важном, причем не в общих словах, а конкретно: об опасностях, грозящих Невскому проспекту, Соловецкому кремлю, подмосковным усадьбам Шахматово и Мураново, о судьбе церкви Спас-Нередица в Новгороде, о Воронцовском дворце в Алупке, о парках Петергофа, Пушкина, Гатчины, Павловска, Выборга — и о Байкале.
Огромная энергия потребовалась, чтобы пробить важные для него публикации, которые иначе не вышли бы: в «Литпамятниках» — мемуары «монархиста» Александра Бенуа, «Жития византийских святых», в Гослите — «Доктор Живаго». При всей его усталости, он понимал: уйди он с общественной арены — и никто его не заменит.
Тот Верховный Совет был уникальным собранием. Там смогли встретиться выдающиеся люди, которые иначе, в силу чрезвычайной занятости, могли бы и не пересечься — а тут они оказались рядом и попытались вместе что-то сделать… или хотя бы заявить о симпатии и уважении друг к другу. А это так важно для жизни! Пишущие люди очень одиноки, и столь разные персонажи, как Дмитрий Лихачев и Виктор Астафьев, иначе могли бы и не встретиться. А тут — встретились!
Астафьев написал: «…Дмитрий Сергеевич поздоровался со мною и было прошел мимо, но вернулся, подхватил меня под руку и заговорил: „Что, Виктор Петрович, гнусная погода? И на душе паршиво, устали от этой говорильни? Устали от толчеи, устали от гама, от дури и хитрости людской?“ Я кивнул головой, подтверждая догадки академика. Он повернул меня назад и прогулял по двору Кремля, говоря о том, что в России бывало хуже и страшней, что не стоит падать духом… В заключение академик начал настойчиво дарить мне варежки, толстовязаные, из овечьей шерсти, чем окончательно растрогал меня. Варежки, догадался я, связала ему дочь, с которой случилось несчастье, — и от дара такого сердечного и бесценного отказался».
В эту «говорильню» Верховного Совета, в которой опытные аппаратчики уже явно начинали переигрывать хороших людей, Лихачев вносил дух добросердечия, искренности, правильной речи… и для многих делегатов тех лет (у того же Астафьева) то были единственные добрые впечатления.
Всё шло вразнос. Начиная с власти. Горбачев пришел как любимец всего народа — его любила и интеллигенция, и толпа. Часто повторяли по телевидению такой эпизод: он — симпатичный, улыбчивый, так не похожий на прежних угрюмых вождей, стоит перед толпой, и из нее несутся восторженные крики: «Ближе! Ближе подойдите!» Горбачев делает шаг, другой. «Еще ближе!» — «Так куда ж ближе!» — простодушно, обаятельно улыбается Горбачев. Было время счастья, обоюдных надежд, бесстрашного хождения Горбачева в народ… Неслучайно офицеры его личной охраны оставили о Горбачеве неприязненные воспоминания: пренебрегал их работой! Вот Брежнев — тот охрану понимал, как к родным относился. Поэтому и просидел так долго. А Горбачев — тот охрану не понимал! И она ему отомстила.
Вячеслав Всеволодович Иванов в своих воспоминаниях пишет, что Лихачев не скрывал своей близости с Горбачевыми, рассказывал о посещении их семьи. На вопрос Иванова, что же все-таки за человек Горбачев, Дмитрий Сергеевич, задумавшись, ответил вдруг весьма неожиданно: «Очень одинокий!»
Не имеющий, в отличие от других вождей, глубоких корней в партийной номенклатуре, он так и не сошелся близко ни с кем, никому не доверился. При его простодушной внешности, он был человек очень осторожный и из верхов никого к себе не приблизил: «Этот тянет назад!.. А этот — наоборот, лишь бы ему вперед, не разбирая дороги!» Так что своей «партийной гвардии» он не создал, большинство партийцев, даже вначале поддержавшие его, сочли его путь неразумным и разрушительным, прежде всего из-за потери партией власти. Военные, конечно, ненавидели его за разрядку, за разрушение в процессе разоружения всей армейской «матчасти», в том числе и материального обеспечения. Неглупые люди из генералитета говорили ему, что Америка, наоборот, как-то не спешит разоружаться, в отличие от России. Но Горбачев был упоен международным успехом, любовью всего мира к Горби, уничтожившим «империю зла», да и вообще империю как таковую. Наша интеллигенция (на 90 процентов техническая), так горячо поддерживающая действия Горбачева против реакционного военно-промышленного комплекса, вдруг с удивлением обнаружила, что с уничтожением ВПК исчезли и их любимые НИИ, в которых было так уютно жить и смело критиковать. К тому же исчезли продукты, началась унизительная охота за «наборами».
Простой народ перешел от любви к ненависти после введения Горбачевым антиалкогольных реформ. Порыв Горбачева, не дружившего с алкоголем, в отличие, скажем, от Брежнева, был по сути правильным: пьянство стало кошмаром. Любой рабочий день — на заводе, в НИИ, даже в поликлинике (спирт доступный!) кончался пьянкой. Было такое ощущение, что трезвым домой вообще никто не приходил! Я помню вечерний Невский, усыпанный телами. Кто не добирался домой, ночевали в вытрезвителе, а утром опохмелялись, и по новой. Алкогольная реформа, ограничения и талоны привели к еще большему, протестному пьянству и потере рабочего времени в унизительных очередях. Выиграли от нее только пьяницы: благодаря прежним тесным связям с продавщицам и они сделались «бутлегерами», прямо как в Америке, и вес их в обществе значительно возрос. Интеллигенция разочаровалась в вожде: «Но зачем же вырубать виноградники?.. Такой же головотяп, как и все они!»
Разочаровался в своих действиях и сам Горбачев: свободой воспользовались «возмутители спокойствия»! Пора осадить! И после кровавых избиений людей в Вильнюсе и Тбилиси звезда Горбачева закатилась. Зато взлетел рейтинг Анатолия Собчака, первого мэра Ленинграда, блестяще разоблачившего «роль партии» в тбилисских событиях.
И «охрана» почувствовала «свой момент»! Как учил их вождь: сегодня рано, завтра — поздно… Пора!
И — произошел путч. И многие вышли на защиту свободы, на защиту появившегося у людей чувства собственного достоинства — но отнюдь уже не в защиту Горбачева. Да и позиция его, степень его осведомленности трактовались по-разному — вряд ли он уже «настолько не знал»! Было мнение, что это он сам попросил войска «осадить народ», как в Вильнюсе и Тбилиси.
Так что люди вышли на улицы не «за него». За себя! Позиция Лихачева в эти дни, в отличие от позиции того же Горбачева, была активной и вполне определенной. Как только он узнал про путч, сразу же попросил дочь Милу звонить в Смольный, рассчитывая, что там должен же быть какой-то дежурный. В те роковые дни, когда танки двигались в Москве на Дом правительства, где был со своими сторонниками Борис Ельцин, а также, по слухам, двигались и на Ленинград, — Лихачев решил выступить перед горожанами с речью, направленной против путча и путчистов. Единственное, что он просил для себя: выступать не на улице — могут не услышать — а желательно в помещении. Но когда с ним связались, оказалось, что надо выступить именно на открытом воздухе, на Дворцовой площади, куда стекались горожане. И он, не щадя здоровья, невзирая на возраст, приехал туда и, стоя рядом с Собчаком, сказал речь — и был прекрасно услышан. И если кто-то раньше сомневался, сомневаться перестал: «Лихачев с нами!»
Мы победили. А Горбачев — проиграл. Помню его на экране, спускающегося с трапа самолета — растерянного, потерявшего весь кураж, в какой-то домашней курточке…
На трибуну взошел Ельцин — прямо с брони знаменитого танка. Подводя итоги своей работы с Лихачевым, Горбачев написал для сборника воспоминаний «Дмитрий Лихачев и его эпоха»:
«…Не буду лукавить, не всегда наши отношения были безоблачными. В какие-то моменты, особенно сложные для судеб России, возникали размолвки, появилось взаимное недопонимание. Но и прежде, и сейчас я считал и считаю, что заслуги Дмитрия Сергеевича перед российской культурой чрезвычайно высоки. Вклад его был по достоинству оценен современниками и, я уверен, не будет забыт потомками».
Так что же это за «взаимное недопонимание», которое не захотел расшифровывать Горбачев? Лихачев порой совершал поступки весьма резкие, какие от этого «почтенного старца» трудно и ожидать. Чему-то он научился и у Ивана Грозного, изучением характера которого так тщательно занимался…
Когда Ельцин «аннулировал» Советский Союз, проведя в Беловежской Пуще совещание глав республик, заявивших о выходе из Союза, а значит, и о его конце, оставшийся «ни при чем» Горбачев горячо надеялся на поддержку своих соратников, и в том числе, конечно, интеллигентнейшего Лихачева, с которым они столько сделали славных дел и которому наверняка морально чужды подобного рода «закулисные перевороты»… Ждал поддержки, письма. Кто, как не Лихачев, главный блюститель чести в стране, должен выступить? Ведь выступил же он против путча!.. а тут разве не путч? Ведь недавно совсем большинство граждан СССР выступили на свободном референдуме с поддержкой Союза!.. И где же, как узнал с возмущением Горбачев, находился Лихачев в то время, когда законного президента фактически свергли? В приемной Ельцина. Он просидел терпеливо несколько часов, чтобы тот его принял! Зачем?! Как оказалось — чтобы срочно переименовать Советский фонд культуры… в Российский фонд культуры! Да — Лихачев порой бывал решителен, сообразителен и стремителен. И с точки зрения главного его дела — абсолютно прав. После исчезновения Советского Союза терял официальный статус и Советский фонд культуры, и его можно было растащить — и Лихачев стремительно перерегистрировал его!.. что Горбачева конечно же обидело: «Бегут с корабля „СССР“ и даже „до свидания“ не скажут!»
Но Лихачев, по сути, был прав: президенты приходят и уходят, а культура должна оставаться!
Однако он, в отличие от многих, после свержения Горбачева не набросился на их семью с запоздалыми упреками. Как истинный джентльмен, он предпочел поддержать эту достойную чету, попавшую в опалу, и написал Раисе Максимовне теплое письмо с просьбой передать наилучшие пожелания Михаилу Сергеевичу.
…Встречи Лихачева с Ельциным не были столь частыми и теплыми, как с семьей Горбачевых. Да Лихачев вовсе и не стремился к «барской любви», понимая неизбежные, связанные с нею, напасти. Но — довелось работать и с Ельциным.
В моей памяти осталась лишь телевизионная трансляция весьма неординарной встречи петербургской творческой интеллигенции с Борисом Ельциным, состоявшейся в Русском музее в 1997 году. Кстати, на эту встречу предполагалось пустить и несколько необычных для советского истеблишмента персонажей, но когда они подошли к оцеплению вокруг музея — их не оказалось в списке.
На той встрече (если телевизор не врет) справа от Бориса Ельцина сидел Дмитрий Лихачев, слева — Кирилл Лавров. Звучали обычные гладкие слова. И вдруг Лихачев сказал Ельцину неожиданное — слух мой сразу обострился: «Я думаю, надо возродить в Петербурге недорогие трактиры, чтобы люди могли выпить в чистой, культурной обстановке». Ельцин вздрогнул — видно, тема заинтересовала его. «Но мне кажется, такие уже есть?» — неуверенно произнес Ельцин. Лихачев, скромно улыбаясь, отрицательно повел головой… Второй раз мой слух обострился, когда Ельцин сказал: «Я думаю — надо именно в Петербурге сделать специальный телеканал, посвященный исключительно культуре, без всей этой рекламы!» — и сделал в воздухе брезгливое движение пальцами. Лихачев идею поддержал. Возможно, она от него и исходила и была Ельцину передана. «Так давайте сделаем!» — своим чуть сиплым голосом произнес Ельцин. Лихачев кивнул. Уже только за это мы ему должны быть признательны. Благодаря ему появился лучший — до сих пор лучший! — канал. Досадная мелочь: канал этот появился не в Петербурге.
Когда академик Сахаров, которому удалось, наконец, вырваться из ссылки в Горьком, пришел в Президиум Академии наук, в зале встретил лишь одного Лихачева, который всегда приходил на заседания раньше других. Они разговорились.
Лихачев деликатно поинтересовался, как Сахаров поведет себя, если встретится с теми, кто предавал его, подписывал против него письма. Сахаров сказал: «Мне их жалко. Я волнуюсь за них».
А когда Ельцин стал звать Лихачева на гражданскую панихиду Сахарова, сказал ему неожиданную вещь: «Обязательно приходите. Вы один незапятнанный». Хотя на трибуне стояло много достойных людей.
САДЫ
Одним из главных деяний, совершенных Лихачевым во имя русской культуры, было факсимильное издание рабочих тетрадей Пушкина, состоявшееся при активной поддержке наследника английского престола принца Уэльского Чарльза. В сборнике «Дмитрий Лихачев и его эпоха», составленном Е. Г. Водолазкиным, имеются личные воспоминания принца Чарльза:
«В моей стране Дмитрий Сергеевич был известен как интеллектуал. В России к людям, подобным Лихачеву, применяется непереводимое на английский существительное „интеллигент“. И хотя этот термин, несомненно, включает в себя понятие образованности, значение его выходит далеко за пределы интеллектуализма и подразумевает особый образ жизни — образ жизни порядочного, благородного человека.
…Мы познакомились с ним в мае 1994 года, когда я посетил Петербург. Впоследствии мы встречались несколько раз, в том числе — в Пушкинском Доме, крупнейшем и авторитетнейшем в мире центре по исследованию русской литературы. В ходе этих встреч мы обсуждали идею: осуществить факсимильное издание рабочих тетрадей Пушкина. Подобное издание казалось мне чрезвычайно важным не только для дальнейшего широкого изучения творчества величайшего русского поэта, но и для привлечения крайне необходимых средств для надлежащего хранения драгоценных архивов Пушкинского Дома.
…Оказалось, что Дмитрий Сергеевич интересуется архитектурой и градостроительством. Мне было приятно узнать, что он прочел мою книгу „A Vision of Britain“. Лихачев говорил мне, что, подобно Лондону, во многом испорчен старый Петербург.
…Коренной петербуржец, Лихачев очень любил свой город. Я был очарован его рассказами о градостроительных особенностях Петербурга. Петербург, по Лихачеву, — город горизонталей. Первая горизонталь — горизонталь воды (ее в этом городе очень много!). Вторая — горизонталь набережных, поскольку набережные в Петербурге обязательны. Третья и завершающая — это горизонталь „небесной линии“, нарушаемой только куполами и шпилями, которые оттеняют и подчеркивают общую горизонтальную природу города».
Благодаря твердой позиции Лихачева даже в советское время «небесная линия» не была нарушена постройкой многоэтажных зданий. Зато, заметим с огорчением, нарушена в постсоветское, уже после смерти Лихачева, к которому прислушивались. А после него началась вакханалия, «небесная линия» нашего города в наше время как-то «заплясала»: из-за гостиницы «Ленинград», с которой он так упорно боролся и которая по нынешним временам выглядит довольно скромно, вылезли два огромных монстра, «элитных» дома — «Аврора» и «Монблан», нарушающих не только «небесную горизонталь», но и всякое понятие о хорошем вкусе.
А Лихачев всю его жизнь страстно отстаивал свой город от дурных влияний. Еще в 1960-е он выступил против перестройки Невского проспекта, связанной с переделкой первых этажей всех домов на нем. Сейчас, когда происходит что-то ужасное, мы вздыхаем и лепечем: «Дмитрий Сергеевич бы такого не допустил!»
Благодаря статусу принца Чарльза и его финансовой поддержке издание пушкинских рабочих тетрадей произошло на самом высоком международном уровне. Поскольку типографии достаточной технической оснащенности в России тогда не было, тетради печатались в Италии, на самом совершенном оборудовании, позволявшем добиться наибольшего сходства издания с подлинником. Ну и, разумеется, все это сопровождалось тщательной подготовкой факсимильного издания тетрадей, проведенной специалистами Пушкинского Дома.
Тогдашний директор Пушкинского Дома Николай Николаевич Скатов писал в журнале «Наше наследие»: «Радуюсь „королевскому“ изданию пушкинских тетрадей — вышли 8 томов, последний 9-й том еще не получен из Италии. Принц обещал издать и книги „Болдинской осени“».
Изданием пушкинских тетрадей отношения Лихачева и принца Чарльза не ограничились. Принц проявил чрезвычайный интерес к изданной в 1982 году книге Лихачева «Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей». Тема это была чрезвычайно близка принцу Чарльзу — тема давняя, глубоко исследуемая еще со времен Античности. Сад — это место, из которого происходит жизнь, в котором и из которого разворачивается время — пространство. Отражено это и в русском фольклоре: «Стоит сад, в саду двенадцать гряд, на гряде по четыре борозды, на борозде по семь кочней». Книга Лихачева содержит интереснейший материал о семантике садов в разные эпохи, о связи их с идеологией и культурой, о единстве сада и стиха.
Несмотря на уникальность — и в то же время актуальность книги, отзвук она нашла не сразу. За довольно долгое время на нее не появилось ни одной рецензии. Видимо, строгих рецензентов настораживало «легкомыслие» Лихачева, вдруг написавшего книгу совсем не о том, чем он занимался всю жизнь и на чем сделал себе имя. Лихачев рискнул покинуть свое «насиженное место» и совершить смелое путешествие абсолютно в другую область. Конечно, он не потерял свою репутацию, но рисковал ею. Ревнители «чистой науки» могли теперь попрекать Лихачева во всеядности, в популизме, дилетантстве и т. д. Официально никто об этом не говорил, но затянувшееся надолго молчание было достаточно красноречиво. На самом же деле книга Лихачева была весьма содержательна. Только он мог, дерзко покинув узкое ложе своей науки, увидеть все с высоты, показать связь своей узкой «науки о словах» с жизнью во многих ее проявлениях и даже доказать великую необходимость этой связи.
Первую рецензию на эту книгу — «Поэзия садов» — и современное ландшафтное искусство написал Ю. И. Курбатов, тогда уже член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительства, доктор архитектуры. Именно он подчеркнул значимость книги Лихачева для современной жизни, когда стремление архитекторов (и не только их!) к абсолютной новизне и разрыв с культурой прошлых эпох привели к созданию бедного художественного языка, лишенного метафор, знаков и символов — неотъемлемых элементов культурной самобытности и духовного содержания. Книга Лихачева касалась не только ландшафтной архитектуры — она говорила о необходимости культурного насыщения всех сфер жизни!
«Таким образом, — пишет Ю. И. Курбатов, — вольно или невольно была обозначена сверхактуальная проблема соотношения интеллектуальной модели (содержания) и формы — на примере садов и парков».
И где нет содержания — там бледнеет и исчезает форма. «Идейное содержание» необходимо всюду — хотя невежественные люди перестали уже понимать: какое «идейное содержание» может быть в обычном сквере или доме? На самом деле — оно необходимо, и чем оно необычнее и богаче, тем интереснее дом, а значит, и жизнь.
«Иногда, — пишет Лихачев, — „садовые идеи“ появляются впервые за пределами садоводства: в поэзии и живописи, но также в философии, физике и даже в политике…»
«Пейзажный парк, — пишет Лихачев, — был отражением английского либерализма».
«И для всех искусств, — утверждает Лихачев в этой книге, — существует общее культурное поле и общее влияние».
Курбатов в своей статье акцентирует мысль о том, что «в сдерживании атаки мертвенных „техногенных тенденций“ огромное значение приобретает ландшафтная архитектура, в силу своей специфики и особенностей своих материалов обращенная к человеку и природе».
«Именно поэтому, — утверждает он, — книга Лихачева будет полезна и в XXI веке».
Приведем несколько отрывков из нее — где особенно ощутимо показана необходимость идейного насыщения жизни на примере истории садов:
«Скрытую символику имеют сады нового времени. Знаменитая трехлучевая композиция садов Версаля… аллеи символизировали собой солнечные лучи, расходящиеся от площади со статуей Аполлона — некоей ипостаси не только солнца, но и самого „короля-солнца“ Людовика XIV».
«В эпоху Средневековья внутренние монастырские сады делились аллеями крестообразно на четыре зеленых кабинета, а в центре схождения аллей (то есть в центре креста) находились либо колодец, либо фонтан, либо дерево (символ вечной жизни), либо сажался куст роз, символизирующий Богоматерь».
«В европейских садах вплоть до середины XIX века устраивались лабиринты… Первоначально лабиринты изображались на стенах церквей как символы тех противоречий, к которым приходит ум человека, не озаренный Священным Писанием. После их выкладывали мозаикой на полу храмов (в Шартре — в 1225 году, в Реймсе — в 1250-м), и по извивам их проползали на коленях богомольцы, заменяя этим далекие обетные паломничества. Наконец, тот же мотив начали применять в садах, так как на небольшом сравнительно пространстве получалось много места для прогулок. Петр I устраивал лабиринты во всех своих наиболее значительных петербургских садах. Петр любил завести в лабиринт своих гостей и заставить их самих из него выбираться… До XVII века на Руси лабиринты в садах неизвестны».
«…B семантической системе различных стилей самое разнообразное назначение имели эрмитажи — подчас очень отдалявшиеся от своего основного назначения — служить местом обитания отшельника (эрмита)… В Царском Селе было два эрмитажа — Эрмитаж, построенный Растрелли, и Грот».
«Сад часто в Средние века уподобляется книге, а книги (особенно сборники) часто называли „садами“, „вертоградами“, „лимонисами“ или „лимонариями“. Сад следует читать, как книгу, извлекая из него пользу и наставление. Труд писателя на Западе в Средневековье уподобляется труду садовника, который высаживает цветы. Уподобление литературного произведения саду есть у Платона в „Федре“. Здесь Сократ говорит о „садах из букв и слов“».
«Из русских монастырских садов за пределами монастырских стен, сведения сохранились… о Кедровой роще Ярославского Толгского монастыря… На одном из кедров в особой часовенной пристройке помещалась Толгская икона Божьей Матери… по преданию, чудотворная икона найдена на этом кедре».
«В позднее Средневековье на Западе появились „сады любви“, предназначавшиеся для любовных уединений, а также просто для отдыха от шумной придворной жизни. Здесь занимались музицированием, рассказывали различные истории, читали книги, танцевали, играли в шахматы…. Прекрасное описание позднесредневекового сада содержится в Третьем дне „Декамерона“».
«В эпоху Ренессанса… сады часто соединялись с учебными и учеными учреждениями (знаменитые „сады для занятий“ в колледжах Оксфорда и Кембриджа)».
«Одним из самых характерных для Романтизма был переход от счастья к грусти и от грусти к счастью… С середины XVIII века начинается культ надгробных памятников среди природы. В садах можно увидеть памятники знаменитым людям, возлюбленным, любимым собакам и лошадям».
«Сад всегда должен был давать представление о богатстве Вселенной. В средневековых садах Западной Европы появились цветы, вывозившиеся крестоносцами с Ближнего Востока, а в эпоху Ренессанса и барокко увлечение экзотическими цветами приобрело характер мании…»
«В садах средневековых замков выращивались как лекарственные травы, так и ядовитые травы для украшений и имевшие символическое значение… Особое значение придавалось душистым травам. Одной из причин этого было то, что замки и города были полны дурных запахов, объяснявшихся плохими санитарными условиями».
«Хотя „Цветы зла“ Шарля Бодлера написаны в традициях „книг-садов“, прокуратуре не понравился аромат „болезненных цветов“, автор в 1857 году был осужден „за оскорбление морали и добронравия“ (прокурор требовал осуждения „за оскорбление религии“) и приговорен к тремстам франкам штрафа. Многое в этом саду повторяет устройство былых садов — с точностью до наоборот. Здесь есть фонтан, но из него струится кровь („Фонтан крови“). Здесь слышны молитвы, но они обращены к Сатане… Это сад, из которого надо бежать, как из цирцеиных садов, „дабы не стать скотами“»…
Лихачеву был дан дар — внезапно выйти из однообразного русла прежних исследований, найти неожиданный, красивый поворот, затронуть тему, интересную более широкому кругу, нежели круг узких специалистов. Не каждому, даже очень способному ученому, присущ такой дар. Лихачеву это было дано. Поэтому его имя известно столь широко. Он мог, не покидая сферы науки, вызвать своими книгами огромный интерес.
Принц Чарльз пришел в восхищение от книги Лихачева и пригласил его, в сопровождении дочери Людмилы, приехать и ознакомиться с садами, которым он уделял много внимания. Принц Чарльз был истым англичанином — лишенным чванства, корректным, внимательным собеседником. Многие замечательные принципы английской жизни оказались чрезвычайно близки Лихачеву, и он, вернувшись, много рассказывал о них: ему английский стиль жизни был близок. В письме своему старинному другу Сигурду Оттовичу Шмидту он писал 14 июля 1995 года:
«…У принца Чарльза было очень интересно. Он подарил большую книгу о своих садах и хозяйстве. Мы были у него на западе Англии в Хайпроуводе, осматривали с ним его хозяйство, которое он стремится сделать чистым, без удобрений… Чарльз собирается посетить Болдино, а также Нижний, Ярославль. Он слывет в Англии русофилом. Вообще он произвел приятное впечатление скромного и культурного человека».
Этих милых черт, которые Лихачев так ценил, он не находил среди российских «хозяев жизни», «друзей народа», как саркастически называли в России вождей, новых и старых.
Символично, что и Пушкин, «познакомивший» Лихачева с принцем Чарльзом, тоже очень тонко чувствовал связь поэзии и садов, начиная с дней юности, «когда в садах Лицея я беззаботно расцветал», и в «Воспоминаниях в Царском Селе» — «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой…» и далее:
…Раскаяньем горя, предчувствием беды, Я думал о тебе, предел благословенный, Воображал сии сады.Есть и стихи, целиком посвященные саду… И какой это совершенный текст!
Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный; Чистый ключ у ней с горы Не бежит запечатленный. У меня плоды блестят Наливные, золотые; У меня бегут, шумят Воды чистые, живые. Нард, алой и киннамон Благовонием богаты: Лишь повеет аквилон, И закаплют ароматы.Да, сад — это модель жизни, отражение ее. И книга «Поэзия садов» «отразила» одно важное событие в жизни Лихачева — как раз связанное с парками Пушкина, «садами Лицея».
Когда встал вопрос о вырубке разросшихся деревьев перед Екатерининским дворцом в Пушкине, Лихачев выступил в защиту этих деревьев. Охрану истории он понимал широко: выросшие деревья — это тоже история. Хотя формально правы были сторонники вырубки: парк перед Екатерининским дворцом был вначале сделан французским, регулярным, деревья в нем должны быть невысокие, фигурно подстриженные и не закрывающие перспективы.
Лихачев написал статью в самую популярную питерскую газету тех лет — «Ленинградскую правду». Статья была обращена не к узкому кругу специалистов, а к широким массам. Здесь он отошел от обычной сдержанности, дал волю эмоциям. Он писал о «памяти деревьев», увидевших столько исторических событий в окнах дворца: «Единственные свидетели!» Он писал о прошедших здесь боях Великой Отечественной, об осколках, застрявших в стволах… Можно ли спиливать нашу с вами историю?
У Лихачева был темперамент бойца, общественного деятеля, и его слово могло воздействовать не только на членов ученого совета. Статья, несмотря на остроту, понравилась главному редактору Куртынину, и он ее напечатал. Всегда, когда Лихачев говорил с трибуны со страстью, с душой, на актуальную тему, интересующую многих, выступления его имели широкий резонанс.
Лихачев был приглашен на заседание Градостроительного совета, посвященного судьбе парка. По имеющимся воспоминаниям, здесь Лихачев выступал более сдержанно. Для серьезных специалистов, входящих в Градостроительный совет, нужны были обоснованные научные аргументы. Лихачев говорил о меняющемся времени, о том, что царские регулярные сады ушли вместе с той эпохой, где были цари, садовники и т. д. И искусственно вернуть, а тем более — постоянно поддерживать ту эпоху — невозможно и не нужно. Аргументы его никого не убедили. В каждой области есть свои корифеи, и их оскорбляет, когда посторонние вторгаются в их область. Лихачеву было мягко указано на то, что не стоит вторгаться в дела, в которых он не является специалистом.
Как часто бывало с Лихачевым, его выступление, посвященное, казалось бы, узкой специальной проблеме, всколыхнуло общество, стало событием политическим.
После его статьи начались даже «народные волнения» в городе Пушкине, народ толпами пошел в парк защищать свои любимые деревья. Лихачев, почти как Пугачев, посеял смуту.
Власти, естественно, были возмущены новой «выходкой» Лихачева. Кроме того, им нравилась идея приведения бурно разросшегося парка в прежний вид: регулярный парк, упорядоченный — идеальная модель власти, парк беспорядочно разросшийся, вольный — символ вольницы, демократии, народности. Это чувствовал и народ, и за это боролся. Власти приняли меры, обычные для «разговора с народом» — ввели войска. Строительный батальон вошел в парк, причем пилить деревья они решались только ночью.
Столь чрезвычайные события не могли остаться безнаказанными. Куртынин был снят с должности с целым пакетом партийных взысканий. Сад, как хотели власти (а в данном случае и Градостроительный совет), был приведен в «регулярный вид», вековые деревья перед Екатерининским дворцом были спилены. Лихачев потерпел поражение. И снова — уже не в первый раз — он оказался «у всех на языке», на неуютном «сквозняке» — его, в который уже раз, осуждали и власти, и некоторые коллеги: опять Лихачеву мало науки, лезет в политику — и чего добился? Деревья все равно спилены. Куртынин был не таким уж плохим редактором, порой даже решительным — и вот, пострадал… Что было делать тут Лихачеву? Оправдываться? Но от этого было бы только хуже — да и не в его это стиле. И он поступил так, как ему свойственно — великолепно, по-лихачевски. Он и не думал никому мстить, и даже дальше спорить. Он решил по-своему: и в этом вопросе, из-за которого разгорелся сыр-бор, сделаться первым, и написать книгу, посвященную именно ландшафтной архитектуре! Ему пришлось нелегко — специалистом он не был и упорно изучал эту науку. Здесь ему очень помогал Юрий Курбатов, как раз привезший из Англии Лихачеву великолепную книгу «Landscape of men». В подборе иллюстраций Лихачеву помогала дочь Мила. И появилась великолепная «Поэзия садов» — принесшая Лихачеву самую громкую славу. Уже есть множество роскошных, высокохудожественных переизданий «Поэзии садов» на всех языках, с замечательными иллюстрациями, великолепными фотографиями, есть очень красивый видеофильм, снятый по мотивам этой книги. Книга, как это часто случалось с книгами Лихачева, посвященными вроде бы узкой проблеме, оказалась крайне актуальна для общества, и не только российского. Лихачев опять угадал, попал в точку: во всем мире как раз начинался важный поворот во всех сферах жизни, от сугубо функционального, уже выдохшегося, приевшегося — к духовно насыщенному, к прежним забытым ценностям, символам и глубоким смыслам, что отражалось и в архитектуре, и в литературе, поэтому книга Лихачева о садово-парковой семантике оказалась в общем движении мировой культуры и имела огромный резонанс. Лихачев, кроме научного дара, был еще наделен чувством общественного, глобального, был литературно, художественно одарен — поэтому его прочли не только филологи и ландшафтники, а аудитория самая широкая: интерес был отнюдь не специальный, а общечеловеческий. Лихачеву была тесна узкая стезя — его дарование было многограннее — поэтому и известность шире. История «Поэзии садов» еще раз напоминает о характере Лихачева, умевшего поражение превратить в победу.
Свою книгу «Поэзия садов» Дмитрий Сергеевич посвятил светлой памяти своей дочери Веры Дмитриевны, трагически погибшей 11 сентября 1981 года.
ВЕЛИКОМУЧЕНИК
И тем не менее, при таком успехе, почете, регалиях, и главное — при таких заслугах перед Отечеством — сколько выпало на его долю гонений, унижений! Во все времена находились люди, которые норовили его в чем-то обвинить, упрекнуть, порой даже в расчетливом карьеризме. Между тем, кроме груды наград, которые он без особого пиетета держал в столе, никаких особых житейских благ он не обрел — да и не в его это было характере.
Его комаровская дача стоит в длинном сплошном строю дощатых двухэтажных строений в академическом кооперативе — и того размаха, комфорта, огромного соснового участка, как на сталинских дачах послевоенных академиков, тут даже близко нет.
Кроме того, стоит этот кооператив в «сыроватой» низинке — в отличие от других академических дворцов, стоящих на песчаных косогорах. Неподалеку дома Шостаковича, Алферова — те, правда, отдельные, отгороженные. Дача Лихачева примыкает одним боком к зарослям, что дает ощущение некоторой автономности. Перед домом — крохотный участок — одна сотка, ухоженная и засаженная с особой тщательностью. Лихачев, автор «Поэзии садов», не мог оставить этот участок без внимания.
На первом этаже столовая-гостиная. По рассказам внучки Зины, Дмитрий Сергеевич любил украшать стены произведениями импрессионистов, Модильяни — к сожалению, не подлинниками, а вырезками из «Огонька». Лестница вела на второй этаж, в кабинет. Несмотря на всю ее скромность, Лихачев свою дачу любил и даже гордился ее скромностью, часто назначал встречи здесь.
Покоя тут он так и не обрел. Величественная, размеренная жизнь академика, как у многих других, была не для него. Он не любил суеты перед начальством, всякого рода бессмысленных мероприятий — презентаций, банкетов. Но жизнь, которую он сам себе создал, спокойной не назовешь. И хотя часы его работы (а также отдыха) считались священными и детям даже на соседних участках запрещалось шуметь — волновали его отнюдь не дачные проблемы. Глобальные! И прежде всего — Россия, ее прошлое, настоящее и будущее. И он постоянно «попадал в историю», пытаясь поправить очередной «перекос» в общественном сознании — порой даже рискуя своей репутацией «великого и безупречного».
Были времена, когда о нашей стране нельзя было сказать ни одного плохого слова. Затем удивительным образом времена переменились: в 1960–1990-е уже не принято было среди «приличных людей» говорить о нашей стране хоть что-то хорошее, слово «патриот» стало почти ругательным. Власти, конечно, многое для этого «сделали», довели всех до глубокого разочарования и даже злобы. Ходила частушка: «Видишь — молот, рядом — серп. Это наш советский герб. Хочешь — жни, а хочешь — куй. Все равно получишь…!» Так что патриотизм был тогда непопулярен. Особенно негативное отношение к слову «Россия» утвердилось среди интеллигенции как творческой, так и технической. Отчасти это вытекало и из того, что никакой России мы в жизни и не видели, только СССР. Понятие патриотизма в 1980-е годы, годы напряженнейшей политической борьбы, «оседлали» коммунисты, которые заодно вдруг сделались христианами (как-то забыв, кто сбрасывал кресты). Поэтому присоединиться к патриотизму — значило присоединиться к их клану, крайне в те годы непопулярному. СССР доживал последние дни, и мало кто думал о такой опасности, что в одну могилу с СССР упадет и Россия. Об этом тревожился только мудрый, проницательный и отважный Лихачев.
И в 1981 году, когда в передовом обществе, мечтающем о переменах, были так сильны антипатии к СССР (и неотличимой от него в те годы России), в журнале «Новый мир» появляется статья Д. С. Лихачева «Заметки о русском». Это был буквально панегирик России и всему русскому… столь несовременный, с точки зрения «передовой общественности». Напасти и так терзали его со всех сторон. Именно в 1981 году погибает его любимая дочь Вера. И в этот же год он заявляет о столь непопулярном тогда русском патриотизме… Нет чтобы застыть ему в горе и величии. Как бы почитали его! А он — опять рискует собой, своим именем, ради цели, которую видит только он. Как говорил о себе Лихачев: «Я не типичный академик. Не хватает чванства». Скорее, в нем преобладали горячность и азарт, невозможность терпеть что-то возмущающее его. А возмущал его поток негатива в отношении России, ее истории — и история у нее самая поганая, и народ самый несчастный и аморальный, в котором якобы лишь два типа людей: «Те, кто сажали — и те, кто сидел». Помню, эта фраза повторялась всеми с каким-то горьким упоением. И вдруг — Лихачев возразил! Решиться на такое мог только он — в то время, когда, по словам Сергея Аверинцева, все общество резко разделилось на «демократов» и «патриотов», вдруг объявить себя патриотом! При этом демократы как бы теряли его навсегда — да и те, кто присвоили себе звание «главных патриотов», тоже не приняли его: «Не нашенский». Он «вызвал огонь на себя» — причем сразу с двух сторон, и не побоялся. И сделано это было открыто, даже демонстративно — статья появилась в популярнейшем «Новом мире», к которому были прикованы все взгляды!
Аверинцев в своем отклике на те события почтительно называет Лихачева «просвещенным патриотом». Но это вызывало лишь еще большее возмущение: как он-то мог, все знающий, все перестрадавший — вдруг «докатиться» до славословия? Что тут причиной? Стариковское упрямство? Или хуже того — уже «клинические» моменты? Или, того еще хуже — выслуживание перед начальством, желание и дальше получать знания и награды. Явилась возможность упрекать прежде безупречного Лихачева, — и многие не преминули этим воспользоваться: нет больше «безупречного» Лихачева, безупречны теперь они, говорящие людям горькую правду! В статье популярнейшего тогда публициста Л. Баткина лихачевский опус был объявлен «прекраснодушным» — хоть, слава богу, не «спекулятивным». Но Лихачев и не думал каяться, и переносил эту «кампанию» против него со спокойным достоинством, со знанием правоты. Хотя даже близкий его друг и союзник, всегда и во всем, Борис Федорович Егоров отозвался о лихачевском дискурсе так: «…есть очень ценные страницы. Мне, давно интересующемуся русским национальным характером, там многое близко и отзывно. Но ведь на статье лежит налет идеализации и благостности, он все покрывает розовым флером, русские оказываются только широкими и добрыми, об остальном — в скороговорку. Совершенно обойдены трагичность, грубость, юродство и проч. и проч.».
Без грубости и юродства тогда, конечно, было никак. Но об этом писалось весьма много, особенно в «самиздате» и «тамиздате», которые, надо отметить, имели гораздо больше влияния на наши умы, чем официальная пресса — и именно «компроматом» на нашу жизнь, прежде от нас скрываемым, мы, можно сказать, упивались. Так что описаниями трагичности, грубости, подлости и юродства нашей жизни мы в то время не были обделены. Именно для того, чтобы уравновесить наше тайное, горько-упоительное чтиво, восстановить гармоническое равновесие, и написал Лихачев ту статью — в другую крайность. Даже рискуя свои именем среди «широких слоев интеллигенции». На такое мог решиться только он. Когда он шел против «коммунистов» — все (мысленно) аплодировали ему. И вдруг Лихачев — «патриот»! Против «своих»? Один суровый «разоблачитель всего» назвал даже Лихачева «умеренным националистом». С такими «обвинителями» Лихачев даже не спорил.
А своему уважаемому другу профессору Егорову написал так: «…это сознательно сделано, ведь наши враги пытаются представить русский народ агрессивным, жестоким, важно противопоставить».
Он решительно шагнул «на другой борт», чтобы «уравновесить судно», которое стало опасно крениться и могло утонуть. Такое мог сделать только человек великий, закаленный в боях против всех, стойко переносивший любые страдания и окрепший в них.
Не все, однако, осуждали его, наиболее проницательные судили иначе. Ученик Лихачева, вошедший в конфликт с советской властью и покинувший страну, ныне немецкий профессор славистики Игорь Смирнов написал так:
«В трудные годы, может быть, более тяжелые для Деэ Са (Д. С. Лихачева. — В. П.), чем пребывание на Соловках, он написал статью „Заметки о русском“… Мне хорошо известно, что многим не нравится положенная в ее основу идея доброго русского человека, запальчиво опровергающая Достоевского, которому Россия виделась бездной, над чьим краем велась борьба между Добром и Злом».
Только по Достоевскому, замечу, и предпочитают судить на Западе о России…
«…Я не разделяю убеждений Деэ Са, сформулированных в этой работе. Но, в отличие от некоторых моих друзей, я не собираюсь довольствоваться простым неприятием этого текста. Он был проповедническим жестом, идеализирующим адресатов с целью образумить их в пору безвременья…»
Лихачев — боец. И вскоре он побеждает — и убеждает всех, в том числе и своих оппонентов на Западе. Словно специально затеял этот бой, чтобы в очередной раз убедить и победить.
В те годы репутация нашей страны в мире была, скорее, негативной. Как писал Жорж Нива, знаменитый французский славист, много сделавший для русской культуры и России и кровно связанный с нашей страной: «…для французского читателя СССР был частью идеологического текста, а Россия сама по себе исчезла из его сознания».
Примерно так же считал и другой видный славист — Франсуа Лесур:
«Любое проявление национального чувства, даже та его разновидность, которая у Д. С. Лихачева называется „патриотизм“, непременно расценивалось как „реакционное“».
Жорж Нива вспоминает о их встрече на международной конференции в Японии:
«Дмитрий Сергеевич удивил глубокой внутренней гармонией своего образа, личности, своих идей. Слушая его, все поверили, что еще есть таинственный „рыцарский орден“, который спасет Россию, красоту и мир: русская интеллигенция… Лихачев поражал своей хрупкостью и одновременно твердостью убеждений. Вся конференция сводилась к двум вопросам: что останется от прошлого нации в будущем? Что станет с культурными различиями народов в процессе вестернизации и унификации планеты?»
Вестернизация особенно сильно ощущалась тогда у нас, в России, поддерживаемый всяческими грантами, усиленно внедрялся безликий и безнациональный постмодернизм, на несколько лет закрывший путь развитию живой литературы и науки.
Живым, чистым и свободным остался Лихачев, нашедший для всех «живой источник» — в истории России. Нива продолжает свои воспоминания:
«Прошлое России, увиденное глазами Дмитрия Сергеевича, было, прежде всего, некой духовной красотой. Он упоминал „Филофея и идеи Третьего Рима“… Он напомнил о приглашении Иваном III итальянских зодчих. Обрусевший Фиораванти становился перед нами символом Европы. Итальянский Кремль демонстрировал синтез всех трех Римов. Вопрос о том, куда плывет Россия, становился смешным и праздным. О будущем России он говорил умиротворяющим голосом и тоном: государство не должно быть идеологизированным, но не должно быть слабым!»
«Россия никогда не была Востоком, — в своих трудах утверждал Лихачев, — ее путь „из варяг в греки“, от варяжской организованности — к православной вере, идущей из Византии. Но — Византия впала в ересь, во „флорентийской унии“ объединив себя с католической церковью, и признавать себя „Вторым Константинополем“ Москва не хотела». Лихачев настойчиво напоминал, что в Пскове, еще даже не подчинившемся Москве, старец Филофей выдвинул идею — «Москва — Третий Рим!». Эту идею развивали великие философы Леонтьев и Бердяев, поддерживал Гоголь. Лихачев разбивает идею о какой-то исключительной отсталости России, о ее бесправии, в отличие от других стран. Все это, считает Лихачев, было придумано Петром I для оправдания своих реформ. Не таким уж губительным, утверждал Лихачев, было и крепостное право. Так, при Павле I барщина (работа на барском поле) не превышала трех дней в неделю. И еще Александр I хотел освободить крестьян, а освободили их при Александре II — намного раньше, чем отменили в Америке рабство. Лихачев напоминает о том, что Россия никогда не была «тюрьмой духа», все вероисповедания, от ислама до иудаизма и буддизма, имели в ней свои храмы… Достаточно вспомнить хотя бы столичный Петербург, и особенно Невский, где выстроились, словно на параде, лютеранская кирха, католический костел, православная церковь, армянская церковь… Весьма значительны и заметны в городе синагога и мечеть. Лихачев также «отменяет» привычный миф о бесправии в России, особенно среди якобы «угнетенных» народов — в ней долгое время действовали самые передовые европейские гражданские кодексы: в Царстве Польском долго продолжал действовать Кодекс Наполеона, в Полтавской и Черниговской губерниях — Литовский статут, в Прибалтийских губерниях — Магдебургское городское право, на Кавказе и в Азии жизнь управлялась местными законами…
Культурная отсталость России? Чушь! — заявляет в своих трудах Лихачев. Грамотность в ней была выше средних показателей по Европе, о чем говорят новгородские берестяные грамоты, писанные простыми ремесленниками… Главная идея всех трудов Лихачева — существование Русского предвозрождения — идея, увы, не принятая многими, в том числе и его коллегами: скептицизм у нас больше почитается в научном, и не только в научном мире, чем энтузиазм.
Лихачев осуждает некоторые черты русского народа, которые привели его к бедам: склонность к крайностям — в сочетании с крайним легковерием… стремление уйти от государственного ярма в степи, к опасностям, вера в иностранцев — и ненависть к ним, идейность, фанатизм — в ущерб благополучию. Так что же произошло с Россией, почему у нее особая, трагическая судьба?
«Особая миссия? — предполагает Лихачев. — Некий „полигон“ Господа Бога для испытания человечества?» Лихачев, испытав все ужасы современности, тем не менее отрицает те ужасные пророчества, которыми все тогда почему-то упивались, благодаря прогнозам модных тогда социологов, которые страстно предвещали России крах, при этом, как ни странно, увеличивая свое собственное благополучие: всеобщий «конец» их почему-то не касался. А Лихачев проповедовал оптимизм — и ответственность. «Мы свободны — и именно потому ответственны, — утверждал он. — Если мы сохраним свою культуру — будем занимать одно из ведущих мест в мире».
И это говорилось Лихачевым в те годы, когда мы только и делали, что в упоении расшатывали наше государство: мол, а на что еще годится такое?!
«Конечно, — продолжает свои воспоминания Жорж Нива, — в той жестокой и безобразной стране, нелегкой для жизни и не щедрой к своим детям, Лихачев со своими тезисами являлся живым парадоксом, он простодушно, упрямо и учено говорит о ней прямо противоположное общепринятому, рисуя образ России нежной, России Сергия Радонежского и Нила Сорского… Он вел негромкую полемику с распространенным на Западе и в самой России представлением о жестокой России, о „крайностях“ русского характера. Его заметки утверждают обратное — доброту. Доброту русской природы, русского характера, любовь русского народа к униженным и оскорбленным, к „дуракам“, к юродивым, к ущемленным…»
И — далее:
«Это, конечно, стратегическая позиция. Это были подкопные работы под крепость идеологии и жестокости. Любимая идея Лихачева — экология культуры — сводится к этому: как исцелить Россию. Поистине, он был новым Карамзиным».
С. С. Аверинцев писал: «Сейчас слышатся голоса, иронически обсуждающие: как это соединилось в нем „национальное сознание“ с либеральным?»
Это блистательно объяснил сам Лихачев. Его голос вовсе не был таким уж «негромким». В его выступлении в весьма популярном, многотиражном французском еженедельнике «Нувель обсерватер» многое объяснено. Ф. Лесур, комментируя это событие, говорит:
«Само название статьи — „Интеллектуал третьего типа“… сразу обращает внимание на то, что личность Лихачева не укладывается в рамки традиционных французских представлений о России: издавна вовлеченный в процесс сохранения культурного наследия страны, часто вопреки советским властям, бывший каторжник — Лихачев показывает, как явление, называемое перестройкой, уже давно готовилось в недрах народного сознания… Себя он называет „человеком непредвиденным“».
…«Прекраснодушная схема!» — писал Л. Баткин о «грезах» Лихачева. Но у Лихачева вдруг оказалось немало вполне достойных союзников, порой неожиданных — как, например, гениальный рок-музыкант, певец «русского разгула» Юрий Шевчук, сказавший о Лихачеве так: «Мудрец, следящий за всеми малейшими событиями и конфликтами в жизни страны, он так отличался от хорошо знакомых мне нынешних интеллектуалов, космополитичных идеологов постмодернизма с их брезгливыми интонациями при словах „Россия“, „политика“, „народ“. Проживший и передумавший тысячелетия, он был гораздо моложе и честнее их. Как мне кажется, война Лихачева с ханжеством, необразованностью и эгоизмом шла на более высоком уровне, чем обычно. Он прекрасно осознавал природу и причины хамства людей, лишенных чувства идеального».
Тут можно только добавить еще слова Лихачева о протопопе Аввакуме: «С улыбкой смотрит он на тщетные усилия своих мучителей!»
В итоге «непопулярный патриот», рискующий у нас своим добрым именем, стал во всем мире самым популярным из всех представителей нашей страны — именно благодаря его «просвещенному патриотизму» — все университеты Европы наперебой приглашали его.
Но муки его не прекратились. Вы помните, что еще в 1985 году были изданы его «Письма о добром и прекрасном», понравившиеся Горбачевым — но вызвавшие усмешки передовой интеллигенции… Тут снова можно вспомнить протопопа Аввакума, который на вопрос жены — долго ли им еще мучиться — ответил: «До самыя смерти, матушка, до самыя смерти!»
На «последнего просвещенного славянофила» (как называл Лихачева Аверинцев) шли нападки и со стороны «истинных ревнителей патриотизма» — на этот раз именно за то, что «больно просвещенный». Таких противников немало завелось и в самом Пушкинском Доме. Успех Лихачева во всем мире корежил их: «Космополит! Продал Россию!» Таким не угодишь — надо быть похожим на них: спутанная борода, немытые длинные волосы, лютое отрицание всего нового и необычного, фанатичный взгляд. Кстати — и между собой они постоянно грызлись: кто из них самый «кондовый», самый «нутряной» патриот — пусть даже не просвещенный! Отличались они кликушеством, агрессией ко всему им непонятному, и никакого отношения к настоящим славянофилам (каким был, например, Аксаков) не имели. Лихачева они ненавидели: почему он считается лидером русского литературоведения, а не они, «истинные ревнители»? Почему не ведет с ними дел? Презирает? Лихачев брал к себе в Отдел древнерусской литературы не тех, кого пихали ему, а только по своему выбору — лучших специалистов, остальное словно не волновало его. Его противники, называвшие себя порой «заединщиками», тоже любили Русь, но любили они ее как-то остервенело, а Лихачев, приводя их в бешенство, непринужденно демонстрировал — что можно прекрасно заниматься историей России, ее литературой, начиная с древних времен, и при этом элегантно выглядеть, спокойно говорить, не искать всюду заговоров и козней, никого не ненавидеть! А они без этого не могли. Им так этого хотелось — побороться за Святую Русь, и заодно смести с лица земли всех и всяческих конкурентов, лезущих в святая святых — русскую культуру! А Лихачев был там — царь! Отношения в институте складывались непростые. Можно вспомнить недобрым словом врагов Лихачева — Иезуитова, Хватова. Одни лишь фамилии чего стоят!
Конечно, были в институте и хорошие ученые, приличные люди, которые по тем или иным причинам клонились на сторону «заединщиков». Часто это диктовалось обидой.
Что скрывать — была в институте и каста снобов, условно говоря — тартуская школа, не признающая больше никого. Но Лихачев одинаково вежливо относился ко всем — и отчасти из-за этого наживал врагов.
Директор института, уважаемый Николай Николаевич Скатов, скорее, был соперником Лихачева — и это можно было понять. Много раз Лихачеву предлагалось стать директором института. С его заслугами, с его авторитетом, с его и теперешней активной деятельностью — это было бы в самый раз. Но Лихачев деликатно отказывался, ссылаясь на старость и нездоровье, но в том, что его действительно интересовало, проявлял огромную настойчивость и умение. И все понимали, что при реально существующем директоре института главный тут человек — Лихачев! Если понадобится — он отменит и решение директора!
Все знали: если что-то действительно важное — нужен Лихачев, и нужно идти на поклон к нему, в его «скромный кабинет» на черной лестнице, на третьем этаже. Открытое столкновение мои знакомые, работавшие в Пушкинском Доме, вспомнили только одно… да и то произошло оно в «сдержанной лихачевской манере»… Наверняка это особенно бесило тех, кто его ненавидел.
Николай Николаевич Скатов, который и в силу научных своих вкусов и привязанностей больше склонялся в сторону «славянофилов», к какому-то юбилею решил переоборудовать директорский кабинет, оформив его соответственно названию института — Институт русской литературы — в сугубо русском стиле. Предполагались резные скамьи, может быть, коромысла и что-то еще.
Это было уже делом почти решенным, имелись эскизы и чертежи. Многие сотрудники сочли это нецелевым использованием средств и, кроме того, безвкусицей — здание бывшей таможни, где размешался институт, было выполнено совсем в другом стиле. Но воздействовать на директора мог только один человек, и — делегация отправилась к Лихачеву. Тот выслушал, поднялся, тихо (никаких криков не доносилось) переговорил со Скатовым — и идея директорского кабинета в псевдорусском стиле канула в Лету.
Конечно, такие события умножали число лихачевских противников: «Почему всё всегда решает он?» Лихачев не терпел ничего, что противоречило бы его убеждениям, его внутреннему кодексу. Когда «истинные патриоты» еще и добились того, что в институте то и дело стали появляться священники в черных рясах, в компании «заединщиков» гордо шествующих рядом (мол — вот вам, нехристи! Истинная вера с нами!) — Дмитрий Сергеевич, посвятивший себя древней культуре, монастырским рукописям, тут вдруг пришел в ярость. «До чего мы докатились! — сказал он сотруднику. — Попы по коридорам ходят!»
Лихачев писал в одном из писем: «В Питере меня радует мой Отдел древнерусской литературы. Все дурные люди от нас ушли, а оставшаяся молодежь прелестна. Хочется, чтобы при моей жизни была осуществлена 20-томная „Библиотека древнерусской литературы“. Для ее осуществления есть все предпосылки, и тогда станет ясным, что Россия не малая периферийная культура, а очень монументальная культурная держава».
Удары, однако, сыпались отовсюду. Уж, казалось бы, на поддержку и признательность сотрудников сектора он всегда может рассчитывать, ведь многим из них он «сделал судьбу»… но и отсюда последовал удар!
Один из любимых учеников Лихачева — Дмитрий Буланин составил прекрасную библиографию работы Лихачева к его 75-летию, подготовил и другие материалы… Потом что-то стало меняться… Может быть, люди не хотели вечно жить «под крылом», а значит — в тени?
К 90-летнему юбилею, как правило, «почтеннейших старейшин» могут ждать лишь скучные панегирики, такие же скучные, как и сами юбиляры теперь. Но Лихачев к своему 90-летию отнюдь не затих, не унялся, «со сцены» не хотел уходить — и видимо, кое-кому мешал, не давал «распрямиться в полный рост». Ушел бы на покой — как бы его все хвалили! А так… Любимый его ученик Дмитрий Буланин к 90-летию его подготовил совсем иного рода подарок, нежели к 75-летию. В первом номере журнала «Русская литература» за 1997 год Буланин напечатал статью, посвященную сразу трем персонажам — себе, сотруднику Отдела древнерусской литературы О. Творогову и… Лихачеву. Статья называлась «Эпилог к истории русской интеллигенции», она поразила всех — и конечно же Лихачева. Буланин писал о том, что интеллигент сейчас занял место священника, исповедника, но недотягивает, однако, до законодателя.
«Интеллигенция, — писал Буланин, — независимый правовой арбитр окружающего мира, правда, до того момента, пока есть среда, признающая за этим арбитром его право на моральный вердикт». В наш век, по мысли Буланина, интеллигенция распалась — на составляющие. Часть по-прежнему борется за сохранение моральных устоев, другая — занимается переделкой реальности мира в угоду своим прихотливым фантазиям.
Интеллигенции, напоминает Буланин, уже не раз доставались справедливые упреки в самоуверенности, лицемерии и трусости. Однако лучшая ее часть по-прежнему на высоте.
«Национальное самосознание, — писал Буланин, — признало Лихачева учителем жизни, потому что за его спиной стоит русская интеллигенция, как историко-культурный феномен. Интеллигенция не отдала русскую культуру на потеху третьему сословию и не снизошла до китча»… Однако, как считал Буланин, «настало время расстаться с науками-музами. На смену им идут лженауки — менеджмент, политология, а это — всего лишь способы скрыть обман».
Все это верно и любопытно до того места в статье, где Буланов неожиданно пишет, что Лихачев уже много лет занимается не наукой, а лишь проповедничеством.
…На защиту Лихачева встал Б. Ф. Егоров, напечатавший отповедь Д. М. Буланину в журнале «Звезда». В ней он пишет, что только что вышло новое издание «Повести временных лет» с комментариями Лихачева: научная деятельность его продолжается! Однако противники — а их вдруг у Лихачева оказалось немало — тут же отметили, что новыми являются лишь комментарии М. Б. Свердлова, а лихачевские комментарии — 1950 года. Лихачев воспринял этот удар — да еще от любимого ученика — весьма болезненно. Вот так «итог жизни»! Лихачев отвечает в том же журнале «Русская литература» с необычной для него запальчивостью: «Все мои статьи имеют не проповедническую цель, а являются определенными поступками в борьбе за сохранение культуры».
Действительно, уж кого-кого, а Лихачева к его 90-летию обвинять в некомпетентности, по меньшей мере, несправедливо. Для других людей считается вполне нормальным, если их творческая энергия иссякает к шестидесяти. Однако Лихачев уже совсем накануне 90-летия написал «самое художественное» произведение своей жизни — замечательные «Воспоминания», восхищающие точностью памяти, живостью эмоций — безусловно, самую читаемую из лихачевских книг. Так что в их поединке проиграл, скорее, Буланин.
Однако на «старого льва» нашлось немало охотников, решивших именно теперь выпустить свои стрелы, которые выпускать раньше они как-то не решались. Больше всего «охотники» попрекали его, как и следовало ожидать, успешностью, высоким положением, умением добиваться нужного в контакте с сильными мира сего. Как раз главное, чего Лихачев добился, теперь переоценивалось, переименовывалось в приспособленчество и даже двурушничество.
Наиболее остро, пожалуй, претензии к Лихачеву отражены в статье иеромонаха Григория (В. М. Лурье).
…Из последних работ Лихачева автор признает только лишь «Поэзию садов», которую притом считает «неинтересной для филологов». Поначалу В. М. Лурье, который стал иеромонахом не сразу, с благодарностью вспоминает роль Лихачева в истории с уличными беспорядками 1988 года, начавшимися с защиты дома Дельвига и переросшими в столкновения с властями. Готовились наказания весьма серьезные — и лишь вмешательство Лихачева спасло людей. Лихачев, как считает автор, не подходит ни под один из типов советской интеллигенции, которых автор насчитывает всего два: либеральная и национальная. Лихачев — сам по себе. Наиболее подходящее определение для Лихачева автор находит в сочинениях К. Леонтьева, известного философа и государственного деятеля XIX века, которого советская идеология называла «реакционером» и даже «мракобесом». Но вот — пришла мода и на него, и он пришелся кстати. Определение, которое автор выбрал для Лихачева из сочинений Леонтьева, со своей небольшой добавкой, звучит так: «миллет-баши[15] русской интеллигенции». В истории турецко-греческого конфликта, когда греки были порабощены турками, так назывался грек-фанариот, который осуществлял связь между турецкой властью и чаяниями своего народа, и становился необходимым и тем и другим. Перенося эту аналогию на Лихачева, автор пишет, что порой Лихачеву приходилось совершать действия, когда он начинал казаться интеллигенции «не своим».
…Да, возможно, и были моменты неприятия, когда мы наблюдали «сановитого» Лихачева в очередном «президиуме» рядом с партийными вождями, или за строем охраны на каком-то очередном «глобальном форуме», когда конкретное питерское «человечество» с трудом отоваривало талоны, а их там кормили икрой. Наверное — тогда неприятие возникало. Да — порой он переставал казаться «своим». Но при этом, как пишет автор, он был единственным, кто оказывал помощь, которую один интеллигент другому интеллигенту оказать не мог, по словам автора: «…вплоть до отмазывания от КГБ на стадии раскручивания дела о международной антисоциалистической организации».
«Миллет-баши, — пишет автор, — глава группы, ответственный перед султаном за нее… „Миллетом“ Лихачева-баши была русская интеллигенция. Поскольку советская интеллигенция — это та же русская, хотя и не на лучшем ее этапе».
Да, тяжко было читать Лихачеву такое о себе — да еще на исходе его жизни! И особенно потому, что точность в этих словах, безусловно, есть. Он был действительно посредником между интеллигенцией и властями… но всегда старался решить вопрос в пользу интеллигенции.
Затем суровый автор расшатывает другой оплот, на котором держалась жизнь и репутация Лихачева… впрочем — такое уже было. Он винит его в создании культа «Слова о полку Игореве» — которое, на самом деле, как утверждает автор, вовсе не было столь почитаемым в древности. «Светская литература, — утверждает автор, — к которой относится „Слово“, существовала и в других, даже более просвещенных странах (например, знаменитый „Витязь в тигровой шкуре“ Шота Руставели), но она всегда почиталась ниже, чем религиозные летописи. А „Слово о полку Игореве“, ставшее известным лишь в XVIII веке, даже если и существовало в древние века, то вообще не было известно книжникам древности и не играло тогда никакой роли, и было насильно „вдвинуто“ в ту эпоху, навязано Лихачевым как „лучшее из лучших“ „задним числом“».
Главный труд Лихачева назван необъективным, Лихачев обвинялся в насилии над историей древнерусской литературы в угоду своим амбициям, и хуже того — в угоду сиюминутным требованиям государства, «заказному патриотизму». Недобрым оказался этот иеромонах!
Но то же утверждали и Буланин, и некоторые другие скептики. В последние годы жизни Лихачева они подвергали сомнению весь стиль работы «древнерусского сектора» под руководством Лихачева… а ведь это было самое дорогое его детище! Подчеркивалась слишком «личностная» роль Лихачева в истории изучения древних рукописей, слишком целеустремленный, навязчивый комментарий, волевая попытка навязать древним сочинениям такую судьбу, которой на самом деле они в истории не имели. Лихачевский стиль работы, распространенный и на весь сектор, критики насмешливо называют «романтическим» (термин принадлежит Буланину).
Вообще, конфликт лихачевского стиля литературоведения с так называемым «чистым», безличностным литературоведением имеет давние корни. «Чистое» литературоведение, мода на которое в лихачевское время пришла с Запада, отрицало не только любой отпечаток «личностного» в исследовании рукописи, но и вообще любое влияние времени исследования на текст. Доходило до абсурда: образцом объявлялись переведенные греческие тексты (переводить было все-таки можно), в которых зияло огромное количество темных, необъясненных и, разумеется, никак не прокомментированных мест. Зато «чисто» — никакого насилия, ни чьего влияния! Теперь поборники модного «чистого» литературоведения пытались отрицать огромный труд жизни Лихачева, «обнулить» его, обвиняя в «субъективности»… а он не мог уже отбиваться. Естественно, что на всех трудах Лихачева лежит отпечаток его личности, его таланта, его темперамента. Апологеты «чистой науки» не имели всего этого от природы, поэтому всячески отрицали: не дано им — пусть неповадно будет и другим. Для этого надо было им всего лишь «стереть» Лихачева — как яркий, не дающий им покоя образец «личностной», яркой науки. Безликое, серое наползало и, в конце концов, даже «самоопределилось» — назвало себя «постмодернизмом» и сделалось почти обязательным. И Лихачев оказался первым на их пути, самым высоким и самым ярким, и его в первую очередь наступающей серой массе хотелось убрать. И «это» — отрицающее индивидуальность, душу в науке и литературе, воцарилось надолго — и Лихачев это в отчаянии понимал. Ничего себе — конец жизни! Не торжество, а скорее — неблагодарность. Впрочем — новая наука, странным образом отрицающая роль личности в литературе, какую-либо художественность, признающая лишь механический «текст» — на признательность и не была способна: такого термина в ее словаре не было.
Было и нечто худшее. Если научные оппоненты все же считали его эпохой в науке, пусть и субъективной, пусть и романтической — то некоторые развязные журналисты эпохи «раскрепощенности» позволяли себе все, что хотели. Один назвал Лихачева «главным интеллигентом, назначенным властью — вроде главного санитарного врача». Оплевывались многие, ставшие вдруг немодными принципы, проповедуемые Лихачевым — в том числе и его патриотизм, как нечто недостойное настоящего интеллигента… И все это — на седую, усталую голову! Не лепестки роз, а пепел!
Пусть Лихачев не во всем совершенен, и «романтический» стиль его исследований не всегда объективен, но он создал свою эпоху. Он — победил. Кто — вместо него? Он прекрасен, неповторим.
Безусловным доказательством огромной всеобщей любви (что могли злопыхатели сделать с этим?) было празднование девяностолетия Лихачева в Петербурге, в котором старались принять участие все, кто считал себя обязанным Лихачеву: он поднял наш дух из грязи, отмыл его! И признательных Лихачеву — оказалось большинство!
…Ну, разумеется, присоединились и те, кто хотел, чтобы о нем хорошо думали: для этого нужно было оказаться «при Лихачеве» в эти дни.
Вот — напоминание о тех днях:
«Пригласительный билет
В связи с моим 90-летием имею честь пригласить Вас на собрание сотрудников Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, которое состоится 2 декабря 1996 года в 12 часов в конференц-зале Пушкинского Дома.
С уважением…» и личная подпись Лихачева (это он считал непременным) на всех билетах.
Затем было еще более многолюдное действо в большом конференц-зале Академии наук. Лихачева поздравляли, казалось, все, кто был того достоин.
Вручала цветы и подарок Людмила Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского университета. Поздравлял Даниил Гранин. Читал стихи Александр Кушнер. Участвовали губернатор Владимир Яковлев, Анатолий Чубайс и другие высокие московские гости. И все говорили искренне, хорошо… при Лихачеве все старались «не ударить в грязь лицом», высказать самое лучшее, что было в душе. При Лихачеве — можно было быть только «высоким»!
Затем был торжественный ужин в Юсуповском дворце — в старинном стиле, с соблюдением всех старинных правил и приличий, столь дорогих Лихачеву. Дмитрий Сергеевич сидел во главе стола, рядом с супругой Зинаидой Александровной, с дочерью и внучками… Митрополит Петербургский и Ладожский Владимир благословил Лихачева. Публика была замечательная! Фазиль Искандер, поздравляя Лихачева, произнес: «Глядя на этот удивительный зал, можно подумать, что произошла революция и победила — интеллигенция!»
Она и действительно победила — но не в плане недвижимости, а лишь в живых, трепетных душах. Литературовед В. С. Баевский рассказывал Б. Ф. Егорову, что когда он однажды назвал таксисту свою профессию, тот восторженно глянул на него и воскликнул: «Так вы знаете Лихачева?!»
А я, как петербуржец, тоже принимающий свое участие в праздновании юбилея Лихачева, вспоминаю то, что особенно сильно впечатлило меня и многих. На праздновании в Пушкинском Доме замечательный актер Евгений Лебедев в конце своего приветствия вдруг запел удалую песню «Эй, ухнем!» — и Лихачев, с блеснувшей вдруг за очками слезой, тихо подпел, и постепенно весь зал подхватил и воодушевленно допел до конца.
ЦАРСКОЕ ДЕЛО
Казалось бы, Лихачев достиг всего — признанный великий ученый, огромная заслуженная популярность в обществе… и возраст уже дают право на красивый отдых в окружении почитателей… Но он еще чувствует: сделал не все! И вновь, своей волей, оказывается в самом пекле, там, где происходят самые важные и самые острые события. Его слава была и его проклятьем — все уже привыкли к тому, что только Лихачев наилучшим образом разрешит все крупные и сложные проблемы — и больше никто. Его искали все, все его просили!
Стихии бушевали, и Лихачев (уже за 90!) снова, как заведенный, «нырял» в самую большую волну! Обществу снова не нравилось развитие событий. Та перестройка, которую начал Горбачев и сам же ее испугался, сменилась эпохой Ельцина, тоже начавшейся бурно — всеобщим противостоянием путчу, восторгом победы, всеобщей любовью к Ельцину, своей мощью, смелостью подавившему путч. Однако многое уже и настораживало.
В 1992 году прошел Первый конгресс интеллигенции, и Ельцину было предъявлено немало упреков — в частности, его обвиняли в отставке Егора Яковлева, одного из организаторов независимой прессы. Многих беспокоил рост влияния на семью Ельцина могущественных олигархов, вдруг загадочно возникших рядом с Борисом Николаевичем. Власть идеологии сменялась властью золотого тельца, на глазах у всех проходили явно корыстные кадровые перетасовки, давление на неугодные СМИ… Вопросы, поставленные Первым конгрессом интеллигенции, остались без ответа. И опять — все взгляды обратились на Лихачева: что делать?
Одним из организаторов Конгресса интеллигенции стал Сергей Александрович Филатов, в те годы руководитель аппарата президента Ельцина, прошедший вместе с ним трудный путь восхождения и теперь с тревогой наблюдавший приметы очередного «застоя». Активную поддержку в организации конгресса Филатов нашел в Петербурге, среди питерской интеллигенции, которая, как он точно заметил, «была отдалена от власти и сохранила особое состояние духа». В 1997 году Филатов специально приехал в Петербург для встречи с творческой интеллигенцией. Филатов пишет: «В сопровождении ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов А. С. Запесоцкого вошел в зал, где за круглым столом расположились участники встречи. Здесь были Даниил Гранин, Андрей Петров, Кирилл Лавров…»
Никто из «неофициальных» творческих работников, необласканных еще прежней властью, в зал, надо отметить, допущен не был. Многие наблюдали за этим торжественным мероприятием по телевизору и, как к любому телевизионному представлению, отнеслись с горьким скепсисом. Конечно, никто не сомневался в таланте и порядочности этих людей, но точно так же, и в тех же самых залах, они сидели на разного рода пленумах, и так же точно говорили правильные, на данный момент, слова. Компания эта, похоже, незыблема при любой власти и своей хорошо просчитанной дерзостью устраивает всех. «А вы, друзья, как ни садитесь…» — с усмешкой прокомментировал это мой друг — коллега, с которым мы взирали на это «телешоу» без малейшего энтузиазма.
Продолжение воспоминаний С. Филатова: «…точно также, как и в Кремле на приеме, сгорбившись и углубившись в свои мысли, сидел Дмитрий Сергеевич Лихачев».
А может, — возникает догадка, и это тоже «повтор», «дежа-вю» — может, так им и нужно, чтобы на их приемах и пленумах обязательно сидел один (не более!) почтенный старец, «совесть нации», «сгорбившись и углубившись в свои мысли»?
Филатов продолжает: «Я немного волновался, ждал, что скажет он о задуманном нами. Его оценки могли быть решающими и самыми неожиданными».
И «неожиданное» из уст непредсказуемого Лихачева прозвучало: «Конгресс — как правило, согласительное объединение, это уже установлено исторически»… Филатов далее пишет: «Но ведь и я так считаю, подумалось мне». Однако вслух это сказал — Лихачев. Далее он развил свою мысль: «Интеллигенция — это всегда отдельные личности». Впрочем, добавил: «Интеллигенция призвана объединиться вокруг защиты демократии, демократических ценностей».
Филатов пишет: «Дмитрий Сергеевич закончил свое выступление под аплодисменты. Я понял, что сомнения многих присутствующих уступили место решению создать такой конгресс. Я подошел к Дмитрию Сергеевичу по окончании встречи и попросил, если он не сможет приехать на конгресс, выступить перед телекамерой».
Ведь Лихачеву тогда был уже 91 год!
«…Дмитрий Сергеевич протянул мне письмо для Б. Н. Ельцина по поводу церемонии захоронения останков царской семьи и участия президента в этой процедуре».
То есть и в 91 год Лихачев не ездил на эти собрания просто так — покрасоваться, погреться в лучах славы, хоть имел на это право и возраст позволял… но то — не о нем. Он всегда, с мучительной улыбкой стоика, «волок» за собой какой-нибудь «воз», какое-то тяжелое, трудное — но очень важное для всех дело. В данном случае — «царское», дело о захоронении царской семьи, — тяжелое, неудобное, особенно для Ельцина, который, как все знали, в эпоху своего правления в Свердловске распорядился «убрать» (правда, по указанию сверху) портящий весь советский пейзаж дом Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья. Конечно, Ельцин раскаялся и призывал всех к раскаянию, и даже к запрету коммунистической партии… Но, зная его бурный, самолюбивый характер — напоминать ему лишний раз о царских останках мог осмелиться только Лихачев. У нас он такой был один, и он понимал это, и снова шел и шел туда, куда идти было тяжело, а порой и страшно… но — нужно.
Наина Иосифовна Ельцина вспоминает:
«Я познакомилась с Дмитрием Сергеевичем в Санкт-Петербурге во время визита английской королевы Елизаветы II — на ее яхте, на прощальном приеме. Дмитрий Сергеевич один сидел в холле и тихо покашливал. Было очень холодно. Я подошла к нему и предложила горячего чаю, и, конечно, очень растерялась, увидев так близко этого великого человека! Но его бесконечное обаяние так располагало к общению, что очень скоро мы разговаривали уже как давние друзья. От него исходил такой свет! Он говорил удивительно просто и тихо… Именно он убедил Бориса Николаевича участвовать в церемонии захоронения останков царской семьи…»
«Призывом к гражданскому покаянию» называют его письмо к Ельцину в 1998 году, в котором он убеждал президента России принять участие в погребении останков царской семьи. Вопрос этот стоял тогда очень остро. Православная церковь была против захоронения останков, считая доказательства их подлинности недостаточными.
Историю о выяснении подлинности останков я узнал довольно обстоятельно от моего двоюродного брата, Юрия Алексеевича Неклюдова, профессора медицины, судебного медика. Когда останки через много десятилетий после расстрела были вдруг найдены, причем в таком «неподходящем», «неторжественном» месте, фактически, под дорогой, по которой много ездили, пошла волна скепсиса. Многим почему-то показалось, что так быть не может: царские останки — и так непочтительно?! Но убийцы к тому и стремились — чтобы все сделать «не по-людски». О какой их «человечности» может идти речь? Зарыли там, где успели, второпях, но именно там, где и в голову никому не придет искать…
Потом кости долго хранились без особого пиетета среди других костей в криминологической лаборатории, и лишь когда встал вопрос о захоронении их в Петропавловском соборе, рядом с Петром I и другими царями, началось их тщательное изучение. Необходим был сравнительный генетический анализ. Для сравнения были нужны какие-то бесспорные медицинские фрагменты, содержащие генетический код Николая II. Что можно было найти — через столько десятилетий, когда память о царях не поддерживалась, а напротив — уничтожалась? Но опытные судебные медики, имевшие гигантский опыт расследований, цепкие и изобретательные, одну зацепку всё же нашли. Судебному медику надо знать многое, в том числе и историю, и искусство, и другие смежные области: доказательства могут найтись где угодно. В этот раз — в Японии! Там на юного Николая, тогда еще цесаревича, во время его путешествия по миру было совершено покушение — японский националист саблей нанес удар по голове Николая. Удар охранникам удалось отклонить, и рана была неглубокой. Наложили повязку. И вдруг, в попытках найти способ идентификации останков, вспомнили: повязка с засохшей кровью цесаревича хранится в одном из японских хранилищ. Японцы, поняв значимость этого раритета, назначили цену. И вопрос долгое время опять стал неразрешим — пока на выручку не пришел великий музыкант Мстислав Ростропович. Понимая важность проблемы, он за огромные деньги выкупил повязку с остатками царской крови и передал ее экспертам. Одна часть ее отправилась в Лондон, другая — в Екатеринбург. Работая отдельно, английские и русские генетики и эксперты (среди них был и мой брат) независимо пришли к одному и тому же выводу: генетический анализ показывает, что кости принадлежат семейству Романовых!
Однако церковь не признала эти доказательства достаточными и отказалась благословить их захоронение в Петропавловском соборе рядом с останками других царствующих особ. Ельцин вполне мог сослаться на «власть духовную» и под этим предлогом отменить захоронение или на него не прийти. Совесть его, без сомнения, грызла — и более гибкий (а значит, бессовестный политик) нашел бы повод уклониться… Но Ельцин был человеком с душой.
Был и еще один сложный вопрос с церемонией захоронения: не было ясности с наследниками Романовых, которых, наверное, надо было пригласить на церемонию? Или — не приглашать? Сказать хорошим, уважаемым людям: «Вы не наследники, вы не приезжайте!»? Кто мог сделать это — уважительно и в то же время твердо? И эту тяжкую миссию взял на себя Лихачев. Енишерлов писал ему: «Читал Вашу статью о псевдоцарской семье и юном Гогенцоллерне».
Дело обстояло так: в преддверии похорон царской семьи в Россию часто приезжала княгиня Леонида Романова, ставшая Романовой только в браке (в девичестве Багратион-Мухранская). Ее дочь от этого брака Мария вышла замуж за герцога Гогенцоллерна, так что внук Леониды Георгий Гогенцоллерн вряд ли мог считаться прямым наследником Романовых. Именно благодаря упорству Лихачева никакого «особого статуса наследников» эта семья так и не получила. Присутствие их на церемонии похорон вызвало бы скандал среди всего разветвленного клана потомков царя, а значит — и неуважение к самому факту захоронения, к его участникам, и даже к правительству, пошедшему на такое. Лихачев взял эту тяжкую проблему на себя — сумел сделать так, что лженаследники не приехали.
Резко и аргументированно возражал Лихачев и против притязаний семьи великого князя Владимира Кирилловича на престол. Не случайно некоторые почитатели (или недоброжелатели) называли Лихачева «канцлером». Многие весьма важные государственные вопросы мог решить только он — и даже управлять царскими делами.
Организаторы похорон (дела весьма непростого и недешевого) страдали — а вдруг не приедет президент? Если бы Ельцин не приехал на эту церемонию, Россия бы оскандалилась перед миром. И все взгляды обратились опять к Лихачеву: только он один во всем мире мог спасти ситуацию, сделать так, чтобы Россия избежала очередного позора, избавилась бы наконец от прозвища — «империя зла», покаялась бы, проведя торжественное захоронение, но обязательно в присутствии президента — иначе бы «государственное покаяние» не состоялось. Именно Лихачев (а кто же еще?) написал Ельцину письмо, где настойчиво проводил мысль, что похороны останков — акт покаяния и искупления. Лихачев сообщал Енишерлову: «Я был доволен тем, что президент откликнулся на мое письмо, звонил мне и хорошо разговаривал. Все-таки это польстило моему самолюбию, и само письмо показали по телевидению. Кстати, оно было написано от руки».
Захоронение было проведено 17 июля 1998 года.
Воспоминания Филатова о Лихачеве:
«На протяжении всего траурного действия в храме он старался стоять (92 года! — В. П.). Если сидел, то когда это требовалось по процедуре, вставал первым, за ним через некоторое время поднимался и президент. Я уверен, что приезду президента во многом способствовал именно Дмитрий Сергеевич. Ведь он написал Ельцину три (!) письма (это то, что знаю я). И говорят, в последний день звонил ему. Лучше Лихачева, пожалуй, никто не знал эту проблему и не мог привести всех аргументов в пользу президентского участия в процедуре… „Совесть нации“ — так его окрестил народ за умение в любой, самой трудной, порой скандальной ситуации обратиться к властям со своим словом правды и быть услышанным».
Лихачев писал Енишерлову:
«…B последнюю минуту, когда мы уже стояли в соборе, явился президент… Хорошо — по собственной воле, не приехали Мария с Георгием, разные губернаторы. К счастью, не нашлось денег, чтобы превратить похороны в „постановку“. Не было ряженых в старую форму, зато были шотландские волынщики (Николай был шефом одного из шотландских полков)».
От родового дворянства присутствовал барон Фальцвейн (по матери Епанчин). Романовы и Епанчины произошли от одного общего предка…
Сохранилась фотография, сделанная после церемонии; Ельцин пожимает руку Лихачеву, благодарит его. Улыбка Лихачева несколько вымученная, взгляд Ельцина — властный, уверенный и в то же время — чуть вопросительный… «Наверное, если мы обмениваемся рукопожатием с самим Лихачевым — значит, мои отношения с интеллигенцией более-менее в порядке?»
Чрезвычайная важность миссии Лихачева была по достоинству оценена Ельциным: 1 октября 1998 года Лихачеву была вручена высшая награда России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.
По ощущениям Екатерины Юрьевны Гениевой, директора Библиотеки иностранной литературы, церемония не совсем соответствовала вкусам, да и самому облику Дмитрия Сергеевича:
«Все действо происходило в то время, когда только открылись отреставрированные кремлевские покои. Помню, какое тяжелое впечатление произвела на меня эта невообразимая позолота. Дмитрий Сергеевич и Борис Николаевич долго беседовали за закрытыми дверями. Когда они вышли к собравшимся… я заметила, как плохо облик Дмитрия Сергеевича гармонировал с нуворишской роскошью кремлевских покоев. Скромно одетый, с палочкой, Дмитрий Сергеевич всем своим видом словно бы укорял эту позолоту и роскошь.
Борис Николаевич вручил Дмитрию Сергеевичу красивый орден, который был специально сделан с учетом всех геральдических премудростей.
…Когда мы ехали с ним из Кремля, почему-то разговор зашел о вещах, которые Дмитрий Сергеевич хотел бы увидеть сделанными, как он выразился, „пока я жив“… Его очень беспокоили малые музеи, проблемы малых городов, малых библиотек. В этом разговоре проявилось и его внимание к личности любого человека, будь то директор Эрмитажа, Русского музея или библиотекарь в городе Мышкине: эти фигуры были для него абсолютно равнозначными.
…Мы приехали в библиотеку, поднялись в дирекцию и перекусили. Он сказал: „Я бы хотел посмотреть библиотеку“… Когда мы дошли до одного из залов, где было особенное скопление студентов, я, говоря чуть громче, чем обычно, рассказывала Дмитрию Сергеевичу о том, что мы в данный момент осматривали. Вдруг я поняла, что студенты в какую-то секунду осознали, что перед ними — живой Дмитрий Сергеевич Лихачев… Разрешилась эта тишина тем, что весь этот зал, переполненный молодыми людьми, встал и зааплодировал Дмитрию Сергеевичу… Я помню, как тогда у меня подкатил комок к горлу, как я видела глаза Дмитрия Сергеевича, ставшие такими мягкими, влажными под очками. Он тихо сказал: „Спасибо!“ Думаю, что по силе воздействия для Дмитрия Сергеевича это было не меньшее признание, чем все торжества в Кремле».
По воспоминаниям внучки Зины, Лихачев относился к своим бесчисленным наградам спокойно и даже с иронией и никогда, даже приблизительно, не мог перечислить их. Хранились они без всякого пиетета в ящике стола. И однажды, перед какой-то торжественной церемонией, они искали и так и не нашли золотую звезду героя труда. Пришлось обращаться к ювелиру, который смог быстро изготовить копию… Из всех наград, по воспоминаниям Зины, больше всего Дмитрий Сергеевич ценил медаль «За оборону Ленинграда», полученную им в 1942 году за тушение зажигалок на крыше Пушкинского Дома. Гордился он также присвоением ему, самому первому в городе, звания «Почетный гражданин Петербурга» — особенно потому, что такое звание имели его предки и он смог восстановить «фамильную честь». Радовался он и тому, что городу возвращено старое имя. Он говорил: «Никак не ожидал, что родившись в Петербурге, я снова в нем окажусь!» Это была одна из главных радостей его жизни.
А насчет наград… Зина вспоминает, как дед рассказывал, что с орденом Святого апостола Андрея Первозванного его охранял в поезде специальный человек. «Но охранял он, конечно, орден, а не меня!» — с улыбкой сказал Лихачев… Вскоре он передал этот орден на хранение в Эрмитаж.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В возрасте девяноста двух лет, подводя итоги своих отношений с властью, а заодно и Москвой, он написал: «За последние годы я был всего один раз в Москве и поразился разгулу пошлости, безвкусия. Впрочем, Петербург трусит вслед за Москвой».
В институте на всех наиболее важных мероприятиях он старался бывать — и его появление каждый раз производило на всех сильное впечатление — и то, что происходило без его ведома или вопреки ему, попадало под его суровый взор: он ничего не забывал и все контролировал. Однако — силы убывали. Он пишет Енишерлову в 1997 году:
«Я перестал ездить за границу — был только 4 дня в Ницце, где мне давали премию за „Поэзию садов“ и где я открывал главную улицу — возвращал ей старое название: вместо улицы Сталинграда — улица императриц, вдовы Николая I и Королевы Виктории.
Сопровождение Герры (Рене Герра, известный славист, главный специалист по искусству и литературе русской эмиграции. — В. П.) было очень полезным, от него я узнал много интересного… его не любят многие за злой язык, но я думаю, что он справедливо судит (и осуждает). С его оценками приходится считаться… Вот видите, какой у меня старческий почерк. И с этим (почерком. — В. П.) очень трудно бороться».
Старый его друг Сигурд Оттович Шмидт в 1997 году получает от него такое письмо:
«…Не могу написать вам статью в ваш сборник. Посвящаю вам очередное издание „Писем о добром“…
Еду в Италию на 10 дней. Повезут в кресле на колесах. Я уже так летал. В Италии мне дадут премию за „Поэзию садов“ и оплатят сопровождение (внучка Зина)».
Но в доме благополучия не было. Внучка Зина, оставшаяся без мамы, очень остро воспринимала жизнь семьи и оставила самые подробные, самые эмоциональные воспоминания. Дмитрия Сергеевича она часто видела вблизи, усталого, «не в лучшей форме», без того душевного подъема, который он возбуждал в себе на трибуне, или на кафедре, или перед телекамерой, без мантии «академика всех академий мира» и прочих парадных регалий. И впечатления эти, конечно, отличались от «общеизвестных». Когда Дон Кихот снимает свои «доспехи», он превращается в усталого старика с тяжелым характером. Это где-то там, на последнем напряжении сил, он блестящ, великолепен… а здесь он — «вне роли», «без грима», совсем не такой как «на сцене». «Сколько лет я прожила с дедом — но как человека я его так и не поняла!.. — писала внучка Зина. — Говорили: „К тихому голосу ДС все должны были прислушаться“. Но он мог рявкнуть так, что ложечки дребезжали. Считалось — „ясно мыслящий, демократический“. Со стороны виднее. Он был закрытым человеком абсолютно для всех!.. Невероятным усилием воли подавляет эмоции… В три и в тридцать три я боялась дедушку; где-то в глубине зрачков отражались страшные его испытания. Нередко находили приступы ярости… Дома он был совсем другой. Жизнь сделала дедушку подозрительным, скрытным, любое событие воспринималось — негативно. Бывший корректор, он цензурировал и свою жизнь: будто не было у красивого юноши романов! Как будто не было страха перед смертью!»
Дмитрий Сергеевич сделал свой выбор: служение обществу всеми силами. И когда выбираешь одно — для другого сил уже не остается. Терпения, благожелательности, заинтересованности и всех других его замечательных качеств, прославивших его, с трудом уже хватало для поддержания знаменитого образа — для дома уже сил не оставалось.
Один знакомый журналист рассказывал, как брал у Дмитрия Сергеевича интервью и в очередной раз был поражен его эрудицией, неожиданными сопоставлениями, выводами, остротой ума, ну и, конечно — простотой, доступностью, доброжелательностью… Когда он, поблагодарив за великолепное интервью, уходил, а Дмитрий Сергеевич, собрав силы, исполнял обязательный обряд — подавал гостю пальто, вдруг как-то внезапно появилась супруга Дмитрия Сергеевича Зинаида Александровна и заговорила:
— Не уходите так быстро! Вы так интересно разговаривали!
— Ну так это доступно вам каждый день! — простодушно сказал журналист.
— Нет — не каждый, не каждый! — воскликнула Зинаида Александровна, глядя при этом не на гостя, а на мужа, обращаясь со своей жалобой явно к нему. Журналист, чувствуя, что произошла неловкость, быстро ушел.
Да — все силы Дмитрий Сергеевич оставлял «там», а «тут» их почти не оставалось.
…Один мой знаменитый друг, когда долго снимали его, восклицал:
— Да скорее же! Трудно так долго держать доброе выражение глаз!
Да — «доброе выражение глаз» трудно долго удерживать в этой жизни. Терпения — еще и на домашних — Дмитрию Сергеевичу порой не хватало. Свою маму Веру Семеновну, когда она еще была жива и затрагивала в разговоре с малознакомыми людьми свою обычную антисоветскую тему, Дмитрий Сергеевич нередко обрывал окриками: «Мама, прекрати!..»
Страх жил в нем всегда, и преодолевать его каждый день было делом нелегким… Многие человеческие достоинства «дорастают» порой до недостатков. Та гражданская активность, которая так поднимала Дмитрия Сергеевича в глазах общественности, в семье порой оборачивалась нетерпимостью к ближним, яростью. «Они совсем меня не поддерживают, ничего даже знать не хотят, только просят!»
Бабушка Зина порой жаловалась: «Ты меня совсем не любишь, не хочешь со мной разговаривать!» Раньше они вместе ходили не только в театры, но и на ученый совет, и бабушка Зина восторгалась: «Он такой красивый, ему так идет синий костюм!» Теперь выходили вместе крайне редко.
С ростом «общественной занятости» Дмитрия Сергеевича на Зинаиду Александровну оставалось все меньше времени и сил. Она явно «отставала» от блистательного мужа, уже не могла понимать сложных общественных и тем более научных конфликтов, изводивших его — а он все чаще срывал дома досаду, накопившуюся на службе. Однажды он запустил в бабушку Зину туфлей. Прогнал из дома любимых бабушкиных двоюродных племянниц, с которыми Зинаида Александровна так любила общаться… ведь больше порой было не с кем!
Формальной причиной, по которой Лихачев отлучил от дома родственниц, было то, что муж одной из них, архитектор Алымов, имел отношение к безобразному, с точки зрения Лихачева, памятнику Победы на площади Восстания, который и в народе прозвали «стамеской»… Гражданская позиция Лихачева! Это понятно, но должна ли она так драматично откликаться в семье?
Внучка Зина вспоминала изгнанных теток с симпатией, при них как раз и была теплая семейная жизнь, разговоры о шляпках и винегретах, как любят женщины — после их ухода наступила «академическая тишина». «Дед отдыхает!» И все должно было «умирать»… Опасно было смотреть телевизор. Однажды он не выдержал и закричал: «Я сейчас разобью этот телевизор! Даже голоса у них какие-то склочные, малокультурные!» Советские кинофильмы он терпеть не мог, и Зина смотрела их лишь тогда, когда деда не было дома.
Когда архитектор Алымов умер, тетя Нина и тетя Галя снова появились в их доме, и снова вместе, это были дружные близнецы… «В отличие от наших!» — такая фраза вырывается у Зины в ее записках.
Главная «трещина» в семье проходила между дочерью Лихачева Людмилой Дмитриевной — и внучкой Зиной. По ее словам, тетя Мила настолько не походила на остальных Лихачевых, что даже существовала легенда, будто ее удочерили в блокаду! О любимой тете Зина такого бы не написала, но после того, как она осиротела, ей стало казаться, что тетя Мила стала к ней относиться еще более сурово, чем раньше. Чувства сироты всегда обострены… А дед (и в этом главная обида Зины) занял в этом вопросе позицию невмешательства. На вмешательство у него уже не было сил: все силы были отданы обществу — и видимо, это было более продуктивное вложение: слава Лихачева все росла. Обществу он принес огромную пользу!.. А душевные связи в семье — усыхали. И это было Зине особенно больно — после той ее любви с дедом, которая была раньше. Она вспоминает, как они дружили с дедом в ее детстве, и дед писал ей на машинке письма от имени пирата Билли Бонса и писателя Лилли-Буллера, а она рисовала к ним картинки. Как она страдала в костной туберкулезной больнице в ужасных условиях и как пришел к ней дед, и в руках у него был ее любимый Мишка.
А потом отношения стали другими, более напряженными.
У Зины вырывается горькое замечание: «…он любил детей, но не подростков».
Конечно, он уделял ей внимание — но чаще всего был недоволен. Может быть, он все время грустно сравнивал ее с погибшей мамой, своей любимой дочерью Верой (внешне дочь и мать поразительно похожи), и свое отчаяние (дочь уже не вернешь) обращал на внучку, которая, как казалось ему, не повторяет успехов мамы. Хотя училась Зина легко и успешно, часто придирался, требовал невозможного. Увидев ее с теннисной ракеткой в руках, горестно восклицал: «Одна дорога — в институт Лесгафта!» (Институт физкультуры и спорта. — В. П.) Все это, конечно, обижало Зину, она чувствовала себя неприкаянной в доме…
Воспитывал он внучку строго, по телефону разрешал говорить только по делу и не более десяти минут!.. Разумно. Но где же счастье, семейный уют? Любил задавать каверзные вопросы: «Ты читала „Фрегат ‘Паллада’“? Когда?»
Зина вспоминает постоянно лежащую подушку на телефоне — боролся с подслушиванием. Все трактовал в худшем смысле. Однажды в доме появилась новая няня, Мария Александровна, и дед вдруг обвинил ее, что она из «органов»: все время подслушивает, прикрываясь газетой.
Шутливое письмо внучке Зине. 1970-е гг.
Пират. Рисунок Зины Курбатовой. 1970-е гг.
«Все дело было, — пишет Зина, — в дедушкиной невероятной подозрительности». И Зина… Обе Зины чувствовали себя в доме все более ненужными, неприкаянными — и все более душевно сходились между собой, и самые теплые строки воспоминаний Зины посвящены бабушке-тезке. Общее имя, считает внучка, определило и похожую судьбу — обе рано остались без матерей, без тепла. Какое-то время «две Зины» были в семье наиболее близки — и самые подробные, душевные воспоминания о бабушке, жене великого академика Лихачева, оставил не он, а внучка Зина: с самого раннего своего детства, когда она вертелась возле бабушки, и та не позволяла схватить раньше времени вкусную котлетку — бабушка Зина замечательно вела хозяйство, и обед был очень вкусный, и всегда в одно и то же время.
Зина хорошо помнит еще и сравнительно молодые годы бабушки, большой платяной шкаф в квартире на Втором Муринском, огромное количество платьев, летних и зимних шляп — бабушка была щеголиха, наряды шила у одной портной — Ирины Александровны, а шляпки — у другой мастерицы — Матильды. Бабушка всегда выходила из дому только в шляпках. Зина помнит ее «сногсшибательный» наряд: светло-бежевый костюм с прилагающейся чалмой.
С годами она все больше сил уделяла домашнему хозяйству, что становилось уже почти манией, все было заставлено банками с вареньем. Зина вспоминает, как однажды бабушка подала варенье гостю — академику Максимову, а оно оказалось с муравьями. Однако всю экономику семьи она держала в твердых руках, почти никогда, даже дома, не расставалась с ридикюлем, где были деньги и самые важные документы, прижимала его рукой.
Зина в молодости увлекалась «легким жанром» — играла на гитаре, пела песенки. Только бабушка одобряла ее страсть, особенно любила и часто просила исполнить чрезвычайно популярную тогда «белогвардейскую» песню «Поручик Голицын».
Дмитрий Сергеевич, конечно, такой «пошлости» бы не потерпел, и гнев его был бы ужасен — поэтому «подружкам» приходилось скрывать свои увлечения от него.
При всей его строгости — земных радостей он не чуждался. Любил вкусно поесть (на кухне с Зинаидой Александровной мало кто мог сравниться!), но презирал обжорство. И большую часть домашнего времени — работал. Стол его всегда был загроможден, и он многое там терял — от нужных документов до правительственных наград, — порой срывал досаду на ближних, хотя уделял общению с ними времени все меньше. И при этом — из последних сил продолжал свое главное дело, от которого ему уже было никуда не деться и которое мог делать только он. Даниил Александрович Гранин, с которым они тесно общались в Комарове, написал в своих воспоминаниях о Лихачеве: «Устало жаловался он на директоров библиотек, которые распродают раритеты, чтобы „помочь деньгами сотрудникам“. Со всех сторон обращались к нему, взывали: „Остановите вандалов! Сносят памятники! Нужны средства! Вырубают парки!“ Лавина просьб и обращений готова была погрести его. Как Сизиф, он продолжал толкать свой камень. Ему нельзя было помочь, можно было лишь сочувствовать безнадежности его усилий. Иногда он говорил мне: „Даже в случаях тупиковых, когда все глухо, когда вас не слышат, будьте добры высказывать свое мнение. Не отмалчивайтесь, выступайте. Я заставляю себя выступать, чтобы прозвучал хотя бы один голос. Пусть люди знают, что кто-то протестует, что не все смирились“».
Его выступления продолжались, они касались самых важных вопросов культуры, он постоянно цитировался, его образ служил как бы «индульгенцией властям»: вот — не так уж у нас плохо с культурой, раз есть Лихачев, который о ней так заботится!
Зинаида Александровна порой ревновала мужа к его славе (которая, как ей казалось, все больше удаляет его от нее), к его обширной переписке, иногда читала ее и обижалась. Ей казалось, что муж все меньше думает о ней. Однажды прочла в письме, как Лихачев, рассказывая о блокаде, и видимо, не имея времени входить во все подробности, сказал, что много времени приходилось стоять в очередях за хлебом… Зинаида Александровна вдруг обиделась: «Неправда — всегда одна я стояла!»
Все «три семьи», поначалу жившие под этой кровлей, семья «стариков» во главе с Дмитрием Сергеевичем, семья Милы с мужем Сергеем и дочкой Верой, Зина с папой — аккуратно сдавали ей установленную сумму, и она строго ею распоряжалась. Даже сам Дмитрий Сергеевич «запрашивал» у нее сумму на текущие расходы: «На чай в секторе», «на букет Белобровой». Теперь семья развалилась.
Зина, оставшись без мамы, особых нарядов не имела, долго носила джинсы и куртку, купленную еще мамой, и до сих пор нежно вспоминает, как бабушка ей дала в 9-м классе десять рублей на лакированные туфли.
Зина ревнивым взглядом подмечала, насколько скуп на чувства дед был дома и как выразителен, артистичен был «для всех» — «задумчиво долго молчал перед камерой, долго в своем знаменитом полушубке брел по снегу к комаровским могилам»…
Многое, как считает Зина, делалось в доме напоказ, без души: на Пасху обязательно были куличи, хотя и не постились, висело много икон, но никто, кроме Зинаиды Александровны, к ним не прикладывался и, входя, не крестился. В буфете была отличная старинная посуда, чашки костяного фарфора, но подавалось это лишь «для парада», для важных гостей — обычно же ели из каких-то черепков, были щербатые тарелки, но до покупки новых не доходило… Однажды Зины увидела в буфете шоколадки, но дед ей не дал: «Для гостей».
Было в доме что-то старообрядческое: не держали собак, и никто не курил. Было у деда и что-то наследственное, купеческое, мог вдруг дать таксисту или водопроводчику «на чай» (хотя навряд ли они так увлекались чаем) десять рублей…
Внучка Зина рассказывает об отчаянии Дмитрия Сергеевича, когда он начал чувствовать, что домашняя жизнь погибает, что все выходит из-под контроля: даже домработница не слышит его и готовит совсем не то, что он любит и считает полезным!
К концу жизни Дмитрия Сергеевича почти все домашние разъехались. Зина вышла замуж, но, не чувствуя уюта дома, ушла к мужу, хотя на тот момент он обладал лишь комнаткой в полуподвале: он учился в Академии художеств и одновременно работал там электриком, и комнатка эта была его «служебной площадью».
Юрий Иванович Курбатов после смерти Веры несколько лет жил еще вместе со всеми, поскольку дочь Зина еще не окончила школу, но потом, когда Зина вышла замуж, построил себе кооператив на Богатырском проспекте и уехал. Когда у Зины родилась дочка Вера, они переехали к нему.
Зина вспоминает о первом появлении Дмитрия Сергеевича у них. Он подошел к колыбельке (до этого он правнучку не видел), долго пристально смотрел на нее, потом повернулся и вышел, ничего не сказав. «Он умел так, — пишет Зина, — вдруг выйти, ничего не сказав».
Семья Зилитинкевичей уехала еще раньше — как только Сергей Сергеевич стал директором ленинградского отделения Института океанологии, он сразу сумел вступить в строительный кооператив Союза писателей, куда попасть, как я помню, было чрезвычайно сложно. Надо признать — человек это был феноменальный. По воспоминаниям Курбатова, дом этот строился по новому, чрезвычайно удачному проекту — однако Зилитинкевич сумел его еще более усовершенствовать. Он получил две квартиры на последнем этаже и соединил их, но, что самое поразительное, сумел совершить нечто невероятное для советского времени, когда все регламентировалось, контролировалось и запрещалось: сумел договориться со строителями — и они сделали стены его квартиры на два кирпича выше, чем в обычных квартирах! Это — при всех регламентах, при утвержденном всеми печатями проекте, при наличии ОБХСС и народного контроля! Всех победил!
Потом, как известно, он отбывал наказание за свою исключительную предприимчивость — и вскоре после того убыл за границу как пострадавший от властей.
Хеппи-энда в семье Лихачева не получилось. Дочь Мила была в растерзанном, нервном состоянии — муж за границей, дочка тоже, все ее бросили, положение отчаянное. Она то жила в кооперативе на Новороссийской улице, то появлялась у родителей. Дмитрий Сергеевич уже боялся ее бурных эмоций, старался делать все, что она просила. Внучка Зина, не ужившаяся с тетей Милой, из дома ушла и лишь иногда навещала. Супруга Зинаида Александровна, бывшая надежной его опорой, тяжело болела, сознание ее слабело, бывали неадекватные слова и поступки. Дмитрию Сергеевичу уже не от кого было ждать душевной подмоги, скорее — приходилось ему отдавать последние силы на то, чтобы в доме воцарился хоть какой-то покой. Но этого не было даже близко. Остро встал столь болезненный для старого человека вопрос о завещании. По словам внучки Зины, тетя Мила заставляла Дмитрия Сергеевича переписывать завещание, он боялся ее нервных срывов и потому подчинялся. Грустный конец!.. а разве бывают веселые концы?
И при всем этом Лихачев — держался! Особенно на людях. Появляясь в Пушкинском Доме, старался обходиться без палки. Не хотел лишний раз надевать шляпу, насмешливо уверяя, что «в Париже шляпы носят только очень пожилые люди». Свой «респектабельный возраст», как он его с иронией называл, Лихачев нес с достоинством, всем подавая пример. И главное — до последних дней он строго руководил работой сектора, все помнил и ничего не упускал.
За два с половиной месяца до смерти договаривался об участии в Пушкинской конференции в Италии, вопросы ставил четко, ничего не забыл.
Однако — пришло время недугов. В академической поликлинике на проспекте Мориса Тореза врач обнаружил опухоль в животе и предположил — злокачественная. Мила и Зинаида Александровна стали говорить: «Это плохой врач!» Академическая поликлиника считалась в семье неважной. «Надо найти хорошего врача!» — решили домашние. У них была знакомая, очень хороший врач-отоларинголог, и она посоветовала своего коллегу из поликлиники на улице Гастелло. Поликлиника эта считалась привилегированной, в ней лечились иностранцы. И заведующий терапевтическим отделением доктор Козлов стал «домашним врачом». Он старался лечить Лихачева максимально комфортно для него, не отвлекая и не заставляя его ездить через весь город. Доктор приезжал сам, во всем потакал великому академику, вел «щадящее», неутомительное лечение и даже переливание крови делал Дмитрию Сергеевичу прямо на дому, что запрещалось правилами. Хорошо это или плохо? Поначалу это Дмитрия Сергеевича устраивало: он мог работать, хотя бы лежа, все книги и материалы были тут. Может быть, слава или великая тяга к работе на этот раз сыграли с Дмитрием Сергеевичем плохую шутку? Если бы он проходил как обычный пациент — наверняка суровую правду ему сказали бы раньше и можно было бы его спасти? Тут можно только гадать.
Внучка Зина вспоминает, что однажды они пришли с ее дочкой Верой к деду в субботу, как обычно — и ему было уже очень плохо.
Его отвезли в клинику на Гастелло, сделали сложную кишечно-полостную операцию. И он умер, не приходя в сознание, — 30 сентября 1999 года, почти в самом конце столетия, который называют теперь «веком Лихачева». Прощаясь с ним, люди говорили: «Вот и кончился век. Больше таких людей нет».
Церковным человеком он не был. В церковь ходил в основном за границей — и то, скорее, «культурологически», «представительски»… Перед смертью не причащался. В агонии бормотал: «Не наваливайтесь на меня, идите к черту!» И совсем уже перед смертью стал кричать: «Зина! Зина!»
Однако его сотрудник О. А. Панченко был другого мнения о религиозности Лихачева:
«…Я обнаружил, что в его записных книжках некоторые записи имеют даты, приуроченные к церковному календарю. Думаю, что не случайной была и дата его ухода: 30 сентября 1999 года. Дмитрий Сергеевич ушел в последний год второго тысячелетия — в день святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В тот день он всегда чтил память двух дорогих ему людей — матери Веры Семеновны и дочери Веры. Своим уходом он — хранитель тысячелетней памяти русской культуры — как бы подвел итог самому трагичному веку в истории своей страны».
Всю ночь перед похоронами сотрудники его сектора читали над гробом Священное Писание.
Сигурд Оттович Шмидт вспоминал:
«С академиком Лихачевым прощались торжественно и официально. В зале Таврического дворца был даже воинский почетный караул. Некоторых это покоробило, и мне как человеку, близкому к Дмитрию Сергеевичу и к его семье, понятно, как это не вяжется с достоинством их неизменно скромного интеллигентного образа поведения. Но как историк, знающий, что державность — в основе наших государственных представлений, я был удовлетворен тем, что нынешние официальные почести воздаются, наконец, первому интеллигенту России, достойнейшему ее гражданину, никогда не занимающего должности более высокой, чем заведующий отделом академического института».
Протоиерей Владимир Сорокин у гроба Лихачева сказал:
«Вы — светлый символ эпохи».
Похороны, по воспоминаниям внучки Зины, прошли ужасно. На кладбище в Комарово наехали в огромном количестве «официальные лица», которым необходимо было «засветиться» на экране, и уверенно оттеснили от могилы всех родственников. «Из близких на видном месте, — вспоминает внучка Зина, — оказался лишь Сергей Сергеевич Зилитинкевич».
Вскоре после смерти мужа умерла и Зинаида Александровна. Внучка Зина пишет. «Бабушка верила истово, в церковь ходила с юности, и даже спустила однажды с лестницы агитаторшу-комсомолку. Молилась громко. После домашних скандалов просила у Бога смерти. В последний год ее крики, доносившиеся из столовой, где она сидела, прикованная к креслу, были страшны. Из презентабельной и властной жены академика она превратилась в жалкую старуху, перебиравшую скатерть».
И совсем скоро после нее умерла Мила — страдания ее жизни закончились.
Теперь на этом кладбище рядом лежат и Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Александровна, и их дочь Вера, и их дочь Мила.
«…Мне иногда задают вопрос, — написала внучка Зина в своих воспоминаниях, — не изменял ли дед бабушке? Какая пошлость!»
НАСЛЕДНИКИ
Вопрос о лихачевском наследстве решался напряженно — наследники находились не в самых простых отношениях между собой. После смерти Дмитрия Сергеевича все перешло дочери Лихачева — Людмиле, а после ее кончины — Вере, дочери Людмилы. Но она жила за границей. И как раз в последнее время с дедом больше общалась и помогала ему другая внучка — Зина, живущая рядом. Наверное, история с наследством обидела ее. Зина говорит, что завещаний было два. Первое было написано так, чтобы наследство поровну разделили обе внучки, но потом, по ее словам, из-за оказанного Людмилой давления на уже ослабевшего Дмитрия Сергеевича все было переписано на нее. Это было вызвано, конечно, не жадностью, а лишь заботой ее о дочери Вере, оказавшейся на чужбине.
Нельзя сказать, что внучка Зина оказалась совсем обойденной: дед помог ей построить дом в Комарове, и опустевшая квартира на Втором Муринском осталась ей. Главная ее обида была в том, что не к ней попало духовное наследство — право переиздания лихачевских книг, а также все значимое, ценное, памятное, что было в дедовском кабинете — всё это перешло в собственность Милы, а потом ее дочери Веры.
На сохранение все лихачевские вещи были переданы в Музей истории города. Юрий Иванович Курбатов вспоминает, как он обнаружил забытую коробку с пластинками Лихачева и спешил с нею вниз, пока не отъехал грузовик. Позже выяснилось, что никакой специальной лихачевской экспозиции в музее не будет, и большинство вещей люди не увидят. Лишь 14 февраля 2006 года президентом Российской Федерации был подписан указ «О праздновании 100-летия со дня рождения академика Д. С. Лихачева», согласно которому 2006 год объявлен в России Годом гуманитарных наук, культуры и образования — Годом академика Д. С. Лихачева. Инициатором празднования юбилейной даты выступили администрация Санкт-Петербурга и Фонд имени Д. С. Лихачева. Была открыта замечательная выставка: «Академик Лихачев. Диалог с XX веком». Эта выставка была совместным проектом Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева, Института русской литературы (Пушкинский Дом), Музея политической истории России, общества «Мемориал», Музея истории школы Карла Мая.
И снова перед нами прошла замечательная, долгая жизнь Лихачева, полная страданий и великих дел — в фотографиях, предметах и документах: от его гимназических бумаг, и затем следственного дела, от первой его публикации в лагерном альманахе «Соловецкие острова», через все годы — к многочисленным почетным дипломам, орденам, мантиям Почетного академика многих университетов. Сохранилось множество удивительных вещей, трогающих душу, к примеру: «Соловецкий камень (часть его). Источник поступления: 3. Ю. Курбатова». Или — растрепанная «Записная книжка Лихачева, 1979 год. Источник поступления: В. С. Зилитинкевич».
Праздник столетия Лихачева в 2006 году стал мировым событием. Приехало много зарубежных гостей. Помню, в Театральном зале Юсуповского дворца, где проходило торжественное заседание, я оказался сидящим рядом с Жоржем Нива. На сцену поднимались один за другим самые знаменитые люди науки, культуры, политики.
Юбилей отмечал весь город. Вот — несколько юбилейных афиш:
«28 ноября 2006 года. Благотворительный фонд МИР КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ. Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики. Дни памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева». «28 ноября 2006 года. Санкт-Петербург, Средняя школа № 47 им. Д. С. Лихачева. Вечер памяти Лихачева». «29 ноября 2006 года. Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Концертный зал им. А. К. Глазунова. Вечер памяти Лихачева». «30 ноября 2006 года. Комитет по Культуре Санкт-Петербурга, Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Союз Композиторов Санкт-Петербурга, Совет учредителей награды имеют честь пригласить на концерт лауреатов Международного конкурса „Созвездие талантов“, посвященный 100-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева».22 ноября 2006 года к столетию Д. С. Лихачева в Москве, в 1-м Неопалимовском переулке состоялось открытие памятной доски с надписью: «В этом доме академик Д. С. Лихачев во время приездов из Петербурга руководил работой основанного им в 1987 году журнала „Наше наследие“».
На открытии выступили — председатель Совета Федерации, председатель редсовета журнала «Наше наследие» С. М. Миронов, главный редактор журнала «Наше наследие» В. П. Енишерлов, директор Института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева — Ю. А. Веденин, председатель Международного благотворительного фонда «Новые имена» И. Н. Воронова, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М. В. Сеславинский, президент Российской академии архитектуры А. П. Кудрявцев, академик С. О. Шмидт, председатель Комитета по культурному наследию Москвы В. А. Шевчук, скульптор Г. В. Франгулян, доктор наук Ю. В. Манн, академик Д. В. Сарабьянов, художественный руководитель Театра им. Вл. Маяковского С. Н. Арцибашев… Потом внучка Зина перед телевизионной камерой говорила о памятной доске с профилем Лихачева, похвалила ее, сказав, что главное — не «похожие уши», а состояние души…
Слава Лихачева год от года только растет, множится число мероприятий, связанных с его именем. Научные конференции, посвященные ему, проходят в Пушкинском Доме, в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов под руководством А. С. Запесоцкого. Фонд Лихачева ведет работу, поддерживая издания книг, которые, наверно, поддержал бы и Дмитрий Сергеевич. За прошедшие после его смерти годы образ его не уходит — наоборот, становится все значительнее.
Конечно, главное наследство Лихачева — его труды.
Готовясь написать эту книгу, прочел многие из них и был потрясен их энергией, смелостью, дерзостью гипотез. Даже только этому стоит всем поучиться, не забывать об этом в тяготах жизни. В издательстве «Логос», во многих других издательствах переиздаются труды Д. С. Лихачева — и в простых, и в роскошных переплетах. История Лихачева продолжается — и не хочется с ним расставаться, заканчивать книгу, хочется еще что-то найти!
Лихачева легко «увидеть» — осталось много фильмов о нем, в числе их и фильмы внучки Зины Курбатовой, ставшей известной журналисткой и посвятившей своему деду много трудов. Последний из них на сегодняшний день — фильм «Частные хроники», рассказывающий о непростых отношениях в семье. И снова глядя на Лихачева (на мониторе компьютера) и слушая его, понимаешь с тревогой: он оставил нам не только воспоминания о тяжелом прошлом, но и предупреждения — об ужасном будущем!
«Мы будем жить, как чайки на помойках, — предупреждает Лихачев с экрана, — ибо уходит достоинство. Страшны… не жаргонные слова и просторечия, а обеднение речи в связи с обеднением жизни. Исчезла любезность. Исчезла репутация (теперь характеристика). Все больше машины заменяют работу ума, а ум отучается делать простейшие операции, связи и выводы. Даже животные деградируют, больше развиваются хищники — хищная чайка продвинулась уже и на сушу».
Как своевременны эти тревоги и, увы, все больше сбываются — уже без Лихачева, но так, как предсказал Лихачев.
Вот на мониторе фильм из серии «Как уходили кумиры». Сначала рассказывает Зина Курбатова, потом — один из ближайших лихачевских сотрудников — В. Бударагин. Вот — другой лихачевский сотрудник (фамилия на экране почему-то не появилась). Острое, чуть восточное, выразительное скуластое лицо, окаймленное узкой седой бородкой. Он, вспоминая Лихачева, рассказывает, как он учил их «летать в любую погоду». Опять — образ птицы. Видно, Дмитрий Сергеевич внимательно наблюдал чаек на Соловках. Сотрудник заканчивает свое выступление. Ведь это же, наверное!.. впрочем, надо уточнить.
Зинаида Юрьевна Курбатова говорила мне, что обязательно надо встретиться с Гелианом Прохоровым, одним из самых близких Лихачеву людей — ведь Дмитрий Сергеевич его спас, когда того за переписку с Солженицыным хотели лишить гражданства и отовсюду выгнать… Но как пойти к незнакомому человеку? Я позвонил Всеволоду Евгеньевичу Багно, директору Пушкинского Дома, так мне всегда помогавшему в этих трудах…
— Записывай номер.
— Спасибо! А как отчество его?
— Гелиан Михайлович.
УЧЕНИК
Гудки шли глухие и безнадежные: у каждого номера свой гудок, и по нему можно что-то почувствовать…
— Слушаю! — неожиданно раздалось в трубке.
Я изложил просьбу.
— Даже не знаю, чем могу вам помочь. Что знал, я уже написал.
— Понимаете, все материалы о Дмитрии Сергеевиче вроде бы прошерстил… Но хочется услышать живой рассказ!
— …Сегодня у меня лекция, на историческом факультете.
— А завтра как?
— Завтра в Духовной семинарии… Ну хорошо — приходите в три. Запишите адрес.
Путь знакомый: по пешеходной 6-й линии Васильевского часто хожу. Знаменитый Андреевский храм. А также — «секонд-хенд», «секс-шоп» — «бастионы» теперешней жизни.
Флигель во дворе. Узкая крутая старинная лестница. Маленькая площадка. Перевел дыхание, позвонил… Пауза, потом лязганье затворов. Хозяин открыл дверь. Большой. Мощный… Слегка насупленный… не разбудил ли я его, часом?
— Проходите.
Ряд маленьких, битком набитых комнат, книги в шкафах и нависающие со шкафов. Окна — маленькие и темные, во двор, но зато всюду яркие праздничные картины. Хозяин заметил мой взгляд. Повел рукой:
— …Ереван… Париж… Лазурный Берег. Ездили на конференции. Помню — рисовал Новый мост через Сену. Подошел француз, сказал: «Да! День прошел не зря!»
Вот тоже очень яркий пейзаж — по речке шпарит буксир, на том берегу — красные кирпичные старинные пакгаузы.
— Париж?!
— Питер! Вид из окна нашего сектора!
Вспомнил его картины в секторе: их веселая поездка в автобусе — и аскетический, иконный и в то же время чуть кубистический портрет Лихачева.
— Красиво, — сказал я.
Он уверенно кивнул: фраза моя возражений не вызвала. Сели за его рабочий стол, тесно друг к другу: двое довольно тучных мужчин — я сбоку, на маленькой табуреточке.
— Ну, давайте для начала я запишу все ваши звания…
— А вот, — он спокойно положил передо мною листок.
Доктор филологических наук, профессор кафедры истории западноевропейской и русской культуры истфака СПбГУ, главный научный сотрудник ИРЛИ РАН, специалист по древнерусской и византийской литературе, лауреат Государственной премии за собрание «Памятники древнерусской литературы», автор более трехсот научных трудов, заслуженный деятель науки…
Я выпрямился — передохнуть.
— Сколько вам лет? — вдруг спросил он.
— А вам?
— Семьдесят пять! — не без гордости произнес он.
Кожа сухая, в красноватых прожилках. Острый, с горбинкой нос. Черно-седая косая челка через лоб. Взгляд веселый и даже горячий.
Я дописываю длинный перечень его званий и работ.
— Много сделали…. Сразу стали писать?
— Да нет. Сначала поступил в Летную академию Можайского. Куда молодой парень в те годы мог мечтать поступить? Но на первом курсе почему-то меня исключили из комсомола и направили «на исправление» в штрафбат… «Много рассуждал». О чем я, кстати, ничуть не жалел, потому что именно там в любую свободную минуту начал исторические книги читать. Потом — ногу повредил: бревно прокрутилось, упал. Комиссовался. Уже понял — надо в университет. Принес документы. Мне говорят: «Вы характеристику читали свою?» — «А что?» — «Почитайте!» Читаю: «…политику партии и правительства не понимает». Еще на год на стройку пошел. Когда там стал просить характеристику, мне говорят: «А — напиши сам!» Ну, я и написал: «Политику партии и правительства понимает». Так что прошел трудовой путь. Когда Лев Николаевич Гумилев — замечательное знакомство! — в гости меня позвал, я прихожу по адресу на Большую Московскую улицу и вижу: «Ба! Так я же этот дом строил!» Гумилев сказал: «Пока я реабилитировался — вы, оказывается, уже дом строили для меня». Показал ему фотографию — как раз в его комнате, еще недостроенной, с рабочими сфотографировался. Бывают чудеса! В университете — записался на его спецкурс. И потом мы поехали с ним в экспедицию, раскапывать Хазарию, ныряли с аквалангами в Каспий, возле Дербента, нашли там хазарскую стену, ограждавшую порт!
Разговор наш с Гелианом Михайловичем разогревался, тем более выпили по чуть-чуть коньяку.
— Да. Я тоже помню Льва Николаевича — выступал в Доме писателей… Про этногенез. Повлиял он на вас?
— Еще бы! — воскликнул Прохоров. — Благодаря ему я верующим стал! Русский народ создан православием. До него были лишь племена. Этногенез, создание народа из племен, — величайшее чудо. Как же можно не признавать христианства, если оно создало русский народ, нас с вами! Как говорили святые старцы: «Народ, не думающий о небе, не достоин жить на земле!» Гумилев ерничанье пресекал! При духовной музыке вставал! И я почувствовал: если такой образованный человек верит в Бога, то, наверное, что-то в этом есть? И вот — в Духовной семинарии преподаю. Кстати, отличный мед там купил. Угощайтесь!
— Спасибо… А как с Лихачевым вы встретились?
— Поступил я на истфак ЛГУ, занимался византийско-русскими связями. Для этого греческий учил: для меня специально с филфака преподавательницу приглашали. А со второго курса я к Лихачеву ходил, в Сектор древнерусской литературы, поначалу думал — лишь для того, чтобы древнерусскую литературу узнать, особенно интересовался присутствием в ней византийских материалов, переводов с греческого… а в результате — оказался в лихачевском секторе, причем навсегда. Дмитрий Сергеевич умел увлечь! Мне на его семинарах нравилось, что можно поспорить, порассуждать — любому, независимо от чинов. Поразило меня, как Лихачев семинары вел — мягко, благожелательно. И я, видно, чем-то понравился ему. Он постоянно увлекался кем-нибудь, тащил в сектор к себе… Наташу Понырко, Милу Рождественскую, Диму Буланина. И когда я окончил университет с отличием, он в аспирантуру к себе взял. И сказал: «Защитите вовремя — возьму в сектор!» Ну, я напрягся… Защитил, правда, в самый последний день! — Прохоров засмеялся. — И зачислили меня. Поначалу, правда, почему-то научно-техническим сотрудником. Вспомнили, наверное, что я немножко инженер…
— …Вы вместе с Дмитрием Сергеевичем работали? В смысле — по одной теме?
— Зачем? Абсолютно нет. У нас такого не водится: все свободны в выборе тем. А мои приоритеты, — вот, интервью мое, — нашарил на столе газету, подвинул, — «Мой любимый XIV век».
— …Четырнадцатый? — удивился я.
— Ну да! Считаю — самый великий век за всю историю Руси! Андрей Рублев! Сергий Радонежский! Кирилл Белозерский — святой и великий ученый-натуралист. Я перевел, подготовил его труды: настоящая энциклопедия русского игумена XIV–XV веков «Сборник писаний преподобного Кирилла Белозерского»… Про облака писал, про их природу, про ветер, град! Часть его рукописей в Кирилло-Белозерском монастыре, езжу туда. Дмитрий Сергеевич все мечтал купить «творческую избу» в историческом месте, и я нашел. Сначала в складчину купили ее, на имя Дмитрия Сергеевича… потом, когда он почувствовал уже, что не сможет ездить, написал дарственную мне. Езжу каждое лето. Хожу в монастырь. Читаю, пишу.
— А расскажите какой-нибудь интересный случай… С вами и Дмитрием Сергеевичем.
Прохоров задумался. Потом улыбнулся:
— Я лучше вам расскажу случай… уже без Дмитрия Сергеевича!
— …Давайте.
— Уже когда он умер… И Зинаида Александровна. И Мила… И никого уже там не осталось. Умер и Александр Михайлович Панченко.
Прохоров помолчал.
— …Ну, Панченко мы помянули, как следует. Он это дело любил.
«…Да — видимо, эта добрая традиция не прервалась и после него», — подумалось мне…
— Ну, и поехал я в квартиру Лихачева, — продолжил Прохоров. — Должен был разбирать бумаги. Открываю — никого. А сколько раз я тут беседовал с Дмитрием Сергеевичем! Расстроился, прилег на кушетку — и уснул. Проснулся, глянул на часы: семь! Господи, думаю: семь утра! Ночь проспал! Сел, начал работать. И вдруг чувствую: что за черт — не светлеет, а наоборот, темнеет! Конец света? Потом только сообразил: не семь утра это было, а семь вечера! Но — когда неожиданно для меня стало вдруг все темнеть вокруг, какую-то особую тоску почувствовал, что Дмитрия Сергеевича нет… Он же меня спас! И против КГБ выступил, и против райкома. Отстоял! И каждому из нас что-то хорошее сделал!
— Но не все были благодарны ему, — вырвалось у меня.
— Вы имеете в виду Диму Буланина? Да — вдруг напал на Дмитрия Сергеевича! И когда! В девяносто лет! Но мы все на это реагировали соответственно. И когда после смерти Дмитрия Сергеевича директор Николай Николаевич Скатов пригласил нас в свой кабинет, где сидел Дима Буланин, и Скатов представил нам: «Ваш новый начальник сектора!» — мы все дружно сказали: «Нет!» И так и стояли! В результате завсектором стал Творогов.
— И где сейчас?..
— Дима Буланин? Крупный издатель. Ну — и кроме того, числится в нашем секторе. Ходит. Но держится особняком…
Повисла пауза. Что? Уже уходить? И больше я уже ничего о Дмитрии Сергеевиче не узнаю? Надо собраться с духом и выяснить главный вопрос — без него нельзя, наверно, закончить книгу. И выяснить надо именно сейчас — а то когда я еще попаду к большому ученому, ученику Дмитрия Сергеевича, притом — человеку свободно мыслящему…
— …Я прочитал некоторые труды Дмитрия Сергеевича… О «Слове о полку Игореве»… Датировка точная — XII век?
— Ну да! Православие пришло в X веке — и породило письменность, для прославления его. Ну — и примерно через два века стали записывать устные сказания и былины, которые раньше просто пели, за княжеским столом.
— …Еще меня потрясло его открытие про варягов. Что Рюрика и Рюриковичей не было, а их придумал летописец Нестор в «Повести временных лет», чтобы отодвинуть Россию от Византии, от слишком сильного ее влияния и подвинуть в сторону Скандинавии.
Прохоров откинулся назад, добродушно заулыбался.
— Ну, Дмитрий Сергеевич известный фантазер! Были, конечно, Рюриковичи. В древнерусском полно шведских слов. «Русь» — от них!.. Любил Дмитрий Сергеевич невероятные теории… так же, как и учитель его, академик Шахматов.
— …Академик?
— И еще какой! Так же, как и Дмитрий Сергеевич! Всегда будут его читать!., и с ним спорить.
Да — понял я, наконец, — история, филология — науки творческие, и никакой окончательной истины там нет. А иначе интерес к ним давно бы закончился. И всегда там идет не борьба истин — а борьба талантов. Где талант — там и истина. Поэтому и никогда не иссякнет интерес. Потому как таланты — неиссякаемы! Никто не сможет доказать достоверность ангелов, но на полотнах они прекрасны, а потому — подлинны. И в этот разряд попал и Дмитрий Сергеевич — миф его теперь всегда уже будет поддерживаться хорошими людьми, как незыблемый пример всего лучшего: он стоит с сияющим мечом на пороге и не впускает мрак.
Уже после смерти он спас Санкт-Петербург от трехсотметровой башни на Неве, которая бы превратила наш город в город-карлик. Имя его звучит повсюду, где нужно отстоять красоту. Недавно я был на очередном совещании, посвященном городу, и вдруг встрепенулся, услышав:
— …Когда делали ремонт в пушкинской квартире, Лихачев умолял: «Только не сбивайте штукатурку! Она впитала тот голос, и вдруг наука когда-то сможет его извлечь!»
…Очередная «Легенда о Лихачеве»? — подумал я. Возможно. Но человек, о котором сочиняют легенды, останется надолго!
— Но главное, — сказал Гелиан Михайлович, — формы он не терял до конца. Прекрасно руководил сектором. Ни разу не было, чтобы он чего-то забыл или чего-то не сделал, что обещал! Ну, и конечно — основное в его жизни: полторы тысячи научных трудов!
— Ну спасибо вам! — сказал я Гелиану Михайловичу. — Можно, я вам свою книгу подарю?!
— Тогда и я вам тоже! — сказал он. Взял книгу с полки, раскрыл… Надпись он разрисовывает также, как Лихачев. Нарисовал дату…
— Завтра как раз день рождения Дмитрия Сергеевича, 28 ноября!
— Будете отмечать?
— А как же! Сначала на автобусе всем сектором поедем на кладбище, потом где-нибудь пообедаем, помянем. Потом несколько дней — конференция. Как же! И новый фильм Зины Курбатовой посмотрим — «Частные хроники»…
Я открыл его книгу, перелистнул страницы. Вот фотография молодого Гели Прохорова (так сотрудники называли его) — в лодке, с аквалангом за спиной — стройного, с тонкой «пиратской» бородкой. Как там написано про этот снимок: в поисках подводной хазарской стены возле Дербента.
На прощание я вспомнил:
— Ведь это вы рассказывали, как Лихачев учил вас «летать»?
— Ну да! Он говорил: «Надо, как птица, быть! В зависимости от ветра, ставить крылья, то так, то этак, — Прохоров показал руками, — но всегда лететь своим путем!»
— Спасибо вам! До свидания!
— Ну — желаю вам хорошо написать!
Я вышел на улицу. Как почти всегда на Васильевском, ветер был сильный, и я, раскинув руки, попробовал полетать.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Родители Дмитрия Сергеевича — Сергей Михайлович Лихачев и Вера Семеновна Коняева после свадьбы. Начало 1900-х гг.
Братья Миша и Митя Лихачевы в Одессе. 1913 г.
Вера Семеновна Лихачева (вторая слева) с сестрой (справа) и сыновьями Мишей и Митей. Одесса. 1913 г.
Лихачевы и Новиковы. Сидят: крайние справа — Митя Лихачев и Сергей Михайлович, стоит справа — Вера Семеновна. Куоккала. 1916 г.
Миша, Юра и Митя Лихачевы. 1920-е гг.
Гимназия и реальное училище Карла Мая
Студент Ленинградского университета Дмитрий Лихачев. 1925 г.
Советская трудовая школа в Ленинграде (бывшая гимназия Л. Д. Лентовской), ныне школа им. Д. С. Лихачева
Заключенный Дмитрий Лихачев на свидании с родителями в Соловецком лагере. 1929 г.
Соловецкий монастырь, превращенный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН)
Свидание с родителями и братом Юрой (стоит). 1931 г.
Д. С. Лихачев, вернувшийся с Соловков в Ленинград. 1930-е гг.
Дочери-двойняшки Вера и Мила. 1937 г.
Дмитрий Сергеевич и Зинаида Александровна с дочками Верой и Милой. 1937 г.
Вера и Людмила Лихачевы. 1947 г.
Мила, Зинаида Александровна, Вера и Дмитрий Сергеевич. Начало 1950-х гг.
Пушкинский Дом в Санкт-Петербурге
Д. С. Лихачев на Пятом всесоюзном совещании по древнерусской литературе. 1962 г.
Почетный доктор Оксфордского университета. 1967 г.
В гостях у В. П. Адриановой-Перетц. Слева направо, верхний ряд: Д. С. Лихачев, Я. С. Лурье, О. В. Творогов; средний ряд: Н. Ф. Дробленкова, Л. А. Дмитриев, А. М. Панченко, О. А. Белоброва; нижний ряд: А. П. Евгеньева, В. П. Адрианова-Перетц, М. А. Салмина, Р. П. Дмитриева. 1967 г.
Зятья Сергей Зилитинкевич и Юрий Курбатов и дочери Вера и Мила. Комарово. 1960-е гг.
Вера Лихачева. 1965 г.
Юрий Курбатов с дочкой Зиной в коляске. 1966 г.
Счастливые дочь и внучка Лихачева Вера и Зина. 1967 г.
Людмила Лихачева с дочкой Верой и мужем Сергеем Зилитинкевичем. 1971 г.
Внучка Дмитрия Сергеевича Зина на даче. 1971 г.
Дмитрий Сергеевич с подросшими внучками Зиной и Верой. 1976 г.
Дмитрий Сергеевич и Зинаида Александровна Лихачевы. 1978 г.
Братья Георгий Сергеевич, Дмитрий Сергеевич и Михаил Сергеевич Лихачевы. Комарово. 1976 г.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 1990-е гг.
Д. С. Лихачев в Эдинбурге. Великобритания. 1967 г.
Поездка в Грузию. 1977 г.
Академик Лихачев: «Я люблю Болгарию — и древнюю, и современную, и будущую». София. 1979 г.
Вера Дмитриевна Лихачева в Болгарии. 1981 г.
Д. С. Лихачев, Д. А. Гранин (сидят на переднем плане) и А. М. Панченко (стоит) с коллегами. 1980-е гг.
Д. С. Лихачев и Г. М. Прохоров на выездных чтениях по древнерусской литературе в Петрозаводске. 1982 г.
Д. С. Лихачев в Санкт-Петербурге. 1980-е гг.
На родине протопопа Аввакума в селе Григорове Нижегородской области. 1987 г.
Д. С. Лихачев, Г. В. Мясников и Р. М. Горбачева на учредительной конференции Советского фонда культуры. Октябрь 1986 г.
Председатель правления Советского фонда культуры Д. С. Лихачев со своими заместителями О. И. Карпухиным и Г. В. Мясниковым. 1987 г.
Академик Д. С. Лихачев — народный депутат Верховного Совета СССР. 1989 г.
Дмитрий Сергеевич Лихачев и Даниил Александрович Гранин. 1990-е гг.
Д. С. Лихачев с коллекцией подаренных России гравюр. Оксфорд. 1991 г.
Здание Российского фонда культуры на Гоголевском бульваре в Москве
Дмитрий Сергеевич Лихачев — Дон Кихот российской культуры
Труды академика Лихачева приблизили гениальные творения древнерусской литературы широкому читателю
Выступление С. О. Шмидта на презентации книги Д. С. Лихачева «Русское искусство от древности до авангарда». За столом — академики В. Н. Кудрявцев, Ю. С. Осипов, Д. С. Лихачев. 1993 г.
С Евгением Водолазкиным на конференции «Монастырская культура. Восток и Запад». Июнь 1998 г.
С Борисом Николаевичем Ельциным на заседании в Русском музее. 1997 г.
В Соловецком музее, в создании которого Д. С. Лихачев принял активное участие
В кабинете в Пушкинском Доме
Дмитрий Сергеевич Лихачев в день 90-летия с внучкой Зиной Курбатовой в Пушкинском Доме 1996 г.
Дмитрий Сергеевич и Зинаида Александровна с папой Иоанном Павлом II
Б. Н. Ельцин и Д. С. Лихачев — первый кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного «За веру и верность Отечеству». Москва, Кремль. 1 октября 1998 г.
Д. С. Лихачев всю жизнь хранил свой лагерный овчинный полушубок. Конец 1990-х гг.
Внучка Лихачева Вера Сергеевна Тольц у «камня Лихачева». Соловки. 2005 г.
Могила академика Дмитрия Сергеевича Лихачева и его супруги Зинаиды Александровны на кладбище поселка Комарово
Дмитрий Сергеевич Лихачев — человек высокой нравственности
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. С. ЛИХАЧЕВА[16]
1906, 28 (15) ноября — в семье инженера-электрика Сергея Михайловича и Веры Семеновны Лихачевых в Санкт-Петербурге родился сын Дмитрий.
1914–1923 — ученик гимназии Императорского Человеколюбивого общества, ученик гимназии и реального училища К. И. Мая, ученик Советской трудовой школы (бывшей гимназии Л. Д. Лентовской). 1923 — поступление на романо-германскую и славяно-русскую секции отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского государственного университета.
1928 — окончание Ленинградского государственного университета.
8 февраля — арест за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук», осужден на пять лет за контрреволюционную деятельность.
Ноябрь — политзаключенный Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН).
1930 — публикация первой научной работы Д. С. Лихачева «Картежные игры уголовников» в журнале «Соловецкие острова».
1932 — досрочное освобождение из заключения. Возвращение в Ленинград. Литературный редактор Ленинградского отделения Госиздата.
1933 — корректор по иностранным языкам в ленинградской типографии «Коминтерн».
1934 — ученый корректор, литературный редактор, редактор Отдела общественных наук Ленинградского отделения издательства Академии наук СССР (по 1938).
1935 — женитьба на Зинаиде Александровне Макаровой.
1937 — рождение дочерей-двойняшек Веры и Людмилы.
1938 — младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР.
1941 — старший научный сотрудник Пушкинского Дома (по 1954).
11 июня — защита диссертации на степень кандидата филологических наук на тему «Новгородские летописные своды XII века». Осень — находился с семьей в блокадном Ленинграде.
1942, весна — издание первой книги «Оборона древнерусских городов», написанной совместно с М. А. Тихановой. Июнь — эвакуация вместе с семьей из блокадного Ленинграда в Казань.
1945 — издание книг «Национальное самосознание Древней Руси», «Новгород Великий», «Культура Руси эпохи образования Русского национального государства (Конец XIV — начало XVI века)».
1946 — награждение медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Доцент Ленинградского государственного университета (ЛГУ).
1947 — защита диссертации на степень доктора филологических наук на тему «Очерки по истории литературных форм летописания XI–XVI веков». Издание книги «Русские летописи и их культурно-историческое значение».
1948 — член ученого совета ИРЛИ АН СССР (по 1999).
1950 — издание в серии «Литературные памятники» «Слова о полку Игореве» с переводом и комментариями Д. С. Лихачева, «Повести временных лет» с переводом (совместно с Б. А. Романовым) и комментариями Д. С. Лихачева. Публикация статей «Исторический и политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“» и «Устные истоки художественной системы „Слова о полку Игореве“».
1951 — профессор ЛГУ. На историческом факультете читал спецкурсы «История русского летописания», «Палеография», «История культуры Древней Руси» и др. (по 1953).
1952 — присуждение Сталинской премии за коллективный научный труд «История культуры Древней Руси. Т. 2». Издание книги «Возникновение русской литературы». Член редколлегии серии издательства АН СССР «Литературные памятники» (по 1971).
1953 — избрание членом-корреспондентом Академии наук СССР. Публикация статей «Народное поэтическое творчество времени расцвета древнерусского раннефеодального государства (X–XI века)» и «Народное поэтическое творчество в годы феодальной раздробленности Руси — до татаро-монгольского нашествия (XII — начало XIII века)» в коллективном труде «Русское народное поэтическое творчество».
1954 — присуждение премии Президиума АН СССР за работу «Возникновение русской литературы». Руководство Сектором древнерусской литературы (с 1986 — отделом).
1955 — первое выступление в прессе в защиту памятников старины («Литературная газета», 15 января 1955 года). Член бюро Отделения литературы и языка АН СССР (по 1999).
1956 — член Союза писателей СССР (секция критики, по 1999). Член Археографической комиссии АН СССР.
1958 — первая поездка за рубеж, в Болгарию, для работы в рукописных хранилищах. Участие в работе Четвертого международного съезда славистов, доклад «Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России». Издание книги «Человек в литературе Древней Руси». Заместитель председателя постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов (по 1973).
1959 — член ученого совета Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева. Родилась внучка Вера, дочь Людмилы Дмитриевны.
1960 — участие в Первой международной конференции по поэтике (Польша). Член ученого совета Государственного Русского музея (по 1999). Член Советского (Российского) комитета славистов.
1961 — участие во Второй международной конференции по поэтике (Польша). Депутат Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (по 1962). Член редколлегии журнала «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка».
1962 — издание книг «Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков» и «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV века)».
1963 — избрание иностранным членом Болгарской академии наук. Участие в Пятом международном съезде славистов (София). Награждение болгарским орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени. Чтение курса лекций в Австрии. Член Художественного совета Второго творческого объединения Ленфильма (по 1969). Член редколлегии серии «Научно-популярная литература» издательства АН СССР.
1964 — присуждение степени почетного доктора наук Университета имени Николая Коперника в Торуне (Польша). Поездка в Венгрию для чтения докладов в Венгерской академии наук. Поездка в Югославию для участия в симпозиуме, посвященном изучению творчества Вука Караджича, и для работы в рукописных хранилищах.
1965 — поездка в Польшу для чтения лекций и докладов. Поездка в Чехословакию на заседание Эдиционно-текстологической комиссии. Поездка в Данию на симпозиум «Юг — Север», организованный ЮНЕСКО. Член организационного комитета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (по 1966). Член Комиссии по охране памятников культуры при Союзе художников РСФСР (по 1975).
1966 — награждение орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской филологической науки и в связи с шестидесятилетием со дня рождения. Поездка в Болгарию для научной работы. Поездка в Германию на заседание Эдиционно-текстологической комиссии. Родилась внучка Зина, дочь Веры Дмитриевны.
1967 — избрание почетным доктором Оксфордского университета (Великобритания). Поездка в Великобританию для чтения лекций. Участие в Генеральной ассамблее и научном симпозиуме Совета по истории и философии ЮНЕСКО (Румыния). Издание книги «Поэтика древнерусской литературы». Член ученого совета Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР (по 1986). Член совета Ленинградского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Член центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
1968 — избрание членом-корреспондентом Австрийской академии наук. Участие в Четвертом международном съезде славистов (Прага).
1969 — присуждение Государственной премии СССР за научный труд «Поэтика древнерусской литературы». Участие в конференции по эпической поэзии (Италия). Избрание членом Научного совета по комплексной проблеме «История мировой культуры» АН СССР.
1970 — избрание действительным членом Академии наук СССР, избрание членом бюро Научного совета по комплексной проблеме «История мировой культуры» АН СССР.
1971 — избрание иностранным членом Сербской академии наук и искусств. Присуждение степени почетного доктора наук Эдинбургского университета (Великобритания). Издание книги «Художественное наследие Древней Руси и современность» (совместно с В. Д. Лихачевой). Смерть матери Веры Семеновны Лихачевой. Член редколлегии «Краткой литературной энциклопедии» (по 1978). Председатель редколлегии серии «Литературные памятники» издательства АН СССР (по 1999).
1972 — руководитель археографической группы Ленинградского отделения Архива АН СССР (по 1999).
1973 — избрание иностранным членом Венгерской академии наук. Участие в Седьмом международном съезде славистов (Варшава), доклад «Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы». Издание книги «Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили». Член ученого совета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (по 1976).
1974 — член бюро Археографической комиссии АН СССР (по 1999). Председатель редколлегии ежегодника «Памятники культуры: Новые открытия». Председатель Научного совета по комплексной проблеме «История мировой культуры» АН СССР.
1975 — награждение золотой медалью ВДНХ за монографию «Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили». Выступление против исключения А. Д. Сахарова из Академии наук СССР. Участие в симпозиуме Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы по сравнительному литературоведению (Болгария). Издание книги «Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси». Член редколлегии издания Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР «Вспомогательные исторические дисциплины» (по 1999).
1976 — участие в конференции «Тырновская школа. Ученики и последователи Ефимия Тырновского» (Болгария). Избрание членом-корреспондентом Британской академии. Издание книги «„Смеховой мир“ Древней Руси» (совместно с А. М. Панченко).
1977 — награждение вторым орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени. Награждение президиумом Болгарской академии наук Кирилло-Мефодиевской премией.
1978 — участие в международном симпозиуме «Тырновская художественная школа и славяно-византийское искусство XII–XV вв.» (Болгария), чтение лекций в Институте болгарской литературы БАН и Центре болгаристики. Поездка в ГДР на заседание Эдиционно-текстологической комиссии. Издание книги «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени». Инициатор, редактор (совм. с Л. А. Дмитриевым) и автор вступительных статей к серии «Памятники литературы Древней Руси» (12 томов, 1978–1989) издательства «Художественная литература» (издание удостоено Государственной премии в 1993).
1979 — лауреат Международной премии имени братьев Кирилла и Мефодия за исключительные заслуги в развитии староболгаристики и славистики, за изучение и популяризацию дела братьев Кирилла и Мефодия. Публикация статьи «Экология культуры».
1980 — поездка в Болгарию для чтения лекций в Софийском университете.
1981 — присуждение Международной премии имени Евфимия Тырновского, участие в конференции, посвященной 1300-летию Болгарского государства (София). Издание книг «Литература — реальность — литература» и «Заметки о русском». Член редакционного совета альманаха Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Памятники Отечества» (по 1998). Родился правнук Сергей, сын внучки Веры Тольц.
11 сентября — погибла дочь Вера, сбитая машиной.
1982 — член президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Избрание почетным доктором Университета Бордо (Франция). Чтение лекций в Болгарии. Издание книги «Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей».
1983 — награждение Дипломом почета ВДНХ за создание пособия для учителей «Слово о полку Игореве». Избрание почетным доктором Цюрихского университета (Швейцария). Член оргкомитета по подготовке и проведению Девятого международного съезда славистов (Киев). Издание книги для учащихся «Земля родная». Председатель Пушкинской комиссии АН СССР (по 1999).
1984 — имя Д. С. Лихачева присвоено малой планете № 2877, открытой советскими астрономами: 2877 Likhachev (1969 TR2). Член Ленинградского научного центра АН СССР (по 1999).
1985 — присуждение премии имени В. Г. Белинского за книгу «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени». Присуждение степени почетного доктора наук Будапештского университета имени Лоранда Этвеша. Издание книг «Прошлое — будущему: Статьи и очерки» и «Письма о добром и прекрасном».
1986 — присвоение в связи с восьмидесятилетием звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждение орденом Георгия Димитрова, высшей наградой Народной Республики Болгария. Избрание почетным председателем Международного общества по изучению творчества Ф. М. Достоевского (IDS). Участие в советско-американо-итальянском симпозиуме «Литература: традиция и ценности» (Италия). Участие в конференции, посвященной «Слову о полку Игореве» (Польша). Издание книги «Исследования по древнерусской литературе». Председатель правления Советского фонда культуры (с 1991 по 1993 — Российского фонда культуры).
1987 — награждение дипломом за фильм «Поэзия садов» (Лентелефильм, 1985). Избрание членом Комиссии по литературному наследию Б. Л. Пастернака. Избрание иностранным членом Национальной академии Деи Линчеи (Италия). Участие в международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» (Москва). Поездка во Францию на сессию Постоянной смешанной советско-французской комиссии по культурным и научным связям. Поездка в Великобританию по приглашению Британской академии и Университета Глазго для чтения лекций и консультаций по истории культуры. Поездка в Италию на заседание неформальной инициативной группы по организации фонда «За выживание человечества в ядерной войне». Издание книг «Великий путь: Становление русской литературы XI–XVII веков», «Избранных работ» в трех томах. Член редколлегии журнала «Новый мир» (по 1996).
1988 — участие в работе международной встречи «Международный фонд за выживание и развитие человечества». Избрание почетным доктором Софийского университета (Болгария), членом-корреспондентом Геттингенской академии наук (ФРГ). Поездка в Финляндию на открытие выставки «Время перемен, 1905–1930 (Русский авангард)». Поездка в Данию на открытие выставки «Русское и советское искусство из личных собраний. 1905–1930 гг.». Поездка в Великобританию для презентации первого номера журнала «Наше наследие». Родилась правнучка Вера, дочь внучки Зины Курбатовой.
1989 — присуждение Европейской (1-й) премии за культурную деятельность, международной литературно-журналистской премии г. Модены (Италия) за вклад в развитие и распространение культуры. Вместе с другими деятелями культуры выступил за возвращение Русской православной церкви Соловецкого и Валаамского монастырей. Участие в совещании министров культуры европейских стран во Франции. Член Советского (позднее Российского) отделения Пен-клуба. Издание книг «Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет» и «О филологии». Народный депутат Верховного Совета СССР от Советского фонда культуры (по 1991).
1990 — член Международного комитета по возрождению Александрийской библиотеки. Почетный председатель Всесоюзного (с 1991 — Российского) Пушкинского общества. Член международной редколлегии, созданной для издания «Полного собрания сочинений А. С. Пушкина» на английском языке. Лауреат Международной премии города Фьюджи (Италия).
1991 — присуждение премии А. П. Карпинского (Гамбург) за исследование и публикацию памятников русской литературы и культуры. Присуждение степени почетного доктора наук Карлова университета (Прага). Избрание почетным членом Сербской Матицы (СФРЮ). Избрание почетным членом Немецкого Пушкинского общества. Издание книг «Я вспоминаю», «Книга беспокойств: Воспоминания, статьи, беседы», «Раздумья».
1992 — избрание иностранным членом Философского научного общества США, почетным доктором Сиенского университета (Италия). Участие в Международной благотворительной программе «Новые имена». Председатель общественного юбилейного Сергиевского комитета по подготовке к празднованию 600-летия преставления преподобного Сергия Радонежского. Издание книги «Русское искусство от древности до авангарда».
1993 — награждение Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова за выдающиеся достижения в области гуманитарных наук. Присуждение Государственной премии РФ за серию «Памятники литературы Древней Руси». Избрание иностранным членом Американской академии наук и искусств. Присвоено звание «Первый Почетный гражданин» Санкт-Петербурга. Избрание почетным доктором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
1994 — председатель Государственной юбилейной Пушкинской комиссии (по празднованию 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина). Издание книги «Великая Русь: История и художественная культура X–XVII веков» (совместно с. Г. К. Вагнером, Г. И. Вздорновым, Р. Г. Скрынниковым).
1995 — в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов представил проект «Декларации прав культуры». Награждение орденом «Мадарски конник» 1-й степени. Издание книги «Воспоминания».
1996 — награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за выдающиеся заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие русской культуры, болгарским орденом «Стара Планина». Издание книг «Очерки по философии художественного творчества» и «Без доказательств».
1997— лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства. Присуждение премии Международного литфонда «За честь и достоинство таланта». Награждение орденом Святого Константина Великого (рыцарский орден). Издание книги «Об интеллигенции». Родилась правнучка Анна, дочь внучки Веры Тольц. Редактор (совместно с Л. А. Дмитриевым, А. А. Алексеевым, Н. В. Понырко) и автор вступительных статей монументальной серии «Библиотека литературы Древней Руси» издательства «Наука».
1998 — награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного «За веру и верность Отечеству» за вклад в развитие отечественной культуры (первый кавалер). Награждение Международным серебряным памятным знаком «Ласточка мира» (Италия). Издание книги «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени: Работы последних лет».
1999 — один из учредителей «Конгресса петербургской интеллигенции» (наряду с Ж. Алферовым, Д. Граниным, А. Запесоцким, К. Лавровым, А. Петровым, М. Пиотровским). Издание книг «Раздумья о России», «Новгородский альбом».
30 сентября — Дмитрий Сергеевич Лихачев скончался в Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище в Комарове.
ЛИТЕРАТУРА
Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии / Сост. Е. Г. Водолазкин. СПб.: Logos, 2006.
Запесоцкий А. С. Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007.
К истории спора о подлинности «Слова о полку Игореве» (Из переписки академика Д. С. Лихачева) / Публикация Л. В. Соколовой // РЛ. 1994. № 2–3.
Каталог выставки «Академик Д. С. Лихачев: диалог с XX веком». СПб.: ГИМ СПб, 2006.
Лихачев Д. С. Избранное: Воспоминания / Ред. Т. Шмакова. СПб.: Logos, 2000.
Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л.: Художественная литература, 1987.
Наше наследие. 2006. № 79–80 (Юбилейный номер «100 лет со дня рождения Д. С. Лихачева»).
Рукописное наследие Древней Руси: По материалам Пушкинского Дома. Л.: Наука, 1972.
Основные труды и сборники статей академика Д. С. Лихачева
Без доказательств/РАН. Институт русской литературы. СПб.: БЛИЦ, 1996.
Введение к чтению памятников древнерусской литературы / Отв. ред. С. О. Шмидт; сост. А. В. Топычканов. М.: Русский путь, 2004.
Великая Русь: История и художественная культура X–XVII веков. М.: Искусство, 1994. — Совместно с Г. К. Вагнером, Г. И. Вздорновым, Р. Г. Скрынниковым.
Великий путь: Становление русской литературы XI–XVII веков. М.: Современник, 1987.
Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М.: Современник, 1975. Тоже: 1980, 1987, 1997.
Военное искусство Древней Руси // Звезда. 1943. № 1.
Возникновение русской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952.
Воспоминания. Письма / Сост. А. М. Крюкова и С. С. Лесневский; вступ. ст. Л. А. Озерова; коммент. А. М. Крюковой. М.: Советский писатель, 1990.
Воспоминания. СПб.: Logos, 1995. То же: 1997, 1999, 2001.
Воспоминания: Избранное / Ред. Т. Шмакова. СПб.: Logos, 1997.
Декларация прав культуры // Наука, культура, образование: На рубеже XXI века: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (4–6 октября) / Министерство культуры РФ, Министерство образования РФ, Российская академия образования, Российский творческий союз работников культуры. СПб., 1995.
Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем. М.: Советская Россия, 1988. — Совместно с Н. Г. Самвеляном.
Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л.: Советский писатель, 1989.
Заметки о русском // Новый мир. 1980. № 3. То же: М.: Советская Россия, 1981, 1984, 1987.
Заметки об истоках искусства // Контекст: 1985: Литературно-теоретические исследования. М., 1986.
Земля родная: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1983.
Иван Грозный — писатель// Послания Ивана Грозного/ Подгот. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье; пер. и коммент. Я. С. Лурье; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951.
Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Сост. Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев. М., 1969. Библиотека всемирной литературы. Сер. первая. Т. 15.
Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности // «Слово о полку Игореве» — памятник XII века: Сборник статей. М.; Л., 1962.
Исследования по древнерусской литературе / Отв. ред. О. В. Творогов. Л.: Наука, 1986.
Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // Слово о полку Игореве: Сборник исслед. и ст. / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950.
История русской литературы XI–XVII веков: Учебник для педагогических институтов. М.: Просвещение, 1980. — Совместно с другими авторами.
Как мы остались живы // Нева. 1991. № 1.
Книга беспокойств: Воспоминания, статьи, беседы / Сост. Г. А. Дубровская. М.: Новости, 1991.
Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.
Культура Руси эпохи образования Русского национального государства (Конец XIV — начало XVI века). Л.: Госполитиздат, 1946.
Культура русского народа X–XVII веков. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1961.
Литература — реальность — литература. Л.: Советский писатель, 1981. Тоже: 1984, 1987.
Литература [XI–XIII века] // История культуры Древней Руси. Т. 2. Домонгольский период. Ч. 2. Общественный строй и духовная культура / Под ред. H. Н. Воронина и М. К. Каргера. М.; Л., 1951.
Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев; под ред. Д. С. Лихачева. СПб.: Академический проект, 1997.
Национальное самосознание Древней Руси: Очерки из области русской литературы XI–XVII веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945.
Небесная линия города на Неве: Воспоминания, статьи. СПб.: Серебряные ряды, 2000.
Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода XI–XVII вв. Л.: Госполитиздат, 1945. То же: М.: Советская Россия, 1959.
Новгородский альбом. СПб.: БЛИЦ, 1999.
О филологии / Предисл. Л. А. Дмитриева. М.: Высшая школа, 1989.
Об интеллигенции / РАН. Институт русской литературы. Приложение к альманаху «Кануны». Вып. 2. СПб., 1997.
Оборона древнерусских городов. Л.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1942. — Совместно с М. А. Тихановой.
Очерки по философии художественного творчества / РАН. Институт русской литературы. СПб.: БЛИЦ, 1996. То же. 1999.
Память истории священна. М.: Правда, 1986.
Письма о добром и прекрасном / Сост., общ. ред. Г. А. Дубровской. М.: Детская литература, 1985. Тоже: 1988, 1989, 1990, 1994, 1999.
Письма о добром. СПб.: Нотабене, 1994.
Повесть временных лет [Подгот. текста, пер., ст. и коммент]. М.; Л., 1950. Ч. 1–2. Тоже: СПб.: Наука, 1996.
Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982. Тоже: 1991, 1998.
Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967. Тоже: 1971,1979, 1987.
Прошлое — будущему: Статьи и очерки. Л.: Наука, 1985.
Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. Тоже: 1987, 1998.
Раздумья / Сост. и общ. ред. Г. А. Дубровской. М.: Детская литература, 1991.
Раздумья о России: Сборник. СПб.: Logos, 1999.
Русская культура: Сборник. М.: Искусство, 2000.
Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. То же: 1966, 1986.
Русское искусство от древности до авангарда. М.: Искусство, 1992.
Сады Лицея // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979.
Своеобразие древнерусской литературы // Художественное наследие Древней Руси и современность. Л.: Наука, 1971. — Совместно с В. Д. Лихачевой.
Святая Русь // Жизнеописания достопамятных людей земли Русской. X–XX века. М.: Московский рабочий, 1992.
Слово о полку Игореве [Вступ. ст., подгот. текста, пер. с древнерус., примеч.]. Л.: Советский писатель, 1949. То же: 1953.
Слово о полку Игореве — героический пролог русской литературы. М., Л.: Художественная литература, 1961.
Слово о полку Игореве: Исторически-литературный очерк. М.: Просвещение, 1976.
Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова [Пер. с древнерус.] // Слово о полку Игореве в переводах А. Мусина-Пушкина, В. Жуковского, А. Майкова, И. Новикова и др. М.: Современник, 1975.— Совместно с Л. Дмитриевым и О. Твороговым.
«Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Художественная литература, 1978. Тоже: 1985.
Смеховой мир Древней Руси. Л.: Наука, 1976. — Совместно с А. М. Панченко. Д. С. Лихачеву принадлежит статья «Смех как „мировоззрение“».
Соловки в истории русской культуры // Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М., 1980.
Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. То же: 1983, 2001 (при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва).
Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве» // Слово о полку Игореве: Сборник исслед. и ст. / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М., Л., 1950.
Художественное наследие Древней Руси и современность. Л.: Наука, 1971.
Человек в литературе Древней Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Тоже: 1970, 1987.
Через хаос к гармонии // Русская литература. СПб., 1996. № 1.
Черты первобытного примитивизма воровской речи // Язык и мышление. М.; Л., 1935. Т. 3–4.
Шестоднев Иоанна Экзарха и «Поучение» Владимира Мономаха // Вопросы теории и истории языка. Л., 1963.
Школа на Васильевском: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1990. — Совместно с Н. В. Благово и Е. Б. Белодубровским.
Экология культуры // Москва. 1979. № 7.
Я вспоминаю / Предисл. Н. Г. Самвеляна. М.: Прогресс, 1991.
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор благодарит за помощь в написании книги В. Е. Багно, Е. Г. Водолазкина, Д. А. Гранина, А. В. Лаврова, З. Ю. Курбатову, Ю. И. Курбатова, Г. М. Прохорова, А. И. Рубашкина, И. П. Смирнова, И. А. Снеговую, Л. В. Соколову, Е. А. Цветкову и выражает признательность Зинаиде Юрьевне Курбатовой за предоставленные фотоматериалы.
Примечания
1
См.: Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии / Сост. Е. Г. Водолазкин. СПб., 2006.
(обратно)2
См.: Лихачев Д. С. Заметки об истоках искусства // Контекст: 1985. М., 1986.
(обратно)3
См.: Лихачев Д. С. Два типа границ между культурами // Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996.
(обратно)4
См.: Там же.
(обратно)5
См.: Лихачев Д. С. Сочинения князя Владимира Мономаха // Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.
(обратно)6
См.: Там же.
(обратно)7
См.: Лихачев Д. С. Повесть о Петре и Февронии Муромских // Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.
(обратно)8
См.: Лихачев Д. С. Сочинения протопопа Аввакума // Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.
(обратно)9
См.: Лихачев Д. С. Сочинения царя Ивана Васильевича Грозного // Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.
(обратно)10
См.: Там же.
(обратно)11
См.: Лихачев Д. С. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана Грозного) // Рукописное наследие Древней Руси: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1972.
(обратно)12
См.: Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. М.; Л., 1962.
(обратно)13
Российская академия архитектуры и строительных наук.
(обратно)14
Международная академия архитектуры в Москве.
(обратно)15
Османский термин миллет-баши соответствует греческому понятию этнарх (etnarco). что означает главу (baschi) группы народа (millet).
(обратно)16
Составлены по изд.: Запесоцкий А. С. Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог. СПб., 2007.
(обратно)


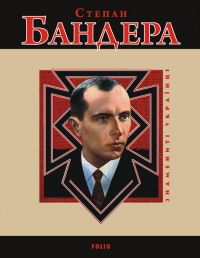
Комментарии к книге «Дмитрий Лихачев », Валерий Георгиевич Попов
Всего 0 комментариев