КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1 Мой город
Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Таким, видно, уродом я появился на свет, и возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько (столь между собой завраждовавших) родин — и Франция, и Неметчина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России, причем надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты с большей или меньшей примесью чего-то скорее французского или итальянского в характере. Факт во всяком случае остается: я Россию как таковую, Россию в целом знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне, и это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия.
Напротив, Петербург я люблю. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется местным патриотизмом. Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем все; позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. Я исполнился к Петербургу тем чувством, которое, вероятно, жило в римлянах к своему городу, которое у природного француза к Парижу, у англичанина к Лондону, у истинно русского человека к Москве; которого, пожалуй, нет у немцев. Немцы, те действительно патриоты всей своей страны в целом: Deutschland über Alles… А во мне скорее жил (да и теперь живет) такой императив — Петербург превыше всего.
Я отлично знаю, что это вовсе не то чувство, которое полагается в себе питать и которым можно гордиться. Тем не менее, это чувство мое имеет абсолютное утверждение. Скажу тут же — из всех ошибок «старого» режима в России мне представляется наименее простительной его измена Петербургу. Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу, однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества. Внешне и символически неприязнь эта выразилась, когда он дал свое согласие на изменение самого имени, которым прозорливый вождь России нарек свое самое удивительное творение. Я даже склонен считать, что все наши беды произошли как бы в наказание за такую измену, за то, что измельчавшие потомки вздумали пренебречь завещанием Петра, что, ничего не поняв, они сочли, будто есть нечто унизительное и непристойное для русской столицы в данном Петром названии. «Петроград» означало нечто, что во всяком случае было бы не угодно Петру, видевшему в своей столице большее, чем какое-то монументальное поминание своей личности. Петроград, не говоря уже о привкусе чуждой Петру «славянщины», означает нечто сравнительно узкое и замкнутое, тогда как Петербург, или точнее Санкт-Петербург, означает город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества — это означает «второй» или «третий» Рим. Самая несуразность соединения сокращенного латинского sanctus, что значит святой, и слов германского звучания «Петер» и «Бург» как бы символизирует и подчеркивает европейскую, вернее, космополитическую природу Петербурга.
Все эти мысли, осознанные давным-давно, достигли во мне крайней напряженности именно в тот момент, когда Санкт-Петербург был переименован в ознаменование чудовищной международной, но главным образом европейской, распри (европейцы против европейцев — «своя своих не познаше»). Тогда я с особой силой ощутил и то, что во мне живет культ Петербурга. Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно «любить» какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды. «Открывал» я Петербург в течение многих лет, в сочетании с собственными настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений своего сердца.
О, как я обожал петербургскую весну с ее резким потеплением и особенно с ее ускоренным посветлением. Что за ликование и что за щемящая тоска в петербургской весне… И опять-таки я ощущал как нечто исключительно чудесное и патетическое, когда, после сравнительно короткого лета, наступала «театрально-эффектная» осень, а затем «оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза». Зима в Петербурге именно катила в глаза. В Петербурге не только наступали холода и шел снег, но накатывалось нечто хмурое, грозно мертвящее, страшное. И в том, что все эти ужасы все же вполне преодолевались, что люди оказывались хитрее стихий, в этом было нечто бодрящее. Именно в зимнюю мертвящую пору петербуржцы предавались с особым рвением забаве и веселью. На зимние месяцы приходился петербургский «сезон» — играли театры, давались балы, праздновались главные праздники — Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились, как нигде, обращать ее в нечто приятное и великолепное. Такой представлялась мне петербургская зима и в детстве, и это несмотря на то, что зима неизменно влачила за собой всякие специфические детские болезни. Позже наступление ее означало еще и начало многострадального «учебного года»!
Когда я сижу у открытого настежь окна, выходящего на милую (почти родную) Сену, мне в сегодняшний жаркий и светлый июньский вечер 1934 года представляется особенно соблазнительным перенестись на машине времени в те далекие времена, когда я жил в своем родном городе. Попытаюсь восстановить в памяти то, чем был на берегах Невы вечер в такую же июньскую пору, чем вообще был весной весь мой милый, милый город. Повторяю, это была пора, когда я особенно любил Петербург. Именно в мягкие июньские вечера, совпадающие с особенно ликующими моментами моих личных переживаний, я стал сознавать и свою влюбленность в родной город, в самое его лицо и в его персону. Красив и поэтичен Петербург бывал в разные времена года, но действительно, весна была ему особенно к лицу. Ранней весной, когда скалывали по улицам и площадям кору заледенелого снега, когда между этими пластами по открывшейся мостовой неслись откуда-то взявшиеся блиставшие на солнце ручьи, когда синие тени с резкой отчетливостью вылепляли кубы домов и круглоту колонн, когда в освобожденные от двойных рам и открытые настежь окна вливался в затхлую квартиру «новый» воздух, когда лед на Неве набухал, становился серым и, наконец, вздымался, ломался и сдвигался с места, чтобы поплыть к взморью, — петербургская весна была уже изумительна в стихийной выразительности своего пробуждения. Не могло быть сомнения, что одно время года сменяло другое. Но когда, наконец, новый порядок бывал окончательно установлен, наступало поистине благословенное время. Суровый в течение месяцев Петербург становился ласковым, пленительным, милым. Деревья в садах покрывались нежнейшей листвой, цвела дурманящая сирень и сладко-пряная черемуха, стройные громады дворцов отражались в свободно текущих водах. Тогда же начинались (в ожидании переезда на дачу) паломничества петербуржцев, соскучившихся по природе, на Острова, и начиналось гуляние нарядной толпы по гранитным панелям набережной — от Адмиралтейства до Летнего сада. Самый Летний сад заполнялся не одними няньками с детьми да старичками и старушками, совершавшими предписанную гигиеническую прогулку, но и парочками влюбленных.
Из всяких воспоминаний о петербургской весне мне особенно запомнились какие-то «плавания» в тихие белые ночи по шири нашей красавицы-реки. Совершались эти поездки то на суетливо попыхивавшем пароходике, то на бесшумно скользившем ялике, едва колыхавшем водную гладь. А плыл я, бывало, таким образом или с дальней Охты, с Кушелевки от сестры, или с Крестовского, или Елагина, где я только что гулял с невестой, или еще из Зоологического сада, куда было принято ездить поглядеть на спектакли в двух стоявших среди зверинца театрах. Воспоминания о вечерах, проведенных в «Зоологии», не принадлежат к самым поэтичным в моем прошлом. Слишком все тамошнее было доморощенно-провинциальным, слишком много распивалось пива, слишком жалкое впечатление производили безнадежно хиреющие звери в их тесных и дурно пахнущих клетках. Но с момента, когда, покинув ворота «Зоологии», я садился в ярко раскрашенную лодку перевозчика и когда после нескольких ударов весел ялик выезжал на тот простор, что расстилается между многоколонной Биржей, гранитными стенами крепости и роскошными массами дворцов, то всякие тривиальные впечатления сглаживались и начиналась та фантасмагория, которая по своему возвышенному благородству не имела ничего себе равного.
Белые ночи — сколько о них уже сказано и писано. Как ненавидели их те, кто не могли к ним привыкнуть, как страстно любили другие. Но нигде белые ночи так не властвовали над умами, не получали, я бы сказал, такого содержания, такой насыщенности поэзией, как именно в Петербурге, как именно на водах Невы. Я думаю, что сам Петр, основавший свой Петербург в мае, был зачарован какой-нибудь такой белой ночью, неизвестной средней полосе России.
Весла равномерно и глухо хлопают по воде, едва журчит струя за кормой, и освещенный зарей гребец то наклоняется вперед, то отклонится назад, босые его ноги крепко уперлись в перекладину на дне лодки, через каждые три удара он оборачивается, чтобы проверить направление, а иногда тряхнет головой, чтобы отбросить от глаз косму непокорных волос. Насторожившаяся тишина стоит вокруг, всякий разговор давно замолк. И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду, начинают литься точно полые, «стеклянные», «загробные» звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости, это они возвещают в двух молитвенных напевах, что наступила полночь… Играли куранты «Коль славен наш господь» и сейчас же за тем «Боже, царя храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как темп был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно… Обе столь знакомые мелодии превращались в нечто новое, и это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы.
Говорят, узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы, длительное это капанье звуков в ночной тиши доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали, как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхъестественный и прямо-таки потусторонний характер уже потому, что произносила его высокая башня со своим длинным-длинным золотым шпилем, который в сгущающемся мраке продолжал светиться точно вынутый из ножен и устремленный к небу меч. На самом конце этого меча, совсем под небом, сверкала золотая точка. На таком расстоянии невозможно было определить, что эта фигура изображает. При поворотах она меняла свой облик; то казалось, что это ангел снизился, чтобы передохнуть, на самое острие колокольни, а то, что это парус какого-то плывшего в поднебесье сказочного корабля…
Увы, весенние и летние недели протекали быстро, и кончались белые ночи. Наглядно этот поворот от светлой поры к потемнению (а дальше к зимней тьме и стуже) выражался тогда, когда на улицах Петербурга снова зажигали фонари, что происходило около 20 июля (старого стиля). И сразу тогда чувствовалось, что скоро лету конец. Еще накануне я бродил в часы, близкие к полуночи, по серому, лишенному красок городу, а тут вдруг появлялся со своей лесенкой фонарщик, и один за другим фонарики вспыхивали своими газовыми язычками. Фантасмагория исчезала, все возвращалось к обыденности. Накануне даже городовые на углах казались в своих белых кителях какими-то бесплотными существами, а теперь весь порядок жизни, и заодно блюстители оного, — все восстанавливались в своей прозаичности. Да и расстояния как-то сокращались, улица съеживалась. Вчера даже собственное обиталище казалось каким-то привиденческим, я в него входил не без некоторой опаски и не был бы удивлен, если бы из темных туманных углов парадной лестницы вдруг выступили бесплотные призраки, а теперь при свете зажженного газа ничего, кроме давно известного, меня уже не встречало. От всего этого становилось чуть скучно. Это возвращение к реальности ощущалось как некоторая деградация.
К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу — как влюбленный к предмету своего обожания. Но здесь я хотел бы набросать еще несколько картин «моего» города, которые рисуют, так сказать, самую его «личность». Теперь, оглядываясь назад и лишенный всякой возможности туда вернуться, я любое изображение Петербурга представляю милым и любезным сердцу. Я трепещу, когда встречаю у букиниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга. К наименее любимому, например, относилась Благовещенская церковь с ее неудачной претензией на древнерусское зодчество, с ее золочеными пирамидальными главами, с ее гладкими стенами, выкрашенными в скучнейший бледно-коричневый цвет. Но теперь мне больно, что, как слышно, эту церковь снесли. Уже очень было мне привычно встречать ее на своем пути в гимназию и обратно, и сколько сотен раз я со своей невестой обходили ее вокруг, совершая бесконечные наши вечерние прогулки… В двух шагах от того же Благовещения жили мои друзья: Нувель, Дягилев, Философов. Да и сам я со своей семьей впоследствии, в течение семи лет, жил в том же околотке — на Адмиралтейском канале.
В своем месте и в связи с тем культом Чайковского и в частности «Пиковой дамы», которому я предавался в начале 90-х годов, я еще коснусь разных петербургских настроений. Мне придется рассказать о Летнем саде, о ранней петербургской грозе, о Зимней Канавке, обо всем том, что тогда, благодаря музыке, стало еще сильнее «хватать за душу». Но вот музыку «Пиковой дамы» с ее чудодейственным «вызыванием теней» я как бы предчувствовал еще с самых детских лет, а когда она появилась, то принял ее за нечто издавна жданное. Вообще во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность. Пожалуй, это идет от воды (по количеству рек и каналов Петербург может соперничать с Венецией и Амстердамом), и музыкальность эта как бы заключается в самой влажности атмосферы. Однако что там доискиваться и выяснять. У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией, у этого «казарменного», «безличного», «ничего в себе национального» не имеющего города, есть своя душа, а ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки.
Остановлюсь здесь на тех петербургских пейзажах, которые были ближе к нашему дому, некоторые из них я мог даже изучать, не покидая родительской квартиры, в дни, когда болезнь приковывала меня к дому.
Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много, но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь. Она была одним из самых роскошных и самых внушительных среди петербургских храмов. В раннем детстве, однако, мое отношение к ней было какое-то смешанное, складывалось оно из любования, почитания и из жути. Я не мог отделаться от впечатления, что вся эта группа из пяти вышек составляла какую-то семью богатырей, чела коих были украшены шлемами, и что старший из них, стоявший в середине, и есть «сам боженька», что на его лице написано скорбно-строгое выражение. Когда я себя чувствовал в чем-либо виноватым, то именно этот боженька, казалось, глядел на меня с особой укоризной, а то и с гневом. Нижняя часть Николы Морского была несравненно приветливее. В многоугольном плане его стен, в кудрявых капителях, в бесчисленных херувимах, которые барахтаются в пухлых облаках над окнами и дверями, в узорчатых, частью позолоченных балконах, в лепном сиянии, окружающем среднее овальное окно, — выражено нечто радостное, все приглашает не столько к посту и покаянию, сколько к хвале Господа, к празднованию его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать и, вероятно, от этого «интимного» знакомства с чудесным произведением XVIII века родилось мое восторженное отношение к искусству барокко.
Очень уважал этот шедевр и мой папа, от которого я и узнал замысловатое, но хорошо усвоенное имя строителя Никольского собора — Саввы Чевакинского. Благодаря примеру моего же отца, который, будучи ревностным католиком, все же относился с величайшим благоговением и к православному вероисповеданию, я мог относиться к Николе Морскому как к нашей церкви, — и это тем более, что папа носил то же имя, как и великий святитель, именем которого наречен собор, и что храмовой праздник Николы, 6 декабря, совпадал с празднованием папиных именин. Самый адрес нашего обиталища тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме, — звучал так: «Дом Бенуа, что у Николы Морского».
Однако церковь церковью, а светские соблазны соблазнами, и как раз два соблазнительнейших места находились тут же по соседству, всего в нескольких шагах от нашего дома. То были театры — два главных театра государства Российского: Большой и Мариинский. И к обоим-то семья наша имела весьма близкое отношение. Большой театр, когда-то построенный Томоном, но сгоревший в 1836 году, был восстановлен «папой моей мамы», а второй и целиком построен тем же моим дедом в сотрудничестве с моим отцом. Кстати, внутри Мариинского театра имелось убедительное доказательство его семейной к нам близости. В одном из писаных медальонов, которые были вставлены в своды фойе, вырисовывался профиль носатого господина с баками и в очень высоких воротничках — и это был мой прадедушка, когда-то знаменитый композитор Катарино Кавос.
В смысле внешней архитектуры я предпочитал Большой театр Мариинскому. Уж очень внушителен был его портик с толстенными ионическими колоннами, под который подъезжали кареты, высаживавшие публику у дверей в театр. Остальная грандиозная масса этого здания представлялась мне каким-то вместилищем таинственных чудес. Характеру чудесного способствовал ряд круглых окон, тянувшихся во всю длину крыши, и даже та уродливая толстая несуразная железная труба с капюшоном поверх, которая как-то асимметрично сбоку возвышалась над зданием, обслуживая нужды вентиляции. У Мариинского театра вид был более скромный и менее внушительный, однако до того момента, когда его изуродовали посредством пристроек и надстроек, и он являл изящное и благородное целое. Система его плоских арок и пилястров и выдающийся над ними полукруг, соответствующий круглоте зрительного зала, производили на меня впечатление чего-то «римского». Известной грандиозностью отличался театр со стороны Крюкова канала, в который упиралась его задняя стена. Отражаясь в летние сумерки в водах канала, силуэт его положительно напоминал какое-либо античное сооружение.
К ближайшему окружению нашего дома принадлежали еще два характерных для Петербурга здания — Литовский рынок и Литовский замок, находившиеся оба как раз непосредственно за Мариинским театром. Архитектурной красоты оба здания, обслуживавшие самые прозаические нужды, не были лишены. Рынок, построенный в конце XVIII века, представлял собою обширное целое, выходящее на четыре улицы одинаковыми фасадами, состоящими из массивных арок и ниш с этажом полукруглых окон над ними, а тюрьма, перестроенная на ампирный фасон из сооруженного при Екатерине «турецкого» семибашенного замка (также выходившего на четыре улицы), состояла из гладких голых стен, соединенных кургузыми необычайной толщины круглыми башнями. Окон в этом здании было до странности мало, а те окна, что были расположены по верхнему этажу башен, были круглой формы, что и давало впечатление каких-то выпученных в разные стороны глаз. Центральный фасад был украшен фронтоном в «греческом вкусе» со статуями двух держащих крест ангелов посреди. Это мрачное (несмотря на свою белую окраску) здание принадлежало к лучшему, что было построено в классическом стиле в Петербурге, а на меня, ребенка, Литовский замок производил одновременно как устрашающее, так и притягивающее впечатление. Ведь за этими стенами, за этими черными окнами с их железными решетками я рисовал себе самых жутких разбойников, убийц и грабителей, и я знал, что из этой тюрьмы выезжали те «позорные колесницы», которые я видел медленно следующими мимо наших окон, с восседающими на них связанными преступниками. Несчастных везли на Семеновский плац для выслушивания приговора ошельмования. Спешу добавить, что таких колесниц я видел не более трех, да и видел я их в возрасте четырех или пяти лет. Позже этот обычай был отменен.
Раз я вспомнил про то, что можно было видеть из окон нашей квартиры, то тут же я расскажу и про другие такие «уличные спектакли». Зрителем их я мог быть, оставаясь на весьма близком расстоянии от самого «зрелища» — ведь жили мы в бельэтаже. Совершенно другого характера, нежели тот ужас, который меня охватывал при только что упомянутом проезде «позорных колесниц», было чувство, которое я испытывал, когда мимо наших окон шествовала погребальная процессия, что происходило чуть ли не каждый день и даже по нескольку раз в день, так как через Никольскую улицу лежал путь к расположенным по окраинам города кладбищам — Волкову и Митрофаньевскому. Всякие похороны оказывали на меня какое-то странное действие, но одни были только «жутковатыми» — это в особенности когда простолюдины-староверы несли своего покойника на плечах в открытом гробу, — а другие похороны в своей строгой церемониальности производили впечатление возвышающее. Чем важнее был умерший, тем зрелище было торжественнее.
Мало-мальски заслуженный, знатный или зажиточный человек мог в те времена рассчитывать на проводы до могилы с большой парадностью. Православные отправлялись на последнее местопребывание на дрогах под балдахином из золотой парчи со страусовыми перьями по углам и золотой короной посреди. Парчовый покров почти скрывал самый гроб. Дроги же лютеран и католиков были также с балдахином, но они были черные и вообще «более европейского вида». И тех и других везли ступавшие медленной поступью лошади в черных до земли попонах, а на боках попон красовались большие пестро раскрашенные гербы. Эта последняя особенность была уже вырождавшейся традицией, и от такой наемной геральдики вовсе не требовалось, чтобы она точно соответствовала фамильному гербу умершего. Их просто давал напрокат гробовщик, и можно было выбирать по своему вкусу гербы поэффектнее и попараднее. Даже купца побогаче, хотя бы он вовсе к дворянству не принадлежал, везли лошади в попонах с такими гербами.
В особенно важных случаях погребальное шествие приобретало род скорбного празднества. В столице жило немало особ высокого ранга, немало генералов, адмиралов, тайных и действительных статских советников, и на каждого сановника сыпались царские милости — в виде орденов, золотого оружия, медалей и других знаков отличия. Эти-то знаки при похоронах полагалось нести на бархатных, украшенных галунами подушках. Старшие мои братья относились к этому ритуалу с некоторой иронией, но на ребенка дефиле орденов производило глубокое впечатление. Кто-нибудь из больших тут же называл ордена: вот Георгий, вот Анна, вот Владимир, а вот и «сам» — Андрей Первозванный.
Напротив, цветов в те времена не было принято нести, и лишь два-три веночка с лентами лежали рядом с каской или треуголкой покойного на крышке гроба. Печальная торжественность шествия подчеркивалась тем, что всю вереницу носителей орденов, шествующее пешком духовенство и самую колесницу окаймляли с двух сторон — одетые во все черное господа в цилиндрах с развевающимся флером, несшие среди дня зажженные фонари. Эти факельщики на богатых похоронах были прилично одеты и шли чинно, строго соблюдая между собой расстояние, если же покойник был попроще (лошадей всего пара, да и дроги без балдахина), то в виде факельщиков плелись грязные оборванцы с лоскутами дрянного крепа на продавленных шляпах, и шли они кое-как, враскачку, так как успевали еще до начала похода выпить лишнего.
Военного провожал шедший за гробом отряд полка, к которому он принадлежал, а если это был человек высоких военных чинов, то сопровождало его и несколько разных отрядов, не исключая конницы и громыхающей артиллерии. О, до чего мне раздирали душу те траурные марши, которые при этом играли на ходу военные оркестры, инструменты которых были завернуты в черный флер. Бывало, я еще издали услышу глухое громыхание барабанов, визг флейт и мычание труб и с ужасом бегу к себе в детскую, где зарываюсь в подушки, только бы не слышать этих звуков. Но любопытство брало верх, я прокрадывался обратно к окну и столбенел в каком-то трагическом восторге, глядя, как мимо окон проплывает вся процессия, заключением коей были бесчисленные кареты, ряд которых подчас вытягивался на добрую четверть версты.
Полным контрастом этим «триумфам смерти» были военные триумфы — проходы войск под нашими окнами. Так как путь от казарм Измайловского и Семеновского полков, а также морского Гвардейского экипажа к центру города лежал через нашу Никольскую и далее через Морскую, то этих солдат мы видали каждый день, то большими, то маленькими отрядами, и уж обязательно проходил туда и обратно караул Зимнего дворца от одного или от другого из названных полков. Кроме того, через нашу же улицу выступала весной значительная часть петербургского гарнизона, уходившая в лагери под Красным Селом. Тут я мог вдоволь наглядеться всяких отборных и очень эффектных форм. Наконец, к майскому параду являлись в Петербург и гатчинские кирасиры, и казаки, и все-то они на чудесных лошадях шли шагом под звуки своих оркестров мимо наших окон. В мае дозволялось мне уже выйти на балкон, и тогда положительно казалось, что я сам участвую в этом чудесном празднике. Казалось, что стоит руку протянуть, и уже дотронешься до расшитого полкового штандарта или сможешь погладить сияющие латы и шлемы, в зеркальной поверхности которых отражались дома и небо.
Надо сказать, что вид солдат в те времена был куда эффектнее позднейшего. Царствовал государь Александр II, сын знаменитого фрунтовика Николая I, и хотя кое-что в обмундировке было при нем упрощено, однако все же формы оставались роскошными — особенно в избранных гвардейских полках. Некоторые из пехотинцев сохраняли каски с ниспадающим густым белым султаном, у других были кепи, похожие на французские, также украшенные султаном. Грудь у большинства полков была покрыта красным сукном, что в сочетании с черно-зеленым цветом мундира, с золотыми пуговицами и с белыми (летом) штанами давало удивительно праздничное сочетание. Некоторые же привилегированные полки отличались особой декоративностью. До чего были эффектны белая или красная с золотом парадная форма гусар, золотые и серебряные латы кирасир, кавалергардов и конногвардейцев, высокие меховые шапки с болтавшимся на спине красным языком конногренадеров, молодцевато набок одетые глянцевитые шапки улан и так далее.
Особенный восторг во мне вызывали оркестры — как те, что шествовали пешком, так особенно те, что, сидя на конях, играли свои знаменитые полковые марши (душу поднимавшие марши!). Великолепное зрелище представлял такой конный оркестр. Сколько тут было золота и серебра, как эффектны были расшитые золотом литавры, прилаженные по сторонам седла. А как величественно прекрасен был гигант тамбур-мажор, шествовавший перед полковым оркестром. Что только этот весь обшитый галунами человек ни проделывал со своей окрученной галуном с кистями палкой. То он ее швырял и на ходу схватывал, то крутил на все лады.
Упомяну я заодно и о том апофеозе военного великолепия, которого свидетелем я бывал раза два или три в свои детские годы. Я говорю об упомянутых только что майских парадах, происходивших на широком Царицыном Лугу, окаймленном садами, дворцами и похожей на дворец казармой Павловского полка. Из-под колоннады этой казармы я в компании знакомой детворы и наслаждался зрелищем. Место парадов называлось лугом, но луга никакого не было, а была очень просторная площадь, посыпанная песком. На этой площади и происходил царский парад. Начало мая редко бывает в Петербурге теплым днем, и поэтому, будучи четырех - или пятилетним мальчиком, я немилосердно мерз, несмотря на свое бархатное пальтишко, суконную шапочку и шерстяной шарф. Однако сколько мама ни убеждала меня войти погреться в комнаты, я упорно оставался на своем месте, пожирая глазами происходившее передо мной. И как было не наслаждаться этим зрелищем, как можно было променять его на скучное сидение среди дам (еще, не дай Бог, они стали бы тискать и целовать). Тысячи и тысячи моих любимых солдатиков продвигались стройными рядами во всех направлениях, все в ногу и все же без всякого видимого усилия, с удивительной быстротой повинуясь одним только выкрикам офицеров. Восторг, сопряженный с некоторой тревогой, возбуждал во мне проезд грохочущей артиллерии, но букетом всего спектакля являлась джигитовка кавказских воинов: черкесов, лезгинов, хевсуров. Иные из них в те времена были еще одеты точь-в-точь как средневековые рыцари — в серебряные кольчуги и в панцири, и на головах у них были высокие серебряные шлемы. Джигиты неслись во весь опор, некоторые стоя на седле, стреляли вперед и назад, а подъезжая к палатке с особами императорской фамилии, они соскальзывали под брюхо своих коней и с небывалой ловкостью схватывали брошенные им царицей или великими княгинями платки.
С особым восторгом относился я и к проходу того полка, у которого мы были в гостях, — павловцев. На головах у этих рослых парней были высокие медные кивера с красной спинкой, а мундиры их сверкали золотом, но самое замечательное было то, что все они были на подбор курносые — как того требовала традиция, восходившая еще ко временам державного учредителя этого полка, Павла I, отличавшегося, как известно, вздернутым до уродства носом. В жизни курносые люди мне только представлялись смешными, но в таком подборе они представлялись замечательно интересными. Вернувшись домой, я подходил к зеркалу, приподнимал пальцем свой нос кверху и радовался тому, что и сам становился похожим на павловца.
Вспоминая эти Марсовы потехи — как становится понятной муштровально-мундирная мания, коей были одержимы едва ли не все государи прошлого, но которая особенно ставится в вину пруссакам Фридриху, Вильгельму I и Фридриху II, а также нашим царям: Петру III, Павлу, Александру I и Николаю I. Однако, хоть и кажется это смешно и хоть много бывало под этим мучительства, однако насколько же тогдашние царские забавы в общем были менее жестоки и чудовищны, нежели все то дьявольское усовершенствование военного дела, до которого теперь дошло человечество — и в самых демократических странах.
ГЛАВА 2 Окрестности Петербурга. Петергоф и Ораниенбаум
В мой культ родного города были включены и его окрестности. Но одни я узнал на самой заре жизни, другие лишь впоследствии. К первым относятся Петергоф, Ораниенбаум и Павловск, ко вторым — Царское Село, Гатчина и прилегающая к Петербургу часть Финляндии.
Наиболее нежное и глубокое чувство я питаю к Петергофу. Быть может, известную роль тут сыграло то, что я с Петергофом познакомился в первое же лето своего существования, ибо мои родители в те годы всегда уезжали на дачу в Петергоф; переехали они туда и в 1870 году, еще когда мне минуло не более месяца. В Петергофе же в следующие годы я стал впервые «осознавать» окружающее, да и в дальнейшем Петергоф не переставал быть «родным» местом для всей семьи Бенуа. В нем всегда проводили лето мои братья, в Петергофе начался мой «роман жизни», в Петергофе же живали не раз и я с собственной своей семьей. Но есть и вообще в Петергофе что-то настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко-меланхоличное, что почти все, кто знакомятся с ним, подпадают под его чары.
Петергоф принято сравнивать с Версалем. «Петергоф — русский Версаль», «Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля», — эти фразы слышишь постоянно. Но если, действительно, Петр был в 1717 году поражен резиденцией французского короля, если в память этого он и назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название — Монплезир — можно принять за свидетельство его французских симпатий, если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции (архитектора Леблона, живописца Пильмана и скульптора Пино), то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа, — фонтаны, — отражает общее всей Европы увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении, ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские. Скорее в них чувствуются влияния немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших немало внимания Петергофу. В Петергофе все несколько грубее, примитивнее, менее проработано, менее сознательно продумано в художественном смысле. Многое отражает и некоторую скудость средств и, несмотря на такую скудость, — желание блеснуть и поразить. Что греха таить — Петергоф провинциален.
Наконец и природа, несмотря на все старания (особенно самого Петра) победить суровость петербургского климата или создать хотя бы иллюзию, будто эта победа удалась, — природа осталась здесь несколько худосочной, почти чахлой. Временами непосредственная близость к морю делает и то, что существование в Петергофе становится мучительным. Дожди, туманы, пронизывающая сырость — все это характерные явления для всей петербургской округи, но в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамления водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той «отчетливости в отделке», какой могут похваляться знаменитые западноевропейские резиденции.
И все же Петергоф — сказочное место. Посетивший меня летом 1900 года Райнер Мария Рильке, стоя на мосту, перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед внезапно открывшимся видом: «Это же замок Снежной королевы». И при этом от восторга на глазах поэта даже выступили слезы. Действительно, в тот ясный летний вечер все казалось каким-то ирреальным, точно на миг приснившимся, готовым тут же растаять сновидением. Серебряные крыши дворца, едва отличавшиеся от бледного неба, мерцание золотой короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей зари, ниже струи не перестававших бить фонтанов, с гигантским водяным столбом «Самсона» посреди, а еще ближе, по берегам канала, два ряда водометов, белевших среди черной хвои, — все это вместе создавало картину, полную сказочной красоты и щемящей меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, насторожившееся спокойствие могучих елей, запахи листвы, цветов.
Этот вид с моста — классический Петергоф, это тот вид, который отмечается крестиком в путеводителях. Однако к нему скорее можно привыкнуть, нежели ко всем тем более интимным или менее знаменитым красотам, которые открываются в Петергофе на каждом шагу. Так, меня с самого раннего детства особенно волновали два купольных здания, стоявшие на концах большого дворца, один одноглавый, носивший название «Корпус под гербом», другой — служивший церковью и сверкавший своими пятью куполами, роскошно убранными густо позолоченными орнаментами. Перед первым на разводной площадке я не раз видел смотры войск, и тогда казалось, что как-то особенно гордо парит в небе, расправляя и вздымая свои крылья, гигантский золотой геральдический орел, венчающий купол этого павильона. Что же касается до придворной церкви, то нигде, даже перед нашим роскошным Никольским собором, церковные процессии не казались мне более умилительными, нежели там, когда в солнечное июньское утро крестный ход выходил из церкви, спускаясь по наружной лестнице в сад, где на одном из ближайших бассейнов строился помост — «Иордань» для водосвятия. Как чудесно отражались в воде ликующее ясное небо и золотые купола, какими праздничными представлялись священнослужители в роскошных ризах, несшие хоругви ливрейные лакеи и случайно подошедшая посторонняя публика — особенно дамы в своих светлых платьях. Это были скорее интимные церемонии; двор еще не переезжал на летнее пребывание. Из особенно важных особ на них никто не присутствовал, потому и народу было не так уже много и можно было, пробравшись к самому краю бассейна, любоваться всем вдоволь.
Но сколько еще очаровательного было в Петергофе! Не отдавая себе в чем-либо отчета, я уже ребенком все это впитывал в себя, гуляя за ручку с папой или сидя в коляске, сопровождая своих родных на «музыку». Постоянно возвращаясь к тем же местам в разные эпохи моей жизни, я часто находил то, что некогда мне представлялось грандиозным и роскошным, съежившимся, измельчавшим и обедневшим. Но и тогда душа всех этих мест заговаривала с моей душой — и не только потому это происходило, что вспоминались трогательные подробности, детские игры или первые воздыхания любви, а потому, что самому Петергофу действительно свойственна особенная и единственная пленительность. В самом петергофском воздухе есть нечто нежное и печальное, в этой атмосфере все кажется легким и ласковым. В Петергофе образ двух русских государей, стяжавших себе славу неумолимой строгости, получает иной оттенок. Фигуры Петра Великого и Николая I приобретают в окружении петергофской атмосферы оттенок милой уютности. Один превращается в голландского средней руки помещика, радушного хозяина, любителя цветов, картин, статуй и всяких курьезов. Другой рисуется романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо.
Я не стану здесь более подробно описывать Петергоф, ибо в дальнейшем неоднократно буду возвращаться к нему. Здесь скажу только еще, что как раз в Петергофе имеется ряд строений, созданных моим отцом, и эти постройки служат к немалому его украшению: грандиозные, имеющие вид целого города придворные конюшни; два элегантных, связанных мостиком дворца для придворных дам, составляющие гармоничное и роскошное продолжение Большого петергофского дворца; наконец, — первое, что видишь, прибывая в Петергоф, — вокзал Нового Петергофа с его готическими залами и своей узорчатой башней. Факт, что все эти здания были произведениями папы, что, кроме того, он в годы моего раннего детства имел по службе какое-то касательство вообще ко всем петергофским постройкам, объезжал их, давал распоряжения относительно их ремонта, что всюду его встречали как любимого начальника, что многие придворные служащие были обязаны ему своим местом — это все способствовало тому, что я Петергоф мог считать своим родным местом. И к этому необходимо прибавить, что мой отец помнил Петергоф еще в годы, когда Россией правил Александр I, когда на «Петергофский праздник» (в честь вдовствующей императрицы Марии Федоровны) съезжалось пол-Петербурга. Наконец, многие члены нашей семьи родились в Петергофе, а два моих дяди и три моих брата всегда в нем проводили свой летний отдых.
Пожалуй, сам царь не обладал таким ощущением собственности в отношении Петергофа, каким обладал я. Для меня Петергоф был одним громадным поместьем, во всех своих частях абсолютно для меня доступным и близким. Не входила только в эту мою усадьбу интимная резиденция императорской фамилии, огороженная со всех сторон, — Александрия. Туда я в детстве не был вхож, и тем более казалась соблазнительной жизнь за этой нескончаемой высокой глухой стеной, выкрашенной в «казенные» желтую и белую краски. За ней и за воротами в ней, охраняемыми пешими часовыми и казаками на конях, жили царь с царицей и царские дети.
От Петергофа до Ораниенбаума всего десять километров, и соединяет оба города широкое шоссе, идущее параллельно берегу Финского залива. Теперь с этой дороги уже почти нигде не видно моря, так как весь берег застроился дачами, во времена же моего детства в тех местах, где море не заслоняли парки принца Ольденбургского, собственной его величества дачи, герцога Лейхтенбергского и графа Мордвинова, там оно открывалось во всю ширь, а на горизонте, с приближением к Ораниенбауму, все яснее и яснее вырисовывался Кронштадт с его крепостями и кораблями. Берег этих открытых мест оставался диким; среди поросших скудной травой песков стояли одни жалкие рыбацкие хижины или же высились одинокие крепкостволые сосны, расправлявшие во все стороны свои могучие ветви.
В самый Ораниенбаум, городок убогий и глухо-провинциальный, въезжали через Триумфальные, классического стиля ворота, затем тянулась улица с очень невзрачными домами, но дальше то же шоссе перерезало сад Ораниенбаумского дворца — как раз у того места, откуда начинается канал, ведущий среди пустынных земель и болот к морю. Тут Кронштадт виден был совершенно отчетливо, ибо расстояния до него всего шесть километров.
В Ораниенбауме никто из наших родных в моем детстве не живал, но это не препятствовало тому, что у меня сложилось к нему какое-то родственное чувство и что он оказывал на меня большую притягательную силу. Вероятно, поэтому первое же лето нашей самостоятельной жизни мы с женой пожелали провести именно под Ораниенбаумом, да и впоследствии два раза жили в самом этом чарующем месте.
В детстве меня ожидали разные специальные приманки в Ораниенбауме. Почему-то там я получал шишки с превкусными орешками, похожими на те итальянские пиньоли, которые у нас ставились на стол на больших обедах, там же откуда-то доставались крошечные райские, или китайские, яблочки, которые не отличались большой сладостью, но которыми я все же объедался, веря, что они действительно — из рая. Более же всего меня пленил самый дворец, широкой дугой раскинувшийся на холме, с двумя грузными павильонами на концах. Этот дворец был сооружен еще в царствование Петра Великого, но не самим царем, а его «выведенным из грязи в князи» любимцем Меншиковым, герцогом Ингерманландским. Большая герцогская корона, положенная на алую подушку, и венчала бельведер среднего корпуса дворца. Эта корона, годная по своим размерам разве только для какого-нибудь сказочного великана, производила на мое детское воображение огромное впечатление. Но еще большее и доходящее до ужаса впечатление производили на меня помянутые пузатые павильоны (один из них называется Японским, другой служил придворной церковью), с выкрашенными одинаково в зеленую краску широко расплывшимися куполами, заканчивающимися причудливыми «фонарями». Когда на повороте дороги один из этих куполов вынырял из масс деревьев, то, Бог знает почему, мною овладевал род паники, и я даже старался не глядеть в эту сторону.
Другие достопримечательности Ораниенбаума меня в детстве не касались, зато трепет мой усиливался, когда, миновав дворец, мы выезжали в густые еловые леса, расположенные на много верст вокруг Ораниенбаума и пребывавшие тогда в совершенной дикости. О, как дивно в них пахло, особенно под вечер, нагревшейся за день хвоей. Какая поэзия леса была в них «отчетливо выражена». Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались, седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов или черники, а прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски. Но я боялся углубляться в неведомую чащу, благоразумнее было оставаться около мамы; мне казалось, что стоило мне удалиться на двадцать шагов, как меня схватил бы притаившийся за деревом волк или я увидел бы вдали медведя. Несколько раз даже казалось, что я и впрямь вижу чернобурого мишку, тогда как то были только поднятые корни поваленных ветром деревьев. Вблизи такая поднявшаяся на сажень или на две обросшая мхом корчага казалась разинутой пастью, зловещая чернота зияла под ней, и, как змеи, свисали тонкие отростки. Зато какое милое, безмятежное наслаждение доставляло мне собирание (точнее, съедание на месте) ягод, мириадами красневших, черневших и синевших всюду под ногами. Их было так много, что, не двигаясь с места, можно было наесться до отвала, стоило только нагибаться и класть ягоду за ягодой в рот, а мне в то время и нагибаться-то особенно не приходилось. Дивное удовольствие я испытывал, запихав за щеку десять-пятнадцать разных душистых ягод земляники, черники и голубицы и устраивая у себя во рту из них превкусную кашку — маседуан.
ГЛАВА 3 Царское Село и Павловск
Продолжая вспоминать об окрестностях Петербурга, я еще должен упомянуть о Павловске и о Царском. С Павловском я познакомился, когда мне было пять лет и когда я уже хорошо знал Петергоф и Ораниенбаум, с Царским же я познакомился гораздо позже, когда мне был уже двадцать один год. Последнее может показаться странным, ибо Царское Село как раз то место, которое пользуется наибольшей известностью за границей — известностью почти равной той, которой пользуется Версаль или Потсдам. Но случилось это потому, что мои родители в Царском не живали и что папа там ничего не строил. Раза три, впрочем, меня возили в Царское Село к нашим родственникам Шульманам и Лилле, но эти поездки совершались зимой, в темноту, и у меня не сохранилось о них иных воспоминаний, кроме каких-то темных вокзалов и вагонов. Помню и о той скуке, которую я испытывал, находясь в гостях в чужом доме.
Известное понятие, но, правда, совершенно фантастическое, о Царском я все же и в детские годы имел. Оно сложилось у меня от разглядывания трех гравюр, входивших в состав «альбома Махаева», и от одного из занавесей Большого театра. Особенно мне импонировал сложенный и раскладывавшийся во все стороны громадный лист в махаевском увраже, изображающий фасад дворца со стороны циркумференции с проезжающей «линеей» императрицы, запряженной в двадцать лошадей цугом. И этим же фасадом я мог любоваться на помянутом занавесе, служившем для антрактов. Здесь дворец во всю свою ширь был виден через арки (никогда не существовавшего) перистиля, в нишах которого в вычурных позах стояли мифологические персонажи. Самый же дворец был изображен блистающим позолотой, как оно и было в действительности в первые годы его существования. Занавес этот принадлежал кисти знаменитого декоратора Роллера и был в своем роде шедевром.
Что же касается Павловска, то я не могу причислить его к наиболее любимым в детстве местам. Позже я оценил всю его грустную поэзию, его зеленую, напитанную сыростью листву, его благородные классические дворцы, киоски, надгробия, мавзолеи, храм Дружбы и храм Аполлона. В детстве же вся эта поэзия, типичная для позднего XVIII века, наводила на меня уныние… Однако несколько уголков пленили меня и тогда, а именно знаменитый Павильон роз и не менее знаменитая Сетка.
Скажу еще два слова о павловских настроениях. Будучи маленьким мальчиком, я, разумеется, не давал себе в них отчета, но ощущал я их все же в чрезвычайной степени. В Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного. Именно в Павловске легче всего испытать «панический» страх. Недаром именно в Павловске, в крутые годы царствования императора Павла, дважды произошли так и оставшиеся необъяснимыми военные «тревоги», заставившие все части войск, стоявших тогда в Павловске, без форменного приказа, в самом спешном порядке, стянуться к дворцу — точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное и роковое. Недаром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест «Идиота» выбрал именно Павловск.
Это мрачное настроение, чему особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, царит в Павловске рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то по-особенному манит и пугает, куда бы ни направить свои шаги. В сумерки подчас такие смешанные чувства достигают чего-то невыносимого, если окажешься в эту пору где-нибудь в темных аллеях Сильвии с ее темными бронзовыми статуями, изображающими гибнущих от стрел Аполлона Ниобид, или перед сумрачным фронтоном мавзолея Павла, или в запущенных просеках вокруг Круглого зала. И что же, даже в детстве именно эта пугавшая меня мрачность оказывала в то же время притягательное действие, а впоследствии и говорить нечего, именно эта кошмарная жуть, этот сказочный ужас особенно манили и пленили меня. Манила меня и Крепость — романтическая затея императора Павла, состоявшая из двух башен и дома, с перекинутым через ров подъемным мостиком, но больше всего меня в Павловске притягивал монумент Павлу I, что стоит перед дворцом и изображает императора совсем таким, каким он был в жизни — с огромной треуголкой на голове, со вздернутым до карикатурности носом и в громадных ботфортах.
ГЛАВА 4 Наша семья. Предки с отцовской стороны
Известно, что С.-Петербург, став в XVIII веке настоящей столицей, не пользовался симпатией остального Российского государства. Что это было так в начале его существования, вполне понятно, ибо русским людям, привыкшим считаться с Москвой как с сердцем России, было трудно поверить, что такое же и даже большее значение во всей их жизни получило какое-то новообразование, считавшееся сначала пустой, ничем не обоснованной прихотью царя. Такое недоверие должно было особенно утвердиться в Москве, в этой первопрестольной, чувствовавшей горькую обиду за то, что ей, древней, священной и богатой воспоминаниями, предпочли какого-то временщика без роду и племени, к тому же обладающего отвратительным климатом и худосочной природой. Это презрение и прямо-таки ненависть продолжались и дальше. Ничего не противодействовало этим чувствам — ни величественная красота нового города, ни блеск его жизни (блеск, главным образом, сообщавшийся двором), ни расцвет культуры, — то, что именно в Петербурге величайшие русские художники слова, кисти и музыки имели свое пребывание и даже вдохновлялись им. «Настоящему» русскому человеку все в Петербурге претило, и он продолжал в нем видеть чужестранца…
На самом же деле Петербург, несмотря на миссию, возложенную на него основателем, и на то направление, которое было дано им же его развитию, если и рос под руководством иностранных учителей, то все же не изменял своему русскому происхождению. Это «окно в Европу» находилось все же в том же доме, в котором жило все русское племя, и это окно этот дом освещало. С другой стороны, естественно, что в силу самого его назначения в Петербурге жило немало самых разнообразных иностранных элементов. Замечательно и то, что из очень многочисленных христианских храмов в Петербурге значительное число принадлежало иным вероисповеданиям, нежели православному, и в этих церквах служба и проповедь происходили на немецком, польском, финском, английском, голландском и французском языках. Паства этих церквей была исключительно иностранного происхождения, но в значительной своей части она ассимилировалась с русским бытом и пользовалась в своем собственном обиходе русским языком.
Нечто аналогичное уже знала Москва — в знаменитой Немецкой слободе, которая постепенно образовалась из иностранцев, массами селившихся по приглашению Москвы, закосневшей в стародавних навыках и потому нуждавшейся в более передовых элементах. Но в Москве чужестранцы жили отдельным, отгороженным от всего пригородом, куда русские люди почти не имели доступа, и которые сами могли обходиться без того, чтобы прибегать к непосредственному постоянному общению с московским людом. Это было нечто вроде тех концессий, которые существуют на Востоке или еще вроде гетто в европейском средневековье. Такого обособленного города при городе в Петербурге не было, а напротив, правительство Петра и его преемников всячески поощряло смешение своих подданных с пришлыми элементами, продолжавшими насаждать желанную (и необходимую) заграничную культуру. Если иностранцы в Петербурге и имели известную наклонность селиться группами по признаку одинакового происхождения, то это делалось свободно и из чисто личных побуждений. Вообще же иностранцы, частью вполне обрусевшие, жили в Петербурге (да и по всей России) вразброску, и если можно говорить в отношении Петербурга о какой-то Немецкой слободе, то только в очень условном и переносном смысле. Такая «слобода» существовала только «в идее», и это понятие не соответствовало чему-либо топографически-обособленному.
К составу такой идеальной Немецкой слободы принадлежала и наша семья. Несмотря на столетнее пребывание в Петербурге, несмотря на то, что наш быт был насквозь пропитан русскими влияниями, несмотря на русскую прислугу, семья Бенуа все же не была вполне русской, и этому в значительной степени способствовало то, что наша религия не была православной и что большинство браков нашей семьи происходило с такими же потомками выходцев из разных мест, какими были мы. Чисто русские элементы стали постепенно проникать посредством браков в нашу семью лишь к концу XIX века, и вот дети, рождавшиеся от этих браков, крещенные по православному обряду, постепенно теряли более явственные следы своего происхождения, и только по-иностранному звучавшая фамилия выдавала в них то, что в их жилах еще течет известная доля французской, немецкой или итальянской крови.
Фамилия Бенуа — родом из Франции, из провинции Бри, из местечка Сент-Уэн, находящегося где-то неподалеку от Парижа… Мы не можем похвастать благородством нашего происхождения. Самый древний из известных нам предков Никола Дени Бенуа значится на родословной, составленной моим отцом, в качестве хлебопашца, — иначе говоря, крестьянина. Женат он был на Мари Аеру, очевидно, тоже крестьянке, но уже сын их — Никола Бенуа (1729–1813) успел значительно подняться по социальной лестнице.
Этот мой прадед получил достаточное образование, чтобы самому открыть школу, в которой воспитывались и его собственные дети. С ним я уже как бы знаком лично. Пастельный портрет его, копированный моей теткой Жаннет Робер с оригинала, оставшегося во Франции, изображает окривевшего на один глаз, очень почтенного и милого старичка. Его доверху застегнутый сюртук зеленоватого цвета выдает современника тех старцев, которые фигурировали на картинах Греза; под рукой у него книжка с золотым обрезом. Чему учил, где и как Никола Бенуа, я не знаю, но, вероятно, он был педагогом по призванию, так как иначе трудно было бы объяснить, почему он отказался от профессии дедов и избрал себе иной жизненный путь. Лицо на портрете прадеда мягкое, доброе и несколько скорбное. Моральную же характеристику мы находим в тех стихах, которые были сочинены его сыном (моим дедом) и которые в рамке под стеклом красовались под помянутым портретом, висевшим в папином кабинете, стены которого были сплошь покрыты семейными сувенирами.
Привожу здесь перевод этого акростиха, так как он не только характерен для своей эпохи, но является до настоящего времени своего рода «скрижалью идеалов» нашей семьи вообще:
Николаю Бенуа, родившемуся 17 июля 1729 года
Рожденный от людей незнатных, но честных и искренних, Он всегда был хорошим супругом и отцом; Довольный своим положением, скромный в своих желаниях, Он никогда не отдавал душу во власть неосмотрительной горячности, Никогда не увлекался неосуществимыми планами. Желая сохранить добродетель, он ограничивал свои удовольствия; Быть полезным всем — было его единственным желанием; Добрый без гордости, мягкий, милосердный, человечный, Он всегда защищал вдову и сироту. Ни золото, ни потребности не смущали его жизни; Человек поистине богат, когда он делает добро. Он сумел стать богатым своими добрыми делами; Его и наше счастье стали наградой за это. Написано его почтительным сыном Луи БенуаНадо думать, что все сказанное в этом стихотворении не пустой поздравительный комплимент, но настоящая правда. Такая же характеристика могла бы вполне подойти, например, и к моему отцу, родившемуся как раз в год смерти своего деда, да и вообще семья Бенуа отличается известной склонностью к домашним добродетелям при тяготении к скромности, к «тени», к достойному довольству своим положением. В отцовском собрании семейных портретов был один, изображавший дочь того же Никола Бенуа, сестру моего деда. Это был превосходный «кусок живописи», который можно было бы без натяжки приписать самому Давиду (видно, уже в те времена в семье Бенуа жили какие-то художественные вкусы и даже настоящий толк в живописи). Однако то, что эта сестра деда Мари Мадлен (в замужестве Meut) изображена не в виде дамы, а в типичном крестьянском чепчике и с самой простецкой косынкой вокруг шеи, показывает, что у членов семьи Бенуа из Сент-Уэна тогда еще не обнаруживалось желание изменить своему происхождению, скромному и незнатному. Возможно, впрочем, и то, что в дни революции наши деды могли в такой намеренной скромности находить известную гарантию безопасности — тем более, что, судя, по семейным преданиям, они отнюдь не разделяли массовых увлечений, а продолжали быть верными своим роялистским симпатиям, что, кстати сказать, вовсе не было редкостью во французском дореволюционном крестьянстве.
Мой отец во время своего путешествия во Францию (в 1846 году) побывал в родной деревне, где он застал и самый дом семьи Бенуа. Он тогда же зарисовал его. На этой акварели мы видим каменное одноэтажное довольно большое здание с высокой черепичной крышей и с высокими тяжелыми трубами. У этого дома было странное прозвище «I’Abbaye», и возможно, что он служил когда-то служебным помещением какого-либо соседнего аббатства, но едва ли мой прадед был повинен в покупке конфискованного у духовенства имущества — ведь глубокая религиозность была также одной из основных наших фамильных черт. По акварели отца трудно судить, были ли вокруг дома еще какие-либо угодья, но скорее всего, что это было так, что за домом был расположен плодовый сад и далее тянулись огороды и поля, принадлежащие Никола Дени. Нужно думать, что эти угодья возделывались хорошо, ибо что, как не земные плоды, дали возможность накопить тот достаток, который позволил его сыну бросить крестьянское дело, открыть школу и перейти в разряд буржуазии.
У прадеда было три сына и две дочери. Изображения одной из дочерей и всех трех сыновей дошли до нас. Старший сын Анн Франсуа на превосходном портрете, висевшем в отцовском кабинете, подписанном Буало, имеет очень благородный вид. Глаза его ласковые, а на устах играет приветливая улыбка. Тот же Буало написал и его супругу — прелестную даму с пикантными чертами лица, в бархатном темно-зеленом платье с большим вырезом, с прихотливой прической на голове и с газовой рюшкой вокруг шеи. Любопытно отметить, что на своем портрете моя тетка, носившая в девичестве фамилию Бодар и вышедшая замуж за брата моего деда в Петербурге, имеет сходство с моей женой, что как будто указывает на известное тождество семейных вкусов на протяжении целого столетия. Чем в точности занимался Анн Франсуа, я не знаю, но, несомненно, это был человек со средствами. Косвенно на это указывает уже то, что его сын Луи, архитектор, мог взять себе в жены одну из богатых невест парижской буржуазии — дочь знаменитейшего на всю Европу серебряных и золотых дел мастера Одио.
От младшего сына прадеда — моего родного деда (1772–1822) произошли все бесчисленные русские Бенуа, родился же мой дед за целый без двух лет век до моего рождения — в дни, когда во Франции еще царствовал Людовик XV. Воспитание этот Луи Жюль получил во Франции, но еще совершенно молодым человеком, чувствуя непреодолимое отвращение перед революционным беснованием, он покинул родину и в 1794 году оказался в России, где уже временно находился один из его братьев. По дороге дед, как всякий другой эмигрант, выучился всевозможным художествам и рукомеслам, но видно, его истинным призванием было кулинарное искусство, ибо через несколько лет после своего прибытия в столицу мы уже застаем его при дворе Павла I в качестве царского метрдотеля, а по кончине государя он продолжал занимать до конца жизни эту должность при вдовствующей императрице Марии Федоровне. В Петербурге же дедушка женился (в самый год его прибытия) на фрейлен Гроппе, происходившей от одной из тех многочисленных немецких семей, которые при всей скромности своего общественного положения образовывали как бы самый фундамент типичной петербургской культуры. В качестве свадебного подарка Луи Жюль поднес своей невесте собственный портрет, писанный волшебной кистью Ритта, а в ответ он получил от нее роскошную черепаховую с золотом табакерку с ее портретом, на котором она изображена в виде цветущей и очень миловидной девушки. Увы, ее красота и прелесть после того, как бабушка подарила своему супругу семнадцать человек детей (из которых одиннадцать остались в живых), исчезла к сорока годам бесследно. На портрете, писанном академиком Куртейлем около 1820 года, мы видим отяжелевшую матрону с резко определившимися чертами лица, а еще через двадцать лет дагерротип и живописный портрет академика Горавского рисуют нам вдову метрдотеля Екатерину Андреевну Бенуа старухой с одутловатым и скорбным лицом.
На портрете, писанном тем же Куртейлем в пару бабушкиному, за год или за два до его кончины, дедушка выглядит важным и довольно строгим господином. Записка, которую он держит в правой руке, служит как будто намеком на его поэтические упражнения. У нас в архиве хранилась толстая тетрадь, включавшая опыт его автобиографии, полной довольно пикантных подробностей, относившихся к французскому периоду жизни деда, тогда как в Петербурге, под влиянием жены, он остепенился и вел жизнь образцового семьянина. То же благотворное влияние бабушки позволило, вероятно, Луи Бенуа стать зажиточным человеком, обладателем двух каменных домов, из которых один, усадебного типа (неподалеку от Смольного), он занимал с семьей целиком, а другой, на Никольской улице, сдавал внаем.
Скончался дедушка от того повального недуга, который в 1822 году косил сотнями и тысячами жителей Петербурга, и скончался он благодаря собственной неосторожности. Прослышав, что все подступы к Смоленскому кладбищу завалены гробами, он полюбопытствовал взглянуть на столь удивительное зрелище и отправился туда верхом вместе с мужем старшей дочери Огюстом Робер. Прибыв на место, им захотелось взглянуть, действительно ли мертвецы, ставшие жертвами ужасной болезни, мгновенно после смерти чернеют (откуда и название «черной оспы»). Убедились ли они в этом или нет, я не знаю, но через день или два у обоих, и у тестя и у зятя, обнаружились признаки недуга, а еще через несколько дней оба они уже лежали рядышком в земле, но не на Смоленском кладбище, а на Волковом.
Вся семья дедушки изображена целиком на картине, писанной каким-то другом дома, по фамилии, если я не ошибаюсь, Оливье. Это совершенно любительское произведение, над которым в былое время принято было у нас потешаться из-за его слишком явных погрешностей в рисунке, досталось по наследству мне. Но как раз любительский характер этой картины в последующие годы (когда начался культ всякого примитивизма в искусстве, а строгие академические заветы стали постепенно забываться) — возбуждал восторги всех моих гостей. Иные из них ничего другого на стенах не удостаивали внимания, кроме именно этого портрета «в манере таможенника Руссо». Нельзя, однако, отрицать, что в этой картине так же, как и во многих подобных непосредственных и ребяческих произведениях, было действительно масса характерности.
На этой группе фигурирует между прочим и мой отец — пятилетний Коленька Бенуа. Он сидит, улыбающийся и бравый, позади братьев и сестер на комоде; на голове у него казацкая шапка, а в руке он держит знамя с двуглавым орлом. Видно, в те дни он был таким же милитаристом, каким я был в детстве, но впоследствии ни в нем, ни во мне ничего от этой воинственности не осталось. Укажу тут же, что один из братьев отца — Михаил (изображенный справа на портрете) готовился посвятить себя военной карьере и воспитывался в кадетском корпусе; дойдя по службе до чина полковника, он завершил свой жизненный путь воспитателем в Пажеском корпусе. Типичный вояка николаевской эпохи, этот дядя Мишель представлен на акварели Горавского сидящим верхом на стуле с длинной трубкой в руке.
Овдовев неожиданно, бабушка оказалась в несколько затруднительном материальном положении, и ей пришлось сократить весь образ жизни. Младшие ее дети были еще малютками, и они требовали особенного ухода. К счастью, личное благоволение императрицы Марии Федоровны к бабушке выразилось в том, что ей была ассигнована значительная пенсия, а воспитание нескольких детей взято на казенный счет. В особо привилегированном положении оказался мой отец, бывший крестником царицы. Ввиду того, что он уже в детстве обнаруживал влечение к искусству, его взяли из немецкого Петропавловского училища и определили на полный пансион в императорскую Академию художеств, что предопределило всю его дальнейшую судьбу. Прибавлю для характеристики самого дедушки и бабушки, что, по заключенному при их вступлении в брак договору, все их мужское поколение принадлежало католической церкви, все же женское — лютеранству (каковым было и вероисповедание самой бабушки). Эта религиозная разница нисколько не отразилась на сердечности отношений между братьями и сестрами, и скорее именно ей следует приписать ту исключительную широту взглядов, ту веротерпимость или, точнее, вероуважение, которыми отличался мой отец, да и вообще все члены семьи Бенуа.
ГЛАВА 5 Предки с материнской стороны
Мои предки с материнской стороны, пожалуй, более «декоративны», нежели предки с отцовской. Они принадлежали если не к венецианской знати, то к зажиточной буржуазии Венеции. В XVII веке какой-то Кавос — бывший, если я не ошибаюсь, каноником одной из главных церквей Венеции, сделал щедрый дар библиотеке Сан-Марко, а мой прапрадед Джованни Кавос состоял директором театра «Фениче». Сын его Катарино был необыкновенно одарен в музыке. Двенадцатилетним мальчиком он написал кантату в честь посетившего Венецию императора Леопольда II, а в четырнадцать сочинил для театра в Падуе балет «Сильфида». Концерты, которые он давал в «Скуоле Сан-Марко» (что близ церкви Сан-Джованни в Паоло) и в соборе Св. Марка, пост органиста в котором он получил по конкурсу, привлекали толпы венецианских меломанов. Однако после падения Республики Катарино, как и многие его сородичи, предпочел отправиться искать счастья в чужие края, и после короткого пребывания в Германии он оказался в Петербурге, где талант Катарино Кавоса был вполне оценен и где он вскоре поступил на службу в императорские театры.
Мой прадед, состоявший «директором музыки» в Петербурге, написал множество опер, балетов и симфонических сочинений, часть которых сохранилась в архивах дирекции императорских театров. В истории русской музыки Кавос заслуживает особенно почетного места как непосредственный предшественник Глинки. Свидетельством его благородного бескорыстия является то, что, ознакомившись с партитурой своего младшего собрата на тот самый сюжет, на который он сам уже сочинил оперу «Иван Сусанин», прадед признал преимущество этой «Жизни за царя» и, по собственному почину, снял с репертуара свое произведение, дав таким образом дорогу своему молодому и опасному сопернику. К сожалению, о характере музыки моего прадеда я могу судить лишь по его романсам, исполненным нежной мелодичности, и по тем куплетам торжественного характера, которые были сочинены им в ознаменование вступления союзных войск в Париж в 1814 году. По установившейся традиции, этими куплетами завершался каждый ежегодный Инвалидный концерт, дававшийся всеми военными оркестрами в Мариинском театре. Должен сознаться, что куплеты Кавоса, слышанные мной несколько раз в юности, не производили на меня большого впечатления, и мне кажется, что они едва ли поднимались выше обыкновенного уровня того времени.
На акварельном портрете Катарино Кавоса, работы Осокина, висевшем у папы непосредственно под акростихом Луи Жюля Бенуа, представлен немолодой, изысканно одетый господин. Волосы над высоким лбом взбиты коком, щеки с бакенбардами подпираются высоким воротником рубашки, широкий черный галстук туго забинтован, жилетку форменного зеленого вицмундира с золотыми пуговицами перерезает длинная раздваивающаяся цепочка, в жабо рубашки вставлена рубиновая запонка. На шее красуется орден Св. Владимира. Характерность лицу придает выдающийся сильно горбатый нос (завещанный им многим из его потомков), а вся осанка обладает известной важностью. В то же время чувствуется, что этот человек только старался казаться строгим и взыскательным, что на самом деле под напускной личиной жил характер типичного венецианца, очень добросовестного в исполнении своих обязанностей, очень усердного в работе, необычайно благожелательного, а в отношении своих интересов скорее беспечного. Семейные предания и печатные источники рисуют его, кроме того, как человека независимых убеждений, великого ненавистника низкопоклонства, ябеды и судачества. Умер Катарино Кавос сравнительно еще не старым (65 лет), 28 апреля 1840 года.
Деятельность двух сыновей Катарино протекала также на новой родине, в России. Младший, Джованни, избрал своей профессией музыку и состоял одно время помощником отца в опере, старший, Альберто, мой дед с материнской стороны, окончил Падуанский университет по математическому факультету и занял затем на архитектурном поприще одно из самых выдающихся мест в России. Альберт Кавос (1801–1862) приобрел даже широкую известность как специалист по постройке театров, а монументальный труд его по этому вопросу считался классическим. Смерть похитила моего деда в тот самый момент, когда проект, составленный им для большой Парижской оперы, одобренный Наполеоном III и министром Фульдом, имел много шансов быть принятым. Едва ли «Гранд-Опера» дедушки была бы столь же эффектной, как знаменитое произведение Шарля Гарнье, но можно быть уверенным, что его театр лучше отвечал бы требованиям удобства и акустики и что зрелище на сцене не было бы так раздавлено окружающим сцену тяжелым, давящим великолепием. Такое предположение навязывается само собой, если сравнить зрительный зал Мариинского театра со зрительным залом Парижской оперы.
Вообще на свете едва ли существует более приветливое театральное помещение, нежели этот необычайно просторный воздушный зал Мариинского театра, построенный с таким расчетом, чтобы с каждого места, будь то последнее кресло в ложе или самое крайнее место в «парадизе», открывалась вся сцена. Но и декоративная отделка зала Мариинского театра в своем роде совершенство. Правда, тот стиль «рококо Луи Филиппа», в котором выдержаны орнаменты его, не пользуется сейчас признанием, однако сама по себе вся система этой декорировки необычайно грациозна и лишена какой-либо навязчивости, а комбинация голубых драпировок лож и обивки барьеров и кресел с позолотой на общем фоне создают гармонию удивительной праздничности и в то же время уютности. Замечательно, что даже в худшие времена петербургской жизни, в 1919, 1920, 1921 годы, несмотря на то, что вся публика была одета на пролетарский лад — зал Мариинского театра сохранял свою аристократичность, наводил даже на большевистских «товарищей» какой-то лоск «хорошего тона».
Совершенно в другом роде был зрительный зал Большого театра, снесенного в начале 90-х годов, и его близкое подобие — существующий до сих пор зал Большого театра в Москве — оба также произведения моего деда. В обоих преследовалась задача поражать богатством и роскошью, и задача эта доведена даже до некоторого эксцесса именно в московской Опере, вероятно, потому, что полное возобновление театра было спешно закончено к специальному моменту — к коронационным торжествам 1856 года.
В обоих театрах отделка красная с золотом, причем золото покрывает почти сплошь всю архитектурную поверхность. И эти два зала в смысле нарядности почитались образцовыми, не говоря уже о том, что их акустика отвечала самым строгим требованиям.
Громадные заказы, которыми был завален дед Кавос, позволили ему достичь значительного благосостояния, а оно дало возможность вести довольно пышный образ жизни и отдаваться коллекционерской страсти. Его дом в Венеции (на Канале Гранде) был настоящим музеем. Дедом построен там же вместо глухой стенки, служившей оградой узенькому садику, выходившему на канал, существующий поныне переход на мраморных колоннах. Чего-чего не скопилось в этом венецианском доме. Превосходные картины, рисунки, старинная мебель, масса зеркал, фарфора, бронзы, хрусталя. Все это, однако, было расставлено и развешено так, что производило впечатление антикварного склада. Впоследствии многие из этих вещей были перевезены в Петербург, а после смерти деда в 1864 году поделены между вдовой и другими наследниками. Больше всего досталось старшему сыну Альберту Сезару, но немало картин и других вещей из его собрания украшало в 80-х годах нашу квартиру, а также квартиры бабушки Кавос и дяди Кости.
И этого своего деда Кавоса я не имел счастья знать — он умер за шесть лет до моего появления на свет, но все же мне он был более близок, нежели дедушка Бенуа. Моей матери было тридцать четыре года, когда она его потеряла, его вдова была непременным членом нашего семейного круга; его лично помнили мои сестры и старшие братья, да и среди наших знакомых многие любили о нем рассказывать. Меня же к покойному дедушке особенно влекла унаследованная от него коллекционерская страсть. Очень рано я стал чувствовать к нему род признательности за то, что именно благодаря этой его страсти, о которой с меньшим восторгом отзывалась моя мать, у нас было столько красивых вещей; чудесная же Венеция в целом продолжала, благодаря этим семейным сувенирам, быть чем-то для меня родным и близким. Когда часами я разглядывал висевшую в кабинете папы длинную узкую раскрашенную панораму Венеции (с неизбежной луной), когда я мечтал о том, как сам буду когда-нибудь плыть мимо этих дворцов, когда я изучал в зале маленькие две картинки, представлявшие виды дедовского палаццо, — то мне казалось, что я все это уже знаю и что во мне оживают жизненные восприятия, симпатии, радости и художественное любопытство дедушки. Сам же он на меня глядел молодым человеком с холста, писанного Натале Скьявоне, человеком средних лет с овальной литографии 40-х годов и уже стариком с фотографии, висевшей в папином кабинете. Всюду дедушка на этих изображениях меня пленил своей элегантностью и своим барством. Мне было почему-то лестно, что я его внук, что во мне течет его кровь. Я знал также, что и весь образ его жизни пришелся бы мне по вкусу. Дом его был поставлен на широкую ногу, а постоянное сношение с родиной должно было придавать этому дому тот ореол заграничности, который как-то сливался у меня с представлением об аристократичности. Этот же тон поддерживали и оба сына, родные братья моей матери. Напротив, я чуть сетовал на моих родителей, что они этого тона не придерживались, что они даже создали себе идеалы и принципы какого-то «благоразумного, буржуазного умеренного образа жизни» и что весь порядок в нашем доме носил скорее простоватый оттенок.
ГЛАВА 6 Бабушка Кавос
Вдова дедушки Кавос и после его смерти продолжала занимать видное положение в нашем семейном кругу, ей же было уделено самое почетное место в домашних торжествах. Все ее обожали, и не только «линия Кавос», но и «линия Бенуа». Между тем она не была родной бабушкой в прямом смысле — «бабушка Кавос» была второй женой дедушки.
Ксения Ивановна Кавос была живописнейшей фигурой. В молодости она была писаной красавицей, и роман между нею и дедом возник совсем так, как писали в книжках эпохи Сю и Мюрже. Проходя как-то по одной из линий Васильевского острова, Альберт Кавос увидел в окне нижнего этажа очаровательную блондинку, занимающуюся шитьем. Недолго думая, дед вошел в эту белошвейную мастерскую и заказал хозяйке дюжину сорочек, дав довольно крупный задаток. Явившись за ними через неделю, он уже вступил в беседу с очаровательной блондинкой, после чего произошло более близкое знакомство с ее уважаемой матушкой, а уже через месяц он сделал Ксении Ивановне предложение. После свадьбы молодые тотчас же уехали за границу, и несомненно, именно то обстоятельство, что масса совершенно новых впечатлений сразу нахлынула на юную (ей было лет семнадцать) Ксению Ивановну, что эти впечатления сочетались с самыми счастливыми моментами ее жизни, с истинным «медовым месяцем», проведенным в обществе молодого, красивого и блестящего человека, это обстоятельство (это стечение обстоятельств) произвело то, что Италия получила для этой простой русской девушки значение какой-то обетованной земли и чуть что не рая земного.
Этому культу Италии и всего итальянского мадам Кавос осталась затем верной на всю жизнь. Ни малейшей критики Италии она в своем присутствии не допускала. Все там было безоговорочно прекрасно — и местности, и здания, и картины, и статуи, и люди, и нравы, и, разумеется, музыка. Прекрасны Рим, Неаполь, Флоренция, но все же прекраснее всего была Венеция — родина мужа, где она оказалась хозяйкой очаровательного дома насупротив божественной Салуте. Хотя дом был меблирован старинной мебелью и увешан старинными картинами, однако все казалось таким чистеньким, светлым, ярким, так весело играло на потолках отражение зыби каналов, а в открытые окна среди заколдованного венецианского безмолвия так весело врывались клики гондольеров. Кроме того, Ксении Ивановне был оказан радушнейший прием, чисто итальянский прием со стороны кавосских родных и знакомых, и, в частности, со стороны тонко образованной ее невестки Стефани Корронини, которая ее сразу взяла под свое покровительство и занялась ее светским воспитанием.
К сожалению, венецианская идиллия не могла продолжаться до бесконечности. В Петербурге деда ждали большие постройки, и, между прочим, надлежало строить здание Императорского цирка (то самое здание, которое было затем перестроено им же в Мариинский театр), — и вот молодые, после нескольких месяцев отсутствия, снова оказались в Петербурге, на сей раз в казенной квартире, предоставленной деду в одном из флигелей Пажеского корпуса. Ксении Ивановне выпало на долю не только воспитание своих собственных детей, но и трех уже взрослых мальчиков и одной девушки. Последняя, впрочем, воспитывалась вне дома — в Смольном институте для благородных девиц. И вот постепенно, благодаря врожденному такту, молодая женщина завоевывает искреннюю любовь всех этих «детей», да и сама принимается их любить как своих. Можно даже сказать, что в некотором смысле она этих чужих детей предпочитала тем, которых сама родила: двух мальчиков и одну девочку. Возможно, что в последних ее раздражало как раз их слишком определенное, от нее унаследованное русское начало. Те «чистокровные венецианцы» вышли такими же «тонкими» людьми, каким был ее муж (и какими ей рисовались чуть ли не все итальянцы), тогда как в ее мальчиках, даром что старший сын Миша сразу стал выказывать блестящие способности, ее тревожила какая-то склонность к грубоватой прямолинейности. Зато единственная дочь Софи не уступала по красоте матери, и бабушка в ней души не чаяла.
Надо, впрочем, сказать, что сама бабушка Кавос так и не преуспела вполне в смысле усвоения светского тона и светских манер. Свое происхождение она выдавала как некоторыми оборотами речи, так подчас и слишком резкими жестами, в которых она, пожалуй, старалась походить на своих любезных итальянцев. Чуть грешила она и порывами невоздержанной веселости или слишком ясно выраженными вспышками гнева. Но выручали ее величественность осанки, ее уменье одеваться, причесываться, ее природная ласковость и гармония ее походки.
Совершенной королевой она выглядела на большом поколенном портрете 40-х годов Скьявоне и не менее величественной — на рисованном портрете Беллоли. Дед мог вполне гордиться своей находкой, а о том, что он совершил своего рода мезальянс, все со временем забыли. Когда подросла и стала выезжать моя мать, то бабушка, хотя и казалась почти одних лет с ней, с большим тактом и с подобающей сердечностью играла роль опекающей, а у себя дома она умела и принять, и угостить, и занять. Тут пришелся кстати ее столь быстро усвоенный «итальянизм». Это создало ей в те дни бешеного увлечения итальянской музыкой и итальянской оперой особый ореол. Она перестала быть петербуржанкой, а превратилась в какое-то своеобразное подобие чужестранки, а ведь еще со времен Петра за иностранцами сохранялось в столице до некоторой степени привилегированное положение.
Увы, супружеское счастье Ксении Ивановны не было прочным. Постепенно Альберт Катаринович, страдавший вообще непостоянством, охладел к своей красавице-жене, стал ухаживать за другими и наконец попался в лапы одной заправской интриганки. Измена мужа омрачила существование Ксении Ивановны, а после его смерти возникли и заботы материального порядка. Оба своих петербургских доходных дома дед завещал своей новой пассии и, вероятно, передал ей, кроме того, значительную сумму денег. После раздела остального наследства пришлось сократить образ жизни Ксении Ивановне, а дочь ее, тетя Соня, только что вышедшая замуж за Митрофана Ивановича Зарудного, оказалась почти бесприданницей. К довершению горя, эта очаровательная молодая женщина умерла в родах первого же ребенка, и бабушке пришлось взять на себя воспитание внука. Однако когда я мальчиком лет четырех начал «осознавать» бабушку, то и следов всех этих потрясений не оставалось. За несколько лет бабушка при помощи сыновей успела привести в некоторый порядок свои дела, забыть о горестях и обидах, а к памяти мужа она выработала в себе настоящий пиетет. В ее квартире, менее обширной, нежели прежняя, но все-таки нарядной, висели его портреты вперемежку с ее собственными, в гостиной на особом постаменте красовалась севрская ваза, присланная Наполеоном III при собственноручном письме императора к деду, а целую стену спальни занимали картинки, представлявшие внутренность Кавосского дома в Венеции. Кроме того, в столовой, в гостиной и даже в коридоре были развешаны акварели и сепии Зичи, Садовникова, Шарлеманя, изображавшие фасады и внутренности построенных дедом театров, а также ту грандиозную иллюминацию, которой в дни коронации Александра II было ознаменовано открытие Большого театра в Москве.
Я, вероятно, не раз бывал у бабушки Кавос в детстве, но воспоминаний об этом у меня не сохранилось. Зато незабываемым остается тот день ранней осени 1884 года, когда у бабушки был устроен парадный обед в честь моего брата Миши, только что женившегося на своей кузине Ольге Кавос (дочери дяди Кости). Весь обед состоял из венецианских национальных блюд, а в качестве основного блюда, сейчас после минестроне, была подана тембаль-де-макарони, специально заказанная у знаменитого Пивато на Большой Морской. Однако не все это угощение и не несколько бокалов шампанского наполнили мою душу тогда каким-то особенным восторгом, а то наслаждение, которое я испытывал благодаря чувству зрения. Много всяких венецианских сувениров было и у нас, и у наших дядьев, но здесь сувениры составляли одно целое, удивительную, единственную в своем роде гармонию. Восхитительно сверкали свечи в хрустальных люстрах, отражаясь в зеркалах, вставленных в изощренные золоченые рамы с живописью на них Доменико Тьеполо. Толпой стояли на комодах и по этажеркам изящные фарфоровые фигурки. Самая сервировка была особенная; даже стекло стаканов и графинов, даже вышивки на скатертях и на салфетках были не такие, какие я встречал в других домах. Вероятно, бабушка к столь торжественному случаю вытащила со дна сундуков самое ценное и заветное, а может быть она и призаняла кое у кого из своих итальянских знакомых. Только прислуга была совсем не похожа на венецианскую. То был типичный русский лакей с длинными бакенбардами, который состоял на службе у одних наших родственников, но которого всегда брали напрокат все, кто нуждались в его глубоких познаниях обеденного этикета, и то была тоже архирусская старушка горничная; иногда же из далекой кухни появлялась «сама Лидия» — русская кухарка, выучившаяся наизамысловатейшим итальянским блюдам, и появлялась она затем, чтобы по традиции выслушивать комплименты по поводу всякого нового созданного ею шедевра.
Бабушка к этому обеду особенно принарядилась; впрочем, принарядилась она во все то, что неизменно облекало ее на подобных же торжествах. Следов прежней красоты не оставалось в этой шестидесятипятилетней, несколько расползшейся женщине, но царственного величия, смешанного с ласковой веселостью, у нее было еще сколько угодно. Она очень волновалась, и вследствие того лицо ее пылало румянцем, но это ей скорее шло и отлично вязалось с седыми волосами и с тем из венецианских кружев построенным чепцом, что венчал ее голову. На плечах же и поверх темно-фиолетового канаусного платья у нее была знаменитая белая мантилья, отороченная горностаем. Мех порядком пооблез, а бархат начинал обнаруживать следы долголетнего служения, но это была все еще очень нарядная и очень пышная вещь, говорившая о славе и о великолепии былых времен. Рядом со своим прибором, по стародавнему обычаю, лежал веер, и когда изредка бабушка им обмахивалась, то до полной иллюзии создавалась картина прошлого, и вовсе не прошлого бабушки, а более далекого — какой-то Венеции Гольдони или Гоцци. Как раз я тогда только начал определенно и не совсем уж по-мальчишески вкушать прелесть стародавних времен, и, вероятно, именно потому меня все это так поразило и так запомнилось.
К сожалению, в той квартире, которая так меня поразила в 1884 году, бабушке недолго оставалось жить. Ей пришлось выселиться из-за какой-то перестройки всего дома (то был дом церкви Св. Анны на Кирочной), а та квартира, которую ей нашел дядя Миша в Поварском переулке, далеко не была такой же привлекательной и нарядной. Неприятное впечатление производило уже то, что парадная лестница — светлая и пологая внизу, становилась все круче и темнее, приближаясь к квартире К. И. Кавос, занимавшей весь верхний этаж. Да и потолки в комнатах были не такие высокие, и расположение комнат, которые перерезал длинный и темный коридор, было довольно нелепым. Много из обстановки перед переездом пришлось распродать, а многое было продано в последующие годы, в удовлетворение все той же страсти бабушки к Италии и ее потребности изредка посещать свой «парадиз». Ушли, таким образом, наиболее ценные вещи — бронзы Джованни ди Болонья, изумительная резная шкатулка XVI века, расписные и инкрустированные шкафики, какие-то замечательные ширмы и многое другое. В те времена ежегодно в Петербурге появлялись (и останавливались в «Европейской» гостинице) агенты больших антикварных фирм, о чем сообщалось в газетах, и вот им бабушка и предпочитала продавать свои редкости, так как таким образом легче удавалось оставлять сделку в тайне. На вырученные деньги бабушка, не затрагивая скромного капитала, ехала затем в Венецию, где и проводила в необходимой для ее души атмосфере два или три месяца.
Было время, когда эти поездки бабушки я ценил чисто эгоистически. Она привозила оттуда мне, младшему из ее внуков, то труппу преуморительных фантошек, то целый театрик. Но позже я уже негодовал, когда узнавалось, что безвозвратно ушла та или другая из бабушкиных художественных драгоценностей, негодовали и другие члены семьи, предлагавшая им покупать то, что она обрекала на продажу. Бабушка все же предпочитала свой способ — по крайней мере не влекший за собой лишних разговоров.
В последние годы своей жизни бабушка очень изменилась. Что-то не ладилось с ногами, и она утратила свою прелестную легкость поступи: ей приходилось опираться на костыль. Однако лицо, хоть и превратилось в старушечье, оставалось в своем роде привлекательным и необычайно благородным. Теперь она еще более напоминала осанку и ласковую величественность Екатерины II, какими мы себе представляем их по портретам государыни. И тем более контрастными сделались всякие причуды и чудачества бабушки, с годами только усилившиеся. Ее бесцеремонный резкий тон, бывший когда-то только чарующим, теперь приобрел почти карикатурную по своей резкости форму. Не совершенно отвыкла Ксения Ивановна и сдерживать свои порывы гнева, выражавшиеся подчас совершенно недопустимым образом. Другие чудачества бабушки носили невинный характер. К ним относилось и то, что она поминутно и по всякому поводу восклицала: «Sant Antonio di Padova…» Это восклицание она затем русифицировала и превратила в совершенно фамильярное «Святой Антон» и даже просто «Антошка». За это маленькие правнуки ее, дети Жени Кавоса, прозвали ее «Бабушкой-Антошкой», и под этим прозвищем она стала известна и в более широких кругах.
Милая Бабушка-Антошка! Я чувствую здесь потребность высказать ей несколько слов специальной и личной благодарности. Ксения Ивановна, быть может, памятуя, как ей трудно было преодолеть вначале разные противодействия и недоброжелательства в том обществе, в которое она вступила, относилась вообще снисходительно, а то и просто покровительственно к разным возникавшим в нашей семье романам. Необычайно милостиво относилась она и к моему «роману жизни», и это в такие времена, когда обе наши семьи были оскорблены нашим поведением — не менее, нежели родные Ромео и Джульетты. Подумайте только: Шура стал ухаживать за Атей Кинд — за сестрой той самой Марии Карловны, «с которой только что разошелся его брат Альберт» или «Атя собирается замуж за Шуру Бенуа…» Напротив, бабушка Кавос, питавшая несомненную симпатию к моей возлюбленной, только повторяла: «Пусть делают, что хотят, и вы увидите, что они найдут друг в друге счастье». Впрочем, бабушка и вообще отличалась большой сердечной мудростью и прозорливостью. В свойственной ей шуточной форме, смешивая русские, французские и итальянские выражения, она иногда делала очень меткие характеристики или освещала какое-либо «создавшееся положение» с надлежащей стороны. Естественно, что ее привлекали к себе люди с родственной душой. Ей моя Атя именно тем и нравилась, что больше, чем в других, она в ней находила прямодушие, природную веселость и решительное отсутствие ломанья или позы.
Особенной же симпатией пользовалась у бабушки Кавос ее внучка, моя сестра Камилла, у которой на Кушелевке она временами подолгу гостила. Здесь ее любимым местопребыванием была большая, покрытая тентом терраса перед домом, с видом на поросший водяными лилиями пруд… Сидя часами на самом краю этого балкона, там, где тент не препятствовал солнцу ни греть, ни светить (зябкая бабушка даже летом куталась в свою мантильку), положив больную ногу на табурет, она оттуда следила за возней и за играми детей Камиллы в саду. Не вспоминала ли она при этом то время, когда ее родные дети, и среди них очаровательная Сонечка, так же играли и возились в узком садике венецианской «Каза Кавос»? Увы, не одну Сонечку, но и всех трех своих детей бабушка пережила, и не оставайся при ней сын Сони — Сережа Зарудный, постепенно превратившийся из крошки-сироты в правоведа, а из правоведа в господина прокурора, то с ней некому было бы жить, некому было бы и завещать то милое, памятно родное, чем и после всех переездов и после всех продаж битком была набита ее квартира. Скончалась бабушка среди всех этих сувениров глубокой старухой, но ни мне, ни Ате не удалось проводить ее до последнего ее жилища — мы в это время (1903) жили в Риме.
ГЛАВА 7 Мои родители
Моего отца я не помню иным, нежели довольно пожилым человеком, с седыми волосами и бакенбардами, с начинающейся лысиной и в очках. Папе было около пятидесяти семи лет, когда я родился, самые же ранние мои воспоминания о нем относятся к тому моменту, когда он вступил в седьмой десяток. Немолодой казалась и мама, хотя она была на пятнадцать лет моложе своего мужа. Вероятно, она состарилась преждевременно от многочисленных родов. Да она и вообще была довольно хрупкого сложения. Я ее помню сильно сутуловатой, с известной склонностью к полноте, с легкими морщинами на лбу. Но не такой она выглядит на портрете Капкова, начала 50-х годов, висевшем у нас в гостиной. Там она представлена такой, какой ее взял папочка — совершенно еще юной, тоненькой, прямой. Я даже не совсем верил, когда мне говорили, что это мама, и удостоверялся я в том, что это та же обожаемая мамочка, с которой я никогда не расставался, по чисто внешнему признаку — по знакомой лорнетке, которую она на портрете держит в своих бледных прозрачных руках. Знакомо мне было и несколько грустное выражение лица этой дамы — выражение, отлично подмеченное художником. Ведь в основе характера мамочки лежала какая-то грусть: она как-то не доверяла жизни, ей казалось, что на нее и на близких отовсюду и везде надвигаются какие-то напасти. Моментами это недоверие принимало болезненный оттенок — например, при любой поездке в экипаже и особенно в санях, тогда взгляд ее становился растерянным, страдальческим и она хваталась за все руками.
Непрерывно она была озабочена и нашим благосостоянием. Тревога из-за недостаточной обеспеченности ее мужа и ее детей тем более ее терзала, что мама, в противоположность мужу, не была религиозной. Впрочем, она исповедовала какую-то свою религию, несколько материалистического оттенка. Возможно, что в глубине души она и вовсе не верила во что-либо сверхъестественное (и менее всего в загробную жизнь), но об этом она предпочитала молчать, и подлинные, но тайные убеждения ее лишь изредка, невзначай прорывались наружу. Не сказывалось ли в характере мамы ее венецианское происхождение? Она не была отпрыском той Венеции, которая героически воевала за господство на морях, строила церкви и дворцы сказочной красоты, а была отпрыском той Венеции, которая доживала свой век во всем разочарованная, ослабленная, изверившаяся.
Напротив, в отце жила не знавшая уныния бодрость и непоколебимое упование на Господа. Я его помню всегда веселым, жизнерадостным, вовсе не озабоченным тем, что будет дальше. О бережливости у него было самое сбивчивое представление, тогда как бюджетом нашего дома заведовала хрупкая мамочка. Пользуясь советами своих двух братьев, она даже пробовала (временами не без удачи) производить кое-какие финансовые операции, мало что в них понимая по существу. Папочке же всякая возня с деньгами, с банками была абсолютно чуждой, и, увы, эту черту я от него унаследовал. Папа только думал о своем искусстве, о своей семье, о том, как бы доставить всевозможную приятность своим детям, а главное — как бы ему нагляднее выразить свое обожание их матери; завтрашний же день для него просто не существовал. И это его отношение к жизни коренилось в глубокой религиозности. По воскресеньям, во всякую погоду, он отправлялся в церковь и отстаивал всю мессу на коленях, внимательно следя по молитвеннику за ходом богослужения. Раз в году, на Пасху (а иногда и чаще), он исповедовался и причащался, а его духовник — уютный, тихий старичок-доминиканец патер Лукашевич был другом дома, постоянным участником наших домашних событий и торжеств.
В отце при этом не было и тени какого-либо ханжества или однобокого фанатизма. Веря безоговорочно во все то, чему учит католическая церковь, он в то же время крестился на все православные храмы, а когда ему случалось присутствовать при каком-либо богослужении в них, то он и подтягивал вполголоса певчим, так как с академических времен знал все русские обрядовые слова и напевы. С великим почтением он относился также к лютеранским и реформатским священнослужителям, а также к представителям еврейства.
Широкая веротерпимость (или даже известная форма пантеизма) выразилась однажды у папы в том ответе, которым он меня поразил, когда я, лет десяти, как-то обратился к нему с вопросом — существовали ли в действительности Юпитер, Аполлон, Венера и Минерва? Я переживал тогда большое увлечение богами Греции и Рима и не уставал разглядывать их изображения в книгах или их изваяния во время прогулок по Петергофу и по Летнему саду. В связи с этим увлечением меня мучила мысль, что эти дивные существа никогда на самом деле не жили, а являются лишь человеческим вымыслом. И вот, когда я это сообщил папе, то он не только не высказал решительного отрицания существования этих языческих богов, но допустил мысль, что они когда-то были и жили, чем он меня осчастливил бесконечно, так как компетенция его в таких вопросах была для меня неоспоримой.
Что же касается до моего отношения вообще к отцу, то для периода раннего детства я не могу иначе его характеризовать, как словом «обожание». Мама составляла в те годы (лет до шести) столь неразрывное со мной целое, что я даже как-то не ощущал ее в отдельности, и поэтому я даже не мог и обожать ее — ведь обожание означает некое объективное отношение. Напротив, при всей моей близости к папе, личность его представлялась мне отдельной; я его видел, я к нему обращался, я что-то от него ждал и получал. И у меня сохранился от тех далеких дней детства целый ряд воспоминаний о нем, тогда как о маме для тех же лет у меня их до крайности мало.
Папочку я вижу, как он меня носит в ночную бессонницу по всей квартире, стараясь успокоить, когда я весь дрожу после напугавшего меня кошмара. Или вот, посадив меня на колени, он любуется, как я, схватив карандаш, быстро покрываю лист за листом своими каракулями. Или еще он меня, уже раздетого для спанья, в одной рубашонке, а то и просто нагишом, показывает, как Петрушку, над альковной перегородкой ахающим от умиления тетушкам. А вот и такие ранние воспоминания: я на коленях у папы и испытываю предельное блаженство, глядя, как из-под его карандаша появляются на бумаге солдаты, барабанщик у часовой будки, лающие собаки и спящие кошки, рыцарь, весь закованный в броню, санки, запряженные рысаком, или какие-либо шутки, карикатуры. Смеясь при виде их до слез, я тычусь головой в его халат, а он меня тискает, щекочет и с упоением целует, приговаривая «папин сын».
Каждый раз при этих воспоминаниях я отчетливо вижу свое божество таким, каким я его видел в те дни. Я вижу его добрую улыбку, его милые серо-зеленые глаза, прикрытые поблескивающими очками. Я ощущаю и запах его пропитанного сигарами халата, я различаю жилки на его стареющих руках, я слышу его голос, его шутки и прибаутки или те прозвища, которые он давал всем нам на каком-то вымышленном языке, — целая серия этих слов была посвящена именно мне — последнему. А вот папочка сел за рояль в гостиной и играет (по слуху) полковой марш, я же под него марширую с ружьем в руках и с каской на голове, стараясь производить повороты «совсем по-военному». Вижу папу и за работой в те дни, когда мне было строго запрещено мешать ему. Дымя сигарой, он что-то рисует на одном из высоких столов в чертежной, и группа помощников обступает его, внимательно следя за тем, что он им, не переставая рисовать, объясняет. Или вот в своем кабинете он сидит на стуле с вычурной спинкой и с кожаным сиденьем и что-то пишет, пишет при свете той особой масляной лампы, которую он сберег с древних времен своей юности.
Не могу не рассказать здесь же (а то где еще найдется для этого место) об этих, только что упомянутых, постоянных помощниках папы, которые в то время были «своими людьми» в нашем доме и к которым я очень благоволил, так как и они всячески баловали меня. Особенно ласков был Карл Карлович Миллер, уже пожилой немец с темно-малиновым лицом, но его ласк я побаивался из-за его плохо выбритой, ужасно колючей бороды. Контрастом ему являлся Антонин Сергеевич Лыткин — молодой, высокий, довольно красивый господин с длинной холеной бородой. Лыткин сохранял постоянно достойную серьезность, под которой, впрочем, было больше стеснительности, нежели спеси. Третьим помощником был Саша Панчетта, которого скорее следует зачислить в категорию «домочадцев». Он был пасынком доктора деда Кавоса, синьора Киокетти, и хотя сам доктор давно отошел к праотцам, однако вдова его и ее сын продолжали быть чем-то вроде членов нашей семьи. Без них не обходилось ни одно сборище, а кроме того Панчетта, избравший архитектурное поприще и пожелавший состоять у папы в помощниках, мог являться к нам чуть ли не ежедневно.
Панчетта числился помощником, но в сущности его «помощь» сводилась к нулю. Он и его печальная мамаша обладали достаточным состоянием, чтобы вести незатейливый, но и безбедный образ жизни, и этим они удовлетворялись вполне. Отсюда непробудная лень Александра Павловича. Панчетта проболтается с четверть часа в чертежной, а затем норовит проникнуть в другие комнаты и подсесть к маме или к сестрам, занимая их разными разговорами. Темами служили: погода, извозчики, дворники, дурные мостовые, взятки полиции и т. д. При этом Саша Панчетта имел замашки «настоящего элеганта». И всклокоченная, но расчесанная борода, в которую он то и дело просовывал пальцы с предлинными холеными ногтями, и криво свисавшая на лоб прядь волос должны были свидетельствовать о принадлежности Панчетгы к людям лучшего общества. В смысле общества, однако, он довольствовался нашим домом и еще двумя-тремя такими же художественными, отнюдь не светскими домами. Надо прибавить, что беспредельное благодушие этого никому не нужного и совершенно бездарного, но все же в своем роде милого человека обеспечивало ему всюду если не радостный, то все же радушный прием, и всюду он был на положении какого-то далекого родственника. Ребенком я его очень любил, хотя меня смущали его длинные ногти и то, что Саша Панчетта сильно косил, что придавало ему всегда растерянный и недоумевающий вид.
Был у папы в моем детстве еще и четвертый помощник, по фамилии Мореплавцев. Это был исключительно даровитый человек, превосходный рисовальщик и акварелист, но, к сожалению, он был сумасшедшим. Временами он произносил самые несуразные речи, среди разговора или работы начинал как бы к чему-то прислушиваться, вдруг хватался за шапку, мчался на улицу, а через минуту, крадучись, возвращался и снова садился за работу как ни в чем не бывало. Естественно, что о нем у нас было много разговоров, я на него взирал с некоторой опаской и с большим любопытством. Папа пробовал бедного Мореплавцева образумить, отечески журил его, но в общем он был им доволен и нередко поручал ему особенно трудные задачи, с которыми тот великолепно справлялся. И вдруг приходит известие, что Мореплавцев — Meereschwimmer, как стояло на оборотной стороне его визитной карточки, — зарезался бритвой. В первый раз самоубийцу удалось спасти, но во второй раз он повторил свой жест с такой энергией, что почти отсек себе голову. Произошло это событие, когда мне было не более пяти лет, но я запомнил тот ужас, с которым я представлял себе столь хорошо мне знакомого человека лежащим в луже крови с отделившейся головой.
Итак, когда я хочу вызвать в себе представление о своем отце — в те ранние годы моего существования, то я вижу его в качестве мне очень близкого, но все же отдельно от меня стоящего «божества». Напротив, я, повторяю, почти не вижу в те годы мамы. Она так тесно, так нежно окутывала меня своей заботой и лаской, что я и не мог ее видеть. Явившись на свет вскоре после кончины моей маленькой сестры Луизы, о которой мои родители не переставали скорбеть, я, естественно, сделался предметом особенного их попечения и тем, что немецкие бонны называли любимчиком.
Не встречая со стороны матери никакого сопротивления моему деспотизму, я, естественно, злоупотреблял и мучил ее. Но мог ли я это сознавать? Мог ли я в этом раскаиваться? К тому же мама никогда не жаловалась и брала меня под защиту даже тогда, когда я уже этого никак не заслуживал.
Дальнейшие взаимоотношения наши, между мной и родителями, стали меняться. По мере того что я рос и из младенца с личностью весьма смутной превращался в мальчика с независимым и довольно-таки капризным характером, связь моя с отцом стала ослабевать. А когда я из мальчика превратился в отрока, то временами эта связь и вовсе нарушалась. До настоящего разрыва, слава Богу, так и не дошло, но, несомненно, что папа и я — мы перестали понимать друг друга, и это тем более объяснимо, что между отцом и сыном разница в годах была у нас не нормальная, а в целые полвека. Теперь, впрочем, мне думается, что именно благодаря столь большой разнице мы, пожалуй, и не были так уж далеки. Ведь идеалы юности отца стали и идеалами моей юности, лишь с несколько иным оттенком. Я, как и папа, был насквозь пропитан романтикой, тогда как позитивистские идеи, которые владели умами в 70-х годах, были мне чужды и даже омерзительны. Лишь на очень недолго длившийся момент, подпав под влияние более передовых людей, я, простившись с предрассудками, приобрел четырнадцати лет и какие-то замашки циника. И вот как раз этот короткий момент и оказал разлагающее действие на мои отношения с папой. Ему, семидесятилетнему человеку, не хватило тогда внимания, чтобы разобраться в том, что во мне происходит и насколько мое мальчишеское вольнодумство неглубоко и несерьезно. Его это слишком огорчало и возмущало. Я же в силу нелепости, присущей неблагодарному возрасту, принялся тогда чуть ли не презирать отца за его отсталость. Несколько резких стычек с папой, происшедших в этот период, обострили эти недоразумения, и во мне укоренилось убеждение, что мы — натуры совершенно друг другу чуждые, не способные ко взаимному пониманию и, разумеется, при этом я мнил себя несравненно более совершенной и изощренной натурой, нежели мой уже слишком простоватый и слишком старосветский родитель…
К чему-то совершенно иному привел процесс моего отделения от матери. С момента этого отделения я только и начал вполне ее оценивать, только тогда я стал ощущать и ту глубинную связь, которая продолжала неразрывно меня с ней соединять. Постепенно из какой-то части меня самого она стала превращаться в моего друга. Первоначальный унисон заменился гармонией. И эта метаморфоза чувств происходила с постепенностью и внешней незаметностью органического процесса. Подходя к десяти годам, я стал сознавать, что я обожаю свою мать, что она мне дороже всего на свете и она меня понимает лучше, чем кто-либо. Это не значит, чтоб между мной и ею не случалось споров или чтоб я частенько не огорчал ее или на нее не обижался. Я был слишком своеволен и причудлив, чтобы вообще между мной и кем бы то ни было могли существовать отношения ровные, мирные. Надо сознаться, что свою тогдашнюю репутацию «невозможного и несносного мальчишки» я вполне заслуживал. Но как раз мамочка всему этому моему своеволью оказывала полное доверие, оно ее не пугало, и даже когда она меня бранила и упрекала, я явственно различал под сердитыми (столь ей не свойственными) тонами не только ее безграничную нежность, но именно и это ко мне доверие. Она не сомневалась, что все со временем обойдется, и может быть именно благодаря ее доверию оно и обошлось. Сколько раз в тех случаях, когда я переходил границы допустимых шалостей, а то и безобразий, мысль о том, что это может огорчить мою обожаемую, производила во мне какой-то взрыв совести и повергала меня в раскаяние. Надо тут же прибавить, что мамочка очень любила читать всякие педагогические книжки, вроде «Руководства для матерей семейства», но не эти добронравные сочинения сделали мамочку педагогом совершенно исключительной чуткости, то был у нее природный дар: читала же она эти книжки только для того, чтобы собственные свои соображения проверить и как бы увидеть со стороны.
Исключительная чуткость мамочки подсказала ей и ее поведение в том раздоре, которым омрачались мои отношения с отцом. Не будь ее, этот раздор мог бы действительно выродиться в уродливые и опасные формы. Однако мамочка активно не вмешивалась в наши недоразумения, а лишь после таких стычек у нее бывали объяснения со мной и с мужем. И странно: не столько эти увещания меня, сколько ее урезонивания папы производили на мое сердце целительное действие. При этом она отнюдь не заступалась за меня, она только объясняла меня мужу. Фраза «нужно его понять» особенно часто слышалась в этих увещеваниях, происходивших, впрочем, не в моем присутствии, а где-либо в комнате рядом. Главным же образом она старалась и своего Никола заразить доверием ко мне. В папочке было немало упрямства, и оно мешало ему отказываться от занятой позиции, однако по тону его ответов чувствовалось, что гнев его смягчается, и если между мной и им после такого объяснения и не происходило «ритуальных изъявлений мира» (это у нас в доме вообще не водилось), то на самом деле мир бывал заключен, и все возвращалось на время в свою колею.
Я только что упомянул о тех педагогических книжках, которые мама любила (или даже считала своим долгом) читать. Но она и вообще любила читать, и ее чтение вовсе не ограничивалось такой скучноватой материей, как педагогика. Напротив, она любила и романы, и исторические книги, и мемуары, и путешествия. Во всем же она главным образом искала и любила правду; и самому блестящему вымыслу она предпочитала то, что носило отпечаток реальности — «только правда хороша». Свойственное ей от природы правдолюбие было настолько даже сильно, что это лишало ее удовольствия, получаемого от всего того, в чем особенно высказывается сущность художественного творчества — фантазии. Из них двух, несомненно, папа был природным художником и поэтом, мама же прозаиком и натурой, плохо реагирующей на то, что является самым существом искусства. В картинах она любила точность, выписанность, близость к натуре, в литературе — верное воспроизведение действительности. Характерно еще, что эта дочь коллекционера чувствовала ко всяким видам художественного собирательства настоящее отвращение. Быть может, то обстоятельство, что все собранное ее отцом пошло затем прахом, развеялось и распалось, не принеся никакой реальной пользы, сыграло при этом свою роль. Картины на стенах, особенно же скульптурные безделушки, она называла «уловителями пыли» и вовсе не дорожила ими. Были случаи, когда она и очень ценные вещи раздаривала — больше из желания просто от них, ненужных и лишних, избавиться. Из истории искусства она знала то, что всякому воспитанному человеку надлежит знать, — имена знаменитых мастеров были ей знакомы, но она не была способна любоваться произведениями их, а картины таких художников, как Рембрандт или Делакруа, она должна была просто ненавидеть за то только, что они так «неряшливо написаны».
Да и к музыке у этой правнучки исключительно даровитого композитора не было настоящего художественного отношения. У нее был несколько слабый слух, она знала всего одну пьеску наизусть (ту самую, которую она когда-то выучила для выпускного экзамена в Смольном институте), а когда она разбирала по нотам, ей с трудом давался счет и особенно ритм. В опере, в которой она бывала почти каждую неделю, она больше дивилась фиоритурам и колоратурам, нежели настоящим музыкальным достоинствам; наконец, в игре на рояле она ценила только беглость пальцев и не входила в обсуждение того, как вообще следует понять то или другое произведение.
При всей мамочкиной природной прозаичности, все же никак нельзя сказать, чтобы в целом ее облик был лишен поэтичности и, еще менее, она страдала какой-то сухостью души. Напротив, она была настоящей музой моего отца и всего нашего дома. Одна ее манера думать и излагать свои мысли, ее чуткая правдивость, ее глубокое понимание других (понять — простить, была одной из ее постоянных поговорок), ее терпимость, ее беспредельная доброта, заставлявшая ее всегда и во всем жертвовать собой и совершенно отрешаться от каких бы то ни было личных утех, — все это вместе производило то, что она как-то вся светилась изнутри. Она представляла собой удивительно цельную и на редкость выдержанную человеческую личность. Иногда мне казалось, что ее печалит ее собственная неспособность разделять художественные эмоции окружающих, тогда как «излияния художественных чувств» были в нашем доме чем-то обыденным. Мне становилось жаль ее, когда она признавалась, что «ничего не видит» там, где я видел чуть ли не отверстые небеса. Однако, быть может, именно то, что она была «бездарна на художественные переживания», способствовало тому, что она была такой чудесной женщиной. Будь в ней больше какого-либо эстетического начала — я убежден, это нарушило бы ее моральный облик. В ней, маловерующей, не понимавшей фантазии, поэзии, религии и церкви, все же светилась несомненная благодать божия. Бездарная на искусства, она была одарена гениальностью сердца…
Здесь в моих мемуарах не место распространяться о художественной карьере моего отца. Она достойна целой отдельной книги, и таковую затевал мой брат Леонтий, успевший даже изготовить клише для таблиц и иллюстраций к этой монографии (лишь революция помешала исполнить его намерение, сопряженное с большими расходами). Но в нескольких словах мне все же нужно рассказать, кем был мой отец как художник и каково было его общественное положение. Мне эту задачу облегчает то, что, хотя я и застал отца уже на склоне лет, мне все же казалось, благодаря его рассказам и его бесчисленным рисункам, точно я его знал и в те времена, когда он маленьким мальчиком посещал «Петершуле», и тогда, когда благодаря повелению его крестной матери, императрицы Марии Федоровны, он был зачислен учеником Академии художеств, где он и прошел курс архитектуры, блестяще окончив его с большой золотой медалью. Благодаря рассказам папы дальнейшие происшествия его жизни приобретали еще большую отчетливость и яркость. Четыре года по окончании Академии он проводит в Москве, участвуя под руководством знаменитого Константина Тона в постройке грандиозного храма Спасителя, а в 1840 году он отправляется в заграничное путешествие, право и средства на которое давала золотая медаль, полученная еще в 1836 году.
Проехав Германию, он попадает в Италию, где и проводит почти все свое пенсионерство, главным образом в Риме и в Орвието. В 1846 году, на обратном пути, H. Л. Бенуа посещает Швейцарию, Францию и Англию, а оказавшись на родине, поступает на казенную службу и быстро завоевывает особое расположение государя Николая Павловича, для которого он создает свои помянутые выше наиболее замечательные постройки. Но умирает Николай I, на престол вступает Александр II, и в России (после разрухи Крымской кампании) водворяется эра чрезвычайной экономии, благодаря чему столь блестяще начавшаяся карьера H. Л. Бенуа тормозится, и его творческая деятельность постепенно сводится к задачам более утилитарного, нежели художественного порядка. Чрезвычайно разросшаяся семья и связанные с этим расходы заставляют его искать заработка в сфере городского самоуправления, и он выставляет свою кандидатуру в гласные Городской думы. После избрания в гласные H. Л. Бенуа вскоре назначается в члены Городской управы, в каковой должности он остается без перерыва более четверти века, почти до самой смерти, исполняя в то же время функции начальника Технического отделения столицы.
Из рассказов папы о своем прошлом меня особенно пленили те, что касались его пребывания в Италии и, в частности, в Орвието, где он со своими двумя закадычными друзьями — Резановым и Кракау — провел два года, посвятив их целиком изучению того дивного архитектурного памятника, которым с таким правом гордится этот небольшой, живописно на скале расположенный городок Папской области. С утра до вечера они проводили за работой, обмеривая и зачерчивая каждую деталь собора, для чего, с разрешения св. отца, были построены специально для них леса. Не желая оставаться в долгу перед таким одолжением, русские архитекторы собственноручно и на свой счет вымыли губками весь собор, в том числе и мозаичные картины в его тимпанах и совершенно заросшие грязью тончайшие барельефы фасада. В память этого подвига была выбита медаль, изображающая с одной стороны собор, с другой же — носящая надпись с упоминанием всех трех добровольных реставраторов. Кроме того, каждый из них получил тогда же из папской халкографии по огромному, роскошно переплетенному тому гравюр Пиранези. Через несколько лет результаты изучения собора были изданы во Франции, и до сих пор увраж этот считается образцовым для ознакомления с архитектурой Орвиетского собора.
Но не так история подвига трех друзей занимала меня в папином рассказе, как его воспоминания бытового характера, а также всевозможные встречи и анекдоты. Папочка сохранил поразительно отчетливую память о тех счастливых годах, когда он с друзьями наслаждался красотами благодатного края и с энтузиазмом изучал разбросанные по нем создания человеческого гения, мечтая о великих делах, которые и он надеялся совершить по возвращении на родину. Надо при этом заметить, что, хотя все трое и получили воспитание в строго классическом духе (свою большую золотую медаль папа получил за проект биржи, «соответствовавший во всем идеалам античности»), однако, оказавшись в Риме, они (и в особенности мой отец) подверглись воздействию тех идей, которыми была тогда насыщена вся атмосфера Вечного города.
Это было время, когда благочестивый Овербек еще продолжал свою проповедь возвращения к средневековой чистоте, когда молодые живописцы обращали большее внимание на Беато Анжелико, Пинтуриккио и Перуджино, нежели на Рафаэля, когда особенным почетом стала пользоваться архитектура романского и готического стилей и когда особенно презиралось искусство барокко с Бернини во главе. Если выбор моего отца пал именно на Орвието, то это потому, что там возвышался один из самых замечательных памятников итальянской готики. Хотя мой отец и предпочел бы тогда же обратиться прямо к более выдержанным примерам стрельчатого стиля во Франции, Германии или Англии, однако регламент Академии требовал оставаться несколько лет именно в Италии, поэтому, «за неимениеми лучшего», он с товарищами и принялись за изучение Орвиетского собора. Утешением являлось то, что они верили в теорию, согласно которой средневековая архитектура Италии имела много общего с древнерусской архитектурой, а возрождение этой отечественной архитектуры они ставили себе задачей по своем возвращении в Россию.
Атмосфера романтики наложила особый отпечаток на все пребывание отца в Италии. Это был тот самый дух христианского Рима, отзвуки которого можно найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени, съезжавшихся в Рим со всех концов Европы и ведших в стенах Вечного города обособленную космополитическую жизнь. Многих из этих художников и писателей, в том числе «самого» Овербека, Моллера, Александра Иванова и Гоголя, отец мой знал лично. Он то встречался с ними в сборных пунктах иностранной колонии (например, в кафе «Греко»), то посещал их на дому. Живо вспоминалась папе насупленная мрачность такого великого смехотворца, каким представляется нам Гоголь в своих сочинениях, и болезненное уныние автора «Явления Христа», внешний облик которого поражал своей карикатурностью (темные очки под высокой соломенной шляпой, поношенная разлетайка, вечный зонтик и галоши). Наружность Иванова и все его чудаческие манеры не мешали ему вместе с его сердечным другом, живописцем «Васей» Штернбергом, относиться к художнику-подвижнику как к святому, а со своей стороны и Иванов делал для них исключение и не раз приоткрывал им двери своей замкнутой для всех мастерской…
Со Штернбергом, юным и высокодаровитым художником, отец дружил больше, чем с кем-либо. В периоды разлуки он вел именно с ним самую ревностную переписку, причем и он, и Штернберг украшали свои письма бесчисленными чарующими рисунками. К великому горю отца, светлая дружба эта была нарушена кончиной Штернберга, для которого, как и для многих других уроженцев северных стран, пребывание в райских климатических условиях оказалось роковым. Он захворал скоротечной чахоткой, приведшей его к ранней могиле на кладбище у пирамиды Цестия, где вообще хоронили еретиков и схизматиков.
Из других ближайших друзей отца я назову русских живописцев Фрикке и Скотти, скульпторов Рамазанова и Логановского, архитекторов Росси-младшего и Эпингера. Из них я уже никого (за исключением старичка Фрикке) не застал в живых, но мне кажется все же, что я со всеми ними общался, до того мне знакома была их наружность, увековеченная в острых и чарующих рисунках и акварелях (часто незлобиво-карикатурных) папы, до того я как бы даже изучил их жесты, тики и замашки. Приятельские отношения, которые у отца завязались с немецкими художниками, увенчались тем, что он был посвящен в рыцари знаменитого клуба, собиравшегося и пировавшего в гротах Червары. Рыцарский свой диплом и программы каких-то шутовских сборищ этой «Червара риттершафт» папа хранил в своей «Семейной хронике». Я любил разглядывать те мастерские виньетки (офорты Нейрейтера), которыми они были украшены, и теперь простить себе не могу, что я эти листы оставил на произвол судьбы в своей петербургской квартире. Еще более досадую я на то, что, покидая навсегда свою родину и родной дом, я не захватил с собой всех тех работ самого моего отца, которые достались мне по наследству. Что бы я теперь дал, чтобы снова войти в их обладание, чтобы иметь возможность их изучать — в частности любоваться тем листом, на котором в девяти эпизодах было изображено путешествие Н. Бенуа и его товарищей на пароходе из Анконы в Венецию.
А что за прелесть были путевые альбомы моего отца! Сколько в каждом пейзажном мотиве было вложено чувства природы, сколько понимания в каждом «портрете здания», сколько во всем меткости, вкуса и мастерства. Виды местностей чередовались в этих альбомах с архитектурными памятниками и с зарисовками жанрового и костюмного порядка. Особенно поразили отца в его поездке в Венецию разные типы, встречавшиеся на улице и на площадях. Грациозные водоноски с коромыслами, рыбаки и гондольеры, монахи всевозможных орденов, какие-то таинственные персонажи, кутавшиеся в широкие альмавивы, и, наконец, молодцеватые, стройные австрийские военные в своих белых мундирах и синих рейтузах.
Разглядывание папочкиных альбомов (при дележе наследства каждому из нас досталось их по два) было для нас большим праздником, но таким же праздником было это для самого отца, для которого все, когда-то им в них зарисованное, оживало при этом разглядывании. Каждую страницу он сопровождал ценнейшими комментариями. Эти рассказы, впрочем, не касались наиболее интимных сторон его жизни, речь шла больше о художественных впечатлениях или о затеях, которыми он с товарищами тешился, например, о том празднике, который был устроен в честь посетившего Рим К. А. Тона, для которого папа и Штернберг нарисовали целый ряд очаровательных картин. Однако по некоторым намекам чувствовалось, что папа там, в Риме и в Орвието, оставил и частицу своего сердца, что там у него, полного молодости и сил, были и романические, и довольно даже серьезные переживания. Самым счастливым периодом как будто бы были именно те годы, которые он провел в Орвието, где он устроился своим хозяйством… Холод бывал зимой чудовищный, в качестве освещения служила лишь одна лампа — лучерна о трех фитилях без абажура и стекла, и все же папе и там удалось создавать тот уют, который он умел распространять вокруг себя. Работал он не только днями, но и вечерами. Тончайшие свои акварелированные чертежи, в которых иногда передан с абсолютной точностью каждый камушек мозаик «Космати», он как раз делал при свете этой примитивной лампы. Удивительнее всего, что подобные упражнения не помешали папе сохранить безупречное зрение до глубокой старости, и еще за год до смерти папа мог чертить и раскрашивать, точно ему не восемьдесят четыре, а двадцать четыре года.
И в позднейшие времена папа заносил на бумагу все, что его поражало, радовало или смешило. Так, к весьма замечательным альбомам принадлежат те, которые были заполнены им в 1885 году, когда мы всей семьей гостили в имении у сестры Кати, а также тот альбом, в котором он день за днем увековечил лето 1891 года, проведенное им в Финляндии. Где-то эти оставленные в Петербурге чудесные серии — достойные фигурировать рядом с «Поездкой в Данциг» Д. Ходовецкого?
У отца была столь сильная потребность изображать и запечатлевать, что мне иногда думается, не была ли настоящим его призванием живопись? Дня не проходило, чтобы при всей своей занятости скучными служебными работами он что-либо не зарисовал, а нарисованное не раскрашивал. Технические его приемы могли казаться несколько устарелыми (это были еще все те приемы, которыми пользовались мастера начала XIX века), но сколько во всем было знания, уверенности и меткости. Массы таких же акварельных рисунков иллюстрировали его письма к детям и родным, и едва ли не прелесть этих виньеток послужила причиной того вандализма, который был учинен теми, кто эти письма получали. Вместо того, чтобы хранить эти замечательные во всех смыслах документы, мои братья, прельщенные картинками, вырезали их и наклеивали в отдельную тетрадку, бросая текст как нечто недостойное хранения. Особенно осчастливлены бывали такими иллюстрациями в письмах братья Николай, живший вдали от Петербурга, в Варшаве, и Михаил — во время его кругосветного плавания. Но наиболее замечательных два таких иллюстрированных письма моего отца принадлежали дочери Федора Антоновича Бруни (впоследствии генеральши Бентковской), которая получила их еще в бытность папы в Италии — тогда, когда самой Терезине было не больше десяти лет. Папочка любил и впоследствии вспоминать о когда-то поразившей его прелести этой девочки и, принимая в расчет необычайную «детскость» всей его натуры, ничего нельзя найти удивительного в том, что подобная корреспонденция могла завязаться между крошкой и тридцатилетним молодым человеком. Где-то теперь и эти драгоценные письма, украшенные через каждые пять строк чарующей виньеткой и хранившиеся дочерью Терезы Федоровны?
Из всего сказанного совершенно ясно, что папа был самым уютным человеком и, пожалуй, как раз эту черту уютности, скорее чуждую французам, следует приписать тому, что на целую половину папа был немец. Папочка был олицетворением уюта и, разумеется, если я сам знаю толк в этом, если я, как мало кто, понимаю прелесть домашнего очага, если, читая Гофмана, Штифтера или разглядывая Людвига Рихтера и Швинда, я испытываю своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение, то это благодаря той «школе уюта», которую я прошел, живя в обществе своего отца. Однако в свое время я не сознавал вполне всей этой прелести, не оценивал по-должному выдавшегося мне счастья. Мне казалось, что это так вообще полагается, что иначе быть не может. Когда я вступил в неблагодарный возраст, я даже стал критиковать особую атмосферу нашего дома и вносил в нее какой-то нарушающий ее гармонию диссонанс. Но к двадцати годам мой бунт улегся совершенно, а к моменту моего вступления в самостоятельную жизнь создание уюта стало моим идеалом, осуществить который мне помогла жена.
Эта папина уютность имела два аспекта или два нюанса, смотря по времени года и в зависимости от того, где пребывала наша семья. Один аспект был зимний, другой — летний. Зимний уют имел своим центром папин кабинет, а в нем папин письменный стол. На этом столе, стоявшем посреди комнаты под висячей старинной медной лампой своеобразной формы, не только составлялись скучные сметы или проверялись еще более скучные донесения папиных подчиненных, но на нем же, расчищенном от всего лишнего, папа в виде отдыха раскладывал пасьянсы, клеил очаровательные игрушки и акварелировал. На этом же столе, рядом с большой бронзовой группой Лансере, изображавшей воз чумака, стоял поднос, в желобах которого покоились карандаши, гусиные перья, резинки и сургучи, а также фарфоровая чернильница совершенно особой формы. В углу комнаты в зимнее время топился дровами и коксом камин. Кульминационного пункта уют папочкиного кабинета в зимнюю пору достигал во время вечерних семейных собраний. К этому моменту придвигался к помянутому письменному столу другой квадратный стол и за ним устраивались дамы — мамочка со своим рукоделием, ее подруга Елизавета Ильинишна Раевская, тетя Катя Кампиони (сестра покойной жены дяди Кости), почти ежедневно приходившая посидеть и кутавшаяся в серую оренбургскую шаль, сестра Катя, а также другие родственницы. К дамам подсаживались мои братья, муж моей сестры Камиллы, друзья дома — Зозо Россоловский, Артюр Обер или Саша Панчетта. Иногда папа, не успев закончить свои служебные работы, продолжал свое дело в присутствии дам, ничуть не отвлекаясь их разговорами, но в большинстве случаев очередная работа к девяти часам была уже исполнена, и тогда наступал счастливый для папочки момент, когда можно было приступить к пасьянсам. За другим письменным столом, тут же у окна, иногда образовывался второй кружок. Там, вокруг фарфоровой лампы, собирались гостившие у нас внуки, там сиживал и я, когда ко мне не являлись мои собственные гости, которых я обыкновенно уводил в свою комнату.
Папина способность работать на людях была прямо изумительной. Он не только мог продолжать начатое дело под чуть притушенный говор помянутого дамского кружка, но он с ангельским терпением выносил и возню детей, часто принимавшую довольно буйный характер. Мало того, он же сам устроил в широком простенке дверей в соседний зал висячие качели, и на них-то, прямо за папиной спиной, производились и мной (лет до тринадцати) и моими племянниками самые рискованные, сопровождавшиеся визгами и криками полеты. Все это выносил папочка, и только когда являлся кто-либо с деловым визитом или когда дамский уголок начинал протестовать, качели отвешивались, и двери в залу затворялись.
Другим мучительством для папы являлась музыка, доносившаяся из соседней залы, где стояли рояль и фисгармония. Там в последующие времена я с Валечкой Нувелем на двух этих инструментах, и с величайшим фортиссимо, играли «Полет валькирий», увертюру Тангейзера, марш из «Нерона» и т. д. И все это так же безропотно переносил папочка, лишь иногда обращаясь к нам с деликатной просьбой, чтобы мы хоть немного сдерживали оглушительную бурность нашего исполнения.
«Летний аспект» папочкиной уютности выражался в самой его внешности. Зимой и в «полусезоне» он был всегда одет если не в домашний халат, то в черный сюртук при рубашке с отложным воротничком и с черным галстуком. Для выхода на улицу в морозные дни на голову одевалась старомодная бобровая шапка с выдающимся кожаным козырьком и тяжелая медвежья шуба; в менее суровые дни на голове у папочки появлялся котелок старомодного овального фасона, а на плечах разлетайка с пелериной. Летом же папа любил белые холщевые или желтоватые чесунчевые костюмы, а в качестве головного убора надевалась несуразно большая панама; серая разлетайка служила верхней одеждой. Таким «светлым» я папочку помню или возвращающимся из города в Петергоф, на Кушелевку, в Павловск или же на даче, занятым какой-либо работой в саду. Без дела он не мог оставаться ни минуты, и если погода позволяла, то он усердно мел сад, очищал дороги от сорной травы, поливал цветники, что-то подпиливал и приколачивал. И все это он делал с удивительной сноровкой.
Середина лета была отмечена рядом семейных празднеств. Начинались они 1 июля — днем рождения папочки, следовали именины кузины Ольги (11 июля), мамочки и сестры Камиллы (15 июля), рождение сестры Кати (19 июля), именины жены Альбера Марии (22 июля), а когда моя Атя вступила в нашу семью, то еще присоединились два праздника, ее именины (26 июля) и день ее рожденья (9 августа)… Однако из всех этих торжественных дней бесспорно самым торжественным было именно 1 июля. Уже к завтраку съезжались многочисленные папины сослуживцы, к обеду собирался весь синклит нашей многочисленной родни. Казалось, что самая погода, наша северная, капризная погода щадила это сборище милых людей, ибо я положительно не помню, чтобы 1 июля когда-либо шел дождь, а раз не было дождя, то совершенно естественно было устраивать стол (или столы) в саду. Вот это мы, дети, особенно любили, ибо в этом было что-то совсем необыденное — цыганское, кочевое, и в то же время нечто особенно веселое. Весело было видеть, как наши горничные при помощи разных пришлых служанок в светлых ситцевых платьях и белых передниках летают, шурша накрахмаленными юбками, с блюдами из кухни к столу, обнося ими гостей; весело было слышать, как выскакивают пробки из бутылок меда, пива и шампанского; странно и тоже весело было ощущать вместо паркета под ногами песок и беспрепятственно бросать на землю косточки и лакомые кусочки, которые тут же поедались собаками и кошками.
Обязательным на этих пирах был к завтраку колоссальный пирог с лососиной и вязигой, а к обеду Кавосский семейный суп — венецианское ризи-бизи — нечто столь вкусное, что ни один гость не отказывался от повторной порции, а мы, обжорливые ребята, съедали этого ризи-бизи и целых три тарелки. Впрочем, если день был особенно жаркий, то кроме этого горячего супа сервировалась еще холодная, со льдом и с белорыбицей ботвинья, и я, отличавшийся особенной склонностью к обжорству, умудрялся не только съедать три тарелки первого супа, но еще и две второго. Да и не я один… И как это только выдерживали желудки? Как люди не заболевали? Мамочка и в эти дни не изменяла своей обычной умеренности, но гостей она потчевала усердно, приговаривая: «Не бойтесь, на свежем воздухе можно позволить себе некоторые излишества».
А после обеда столы убирались, и на балконе дачи уже шли приготовления к чаю, за которым можно было еще наесться простоквашей и варенцом или отсыпать себе на блюдечко изрядную порцию земляники или клубники. Между обедом и чаем по традиции затевалась игра в «бочки», в шары, до которой великим охотником был не только папа, но и многие его приятели. Но только игра эта не производилась у нас, как везде за границей, на специально уготовленной площадке, а происходила она по обыкновенным, вовсе не укатанным дорожкам, причем папочка, выбрасывая первый маленький шар, позволял себе разные шуточные вольности; он то запустит шар так далеко, что его едва станет видно, то, напротив, бросит чуть ли не себе под ноги. «Итальянцы» — дядя Костя и дядя Сезар — пытались в таких случаях протестовать во имя правил игры, но нам, детям, тем из нас, кого большие допускали до игры с ними, эти папины причуды доставляли особенную радость. Потешными были споры, возникавшие в тех случаях, когда два или три шара оказывались на почти равном расстоянии от маленького. Приходилось размерять эти расстояния платками, палками или шагами, и тут в наших почтенных, всегда столь сдержанных дяденьках вдруг прорывался их итальянский темперамент, бывало, что дело доходило и до негодующих криков… Это детям еще более нравилось — нравилось, что те самые дяди, которых нам ставили в пример, которых мы побаивались, становились сами похожими на нас, мальчишек. Папочка же относился к этим спорам с невозмутимым благодушием.
В июне или в начале июля по вечерам света в Петербурге не зажигали, и это было так необычайно, так странно и так прелестно. Но в конце июля темнота наступала в 9 часов, а с каждым днем затем все раньше и раньше, и тогда приходилось зажигать лампы и свечи. Особенно мне нравилось, когда зажигались свечи в специальных подсвечниках, предназначенных для открытого воздуха. В них пламя было защищено стеклянным бокалом, а свеча автоматически подымалась по мере сгоранья, толкаемая снизу пружиной. Вокруг источников света роилась мошкара и мотыльки, налетали на них и тяжелые мохнатые ночные бабочки. Прелестная картина получалась за дачным чайным столом, не менее уютная, нежели зимние заседания в городе под висячей лампой.
Все более и более сгущаются сумерки, листва и плетение ветвей начинают выделяться кружевным силуэтом на фоне лимонной зари, освещенный же первый план от контраста приобретает особую яркость. Такими летними вечерами обыкновенно ничего не делалось, пасьянсы не раскладывались, не производилась клейка, не рассматривались журналы или книги, а среди стихающей природы шла тихая беседа. Тут-то папа и любил вспоминать былое, рассказывать про Рим и Орвието, про государя Николая Павловича и его страшного министра Клейнмихеля, про свои академические годы. А то кто-нибудь из оставленных ночевать гостей начнет свой рассказ, и, бывало, его так заслушаешься, что и самые настойчивые увещевания мамочки или бонны не заставят меня пойти спать. Я очень любил, чтобы у нас ночевали, — ведь так весело было, когда на составленных стульях, на диванах, чуть ли не на полу устраиваются постели, а за утренним кофием появляются чуть заспанные люди, которых в эту пору дня и в такой интимной обстановке никогда не увидишь.
Едва ли не эта самая склонность к уюту и отчасти сопряженная с ней незлобивость и непротивление злу помешали моему отцу при всем его таланте пройти весь тот триумфальный путь, который ему открывался с момента его возвращения из римского пенсионерства на родину. В нем не было и тени интриганства или хотя бы простой хитрецы, ему были омерзительны всякие хлопоты за себя и менее всего он был способен на пресмыкательство или подсиживание товарищей. И вот почему Николай Леонтьевич Бенуа, будучи несомненно самым даровитым и знающим из архитекторов своего времени в России, все же остался в какой-то тени. Впрочем, пока был жив император Николай I (лично его отмечавший особенным вниманием), папе доставались и большие и очень значительные задачи. К самому замечательному, что сооружено по его проектам, принадлежат придворные конюшни в Петергофе, по своей величине едва ли не превосходящие знаменитые конюшни Конде в Шантийи. Это целый городок, выдержанный в характере английского средневековья, к которому питали слабость и мой отец, и его державный покровитель.
Сейчас принято иронизировать над всякой такой псевдоготикой, и редко кто потрудится пересмотреть этот вопрос с тем, чтобы удостовериться, что вовсе не все в этой архитектуре эпохи Луи Филиппа, Николая I и ранней Виктории грешит легкомыслием и плохим вкусом. Напротив, иные из сооружений того времени (начиная с лондонского здания «Парламент Хауз») неизмеримо более внушительны и даже просто прекрасны, нежели то, что за ними последовало, и то, в чем современная архитектура воображает, что она наконец открыла новый, вполне идеальный стиль. Папины же петергофские конюшни, как по общему замыслу, так и по изяществу деталей, не уступают лучшему, что в том же роде было создано на Западе, и в общем и целом представляют собой нечто удивительно гармоничное, стройное и царственное. Но, увы, на этом грандиозном сооружении и еще на нескольких постройках, тоже затеянных при Николае I, останавливается расцвет архитектурной деятельности отца — дальше же и до самой смерти почти сплошь тянется нечто, если и почтенное, то несколько тусклое и не заслуживающее быть отмеченным историей искусства. Его менее даровитые товарищи успевают создать за тот же период несколько значительных построек: так, Резанов строит дворец великого князя Владимира Александровича, и тот же Резанов доводит до конца грандиозную постройку Храма Христа в Москве; Кракау строит и отделывает дворец барона Штиглица, ставший затем дворцом великого князя Павла Александровича; другие архитекторы, посвятившие себя разработке русского стиля, пользуются, благодаря усилению националистских (точнее, псевдо-националистских) теорий, — особым успехом (Гедике, Гримм, Кузьмин и др.). Напротив, H. Л. Бенуа должен довольствоваться постройками частных доходных домов и дач и такими скучными задачами, как Богадельня в Петергофе.
Тем не менее юбилейное чествование моего отца осенью 1886 года приняло характер настоящего триумфа. Происходило оно в центральном круглом Конференц-зале Академии художеств при огромном стечении публики, под председательством брата государя Александра III, великого князя Владимира, бывшего президентом нашего высшего художественного учреждения. Нам, семье юбиляра, была отведена ложа над входной дверью, и оттуда все было видно, как на ладони. Мой всегда столь скромный в своей внешности папа выглядел, сидя между великим князем и принцессой Ольденбургской, совершенно преображенным. На нем был новый, украшенный золотым шитьем мундир министерства двора и белые с золотыми лампасами панталоны. Грудь его была увешана орденами и звездами, а через плечо шла алая лента Св. Анны I степени. Вокруг амфитеатром заседали очень важные персонажи, и в глазах рябило от золота придворных мундиров, от блеска звезд и орденских «кавалерий». Что-то очень лестное произносили, подходя к столу, депутации от разных учреждений и обществ, и после каждой такой приветственной речи из соседнего Рафаэлевского зала раздавался громкий трубный туш академического оркестра. Особенно же торжественным моментом был тот, когда великий князь, произнеся несколько слов своим зычно-сдавленным голосом, вручил отцу выбитую в его честь медаль с его профильным портретом. В этот знаменательный день H. Л. Бенуа должен был считать себя «восстановленным в своих правах».
Увы, иллюзия такого восстановления длилась только в течение нескольких еще дней, заполненных приемами, банкетами и даже молебнами. Вслед за этой праздничной шумихой помянутые иллюзии рассеялись как дым, и папочка снова вернулся к своей обычной атмосфере, окруженный общим уважением, нужный для целой массы лиц, имевших до него дело и добивавшихся его ценнейших советов, однако все же отставленный и почти забытый. Впрочем, сам он в те юбилейные дни тяготился всем этим блеском, и потому, когда он снова мог водвориться в свой уют, он почувствовал большое облегчение. Слава Богу, что вся эта суета миновала. Еще больше радовалась мамочка: кончились утомительные для нее хлопоты, прекратился стоявший шум от толп полузнакомых, а то и вовсе незнакомых людей; жизнь в нашем доме снова вошла в свои берега и потекла ровно, безмятежно, полная того душевного мира, с которым поистине ничто не может сравниться.
О поэтической уютности моей матери, пожалуй, труднее дать представление, нежели об уютности отца. Однако в создании и в поддержке всей прелести нашего домашнего очага участие их обоих было одинаково. Только у папы уютность носила оттенок чего-то, пожалуй, германского (наследство от матери) с сильным привкусом и французского и русского начала («русскость» папы, между прочим, выражалась в том, что он постоянно напевал русские народные песенки). Напротив, в мамочкиной уютности чувствовалась Италия. Мамочкина чуть меланхоличная «тишина» — очень типичная для Венеции, и этот легкий налет меланхолии был важным элементом в создании атмосферы нашего дома. То, что эта атмосфера была все же полна свежести и чистоты — это было делом ее, впрочем, не столько сознательным делом, сколько какой-то ее эманацией. Одинаковое и всегда равное ко всем отношение сообщало нашему дому удивительный мир и благоволение, и это несмотря на то, что в нем жило столько далеко не смирной и вовсе не апатичной молодежи. В этом специально маме подвластном царстве бурлили всякие страсти, происходили маленькие драмы, завязывались и развязывались романы, но все это происходило без того, чтобы от нее исходили какие-либо стеснительные правила и в пределах общего нерушимого мира и лада.
В маме было что-то от идеально справедливого, беспристрастного судьи-миротворца. Немало тревог, забот мы все восьмеро должны были ей приносить, а периодами каждый из нас порядком даже мучил ее; мучил ее подчас и папа по какой-то своей непонятливости в делах самых обыкновенных, но для него далеких, однако все это как-то обезвреживали доброта и беспредельная снисходительность мамы, а также страх, который жил во всех нас, как бы ей не причинить слишком большое огорчение. Когда на ее лице, несмотря на усилие это скрыть, появлялось хорошо знакомое каждому из нас выражение страдания, то являлось только одно желание, чтобы вместо этого выражения снова вернулось ее нормальное, спокойное и милое выражение, нужное нам, как солнечный свет. Мне думается, что в глубине души мамочка была человеком страстным, быть может, даже порывистым и нетерпеливым, но она еще в ранних годах сама занялась своим «укрощением», и к тому моменту, когда я стал ее осознавать, она уже в совершенстве владела собой и никогда не обнаруживала ни нетерпения, ни гневности; даже безобидные досадливые нотки вырывались у нее до крайности редко. И никто, как она, не умел так действовать на совесть, будить ее, как она. Если же, пробудив совесть, она видела, что кто-либо из нас упорствует в чем-то таком, что уже никак она не могла принять, то она сдавалась, она уступала — и зато эта уступка ее оказывала свое действие на очень долгий период, а то и на всю жизнь. Упорствующий нес в себе это чувство задолженности, и постепенно это чувство перерабатывало его внутри.
Что же касается того, чем она была для папы, какой она была ему женой, то об этом я не могу судить. Мне только кажется, что все благоухание нашей домашней атмосферы исходило именно из их романа. Роман этот начался с настоящего внезапного увлечения во время бала, в квартире ректора Академии художеств, знаменитого живописца Федора А. Бруни. Совершенно юную, только что выпущенную из института Камиллу Кавос вывозила, как я уже упомянул, в свет ее мачеха Ксения Ивановна, бывшая всего на несколько лет старше своей дочери и обращавшая на себя общее внимание своей царственной красотой и туалетами. Мамочка же была очень скромная и робкая барышня, еще не привыкшая к шуму блестящих собраний. Тем не менее именно эту «фиалку» заметил и отметил на том, памятном в анналах нашей семьи, балу тридцатичетырехлетний Николай Бенуа, недавно вернувшийся из чужих краев и уже особенно отмеченный благоволением грозного и великолепного государя. Да и смоляночка после первого же контрданса поняла, что этот не совсем уже молодой человек — ее суженый-ряженый. Через несколько недель папа сделал предложение, а через несколько месяцев — 15 сентября 1848 года — произошло бракосочетание в прекрасной церкви Пажеского корпуса, находившейся в той же группе зданий, в которой помещалась и казенная квартира деда. И с самого того дня молодые поселились в той квартире, в которой до них жила моя бабушка Екатерина Андреевна Бенуа и в которой они прожили затем в безмятежном единении всю жизнь. Единственной непроизвольной «изменой» мамочки можно считать то, что она первая ушла от своего мужа в иной мир, существование которого ей казалось маловероятным. Но папа верил в этот мир, и ему послужило великим утешением то, что в течение тех семи с половиной лет, которые он прожил оставленный ею, он не переставал надеяться, что снова соединится со своей обожаемой Камилунзой.
Скажу еще несколько слов об этом маловерии или даже неверии мамочки. Оно было совершенно особого рода. Это было ее интимным делом, она никому его не навязывала, она и не была кому-либо обязана этим отсутствием религиозного сознания. Она не верила, ибо не находила в душе нужной подсказки и подтверждения. Тут сказывалось как отсутствие того, что называется благодатью, так и ее отвращение перед всяким обманом или самообманом. Думается, что сложилось это ее неверие постепенно и не без некоторой борьбы. Случилось, вероятно, так, что наперекор сильнейшему желанию эту благодать (о чем она имела определенное представление) сохранить, она ее все же утратила, а утратив, не смогла приобрести снова. В позднейшие времена, впрочем, никакой такой борьбы уже в ней не чувствовалось, но оставалась лишь печаль и покорность. Все это имело самую подлинную, абсолютно честную основу, и не было в маме и тени каких-либо модных в те времена материалистических убеждений. Она просто не была способна сама перед собой лгать.
В заключение еще несколько слов о мамочке как о хозяйке, ибо в этой сфере заключалось ее настоящее призвание, выражался ее талант. Образцовое ведение ею хозяйства немало способствовало созданию благосостояния нашего дома и его уюта. Сохраняя и в этой сфере свое обычное невозмутимое спокойстве, она, однако, входила решительно во все и, мало того, — не только в пределах собственного своего дома, но еще бдительно следя за хозяйственной жизнью своих детей. Если, однако, у себя она была полномочным и неоспоримым диктатором, то за пределами своего дома (с поразительным тактом) она предоставляла себе лишь совещательный голос. Иначе говоря, мама была идеальной тещей, и я не помню случая, чтобы между ней и теми, кто через брак вступали в состав нашей семьи, у нее возникали хотя бы самые незначительные трения.
ГЛАВА 8 Наша прислуга
Изо дня в день, без передышки, даже в дни недомогания, мама тянула свою лямку. Такое вульгарное выражение, однако, в применении к ней требует оговорки, ибо этими словами сама мамочка во всяком случае не называла то, что было ее «призванием», «приятным долгом», «делом жизни». Ее отношение к этому делу напоминало священнодействие. Никогда ни ропота, ни жалобы — и лишь изредка тихий вздох, то вызванный простой физической усталостью, то выражающий огорчение, вызванное неряшеством или недобросовестностью ее прямых подчиненных и сотрудников, иначе говоря, нашей домашней прислуги.
Прислуга у нас была исключительно женская (единственные крепостные моих родителей — лакей, кучер и конюх — были отпущены еще до 1861 года). Но кухарка, прачка и судомойка часто менялись, тогда как обе горничные были постоянными. Их я увидел впервые, когда, ничего еще не сознавая, я лежал в своей колыбели, их же я и видел каждодневно, они же оставались у нас в доме до самого того момента, когда этому дому настал конец в 1899 году.
Несколько слов нужно посвятить и этим блюстительницам нашего домашнего порядка, и это тем более, что они с течением времени превратились в нечто вроде членов семьи. К ним не без решпекта относились и наши знакомые, называя обеих по имени, а мамину горничную даже и по отчеству. Эта Ольга Ивановна была сугубо почтенной особой, проводившей большую часть времени либо на кухне за глажением белья, либо у себя в темноватой комнатке, странным образом освещавшейся откуда-то сверху, за штопкой и починкой. В господскую половину она заходила только для того, чтобы принять участие в утренней уборке спальных, в приготовлении ванны, а по какой-то курьезной аномалии и для того, чтобы затопить камин исключительно в моей комнате. На время починки белья она одевала очки в железной оправе, скрепленной нитками, и тогда становилась еще более почтенной. Вообще же это была тощая, очень некрасивая девица, которую я всегда считал старой, хотя в первые годы моего существования ей было не более тридцати пяти лет. Ольга Ивановна Ходенева была бывшей крепостной, однако, находясь в доме своих помещиков на положении «подруги барышень», она получила некоторое воспитание, умела читать и писать, что одно давало ей преимущество перед всеми ее сплошь неграмотными коллегами.
Ко мне Ольга Ивановна относилась с особым вниманием, но без тени какого-либо искательства и даже без особенной ласковости. Я уже был большим балбесом, а она все еще считала своим долгом не только помогать мне одеваться, но и помогать мне мыться в ванне. Это даже был целый ритуал, который мы оба ценили, но вовсе не из каких-либо гигиенических соображений, а из соображений театральных. Ольга Ивановна в те времена была страстной театралкой и улучала всякий удобный вечер, чтобы пойти в театр — чаще всего в соседний Мариинский, где в те времена, в очередь с русской оперой, которой она не интересовалась, давалась русская драма. Вот после каждого такого спектакля она принималась мне рассказывать содержание пьесы и описывать все особенности игры своих любимцев, причем рассказ начинался с самого того момента, когда я влезал в ванну, а завершался во время вытирания простыней или даже тогда, когда, уложенный в постель, я пил вечерний чай. В такой послеванный ритуал входило и то, что и чай я пил в постели непременно из стакана и закусывая черным хлебом с маслом, что в другое время не полагалось. Рассказывала Ольга Ивановна не без таланта, живо переживая всякий момент, заливаясь до слез хохотом при передаче комических сцен и, напротив, принимая очень серьезное и даже скорбное выражение, когда речь шла о драме, нередко кончавшейся смертоубийством.
Но увы, эти-то наши театральные собеседования неожиданно оборвались. Ванночки я продолжал брать, и Ольга Ивановна продолжала, лет до 13-ти, мне мыть ноги и спину, а также помогать вытираться, но самый источник ее рассказов иссяк, и это по совершенно необычайной причине — потому что приехала в Петербург на гастроли… Сара Бернар. Ольга Ивановна любила не только театр, но и Церковь Божью, и особенное внимание уделяла она проповедям отца Палисадова, которые этот священнослужитель держал в своей церкви при гимназии Человеколюбивого общества (моей первой гимназии), находившейся в двух шагах от нас на Крюковом канале. Отец Палисадов и вообще не очень-то одобрял тех из своих пасомых, которые хаживали в театр — учреждение, несомненно, бесовское, однако эти запреты не принимали резкого характера, пока не приехала парижская дива. Когда же она приехала и весь Петербург стал неистовствовать от восторга перед ней, и простаивать ночи, чтобы получить места на спектакли, то батюшка Палисадов воспылал гневом и от благодушных укорений перешел к громам и чуть ли не к проклятиям. В сущности, едва ли из той паствы, которая собиралась в храме, кто-либо грешил тем, что ходил любоваться, как она «ломается», и менее всего наша Ольга Ивановна имела охоты послушать «Даму с камелиями» на непонятном ей французском языке. Однако именно с этого момента вечерние проповеди вознегодовавшего отца Палисадова приняли неистовый и в то же время столь убедительный характер, что бедная наша театралка до глубины души оказалась потрясенной ими и тогда же приняла решение больше в театр не ходить. Свой этот завет она строго исполняла, а я лишился своей театральной Шехерезады.
Полным контрастом Ольги Ивановны была Степанида, которую обыкновенно звали Степой и к которой обращались на «ты», тогда как Ольгу Ивановну величали на «вы». Степанида была сущая деревенщина. Она была взята в дом в качестве кормилицы брата Михаила (в 1862 году) и затем так и застряла навсегда, однако решительно не поддавалась какой-либо цивилизации. Она неаппетитно хлюпала носом, иногда даже украдкой сморкалась в пальцы, любила выпивать, имела говор типично простонародный, с растяжкой, а временами скороговоркой, бухалась в случае провинности господам в ноги, крестилась, божилась и клялась, охотно наговаривала на других, на кухонных же балах плясала до упаду, была сердцеедкой и обладала очень влюбчивым сердцем. От дворника Василия она прижила несметное количество детей, которые, однако, перемерли в младенчестве.
Мы, барчуки, имели привычку шутить со Степанидой, ее дразнить и разыгрывать. Какие-либо наши пожелания мы высказывали непременно в форме приказов. Мы делали Степаниде и грозные выговоры, а иногда даже, к великому огорчению мамы, колотили ее по ее сутулой спине, что, впрочем, несомненно, ей самой нравилось, ибо она при таких расправах только хихикала и приговаривала: «Да ну вас, Шуренька (Мишенька, Коленька). Ведь больно, больше, ей-богу, не буду. Ишь рука какая тяжелая, даром что маленький». Когда Степа выходила со двора, то она довольствовалась тем, что кутала голову в платок, а на себя надевала какую-то ветошь с барского плеча, тогда как у Ольги Ивановны водились шляпы с цветами и с перышками, в зимнее же время она щеголяла в атласной ротонде с меховым воротником.
По странной игре судьбы — классовое их положение было как раз обратное их «положению в свете». Степа по паспорту была «панцирной бояркой», т. е. вдовой «панцирного боярина», следовательно «почти дворянка», тогда как Ольга Ивановна родилась в крепостном состоянии, а получила свободу всего девять лет до моего рождения. Впрочем, Степанида ничуть не кичилась своей весьма относительной знатностью (да к тому же муж ее давным-давно пропал без вести), а узнали мои родители об этом ее ранге только из паспорта, содержание которого неграмотной Степаниде было неведомо.
Типичнее всего Степанида становилась в дни своих именин, которые праздновались в нашей обширной кухне при сборе всей соседней дворни. Это были гомерические пиры, на которые уходило немало из ее сбережений (значительную часть таковых составляли те «на-чаи», которые она получала с гостей в особо торжественные дни — на именины моего отца и на Новый год). Зато какое же обилие и разнообразие всяких яств было тогда разложено по бесчисленным тарелкам и блюдам. И сколько же бутылок пива и водки выстраивалось рядами по подоконникам и просто на полу. Все это за ночь поглощалось и выпивалось, и одновременно специфический дух от этой вакханалии распространялся, несмотря на тщательно закрываемые двери, по всей квартире. Доносился из далекой кухни и шум многолюдного общества, а также звуки гармоники и скрипки, под которые шел неистовый топот сапожищ по полу, сопровождаемый обязательно криками и визгами «дам».
В начале такого пира я еще решался, одолеваемый любопытством, заглянуть, что делается на кухне, — но и это было рискованное предприятие, ибо меня схватывали какие-то руки и начинали тискать, а уже сильно пахнущая вином Степанида набрасывалась на меня и норовила поцеловать в губы, что я терпеть не мог и что вообще не полагалось. При таких посещениях я видывал Степаниду, нашу раболепную, почтительную Степаниду уже в состоянии какого-то оргиастического исступления. Помахивая платочком, подняв передник, она или топталась на месте или «плыла лебедем», как-то боком, тем временем как у ног ее откалывал присядку губернаторский кучер с двумя другими бородачами. Плясали и другие, но бесноватее всех плясала именинница. И в эти минуты она молодела на двадцать лет, спина ее выпрямлялась, и в движениях рук была даже известная грация. После 11 часов, т. е. разгар бала, мне было строго запрещено проникать на кухню, да и сам я туда не пошел бы — до того там было начадено, накурено, до того жуткие крики доносились оттуда.
ГЛАВА 9 Наши поставщики
В обыкновенные дни хозяйственные заботы заполняли лишь мамочкино утро (тогда же происходило выслушивание доклада старшего дворника), но часто попадались у нас более ответственные дни, и тогда мамочкина служба начиналась накануне и поглощала все ее время. В эти отмеченные дни — будь то очередной семейный обед, или большой званый завтрак, или вечеринка с ужином (не говоря о событиях первого ранга — вроде свадеб, крестин, балов и юбилейных торжеств) — мамочка делала самолично обход своих поставщиков, и тогда на эти закупки всякой снеди уходили многие часы. Правда, большинство нужных ей лавок помещались недалеко от нас в Литовском рынке, но, кроме того, надлежало посетить погреб французских вин Рауля на Исаакиевской площади и проехать на Малую Морскую в кондитерскую Берена заказать мороженое и всякие сласти. На эти экспедиции мамочка, в качестве прогулки «для моциона» часто брала меня, и я в этих случаях шел охотно (питая, наоборот, ненависть к простой бесцельной прогулке) — не только к Берену, где приятные мамзели меня угощали конфетами, но и в другие места — по-разному манившие главным образом своими запахами.
О, эти заседания мамы на деревянном ларе в лавке колониальных товаров купца Васильева в Литовском рынке! Почему я о них сохранил столь отчетливое воспоминание, что, кажется, и теперь мог отличить тембр звякавшего при открывании двери колокольчика, хотя с последнего моего посещения этой лавки прошло больше полустолетия? Не потому же, что и здесь мне иногда перепадало какое-либо лакомство (ведь лакомств у нас в доме было достаточно) и не потому, что я мог погладить и пощекотать своего любимца — огромных размеров кота Ваську, восседающего на прилавке у самых весов. Скорее всего мне льстило вкрадчиво-заискивающее обращение важного, медлительного, по-купечески одетого самого Василия Петровича и в то же время меня пленил весь бытовой ансамбль этой торговли, вовсе не живописной, но во всем ладной и характерной.
Своими двумя окнами и стеклянной дверью лавка выходила на тот перекрытый сводами ход, что огибал со всех четырех сторон рынок, прерываемый лишь там, где находились ворота, через которые можно было въехать в обширный общий двор. Поэтому в лавке царил полумрак, и в темные зимние дни в ней зажигалась с утра висячая керосиновая лампа. Отделка лавки была простого светлого вощеного дерева, включая сюда и перерезывающий ее во всю ширину прилавок, из-за которого можно было выйти в переднее помещение, приподняв среднюю доску. Справа к прилавку примыкал такого же дерева ларь-диван с высокой прорезной спинкой. Слева в стену был вделан мраморный камин (никогда не топившийся), а на нем единственным чисто декоративным элементом помещения красовались бронзовые золоченые часы под стеклянным колпаком. По стенам на полках стояли бутылки с винами и наливками, банки с леденцами и консервами, а также целый батальон наполовину завернутых в синюю бумагу сахарных голов. В специальных ящиках и витринах лежали пряники, халва разных сортов и неприхотливые конфеты. В бочках же хранился погруженный в опилки виноград разных сортов, сохранявший свою свежесть в течение всей зимы. Все это было самое обыкновенное, но все это носило характер солидности и добротности, и это внушало уважение даже мне, шести-восьми-летнему мальчику.
Впрочем, больше всего меня пленял лавочный ритуал. Как только отворится, звеня колокольчиком, входная дверь и старший приказчик уяснит себе, что вошла Камилла Альбертовна, так он уже вскидывает доску прилавка и бежит к ней навстречу, низко кланяясь. И сейчас же следом из внутренних покоев, из какой-то темной святая святых, выступает сам хозяин, с картузом на седых кудрях, с большущими очками на носу. И тогда мама усаживает меня на ларь-диван, сама садится рядом к самому прилавку (там, где стояла конторка и лежали счеты), и начинается на добрые полчаса конференция. То и дело один из приказчиков ныряет в святую святых и является оттуда с лежащим на кончике ножа тонким, как лепесток, куском дивного слезоточивого швейцарского сыра, или с ломтиком божественной салфеточной икры, или с образчиком розовой семги. Но копченый золотисто-коричневый сиг выносится целиком, и его приходится оценивать с виду лишь чуть дотрагиваясь до его глянцевитой, отливающей золотом кожи, под которой чувствуется нежная масса розовато-белого мяса. Приносятся и черные миноги, и соленые грибки, а в рождественские дни всякие елочные, точно свитые из металла крендели, румяные яблочки, затейливые фигурные пряники, с целыми на них разноцветными барельефами из сахара. Эти пряники не полагалось кушать; считалось, что это вредно, но было бы и жаль съедать такие шедевры причудливого народного искусства. Впоследствии и незадолго до того, что эти фигурные пряники исчезли, я собрал коллекцию из них, но через очень короткий срок обнаружилось, что они поедены червями, да и краски фигур побледнели. Тогда же я узнал и имя того мастера, специальностью которого было создание этих съедобных барельефов. Его звали Увакин. Да сохранится хотя бы здесь память об этом народном художнике-поэте. Чего-чего нельзя было найти на этих фигурных пряниках: и русалок, и амуров, и пылающие сердца, и рыцарей на конях, и генералов, и цветы и фрукты…
Всякую вещь Васильев умел охарактеризовать с тонкостью, с вежливой строгостью отрекомендовать, а когда все было забрано, то начиналось щелканье на счетах и записывание в книгу, лежащую на окаймленной галерейкой конторке. Если во время конференции в лавку входили другие покупатели, то их обслуживал приказчик, сам же Васильев никогда бы не дерзнул оторваться от совещания с «генеральшей Бенуа», а генеральша не спешила, обдумывала, принимала и отменяла решения, заставляла снова бежать за какой-либо пробой. Было что-то внушительное и трогательное в этой своеобразной, основанной на взаимном уважении, беседе между моей тихой, совершенно не требовательной для себя, совершенно не лакомой мамочкой и этим степенным и даже строгим стариком, великим знатоком в своей области, умевшим уловить желание клиента с полуслова…
Другим фаворитом мамы на рынке был ютившийся в погребном помещении (под помянутым сводчатым ходом) зеленщик Яков Федорович. В этой лавке, с ее почти всегда на улицу отворенной дверью, зимой стояла стужа, а хозяин, дабы не замерзнуть, вынужден был непрестанно потчеваться чаем. Три проворных мальчика шмыгали, как крысы, принимая отрывистые приказания, снимали со своих мест товары, укладывали, вешали, завертывали, то и дело приговаривая: «Еще чего не прикажете?» Если у Васильева пахло чем-то пряным, заморским, далеким, то здесь пахло своим: лесами, огородами, травой, дичью. Здесь вас встречала при входе висящая оленья туша в своей бархатистой коричневой шкуре, здесь кучками, отливая бурыми перышками, лежали рябчики, тетерки, а среди них красовался черный с синим отливом глухарь. А сколько еще всякой живности было вперемежку со всевозможными произрастаниями, начиная с едва пустившего тоненькие побеги кресс-салата в аппетитных миниатюрных, выложенных ватой корзиночках, кончая морковью, репой, свеклой и луком. У Якова Федоровича была довольно-таки жуликоватая физиономия, но я сомневаюсь, чтобы он дерзал надувать госпожу Бенуа, — уж больно ценилась такая покупательница, уж больно она сама во все входила, все самолично проверяла. От Васильева закупленный товар присылался; из зеленной огромную корзину тащил прямо за нами один из мальчиков, и делал он это с удовольствием, ибо знал, что получит целый двугривенный на чай.
Всего, впрочем, про Литовский рынок не перескажешь, хоть и соблазнительно было бы в воображении проникнуть в мучной лабаз, учреждение довольно унылое, где хозяин был неимоверной тучности, но где мне нравилось то, как медными совочками черпаются из мешков крупы для моих любимых каш: ячменной, смоленской, пшенной, гречневой, манной и ими заполняются с потрясающей сноровкой свернутые из бумаги фунтики. Здесь опять-таки удивительно тонко, солидно и сдобно пахло, вызывая в представлении поля, мельницы, печи с хлебами и пирогами. Впрочем, больше всего из запахов я, пожалуй, любил те, которыми была напитана колбасная и самая простецкая из всех лавок — мелочная. Но тут я уж отступаю от принятой топографической системы, ибо «наша» колбасная лежала на углу Екатерингофского и Вознесенского проспектов, тогда как «наша» мелочная, принадлежавшая торговцу Ключкину, занимала с незапамятных времен угловое помещение в первом этаже самого дома Бенуа. Запах колбасной — интернационального характера. Так же вкусно пахнет всюду, где торгуют всякими наперцованными и копчеными изделиями из свинины — будь то в России, во Франции или в Германии. Но запах русской мелочной нечто нигде больше не встречающееся, и получался он от комбинации массы только что выпеченных черных и ситных хлебов с запахами простонародных солений — плававших в рассоле огурцов, груздей, рыжиков, а также кое-какой сушеной и вяленой рыбы. Замечательный, ни с чем не сравнимый это был дух, да и какая же это была вообще полезная в разных смыслах лавочка; чего только нельзя было в ней найти, и как дешево, как аппетитно в своей простоте сервировано. Однако закупать в мелочной лавке мамочке не нужно было — туда посылалась Степанида, которая в лавку проникала не с улицы, а со двора — по-домашнему.
ГЛАВА 10 Мамино парадное платье
Насколько мама была бдительна в отношении сохранения декорума в нашем семейном обиходе, настолько же она была индифферентна к личному декоруму. Меня даже иногда коробило оттого, до чего скромно мамочка была одета. И я думаю, так было и тогда, когда меня еще не было на свете, когда она была той стройной, совсем молодой женщиной, которая представлена на портрете Капкова. Ведь в этом изображении есть нечто аскетическое, чуть ли не квакерское. Золотая лорнетка, которую она держит в руках, и венецианские кружева у ворота только подчеркивают эту скромность. У мамочки в спальне, как всегда тогда полагалось, стоял специальный туалетный стол работы Гамбса — с зеркалом в изогнутой раме и с десятками всяких ящиков для драгоценностей и косметики. Самих этих «бижу» у нее было не так мало, но, кроме подаренной когда-то женихом эмалевой брошки в виде цветка иван-да-марья, она из этих сокровищ ничего не носила, а когда обе ее дочери вышли замуж, то девять десятых маминых драгоценностей перешли к ним, а самый туалетный стол оказался у сестры Камиши, после чего мама уже причесывалась перед своим маленьким зеркальцем, попросту стоявшим на комоде. Причесывалась она всегда на один манер, гладкими, разделенными пробором прядями с шиньоном из ее же волос, пришпиленным на затылке.
Всего замечательнее то, что у матери за всю ее жизнь было всего одно вечернее платье. Сшито оно было как подвенечное, в 1848 году, но затем добротный без износу шелковый штоф выдержал целых сорок лет, подвергаясь бесконечным перешиваниям, чисткам, а то и перекраске. Когда близилось какое-либо торжество, на которое нельзя было не ехать, то на дом приглашалась портниха — статная, пожилая и очень скромная дама (в остальное время шитьем и перешиванием была занята жалкая, смешная карлица синьора Тарони, которую мои братья дразнили, рифмуя ее фамилию с «макарони»), и тогда сначала происходил так называемый военный совет, в котором участвовали и мои сестры, и тетя Лиза Раевская. «Вечное платье» надлежало еще раз подогнать под моду дня и под изменившееся с годами сложение самой мамочки. Из преувеличенно длинного шлейфа выкраивались воланы, перехваты, буфы, приходилось раздать бывшую «рюмочкой» талию, изменить форму выреза. Сколько раз папа настаивал на том, чтобы мамочка сделала себе новое платье, но она об этом и слышать не хотела. Впрочем, для полуторжественных обедов и для театра она себе сделала еще два платья темного цвета — одно бархатное и одно канаусовое — но от форменно вечернего, бального, она решительно отказывалась. В конце концов от шлейфа остался лишь куцый кусочек, а в целом «вечное» платье из белого превратилось в светло-фиолетовое. Могло и так сойти.
И все же среди моих воспоминаний о матери, вообще озаренных поэтичным, но ровным, мирным светом, остается одно, в котором этот сероватый цвет уступает более яркому и торжественному: у мамочки тоже был момент своего рода апофеоза. Я и ее увидел во всем блеске и чуть не захлебнулся от гордости, когда убедился, что и она может быть такой блестящей и нарядной дамой, как некоторые наши знакомые. Это был тот момент, длившийся не более четверти часа, когда мама, одетая в только что перешитое платье, с роскошной наколкой из бантов и серебряных кружев на голове, причесанная парикмахером, с веером в руках, обтянутых кремовыми перчатками, с букетом искусственной сирени на плече, надушенная и сосредоточенная стояла в ярко освещенной зале в ожидании кареты. Особенно меня поразили нити жемчуга; толстые золотые браслеты и три рубиновые запонки, которые были нашиты на темно-лиловую бархотку, обхватывающую ее еще не отучневшую шею. Откуда только появились все эти бриллианты и жемчуга? Мне казалось, что я вижу самое царицу, я прямо не узнавал мамы, тем более что у нее и выражение в тот вечер было совсем особенное, не лишенное известной важности. Казалось, она говорила: вот я какая, вот какая я всегда могла бы быть — не хуже других и, несмотря на маленький рост, не менее величественная, нежели всякие знакомые модницы. Если же я только сегодня такая, а завтра и вообще никогда больше такой не буду, а снова приму свой образ Сандрильоны (Золушки), то это потому, что мне так хочется, чтоб всем вам лучше жилось и чтоб моему бедному Никола не приходилось еще изнурять себя работой. Этот необычайный парад мамочки был тогда вызван приглашением на какой-то большой бал (кажется, у Жюля Бруни), и бывшие на том знаменитом балу люди потом рассказывали о той сенсации, которую произвело появление Камиллы Альбертовны в таком необычайном виде.
В том вечном платье мамочка положена в гроб и в могилу. Какой милой, спокойной, довольной казалась она, когда в последний раз я ее поцеловал в лоб, в любимое свое местечко — между двумя крошечными родимыми пятнышками — одним красным и одним синеватым…
ГЛАВА 11 Тетя Лиза
Единственной подругой мамы была Елизавета Ильинична Раевская. Ее все в семье звали тетей Лизой, хотя на самом деле никаких родственных связей между ею и нами не было, а была она товаркой мамы по Смольному институту, и нежнейшая дружба, завязавшаяся еще тогда между Лизой и Камилей, продлилась затем между ними на всю жизнь. Впрочем, и после смерти мамы тетя Лиза продолжала у нас бывать каждый понедельник и, кроме того, во всех особенно торжественных случаях. Вообще с товарками-смолянками мама, кроме тети Лизы и княгини Касаткиной-Ростовской, рожденной Норовой, знакомства в дальнейшей жизни не поддерживала, но княгиня умерла, если я не ошибаюсь, еще в 70-х годах, тогда как тетя Лиза пережила маму на целых десять лет. Могла бы она прожить и дольше, если бы не несчастный случай, — бедняжка обгорела, опрокинув на себя горящий бензин, «бензинкой» же она пользовалась потому, что была очень бедна и, снимая комнату в доме дешевых квартир на Лиговке, сама себе готовила еду. Средства ее состояли из пенсии, получавшейся ею со смерти отца — одного из героев Отечественной войны (я так и не удосужился узнать, какую роль в ней играл Илья Раевский), и из ничтожного жалования, которое она получала, служа в ведомстве императрицы Марии.
Эти биографические данные ничего не говорят о том, что за личность была тетя Лиза Раевская. Между тем это была, несомненно, очень особенная личность, не по своему общественному положению (о своих аристократических родственниках она не особенно любила говорить и считала себя несколько обиженной ими), не по уму и талантам, а потому, что она была типичной представительницей отжившей и уже забытой эпохи. Мама успела за свои супружеские годы утратить все «институтское», она, может быть, и вообще не была никогда типичной смолянкой. Напротив, Елизавета Ильинична Раевская, несмотря на свой преклонный возраст, производила впечатление только что выпущенной из стен Смольного девицы, и даже не столько выпущенной, сколько выпорхнувшей, — точно вчера только она исполняла экзаменационный па-де-шаль! И вся она была полна какого-то затаенного восторга, то и дело вырывавшегося наружу. Она и к Камилле питала именно такое институтское восторженное чувство, тогда как отношение мамы к ней не было лишено легкой и благодушной иронии. Еще можно так сказать: тетя Лиза была типичной старой девой, тогда как мама была типичной матерью семейства. Этот контраст не мешал им нежно любить друг друга, и если мама и посмеивалась иногда над ужимками своей подруги детства, то она и бесконечно ее уважала за кристаллическую чистоту душевную, за правдолюбие (правдолюбие у мамы доходило почти до мании), и в то же время маме было сердечно жаль ее Lise, жизнь которой в сущности сложилась очень и очень неудачно.
Сама тетя Лиза, впрочем, как будто не сознавала эту неудачливость или же она умела скрывать такое свое сознание. Скорее она действительно не сознавала, — и в этом была одна сторона ее типичного стародевичества. Она была старой девой по призванию, у нее был талант быть старой девой. Мало того, это стародевичество сообщало ее жизни какую-то жеманную и чуть гротескную изящность. Она гордилась, что осталась барышней, гордилась даже тем, что вся ее наружность была столь типичной. Она гордилась своим далеко выдававшимся вперед римским носом, своими черными, гладко-гладко причесанными волосами, своей худобой, своей прямой осанкой, своими костлявыми руками, своей длинной шеей, — иначе говоря, всем тем, что именно и слагалось в несколько карикатурный образ старой девы, — в тот тип «спинстер», который был так использован английскими рисовальщиками и романистами. Да и поступки тети Лизы соответствовали тем поступкам, которые приписывают старым девам Диккенс или Теккерей. Так, в продолжение целой зимы (кажется, 1879 года) она забавляла нашу семью переживаемым ею «романом». В нее якобы влюбился какой-то отставной генерал, оказавшийся с ней рядом в конке и вступивший с ней в разговор, начав с заявления, что он еще никогда не встречал такого классического носа. Несомненно, старый хрыч вздумал потешиться над действительно поразившей его, казавшейся удивительно старомодной дамой. Но тетя Лиза, что называется, клюнула на эту удочку, и в продолжение нескольких месяцев мы от понедельника до понедельника могли следить за развитием этой авантюры, которая после поднесения генералом нескольких букетов и двух коробок конфет (в чем тетушка уже усматривала «предложение») кончилась бесследным исчезновением героя. Не был ли то какой-нибудь бытописатель, заинтересовавшийся типом и вздумавший его вывести во всех подробностях в повести или в пьесе?
Тетя Лиза была страстной театралкой. Как ни скромны были ее средства, однако при соблюдении ею систематической экономии ей хватало их, чтобы абонироваться и в Мариинском театре на русскую оперу и в Михайловском театре на французскую драму, а в какой-то другой день недели она успевала еще посещать итальянскую оперу. Кроме того, она была непременной посетительницей и всяких гастрольных спектаклей: Сары Бернар, Коклена, Дузе, Росси, Сальвини и т. д. По понедельникам она у нас обедала именно перед тем, чтобы к 8 часам отправиться на свое обычное место в райке Мариинского театра и с замиранием сердца ждать момента, когда обожаемый ею Направник подымет свою дирижерскую палочку. По вторникам она обедала у своей племянницы, баронессы Медем, и оттуда спешила на свой балкон, чтобы аплодировать Гитри, Вальбелю, Андрие, Брендо, Томассен и чтобы с негодованием, которое она считала искренним, слушать «ужасные сальности» Хиттеманса, Жумара и мадам Дарвиль… Настоящим горем было для нее, если два интересных спектакля совпадали и приходилось выбирать один из них. Но не могло возникать у нее ни малейших колебаний при таком выборе, если один из спектаклей был украшен, удостоен участием Мазини. В таких случаях тетя Лиза отправлялась в Малый театр, в котором частная итальянская опера нашла себе приют после того, что перестала быть казенной, а ее абонементным местом в Мариинском на данный вечер пользовался кто-нибудь из нас. Таким образом и я познакомился с райком, и должен сказать, что как раз воспоминания от спектаклей, которые я видел и слышал оттуда, с этой высоты (у тети Лизы было место в самом центре амфитеатра и в первом ряду) — принадлежат к лучшим, — то ли потому, что общий вид театра из райка особенно эффектен, то ли потому, что оттуда действительно хорошо слышно, то ли оттого, что вас со всех сторон окружают не какие-либо люди скучные, равнодушные, а самые пламенные энтузиасты. О, в какое неистовство впадали иные из этих поклонников, какой стоял там крик и какое происходило неистовое маханье платками и шарфами!
Случалось мне видеть такое неистовство и в лице самой тети Лизы. Это бывало, когда соседнее с ней место в итальянской опере, принадлежавшее одной ее сослуживице, оказывалось свободным, и она его предлагала мне. Во что превращалась в конце каждого акта, пропетого Мазини, обыкновенно столь чопорная и даже величественная тетя, отлично подходившая к роли какой-либо строжайшей обер-гофмейстерины! Она становилась разъяренной менадой! Да и в своих же рассказах об «ее» Анджело она выдавала всю силу накопившегося в ее сердце чувства: она краснела, путалась, не договаривала, — точно и впрямь между ней и знаменитым тенором, с которым она не была знакома, установился род романа.
Впрочем, до знакомства все же дошло. Для какого-то прощального спектакля тетя Лиза сшила и расшила орнаментами в русском стиле бышлык и, выждав минуту, когда знаменитый певец, после всех артистов, вошел в вестибюль театра — по обыкновению своему с расстегнутым воротом, — она накинулась на него и, прикрикнув (по-французски, естественно): «Да вы с ума сошли, Мазини», — ловким движением обвила его шею своим подарком. Капризный и балованный певец был в этот вечер (после бесконечных оваций) в благодушном настроении, а потому в ответ на столь бурный натиск он не только не реагировал какой-либо грубой выходкой, но промолвил: «Grazie, molto grazie», — и даже поцеловал ручку дарительнице. Я думаю, во всей жизни тети Лизы именно этот момент был самым светлым и торжественным. Во всяком случае, рассказывала она о нем по всякому поводу, причем даже и мимировала свой поступок: я вот так накинула башлык, быстро-быстро связала концы, а он вот так поцеловал мне руку. Она верила, что именно ее башлык спас ее любимцу не только голос, но и прямо жизнь. Действительно, морозы в тот год стояли жестокие, и возможно, что башлык «в русском стиле» и впрямь пригодился Мазини… если только он в тот же вечер не отдал его своему слуге…
Еще необходимо упомянуть о двух черточках тети Лизы, иначе ее портрет не получился бы вполне схожим. Одна из этих черточек — патриотизм. При всем своем поклонении итальянской опере, при всей своей верности французскому театру, тетя Лиза была самой горячей патриоткой, и это неудивительно, если вспомнить, что она была дочерью бородинского героя и воспитанницей Смольного института в дни Николая Павловича. Как раз к последнему она питала настоящий культ, точно это не политическая личность, а личность мистическая, нечто вроде какого-то святого, чудотворца. Напротив, Александра II она не любила, и совсем он ее огорчил своей открыто выразившейся супружеской неверностью. Когда тетю Лизу поддразнивали (что вообще было у нас принято), уверяя, что и Николай I не подавал хорошего примера в этом отношении, она зажимала уши, закрывала глаза и кричала: «Неправда, это все клевета!» Почти так же восторженно относилась она к Александру III, и все мероприятия государя, имевшие целью поднять национальное самосознание, она приветствовала с энтузиазмом, а «чудесное спасение» 1887 года она от всего сердца считала именно за чудесное и даже обзавелась по этому случаю какой-то хромолитографией, которая изображала событие с несомой ангелами иконой в облаках. Смерть императора в 1894 году тетя Лиза пережила как личное несчастье, тем более что не питала никакого доверия ни к Николаю II, ни к царевичу Георгию. Напротив, она возлагала самые пламенные надежды на Михаила Александровича, считая его истинно русским человеком, и потому именно ожидала от него, что он будет прекрасным правителем. Надо, впрочем, сказать, что вообще у Михаила Александровича даже при жизни его брата Георгия была такая негласная партия, скорее род какого-то ни на чем реальном не основанного культа. До рождения цесаревича Алексея, оттеснившего дядю от престола, тетя Лиза не дожила.
Патриотизм тети Лизы выразился и в том, что она одно время в досужие часы со страстью занималась рукоделием в русском стиле и даже, несмотря на скудость средств, отделала свою крошечную квартирку (до переезда на Лиговку) бесчисленными полотенцами и мебелью в русском стиле с петушками, рукавицами, дугами и прочими национальными элементами. Кроме простого вышивания крестиком, она выучилась более замысловатому способу, при котором орнаменты и фигуры получались сплошными силуэтами на прозрачном фоне. По этой системе она изготовила себе занавески к окнам, а затем попробовала даже продавать подобные изделия. Для этой цели она попросила моего отца делать ей рисунки такого орнаментного шитья, от чего он по своему добродушию не отказывался. Запомнились мне такие занавески с фигуркой пляшущей с платком девушки и с танцующим вприсядку парнем. И А. Обер тоже изготовлял тете Лизе рисунки. По его композициям была вышита серия басен Крылова с очень выразительными фигурами животных. К сожалению, в коммерческой пользе этих изделий, требовавших большой кропотливости, тетя Лиза через год или два разочаровалась.
Нельзя, наконец, не упомянуть и о том, что тетя Лиза была хранительницей стародавних заветов хорошего тона. Я уже говорил, что она внешне походила на какую-нибудь камерьеру-майор при испанском дворе, но в ней этой внешности отвечала и глубокая убежденность, неуступчивая приверженность разным правилам приличия. Увы, жизнь тети Лизы сложилась так, что вместо участия на куртагах она целые дни проводила в более чем скромной обстановке и среди людей невоспитанных и хамоватых (это столь ныне распространенное слово тогда еще не употреблялось, но если бы оно употреблялось, то тетя Лиза должна была бы употреблять его ежеминутно). Благодаря этому милая и добрейшая тетя Лиза не выходила из каких-то историй с коллегами по службе, с соседями в доме дешевых квартир, а то и со встречными на улице. Она то и дело изливала «доброй Камилль» свое возмущение то грубостью своего начальника, то дерзостями каких-то старых дам, живших с ней рядом и пользовавшихся с ней общей плитой. Все эти истории неизменно возникали из-за какого-либо невежливого поступка.
Но и у нас в доме выходили иногда если не истории, то забавные инциденты. Тетя Лиза считала, что поздороваться с дамой «известного возраста» и только пожать ей при этом руку равносильно форменному оскорблению. А потому, когда кто-либо из моих гимназических или университетских товарищей являлся в комнату, где восседала тетя Лиза (один профиль, один величественный вид которой так и требовал, чтобы человек подтянулся), то она уже вся как-то настораживалась, готовясь произвести оценку этого новичка с точки зрения хорошей воспитанности. Если новичок ограничивался одним только рукопожатием и не изъявлял намерения почтительно склониться для поцелуя руки, то она резко выдергивала руку, а иногда даже тут же читала ему нотацию. Такие случаи произошли и с Валечкой Нувелем, и с Бакстом, и со Скалоном, и с Калиным; она сочла их всех за нигилистов и чуть ли не за людей опасных. Напротив, она исполнилась благоволения к Диме Философову и к Сереже Дягилеву за то, что они (предупрежденные мной) произвели церемонию лобзания руки по всем правилам и даже не без некоторой театральной подчеркнутости. «Сейчас видно, что это юноши из хорошей семьи», — заявила она.
Поцелую же и я здесь на прощанье сухую, белую с длинными пальцами ручку покойной маминой подруги, и да простит меня ее тень, если не все то, что рассказал, оказалось в соотношении с ее вкусом. Впрочем, лично меня тетя Лиза так любила (уже за одно то, что я любил театр и музыку), что мне (как и Леонтию и Николаю) она готова была простить и самые непростительные провинности.
Образ тети Лизы так сросся у меня с нашим домом, что я не могу себе представить некоторые наши комнаты без того, чтобы сейчас же не возник ее строгий профиль и гордая осанка ее тощей фигуры. Особенно срослось это представление о ней с воспоминанием о столовой — и не столовой парадных дней, где скорее тронировала бабушка Кавос, — как именно со столовой будней, точнее, понедельника, когда ничего специального не готовилось, а скорее доедались вкусные вещи, подававшиеся накануне. Против папиного места, по левую руку от мамы и восседала тогда эта наша духовная родственница, не столько занятая едой, сколько сообщением того, что с ней за неделю произошло. Кстати сказать, она была крайне воздержана в еде, а вина выпивала, как и мама, всего несколько капель, подлитых «для цвета» в стакан воды. Невскую же воду почитала за самую превосходную на всем свете (воспоминания юности) и даже приписывала ей целебные свойства.
ГЛАВА 12 Сестры и братья. Сестра Камилла
Всего у моих родителей было девять детей, но сестра моя Луиза умерла одного года, а брат Юлий (Иша) четырнадцати лет, другие все — и я в том числе — достигли почтенного возраста… Все мы вышли очень разные, не и с некоторыми общими фамильными чертами. Если говорить о расовых особенностях, то одни из нас более отчетливо выдавали свою итальянскую породу, другие — французскую. Характерно-немецкого, что могло быть унаследовано от бабушки Бенуа, пожалуй, ни в ком из нас не найти, но одни из нас относились к германскому началу с большей симпатией, другие с меньшей. Больше всего сознательно такая симпатия выразилась во мне, что не помешало мне как раз быть наиболее космополитичным из нас. В сущности у меня столько же нежности к англичанам и к их быту, к испанцам и даже к скандинавам, хотя уже ни одной капли ни английской, ни скандинавской крови во мне нет, а если и есть капля испанской (через Кавосов), то она за три века пребывания моих дедов в Италии должна была дойти до меня в совершенно гомеопатической дозе.
Можно еще расположить братьев и сестер Бенуа по степени их русскости. Русской крови, повторяю, в нас нет даже и в гомеопатической дозе, но это не помешало нам стать вполне русскими, и не только по подданству и по языку (вот я и эти свои воспоминания предпочитаю писать по-русски — ибо это мой родной, наиболее мне свойственный язык), но и по бытовым особенностям и по некоторым свойствам нашего характера. Тут замечаются известные вариации. Вполне естественно, что наиболее русским стал с годами, не изменяя нашему общему космополитизму, тот из моих братьев, который, благодаря своему браку, породнился с чисто русскими людьми — это брат Людовик, Луи, или, как его называли на более русский лад, Леонтий. Все остальные женились или выходили замуж за лиц иностранного происхождения: старшая сестра за англичанина, младшая за француза, трое братьев женились на немках, один женился на своей кузине — на итальянке, но с примесью русской крови.
Оба мужа моих сестер были католиками, три из жен братьев были православными, две лютеранками.
Я не стану здесь говорить о братьях, сестрах и о наших свойственниках с теми подробностями, которых они все заслуживают, — я должен беречь место и держаться известной системы, — но как не мог я в своих воспоминаниях не упомянуть о происхождении нашей семьи и дать хотя бы очень эскизные портреты моих родителей, так я никак не могу умолчать и о своих братьях, игравших в моем существовании очень большую роль. Однако мое положение в семье было особенным. Явившись на свет после всех и без того, чтобы у родителей могла быть надежда, что за мной последуют и еще другие отпрыски, я занял положение несколько привилегированное, какого-то Вениамина. Я не только пользовался особенно нежной заботой со стороны моих родителей, но был как бы опекаем и всеми сестрами и братьями. Особенно нежны были со мной сестры, годившиеся мне по возрасту в матери (старшей был 21 год, когда я родился, а младшей 20 лет). Но и братья всячески меня баловали, заботились обо мне и каждый по-своему старался влиять на мое воспитание. Все это подчас не обходилось без маленьких драм и недоразумений, без ссор и обид; иные заботы и попечения принимали неприемлемый для меня оттенок, и тогда я всячески против таких посягательств на мою независимость восставал. Однако в общем мы все жили дружно, и о каждом из братьев и сестер я храню добрую и благодарную память.
Переходя к отдельным членам нашей семьи, я начну по старшинству — с моей сестры Камиллы Николаевны, которой, как я упомянул, был 21 год, когда я родился, и которая в 1875 году покинула родительский дом, выйдя замуж за Матвея Яковлевича Эдвардса. В совершенно раннем детстве я ей, не отличавшейся красотой, с лицом, чуть тронутым оспой, тихой, почти безмолвной, предпочитал сестру Екатерину — веселую и очень хорошенькую, стройную, «розовую» Катю. Впоследствии же я сумел по-должному оценить всю прелесть, всю мудрость сердца, весь абсолют доброты и даже полное самоотречение и самопожертвование Камиши, и эта моя оценка приняла в конце концов форму известного обожания. Если кого я в нашей семье после матери и отца действительно обожал, так это именно ее, и если после смерти мамы мне действительно кто-либо давал иллюзию, что она все еще со мной, так это именно Камиша. Но только в маме было гораздо больше духовной крепости, того дара, который Гете называет «серьезное отношение к жизни», в Камише же доминировала венецианская, часто граничившая с пассивностью вялость и какая-то безграничная покорность обстоятельствам. Она как-то не совсем справлялась с трудностями жизни и не была способна влиять на близких людей так, как наша мать.
Свою Camille-darling, свою нежную и хрупкую подругу жизни вполне оценил и ее муж Матью Эдвардс — громадного роста, типичнейший бритт, появившийся на нашем горизонте в 1874 году в качестве преподавателя английского языка. Он сразу влюбился в свою ученицу и нашел с ее стороны полный (хотя едва ли в пылких формах выразившийся) ответ. Выход замуж барышни нашего круга за гувернера едва ли можно было считать выгодной партией, и несомненно, родители мои призадумались, когда Камиша спросила их согласия. Но Матью так быстро, так верно завоевал симпатии и их, и всех прочих членов семьи, что колебания эти продолжались недолго, чему способствовало то, что по наведении справок на родине Матью оказалось, что этот молодой человек принадлежит если и не к очень зажиточной, то все же к весьма уважаемой семье. Да и в гувернеры-то он попал случайно, приехав в Петербург искать счастья и заработка вообще и не зная наперед, куда приложить свои силы. Преподавательская деятельность не была ему вовсе по вкусу, вследствие чего при первой же оказии (оказией оказался его брак, и событие это произошло необычайно скоро после его приезда в русскую столицу) он навсегда бросил педагогию, отдавшись всецело таким делам, которые ему лежали ближе к сердцу.
Ближе сердцу Матью были «дела» — все равно какие, в какой области, лишь бы это были дела честные, но и доходные, сулившие быстрые, блестящие прибыли. Сначала он подбил мою мать и ее брата, моего дядю, богача Сезара Кавос построить завод, которого он и стал управляющим, но затем он этот завод у них выкупил, скупил и все земли вокруг, приобрел и многие другие предприятия и кончил Матвей Яковлевич Эдвардс богатым и притом необычайно уважаемым всеми человеком. Мало ли таких самородков расселилось по белу свету, и очень многие среди них достигли несравненно более блестящих результатов, нежели мой зять. Однако некоторые особенности Матвея Яковлевича заслуживают того, чтобы ему среди других самородков было отведено особенное место. Так, в нем не было ничего от парвеню: образ жизни его оставался на протяжении всего этого восхождения одним и тем же, таким же незатейливым, каким он был вначале, и в этом более всего выразилось какое-то, я бы сказал, изящество его духовной натуры. Кроме того, в Мате совершенно отсутствовала жадность или какая-либо узкоэгоистическая корысть.
При его беспредельном благодушии, так чудесно гармонировавшем со святой добротой его жены, он и не был способен что-либо урвать, лишив другого чего-то, тому нужного; в нем ничего не было от агрессора и рвача. Его завоевания были вполне мирного характера. Свои сделки он устраивал полюбовно посредством переговоров и убеждений, иногда очень длительных и очень сложных, но доставлявших ему самому большое удовольствие. Самый процесс таких переговоров с бородатыми мужиковатыми купцами и промышленниками в трактирах за бесконечными стаканами чая имел для него какую-то притягательную силу и привел к тому, что этот очень образованный англичанин, дававший в России уроки английского языка и английской литературы, в конце концов если и не правильно, то бегло говорил по-русски и даже приобрел всякие характерные простонародные замашки.
Я нежно любил Мата. Мне импонировал его рост, его Геркулесово сложение, и в то же время я совершенно не боялся его — столько было в его характерной голове, в его густой рыжей бороде и в его покрытых веснушками и золотистыми волосками могучих руках доброты при сознании исключительной своей силы. О том, какую любовь он снискал среди своих многочисленных служащих, может свидетельствовать то, что когда он скончался, то его гроб на руках пожелали нести рабочие от самого дома до самой могилы на католическом кладбище, версты три, а происходило это в самый разгар революции 1917 года и тогда, когда лозунгом рабочих (особенно в таком ультрареволюционном квартале, как тот, где жили Эдвардсы) был — «смерть и разорение капиталистам-фабрикантам». Камишенька через три года после его смерти эмигрировала и кончила жизнь в Англии в большой бедности…
Я не прочь употребить слово «художественность» в приложении к финансово-промышленной деятельности Мата, однако это слово следовало бы понимать здесь в совершенно особенном смысле. Художественность эта заключалась в том, что Мат трудился, рисковал, падал, снова подымался, производя все это согласно принципу «искусство для искусства». Вообще же ничего художественного в нем не было, если не считать его любви к Шекспиру, к Теннисону, к Муру, о чем, впрочем, он с годами все реже и реже напоминал. Известная склонность к поэтичности сказывалась еще в том, что он любил дремать у камина, слушая старые английские романсы, которые ему играла на их расстроенном пианино Камиша. К художественному творчеству членов той семьи, в которую он вступил, он относился совершенно безразлично, в театр ездил только тогда, когда его туда насильно тащили, выставки и концерты его не интересовали. Меньше всего его интересовал декорум личной жизни, что, в связи с беспечностью Камишеньки, накладывало на их домашний быт отпечаток богемы.
Те, кто пытались оправдать неряшливость и даже некоторую неопрятность, царившие в их доме на Кушелевке, многочисленной семьей, добрая половина которой находилась в состоянии беспомощных беби, — были неправы. Мне известны дома, в которых маленьких ребят еще больше, но в которых все содержится в порядке и в которых жизнь протекает в формах известного изящества. Да и средства Эдвардсов позволяли им вполне пользоваться нужным количеством нянек и бонн, чтоб не оставлять детей без присмотра. Но таков был именно стиль их дома и, как ни странно, безалаберность составляла и своеобразный шарм его. Лет до двенадцати мне нигде так приятно не было гостить, как именно у Эдвардсов, и это не только потому, что я у них объедался самыми сочными ростбифами и самыми вкусными пирогами (Камишенька усвоила себе все тайны английской национальной кулинарии), но и потому, что весь этот быт и именно эта их простота, этот своеобразный уют в беспорядке (одно то, что кошки и собаки как-то распоряжались домом на равных правах с хозяевами) — все это казалось мне после сравнительной чинности нашего дома чем-то даже завидным.
И до чего были распущенны дети Камиши и Мата! До чего шумно и бурно выражалась их радость жизни в просторных комнатах их прелестного, построенного по чертежам моего отца дома на Кушелевке. Сколько портилось и ломалось вещей, и до чего все же эти их дети были добрые и милые дети, до чего мне, предводителю этой шайки разбойников, было с ними весело. Изредка слышался окрик Матвея Яковлевича: «Елена, прекрати немедленно, скверная девочка; я выдеру тебя, Джомми…» — но, разумеется, никакого кнута, необходимого для исполнения последней угрозы, в доме не было, а скверная девочка через минуту после грозного выговора отца уже сидела у него на коленях и теребила его рыжую бороду. Камишенька, та и замечаний не делала, а только, глядя на шалости, скорбно вздыхала, — не переставая возиться с пеленками, из которых только что выволокла последнего беби; а вид розового тельца этого беби или его широкая улыбка сразу рассеивали ее скорбь — впрочем, чисто напускную.
Я упомянул только что о бороде Мата. Она была у него рыжая и пропахла смолистым духом. Впрочем, такой же аромат исходил у него не только от бороды, но и от всего: одежды, белья, волос, малейших принадлежавших ему предметов. Когда ватага «кушелевских» появлялась в нашей квартире, то и по ней распространялся этот дух, вовсе не противный и имевший в себе нечто здоровое, чуть ли не целебное. Получался же этот дух от канатной фабрики, стоявшей на расстоянии всего нескольких сажен от их дома. Сам Матвей Яковлевич проводил почти целые дни на своей фабрике, и его массивная фигура показывалась то в кладовой, где находились гигантские весы, то в квартире, где писаря ведали гроссбухами, то среди сверлящих ухо визжащих машин. Смешной говор его, полный неисправимых британизмов, слышался в самых неожиданных местах, и это был всегда добродушный, подзадоривающий говор. Только в крайних случаях он повышался до величественно-грозных нот, и тогда в нем вдруг неожиданно открывалось нечто зевсоподобное. Напротив, никогда Мат не унижался до раздражения, до нервного визга. За эти-то черты, за эту его какую-то товарищескую простоту, связанную с мудрым начальствованием, его особенно и любили рабочие.
К несчастью, смерть не пощадила и эту чудесную и милую пару — она разлучила Камишу и Мата… Он умер в Петербурге, в том же доме близ канатной фабрики, и его похоронили на католическом кладбище на Выборгской стороне. Камишенька через три года после его смерти эмигрировала и кончила жизнь в Англии в большой бедности, в скромном деревянном домике, предоставленном ее дочерям и внукам зажиточными английскими родственниками Мата. Но оба были верующими людьми (Матвей был ревностным католиком, несколько фанатического уклона), и надо думать, что для них вопрос о том, где суждено покоиться бренным останкам, едва ли имел большое значение. В одном они могли не сомневаться, а именно в том, что жизнь и после земного существования имеет продолжение и в этом продолжении они снова будут соединены.
ГЛАВА 13 Сестра Катя
Вторая моя сестра — Екатерина, по-семейному Катя или Катишь, была всего на год моложе Камиши, но казалась гораздо моложе своей несколько старообразной сестры. Она росла премиленькой девочкой-резвушкой и шалуньей, а сделавшись взрослой барышней, превратилась в очень хорошенькую особу с чудным цветом лица, с очень быстрыми и притом грациозными движениями (сестра Камиша, напротив, была скорее медлительна).
Детей вообще привлекает изящное или яркое проявление жизни. В этом следует искать то несомненное, впоследствии изменившееся предпочтение, которое я, будучи совсем маленьким, оказывал сестре Кате перед сестрой Камиллой. Но с годами отношение мое несколько изменилось; не то чтобы я разлюбил Катечку, но я все же стал определенно предпочитать ей Камишеньку.
Если искать причины этой измены, то таковые скорее всего найдутся в некотором, правда, очень незначительном, дефекте в характере Кати. Она была менее ровной в настроении, более вспыльчивой, а главное, у Кати вечно-женственное особенно сказывалось в некоторой склонности к судачеству. Она любила слушать сплетни, она их даже с самым невинным видом вызывала, и — что уже хуже — она с тем же невинным видом передавала их кому не следовало, вследствие чего получались иногда разные осложнения. Тут не было и тени злого намерения, но все же тут «Евино начало», которое совсем отсутствовало у Камиши или у мамы, заслоняло природную благожелательность Кати. Понять — простить — было одним из коренных убеждений и мамы и моей старшей сестры, и они почти никогда никем не возмущались и никого не осуждали. Напротив, Катя любила в обществе близких и не близких людей поужасаться и понегодовать, а в связи с этим находилась и ее потребность вызывать поводы к таким ужасаниям и негодованиям.
Надо при этом иметь в виду, что судьба бедной Катиши была, в общем, куда менее счастливой и куда менее ровной, нежели судьба старшей сестры. Она вышла замуж по любви за несколько месяцев до замужества Камиши, вышла за молодого, талантливейшего и вскоре ставшего знаменитым скульптора Евгения Александровича Лансере, и этот «роман Кати и Жени», начавшийся летом 1874 года, продолжался до самой гробовой доски Жени, случившейся в феврале 1886 года. Катя, которой в момент смерти мужа было всего 36 лет и которая по-прежнему была прелестной, осталась верной ему до конца своей жизни. Она отвергла несколько предложений, из коих одно, во всяком случае, представлялось для всех окружающих вполне желательным. Сказать, однако же, чтобы роман Кати и Жени был счастливым, тоже нельзя. Евгений Лансере был с самого начала обреченным человеком, в нем еще в конце 70-х годов обнаружился туберкулез, и страшная эта болезнь вслед за тем только ухудшалась и взяла наконец верх над его хрупким организмом. Самый характер Жени был тяжелым, и существование с ним было нелегким. Насколько я любил своего английского зятя Мата, настолько я недолюбливал своего французского зятя, настолько меня все в нем коробило — и его едкая насмешливость, и его бурные вспышки, и его состояние непрерывной раздражительности. Иначе как в каком-то ироническом тоне он ни к кому не обращался, и даже в отношении горячо и нежно любимой жены он редко менял свой хронически-злобный тон. Тут многое было от болезни, но многое и от сознания, что он недостаточно оценен как художник, что он по рукам связан заботой о благосостоянии своей семьи, что он находится в своего рода порабощении у бронзовщика Шопена, заставлявшего его пробавляться мелкими вещицами и не позволявшего ему развернуться.
Только постепенно, по мере роста своей известности, Лансере стал освобождаться от этой кабалы, и в последние два-три года жизни он стал диктовать Шопену свою художественную волю. Но произошло это тогда, когда чувство обреченности уже ни на минуту не оставляло его и исчезла всякая надежда, что он еще успеет себя показать вполне достойным образом.
Можно считать, что Лансере, внук застрявшего во время похода 1812 года в русском плену француза и его жены, балтийской немки (баронессы Таубе), был таким же полноправным гражданином Немецкой слободы, какими были мы, Бенуа, однако существенной разницей между нами и им был его пламенный русский национализм. От своего французского происхождения он не отказывался и даже ценил его, однако эта кровная симпатия к Франции была ничтожной в сравнении с боготворением России. И это боготворение России, распространенное на все славянство, являлось основой закадычной дружбы его с В. С. Россоловским, в котором, как в племяннике знаменитых славянофилов Аксаковых, эти чувства можно было считать вполне естественными. Лансере не скрывал в вопросах религии своего предпочтения православию, и на этой почве возникали между ним и нашим другом дома Бианки лютые споры, начинавшиеся обыкновенно с поддразнивания Женей бедного старика-фанатика и кончавшиеся прямо-таки своего рода проповедями, посредством которых оба оппонента, не щадя голоса и в состоянии крайнего раздражения, старались друг друга перекричать. И эти споры не могли меня, мальчика в общем религиозного и слепо веровавшего в спасительность католической церкви, расположить к моему зятю. Я помню, как я старался бедного Бианки после таких стычек утешать изъявлением моей с ним полной солидарности.
В общем, я видел в Жене Лансере врага, но года за два до смерти его это мое отношение к нему стало меняться — впрочем, в связи с изменением и его отношения ко мне. Пока он во мне видел одного из многочисленных ребят, бывавших у них в доме, я был для него незначительной величиной и скорее предметом той же ненависти, которую он питал к детям вообще, за исключением своих собственных. Не раз он разражался против меня криком и бранью, и это меня, пользовавшегося со стороны всех близких особой лаской и снисходительностью, не могло не возмущать. Но во время моего гощения в имении Лансере в 1884 году (я считал, что гощу у своей сестры Кати, а вовсе не у моего врага Жени), стала намечаться какая-то перемена в его отношении ко мне. Он по-прежнему придерживался иронического тона, и даже — в связи с моими тогдашними четырнадцатилетними романами — этот тон приобретал моментами и очень колючий, саркастический характер, однако под этой иронией и под этим сарказмом стало обнаруживаться что-то вроде любопытства, а затем, к концу этого моего пребывания, появилась даже и известная доля симпатичного интереса.
В течение же нашего следующего сожительства в том же Нескучном в 1885 году это любопытство и этот интерес Жени ко мне обозначились в гораздо более отчетливой форме, да и с моей стороны лед начал таять, а при расставании с Женей, в конце августа 1885 года я был почти в него влюблен. Я расставался с собеседником, который понимал меня, а ведь в том возрасте такое внимание обусловливает всякие виды влюбленности. Незаметно для себя и у меня стал меняться мой тон с Женей. Это теперь был тон излияний и признаний, и если даже Женя еще над чем-либо иногда подтрунивал, то в общем все же этот мой новый тон трогал его, человека крайне любопытного до всяких человеческих чувств.
Когда я хочу вызвать в своей памяти образ Матвея Яковлевича, то он сразу предстает передо мною — здоровый, громадный, с расплывшейся в рыжей бороде улыбкой; я его вижу или шагающим по фабрике или танцующим джигу на фоне ярко горящей всеми свечами елки. Свой национальный танец этот массивный колосс танцевал с балетной легкостью. Напротив, когда я вызываю в памяти образ Жени Лансере, то я неизменно вижу его в зале дома в Нескучном, сидящим в глубоком кресле у самого окна и занятого отделкой очередной статуэтки, которую он ворочает в своей руке, то и дело протягивая к горящей маленькой стеклянной спиртовке металлический шпатель с кусочками воска на нем. У него, еще совсем молодого человека, на носу очки, да и весь он, исхудалый и согбенный, с совершенно прозрачными пальцами, казался глубоким стариком. Работал он часами без перерыва, не выпуская из рук очередной фигурки лошади или человека. Изредка его кашель приобретал раздирающий характер, и тогда Женя прерывал работу и прогуливался несколько минут по комнате, борясь изо всех сил с новыми приступами. И не странно ли, что тот же человек даже в этом своем последнем году жизни чувствовал себя днями настолько хорошо, что ходил купаться в студеной речке, протекавшей неподалеку от их имения, и мог совершать далекие объезды верхом своих поместий. Приказав подвести к крыльцу свою любимую кобылу Кабарду, он по-прежнему ловко вскакивал на нее и выезжал за ворота с видом лихого черкеса. На черкеса он вообще походил потому, что неизменно и дома и в гостях носил полу-восточный костюм, род застегивавшейся на боку поддевки серого цвета, бархатные шаровары и татарские сапоги.
Наездником Е. А. Лансере был изумительным. Он буквально срастался с лошадью, и от этого соединения человека с лошадью получалось впечатление кентавра… Он и знал лошадь так, как никто. В малейших подробностях он знал как тело ее, ее костяк и ее мускулатуру, так и все ее повадки, самую душу лошади. Зато и лошадь в его присутствия становилась точно более осмысленной и какой-то наэлектризованной. Страстью к лошади объясняется и постоянное возвращение Лансере к конским сюжетам. Он превосходно знал и человеческую фигуру и без особенного труда, как бы на лету примечал всякую характерную особенность других животных: верблюдов, овец, коз, но вполне по себе чувствовал себя, когда изображал лошадь, то одинокую, то в групповом соединении… Его большие группы, вроде араба, гонящего табун, или казаков у водопоя, быть может, сейчас не встретили бы прежнего восторга; ведь обязательным для скульптора считается теперь статичная ясность и простота очертаний. Однако если когда-либо эти требования будут, как все в области человеческих вкусов, изжиты, то я убежден, что именно эти группы Лансере будут почитаться своего рода художественными чудесами. Тогда будет понята та труднейшая задача, которую ставил себе художник, и восторг будет вызывать то, с какой легкостью, с каким знанием и вкусом эта задача бывала им решена. Лансере-отец еще ждет своей настоящей оценки.
После смерти бедного Жени, который скончался у себя в Нескучном в 1886 году в самое глухое зимнее время и который был похоронен у церкви, стоявшей насупротив барского дома, жизнь моей сестры получила совершенно иной характер. Со своими шестью детьми, из которых младшей дочери было около двух лет, она осенью того же 1886 года переехала в Петербург и поселилась с нами в родительской квартире. Всем пришлось потесниться, однако квартира была достаточно просторной, чтобы это стало кому-либо в тягость. Более всего, разумеется, добровольно пострадали наши родители, которые перевели свою спальню в последнюю в ряду анфилады узкую комнату, в которой стояла ванна. В ней было так тесно, что двуспальную кровать пришлось поставить вдоль стены. Но едва ли папа и мама действительно страдали от этого. Они к тому же были как бы приучены к такому уплотнению, так как во время периодических вселений к нам внуков из-за разных детских болезней и для изоляции еще не больных папа и мама то и дело переезжали из одной спальни в другую. Что же касается меня, то я только мог радоваться такому прибавлению наших сожителей, тем более что моя прелестная комната продолжала оставаться в полном моем распоряжении.
Я особенно был доволен тем, что под одной крышей со мной теперь оказался мой любимый племянник Женя, или Женяка, Лансере, очень рано начавший обнаруживать необычайное художественное дарование. Беседы с этим очаровательным, нежным и в то же время исполненным внутреннего горения отроком постепенно стали превращаться для меня из мимолетных развлечений в какую-то необходимость. Когда я возвращался из гимназии или с прогулки, мне было приятно, что я сейчас увижу Женяку, что мы что-нибудь будем с ним вместе читать, о чем-либо рассуждать, что-либо рассматривать. Большое удовлетворение мне доставляло и то, что я при этом мог давать волю своим педагогическим наклонностям, что я как бы мог воспитывать своего племянника, помогать ему стать художником. Вероятно, художественное поприще Женя выбрал бы и без моей помощи, просто в силу дарованного ему богом таланта, но в чем-то я все же, думается, ему помог.
Постепенно, с годами в наши беседы стал втягиваться и младший брат Жени Коля, мальчик совершенно исключительной доброты и усердия. Он больше всего был похож на своего деда, на моего отца, и как-то совершенно естественно вышло так, что именно он избрал деятельность Николая Леонтьевича — архитектуру, в которой он выказал впоследствии и определенное дарование, и исключительную культурность. Эти ученики мои делают и продолжают делать мне, их вдохновителю и первому руководителю, много чести.
Но не только этими двумя членами семьи Лансере обогатилось русское искусство; младшая из дочерей Кати — Зина — оказалась обладательницей совершенно исключительного дара. Однако ее я уже не имею права считать своей ученицей. Прибыв к нам в младенческом возрасте (двух лет), она росла с сестрами, как-то вдали от моего кабинета, где происходили наши собеседования и всякие наши затеи с Женей, с Колей и с моими друзьями. Росла Зина к тому же болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. И все же несомненно, что Зина была взращена той атмосферой, которая вообще царила в нашем доме и настоящими творцами которой были наши родители — ее дед и ее бабушка. Впрочем, отголоски того, что происходило или что назревало у дяди Шуры в кабинете и куда она изредка заглядывала, должны были доходить и до нее, будить ее любопытство. Во всяком случае, когда двадцать лет спустя описываемого времени Зинаида Серебрякова неожиданно для всех предстала уже готовой художницей, она оказалась одного с нами лагеря, одних направлений и вкуса, и ее причисление к группе «Мир искусства» произошло само собой. Нам же, художникам «Мира искусства», было лестно получить в свои ряды еще один и столь пленительный талант.
Судьба Кати — и сначала-то не вполне благополучная — приняла к концу жизни драматический оттенок в силу всех, почти стихийных, обстоятельств, которые были вызваны войной и революцией. До этих злополучных дней она, окруженная детьми и внуками, не знала нужды, и если ее дом и отличался большей скромностью, нежели дома ее родственников, то это исключительно в силу как раз ее личного тяготения к какой-то тени. Но большевистская революция, застигшая ее во время пребывания в деревне, заставила ее покинуть Нескучное, а вскоре после того, как отвоевали обратно Украину, эта прекрасная усадьба была вместе с ее вековым парком сожжена. У Кати, как и у всех нас, не оказалось ни гроша, и она погибла бы, если б не спасли ее дети и особенно не расстававшаяся с матерью и после своего замужества, во время революции овдовевшая Зина Серебрякова.
В 1920 году общими стараниями родственников удалось их обеих и малолетних детей Зины переправить обратно из Харькова в Петербург, а в Петербурге поселить в той самой квартире нашего прародительского дома, в котором Катя родилась и провела первые двадцать четыре года своей жизни. Здесь, на улице Глинки, она и кончила свой век — но, Боже, в каких печальных условиях. Сначала ей была предоставлена вся квартира с ее 12 окнами на улицу. Это было возможно, пока население Петербурга, рассеявшееся в острые годы разрухи по провинции, не вернулось восвояси. Когда же стала ощущаться нужда в помещениях, то и квартиру Кати стали постепенно заселять. Первые такие уплотнения произошли еще по инициативе и по выбору ее самой: менее нужные ей комнаты были предоставлены знакомым и приятным людям, но затем (и особенно после переселения в Париж Зинаиды Серебряковой и двух ее детей) в пустующие комнаты въехали совершенно чужие и уже вовсе неприятные люди «новейшей формации».
Бедная наша родительская квартира, свидетельница столь счастливых былых времен, превратилась в какое-то дикое сожительство разнородных элементов. В одной из комнат доживала свой век полуслепая, а в последние месяцы и совсем ослепшая, Катенька, при этом кухня и «удобства» были общими, и духовная атмосфера квартиры была отравлена всякими доносами и интригами. То самое существо, которое резвушкой-девочкой носилось по этим комнатам, которое в подвенечном платье принимало в 1875 году поздравления бесчисленных родственников и знакомых, кончало в этой атмосфере свой долгий век. Напрасно Зина предпринимала из Парижа всякие меры, чтобы вывезти сюда свою мать и двух оставшихся с нею детей, советская власть, по совершенно необъяснимым причинам, отказывала ей в этом. Спрашивается, какие соображения, какие опасения могли ее заставлять насильно держать безобидную, никогда ни в чем политическом не участвовавшую восьмидесятилетнюю больную старуху? Смерть, наконец, избавила бедную Катеньку от дальнейшего мучительства, и надо думать, что, освободившись от рая, уготовленного русским людям фанатиками-утопистами, она теперь отдыхает в подлинном раю, который она вполне заслужила.
ГЛАВА 14 Брат Альбер
Старший из моих братьев родился за восемнадцать лет до моего рождения, иначе говоря он почти годился мне в отцы. И однако, несмотря на такую разницу в годах, это не сказывалось на наших отношениях. Я так и не исполнился к нему чувством, похожим на сыновье почтение. Сложилось это так еще в моем раннем детстве, да так и осталось на всю жизнь. Альбер до самой гробовой доски оставался для меня тем самым Бертой или Бертушей или Альбертюсом, каким я его когда-то осознал и полюбил.
Надо при этом заметить, что этот удивительный человек сохранил и в восемьдесят четыре года абсолютную свежесть и юность души. В значительной степени это получалось от его органической (в сущности завидной) неспособности проникать в сущность вещей и положений. Не будь такой частичной несознательности, состояние, в которое впал Альбер, когда лет семидесяти он лишился ног, потерял все свое имущество и вынужден был доживать свой век, пользуясь милостью зятя, человека не злого, но сумасбродного, — состояние это могло бы ему казаться просто невыносимым. Однако и безногий и жалкий, прикованный к месту, забытый как художник, копейки за душой не имевший, брат мой все эти беды принимал легко и нисколько не терял своей жизнерадостности. Он никогда не скорбел и не жаловался, и это не потому, что он умел скрывать свои чувства, а потому, что его натура была насквозь пропитана оптимизмом и он так и не утратил чисто детской способности жить только данной минутой, ни над чем не задумываясь, не заглядывая вперед и даже не оглядываясь назад. Довольно безразлично он относился и ко всем тем неприятностям, которые, в силу одного своего положения калеки, он причинял другим. Его дочь, М. А. Черепнина, была настоящей мученицей. Муж ее, Н. И. Черепнин, отчасти потому и относился к тестю с нескрываемой неприязнью, что страдал за жену, убивавшуюся в ухаживании за бессильным и беспомощным стариком. Альбер же эту жертву дочери едва ли оценивал по-должному и оставался таким же требовательным (по-детски требовательным), каким был, когда он был хозяином своего дома и главой семьи. Происходило это не от какой-либо сердечной черствости, а все по той же неспособности схватывать сущность вещей, отдавать себе в них отчет.
Сразу надо прибавить, что Альбер был величайшим шармёром. В этой природной пленительности надо искать как бы его жизненное назначение, весь смысл его пребывания на земле. Он как будто для того именно и явился на свет, чтобы пленять. Всю жизнь он всех и всячески пленял, притом он сам нуждался в том, чтобы эту свою сущность эманировать. Эманация эта ему не стоила ни малейших усилий. Он был в разных смыслах поразительно одаренным человеком, но главный из этих даров Альбера — был в способности нравиться, который, как известно, действует тем сильнее, чем меньше проявляется намерение, основанное на самовлюбленности. Будучи абсолютно эгоцентричной натурой, Альбер сам этого не сознавал и уже во всяком случае в этом не каялся. Вообще нельзя себе представить Альбера кающимся и раскаивающимся. Он без устали срывал цветы жизни и нередко при этом ломал хрупкие их стебли или топтал их, но ему самому казалось, что в каждом случае он поступает вполне правильно, и он никогда не задумывался над тем, дозволено ли то, что ему показалось соблазнительным. Он с упоением лакомился наиболее лакомым из того, что предоставляла жизнь, и приступал к удовлетворению этой непоборимой потребности в лакомстве, не успев сообразить, соответствует ли это каким-либо божеским или человеческим законам. И еще черта: отведав того или иного запретного плода, он не сохранял ни малейшей памяти об этом проступке. Он был вообще индифферентен к прошлому, — стоило повернуть страницу, как он уже забывал то, что на ней стояло. Я, впрочем, имею в виду только живую книгу жизни: ее он и читал с упоением. Напротив, он почти никогда не касался книг, сочиненных и напечатанных. Я не припомню Альбера читающим, если не считать утреннего беглого просмотра газет.
Альбер был шармёром — это была его основная черта, но не менее важной чертой его было то, что он был в самом своем существе импровизатором. Впрочем, одно находилось в связи с другим. В импровизационном начале едва ли не сказалась кровная связь Альбера с Италией и с Венецией. Ведь уже прадед наш, Катарино Кавос, собирал в «Скуола ди Сан-Марко» избранную и просвещенную публику, приходившую наслаждаться его мгновенно возникавшими и чудесно сплетавшимися музыкальными импровизациями. Этот дар прадеда, перескочив через два поколения, достался затем двум правнукам — Альберу в большей степени и в меньшей степени — мне. Как раз именно потому, что я обладаю тем же даром, но обладаю им в меньшей степени, я могу судить (а начал я судить об этом чуть ли не с пеленок) о высоком качестве альберовской импровизации. К сожалению, этот дар ныне вообще не ценится. Самый близкий к Альберу человек — его жена, будучи превосходной музыкантшей, питая какой-то трепетный культ к «настоящей», к серьезной музыке, занятая музыкой профессиональным образом, относилась без малейшего уважения и даже с некоторой иронией к музыке, рождавшейся из-под пальцев мужа. Между тем, одна манера играть Альбера на рояле (или на скрипке), его неподражаемое туше, его своеобразная, но по-своему блестящая техника — все было чудесным.
Когда на Альбера накатывало, когда Аполлон удостаивал не столько призвать его на серьезное творчество, а как бы полушутя поманить его к инструменту, он весь преображался, являя все признаки такой «охваченности». В такие минуты, в годы своей юности, он становился поразительно красив. Его аристократически длинные и сильные пальцы (такие пальцы любил изображать Себастьяне дель Пьомбо) приобретали беглость, а музыкальная мысль мелодии, гармонические соединения и модуляции возникали в безупречной связанности, обогащаясь все новыми и новыми находками. Звуки у Альбера лились непрерывным потоком, точно это все давным-давно было сочинено и крепко заучено. В то же время музыкальные эти фантазии были только какой-то фата-морганой, способной очаровать в ту минуту, когда она возникала, на самом же деле эта музыка была лишена подлинной прочности и внутреннего смысла. Замечательно, что уже через минуту после того, как это волшебство кончалось, сам Альбер не мог вспомнить то, во что он сам только что с упоением вслушивался. Обладая некоторыми теоретическими познаниями, он мог бы вполне записывать свои импровизации, однако он пренебрегал этим; ему было достаточно того, что он и себя и других потешил.
Нередко Альбер прибегал к музыке и в качестве тайного любовного языка. Надо было видеть, как та или иная девушка или дама замирала, стоя у рояля, как все ее существо начинало трепетать перед обольщением этих пламенных любовных деклараций. Не одну Евину дочку Альбер соблазнил именно тем, что он вкладывал в свои эти музыкальные объяснения в любви. Нередко такие сцены обольщения происходили среди какой-либо самой что ни на есть светской гостиной, наполненной людьми, на глазах у матерей и у мужей мимолетных жертв, и однако объяснение Альбера было понятно только той, к которой оно обращалось.
Здесь будет уместно сказать, что эти же импровизации Альбера сыграли немалую роль в истории моей балетомании. В сущности, все с них и началось. С осени 1882 года Альбер поселился в нашем прародительском доме — в квартире, находившейся как раз над нашей, и вот с тех пор я сделался постоянным слушателем его игры. Из своей «Красной» комнаты благодаря каминной трубе я отчетливо слышал как гаммы и экзерсисы Маши, как вокализы и арии ее сестры Сони, готовившейся стать оперной певицей, так и сменявшую эти скучные вещи игру Альбера. Гаммы, экзерсисы и вокализы скорее раздражали меня, отвлекая от занятий. Напротив, стоило мне услышать бодрые, звучные, вкусные, заманчивые аккорды Альбера, как я, не будучи в состоянии противостоять их призыву, уже летел наверх. Вмиг оказывался я в альберовской зале и уже начинал производить ногами, руками, всем телом, всеми чертами лица то самое, что мне повелевала музыка брата. Я действовал, я творил, я находился в трансе, я был одновременно и балетмейстером, и танцовщиком, и целой балетной труппой. Мои маленькие племянницы вторили, как могли, моим танцам и мимическим сценам, а старшая из них, очаровательная Машенька, улавливала то, что я на ходу ей предписывал делать, и послушно исполняла это. Нередко присоединялся к нам брат Марии Карловны, ставший моим закадычным другом Володя и маленький Петя, и тогда уже можно было наладить целое «действо», в котором эпизоды возникали, развивались и сменялись с удивительной быстротой — все по прихоти нашего общего вдохновителя, которого, впрочем, и мы подстрекали своим все растущим энтузиазмом.
Нередко эти импровизированные балеты (длившиеся минут двадцать) принимали драматический уклон; не обходилось без убийств, дуэлей, похищений, проклятий. Главному действующему лицу грозили ужаснейшие беды. В нужный момент все актеры оказывались поверженными на паркете, что выражало ужас перед близящейся катастрофой. Но и лежа бездыханными, мы знали, что все кончится ликованием и радостью; после самых грозных и гнетущих аккордов музыка вдруг снова как-то озарится, и все завершится каким-то неистовым галопом или бешеной тарантеллой. Но сколько бы после того финала мы ни просили Альбера продолжать, он все же, мило улыбаясь, захлопывал крышку Шредера, и нашему балетному экстазу наступал решительный конец. Впрочем, лично я, более чутко воспринимавший ход музыкальных импровизаций брата, в этих случаях не настаивал на продолжении. Что было кончено, то было кончено, — и всякое продолжение было бы бессмыслицей.
Из некоторых, чаще других возвращавшихся, мотивов Альбера получилась, наконец, своего рода сюита. Это облегчало мою балетмейстерскую задачу. Там, где среди всего произвольного и только что рожденного появлялись уже знакомые номера, в их установленном порядке, там я лучше знал, что делать, и мог заботиться о совершенствовании моей постановки. Еще более облегчало мою задачу участие Володи, который был всего на три года старше меня, но беспрекословно подчинялся моим указаниям. Он к тому же был таким же энтузиастом танца, как и я. При этом он владел и кое-какими (им же самим выработанными и высмотренными в настоящем балете) хореографическими приемами. Он даже мог свободно ходить на носках, задирать ноги выше головы, становиться на арабеск.
С Володей у нас выходили настоящие «по всем правилам» па-де-де, причем балериной был он, а я поддерживал. Когда же Володя, наоборот, становился первым танцором, то он, обладавший необычайной для своих лет силой, подымал меня и носил по всей зале, что доставляло мне огромное удовольствие, вероятно, то самое, что испытывают заправские танцовщицы в подобных случаях. Однажды на каком-то званом вечере Володя даже выступил в образе настоящей балерины. В те времена это был хорошенький розовый мальчик (ему было лет четырнадцать, и ему так пошел традиционный костюм с газовой юбкой и с трико телесного цвета на ногах, с венком роз в светлых волосах, к которым был пришпилен шиньон), он так виртуозно подражал Вазем или Соколовой, он был до того гибок и делал такие воздушные антраша, а в конце номера «Баядерки» он до того головокружительно пронесся вертушкой два раза по зале, что многие гости поверили, что перед ними настоящая танцовщица, и сконфуженный Володя подвергся даже ухаживаниям со стороны наиболее воспламенившихся поклонников.
Эти импровизационные танцы под музыку Альбера продолжались — смешно сказать — до самых моих студенческих лет. Начавшая пробиваться борода была еще не так заметна, и наспех надетые всякие тряпки и повязки дополняли иллюзию, что я Жукова, что я Никитина, что я сама Цукки. В то же время я вовсе не считаю эти свои танцевальные упражнения за одно ребяческое баловство. Подзадориваемый музыкой, я чувствовал, что творю что-то вовсе не вздорное, мне даже казалось, что я готовлюсь к чему-то весьма значительному. Когда же через много лет после того я на настоящей сцене, на той самой сцене, на которой порхали действительные, настоящие балетные звезды, приступил к постановке своего «Павильона Армиды», то я как бы продолжил когда-то начатое и лишь временно прерванное дело, мое дело. Я вернулся в тот с детства знакомый мир музыкально выливающегося в танцах вдохновения, в который меня ввели импровизации моего брата.
Импровизационный дар Альбера оказал услуги и в его художественной карьере. В 1883 году акварели Альбера через посредство нашего свойственника, английского воспитателя царских детей, мистера Чарльза Хиса, который сам очень ловко и талантливо акварелировал, были показаны государю и до того понравились его величеству и императрице, что Альбер был приглашен принять участие в ближайшей царской экскурсии по финляндским шхерам, что являлось из года в год летним развлечением императорской фамилии. Боже мой, сколько волнений было пережито по этому поводу, с каким тщанием, точно невесту к венцу, снаряжали Альбера, когда ему выдалась честь в первый раз явиться перед государевы очи в Александрии (в те времена и хотя бы среди палящего солнечного дня надлежало являться ко двору во фраке), как ожидалось нами его возвращение, сколько было рассказов.
Сошла аудиенция как нельзя более благополучно. Императрица Мария Федоровна очаровала Альбера своим ласковым приемом, государь живо заинтересовался каждой подробностью в тех пейзажах, которые Альбер им повез показать. Во время же последовавшей затем морской поездки Альбер не только изумлял всех своим блестящим мастерством в передаче на бумаге самых мгновенных эффектов освещения (особенно ему удавались закаты), но и тем еще, что он с беспредельной точностью воспроизводил конструкцию каждого из судов той миниатюрной эскадры, которая сопровождала царскую чету. Надо сознаться, что в чисто художественном отношении этих шхерные акварели Альбера скорее страдали как раз от обилия таких технических деталей, зато они привлекали к нему сердца моряков, среди которых он вскоре приобрел бесчисленных друзей и поклонников.
Вот в первую же такую поездку по шхерам Александр III и Мария Федоровна оценили и музыкальный талант Альбера, и уже с тех пор не обходилось ни одной царской поездки без того, чтобы Альбер не сопровождал императорскую чету, не проводил целые дни на плавучей царской резиденции «Царевне», где в атмосфере полной непринужденности он и обедал, а после обеда услаждал общество своей игрой. Когда Альбер был в ударе, то ему удавались и комические, тут же импровизированные номера. Так, Александр III, вообще охотник до шуток, а за ним все приближенные, смеялись до слез, когда мой брат в одном лице представлял типичную итальянскую оперу, выставляя в карикатурном виде и нелепость сюжета и те трафаретные приемы, которыми композиторы пользовались для изображения встречи трагических любовников или для сбора заговорщиков, или для бегства на месте спасающихся от преследований, со вторжением в самый патетический момент балета и т. п. Не он один в те времена глумился над «итальянщиной», это издевательство выразилось в знаменитой «Вампуке». Но пародии Альбера отличались не одним только юмором, но и вкусом; особенно они пленяли тем исключительным блеском, с которым все это тут же созидалось. Шутки могут быть прекрасны, когда они заранее продуманы, отшлифованы и затвержены (ведь все еще хороши пьесы Мольера), но они действуют еще более неотразимым образом, когда они тут же внезапно возникают, когда они являются прелестной неожиданностью даже для самого автора.
Эти поездки по шхерам повторялись ежегодно, и Альбер, кажется, не пропустил ни одной. Однако и кроме того ему удавалось нередко по разным поводам видеть и царя и царицу, и неоднократно он получал приглашения посещать их в интимной обстановке то в Аничковом дворце, то в Гатчине, то в Петергофе.
Импровизаторский дар Альбера вдохновеннее всего выражался на рояле, но сплошной импровизацией была и вся его художественная деятельность. Импровизациями были, в сущности, и бесчисленные любовные похождения нашего семейного Казановы. Правда, в жизни Альбера было и несколько серьезных увлечений, и три раза таковые кончались браком, но вперемежку с этими главными романами сколько было еще мелких, мимолетных, случайных, в полном смысле импровизированных! Надо при этом сказать, что он совершенно не интересовался ни тем разрядом любовных похождений, который носит название романы со служанками, ни теми представительницами прекрасного пола, которые являются жрицами Венеры.
По своему художественному воспитанию Альбер был архитектором, и не случись так, что его работа над конкурсным проектом, сулившая ему почти наверняка золотую медаль и связанную с ней посылку за границу, совпала с самым пламенным периодом его увлечения Марией Кинд, ставшей затем его (первой) женой, он, вероятно, получил бы и медаль и поездку, а это предопределило бы и всю дальнейшую его карьеру. Но вот роман помешал Альберу представить проект в законченном виде, медали он не получил, и хотя по окончании Академии он и занимался строительством, однако занимался он им как-то между прочим, нехотя, тогда как его тянуло к чему-то иному, более соответствующему его натуре. Из Альбера несомненно мог бы выйти не менее блестящий мастер архитектуры, нежели те, какими были наш отец и брат Леонтий; несколько построенных им особняков и вилл служат тому свидетельством. Однако архитектура — искусство, требующее усидчивости, расчетов, возни с цифрами, а также руководства целыми полчищами рабочих и подрядчиков. Все это давалось без труда Альберу, однако это ему не нравилось, и натура его требовала большей свободы. Он годами находился на службе в одном из главных наших страховых обществ, в дальнейшем же он принял должность старшего хранителя Музея Александра III и состоял действительным членом Академии художеств, заведуя в то же время всеми художественно-ремесленными училищами России, подчиненными министерству финансов, но все эти посты и занятия отнимали у Альбера сравнительно мало времени, тогда как главным образом оно было заполнено живописным творчеством — почти исключительно акварельными работами с натуры.
В этой области, столь подходившей ко всему его вечноспешащему и быстрому темпераменту и к чему-то легковесному, что было в нем, он в несколько лет достиг положения, не знавшего себе соперников в России. В 80-х и в 90-х годах Альбер Бенуа стал одним из любимейших русских художников; его акварели раскупались нарасхват, он был награжден званием академика, ему был поручен акварельный класс в Академии, члены «Общества акварелистов» избрали его своим председателем и, наконец, акварель, как я уже сказал, открыла ему доступ ко двору, точнее, к особам государя и государыни. Альберу акварельные выставки обязаны тем, что они стали одним из самых выдающихся событий петербургского сезона, и ему же — тем, что эти выставки ежегодно удостаивались посещения как императорской четы, так и большинства членов императорской фамилии. Через Альбера наша семья лучше знакомилась с жизнью при дворе, и не столько с тамошними сплетнями и интригами (к ним Альбер никогда не чувствовал ни малейшей склонности), сколько с духом и с настроениями, которые царили в непосредственном окружении Александра III. И нужно признать, что эта придворная жизнь, имевшая столь мало общего с традиционным представлением о всяком дворе, представлялась нам как нечто весьма привлекательное в своей простоте.
Живописные способности Альбера проявились еще тогда, когда он готовился быть архитектором; самое исполнение программ обязывало к преодолению специфических трудностей акварельной техники. Недаром и брат Леонтий был превосходным акварелистом. На счастье Альбера в те времена жил и работал в России один из самых изумительных мастеров акварельной техники миланец Луиджи Премацци (1814–1891). Лучшего учителя Альбер не мог бы отыскать себе и на Западе. Теперь акварели этого миланца должны казаться старомодными. Чрезвычайная выписанность деталей (особенно архитектурных) и известные формулы, унаследованные им еще от Мильяры и Корроди, придают его произведениям некоторую сухость. Но как все это сделано! Сколько во всем этом глубокого знания, какое богатство накопленного опыта! Особенно виртуозно исполнены интерьеры Премацци (русские родовые и финансовые аристократы требовали наперерыв, чтобы он увековечил их роскошные хоромы во всех подробностях). Однако и пейзажи Премацци, и то, как он передавал солнечность, синеву небес, скалы, море, каменные и деревянные постройки, свидетельствуют об его талантливости и об его исключительных знаниях.
Вот с этими знаниями, со всеми секретами, со всей «кухней акварели» Премацци и успел поделиться со своим лучшим учеником, с Альбером Бенуа, но ученик, преодолев трудности ученья, все же почти сразу отошел от заветов учителя, дав свободу своему темпераменту. И с каким же упоением работал Альбер! Не проходило дня весной, летом и осенью, чтобы он не делал по этюду или даже по нескольку в день. И чем эти этюды были свободнее и проще, тем они были прекраснее. При этом твердые знания, приобретенные от Премацци, помогли Альберу справляться и с труднейшими задачами. Наслаждением было глядеть, как у него сразу на бумаге намечался пленивший его эффект, с какой быстротой вырисовывались предметы, как ловко, где нужно, он пользовался не успевшим еще высохнуть местом, а где нужно, работал по сухому. Все становилось на свои места и расцвечивалось красками, и это с такой быстротой, что в полчаса, в час самое большее главное было готово, намечено, и Альбер уже складывал свои орудия труда и летел дальше в поисках другого мотива.
При этом расположении к быстрому схватыванию, Альберу особенно удавались скоро меняющиеся эффекты. Бывало, он приедет усталый на дачу из города со службы или с какой-либо постройки и едва успеет утолить голод, как уже его тянет изобразить то, что творится в небе или отражается в водах Финского залива. И многие из этих прославленных «закатов Альбера Бенуа», созданные в каком-то припадке восторга, были действительно настоящими перлами. К сожалению, явившийся успех несколько повредил художественной стороне альберовского творчества. Альбер до конца жизни оставался в полном смысле слова мастером, но уже к концу первого периода его творчества стал намечаться в его работе некоторый поворот от свежести и непосредственности к излишней законченности, а то и к вымученности. Если бы в те дни петербургский художественный мир был лучше знаком с тем, что творилось на Западе, если бы художественный вкус был развит настолько, чтобы оценить по-должному то, что в творчестве Альбера означало подлинное завоевание, если бы Альбер при своем положении вождя в данной области сам лучше отдавал бы себе отчет в том, что он из себя представляет и куда следовало бы ему стремиться, то при его изумительном даровании история русского пейзажа обогатилась бы совершенно первоклассным мастером. Но вкус нашего общества в лучшем случае не шел дальше поклонения Айвазовскому или Орловскому, а самому Альберу в его органической беспечности было просто не до того, чтобы остановиться на каких-либо эстетических проблемах.
Пока он творил непритязательно, ободряемый похвалами родных и товарищей, он оставался очаровательным виртуозом, не дававшим себе отчета в своей виртуозности (Гварди самый яркий и блестящий пример подобного же явления), но когда Альбера стали оценивать широкие массы русской публики и он стал вкушать отраву исключительного успеха, когда, идя навстречу этой все растущей славе, он стал себя усовершенствовать, стал искать большую законченность, то и случилось, что лучшие природные качества его начали постепенно стушевываться. Бившая в нем живая струя стала иссякать. Странным делом, еще раз блеснул подлинный альберовский дар в тех акварелях, которые он создал, участвуя в 1922 году в ученой экспедиции в Мурманск, но с момента его поселения во Франции в 1924 году, куда выписала его старшая дочь, начался упадок. Несколько отличных акварелей он создал и в этот последний период, но они были исключениями. В своем роде даже — удивительными исключениями, если принять в соображение, что это произведения глубокого старика, у которого отнялись ноги, которого выводили под руки «в природу» и который в течение зимних месяцев вообще не покидал своей комнаты.
Печальная судьба, постигшая на старости лет моих сестер, не миновала и моих братьев, — и едва ли не самая печальная досталась именно на долю Альбера. До самого своего отбытия за границу он все еще жил в своей квартире, в своем собственном доме, окруженный портретами предков, доставшимися ему по наследству, среди шкафов, ломившихся от тех его работ, которые у него накопились за его долгую жизнь. И вот все это он бросил на произвол судьбы, покинув родину буквально ни с чем, кроме кое-какого гардероба. В это время у него были иллюзии, что он за границей сможет еще завоевать себе то почетное место, которое, даже в годы революционной разрухи, он не вполне утратил на родине. Но эти иллюзии вскоре исчезли. Устроенная им выставка (у Жоржа Пти, в том же помещении, в котором он когда-то с блеском выставлял) прошла незамеченной, а на какое-либо меценатство среди эмиграции нечего было и рассчитывать. И вот создалось положение, которое даже беспечному, ребячески-несознательному Альберу постепенно стало мучительным. При стесненных обстоятельствах, общих почти всему эмигрантскому миру, его мучило, что он живет в тягость своей обожаемой дочери и ее мужу. По-прежнему этот прикованный к креслу старик очаровывал всех тех, кто попадал в его орбиту; мало того, у этого древнего Казановы по-прежнему находились поклонницы. По-прежнему при встречах с ними глаза Альбера зажигались резвым огоньком, все так же восторженно он целовал им руки и с бурной радостью встречал друзей, причем друзьями он величал людей, которых даже и по имени иногда не знал. Однако все это прикрывало грустную драму — драму унизительной беспомощности. Если что и тут пригодилось Альберу из всех его природных качеств, так это его неугасаемая жизнерадостность, а также все то же блестящее легкомыслие его импровизаторской натуры…
Альбер был на редкость хлебосольным хозяином, и в этом с ним вполне сходилась его первая жена. Гости у них буквально не переводились, а летом не только завтракали и обедали, но зачастую и ночевали. Бывало, что останется после какого-нибудь праздника (например, после именин Марии Карловны 22 июля) человек десять, и тогда они располагались кто как мог — одни на диванах, другие на тюфяках, разложенных на полу, третьи в сарае на сеновале. Эти импровизированные ночевки доставляли большие хлопоты прислуге, но у Альбера прислуги было немало, и она не роптала, так как ночевки сопровождались щедрыми на-чаями. И какие же тогда бывали весьма забавные «коллективные авантюры»! Сколько тут получалось комических недоразумений, сколько неожиданных сближений, сколько смеха, сколько остроумных шалостей.
Не менее многолюдными и веселыми бывали обеды, музыкальные вечеринки и балы у Альбера и Маши в городской их квартире. Особенно памятным остался маскарад, устроенный ими в 1883 году, когда их зала во время недолгого перерыва в танцах была внезапно превращена в ярмарку с лавками, с трельяжами, с гирляндами зажженных фонариков. Альбер был вообще великий мастер на организацию всякого такого вздора, и сам более всего при этом веселился (именно в течение этих празднеств он мог с особенным успехом предаваться своему любимому занятию — флирту). Великим мастером он был также на устройство летних пикников, сопровождавшихся фейерверками, спуском воздушного шара, ристалищами на ослах или на деревенских клячах и т. д. Немудрено, что при баснословном количестве бывавших у Альбера и Маши гостей, при постоянной смене одних групп другими, Альбер не слишком разбирался в том, кто такие эти его новые друзья. Тем не менее, представляя их, он неизменно повторял фразу: «Позвольте вас познакомить с моим лучшим другом». Бывало, не успеет он от такого лучшего друга отойти, как уже шепчет мне на ухо: «Если б я только знал его имя!» Можно себе вообразить, как должен был страдать этот человек, когда он оказался на положении нахлебника своего зятя и не только не мог принимать друзей подобающим образом, но принужден был есть горький хлеб из рук человека, его недолюбливавшего.
Кончился, угас Альбер в небольшом пансионе для больных под Парижем, в местечке, носящем поэтичное название Haye-les-Roses (ограда из роз). Из окон его комнаты был виден типичный пейзаж Иль-де-Франса, лишь слегка изуродованный прогрессом. Это был, вероятно, почти такой же пейзаж, в котором жили и умирали наши прадеды. Стояли весенние дни, природа только что стала распускаться, но уже Альбер, который всего лишь несколько недель до того с наслаждением рисовал и акварелировал, глядел на всю эту красоту с тускнеющим взором приговоренного. Особенно драматично показалось мне то, что когда по моей просьбе он попробовал записать ноты одной из своих очаровательных песенок — носившей у него название «Мельницы», он после мучительных усилий так и не смог, кроме самого начала затейливой мелодии, ее вспомнить… Через два дня после того он уже лежал в гробу. Так кончилась жизнь этого принца жизни, этого любимца петербургского общества, этого баловня счастья, моего милого, радость сеявшего и никогда не унывавшего Альбертюса.
ГЛАВА 15 Брат Леонтий
Настоящее имя моего второго брата было Людовик, но так как это имя казалось слишком необычайным для русских людей (Лудвиг звучало слишком по-немецки, а Луи звучало как-то претенциозно), то наш Людовик был превращен в Леонтия — по примеру того переименования, которому уже подвергся, вступив на русскую почву, наш дед. В детстве Леонтия звали Аулу или Люля, а в последующие времена взяло верх прозвище Левушка. В раннем детстве я помню как Бертушу, так и Лулу уже взрослыми людьми, помню последнего, когда на щеках стал пробиваться курчавый пушок, а затем очень скоро он оброс настоящей, густой, всегда по моде остриженной бородой. Ростом он был ниже Альбера, а склонность к полноте доставила ему еще одно прозвище Грогро (толстый-претолстый). Нрава он был спокойного, рассудительного, отнюдь не буйного и мятежного, но темперамент у него все же был пылкий, что особенно наглядно выражалось в его восторгах от итальянской оперы. Я живо помню, что на столах и на комодах в общей спальне Альбера и Леонтия стояли полчища фотографий итальянских певцов и певиц, а часто произносимые им имена мне были хорошо знакомы: Марио, Вольпини, Тамберлик, Лукка, Богаджоло и др. О Патти же говорилось, как о каком-то сверхъестественном и прямо-таки божественном явлении, тогда как к Нильсон Леонтий если и относился с уважением, то все же без увлечения, ему казалось, что школа ее не так хороша, как у подлинных итальянцев. Вообще же то и дело слышались его рассуждения насчет подачи звука, манере петь французской, немецкой и итальянской, о том, что надо петь грудью, а не горлом и т. п. Я постепенно выучился этой специальной терминологии и в подражание старшим не прочь был пощеголять ею, на самом деле ничего в ней не смысля.
Основной чертой Левушки было благодушие. Он был в полной мере «славным малым». Это значит, что он не только был добряком, честным и хорошим человеком, но что и производил он впечатление на всем такого славного человека и тем самым сразу располагал к себе. И в нем был большой шарм, но совершенно иного характера, нежели шарм Альбера. При этом в Леонтии не было и тени лицемерия, двуличия, коварства. Он мог быть грубоватым, а подчас и несправедливым, он легко вспыхивал, но любое проявление чувства у него неизменно шло от сердца, и он так же быстро отходил, как сердился. При этом Леонтием в жизни управляли настоящие принципы — не очень быть может обоснованные теоретически, но все же неукоснительно прочные. Говорят, он в раннем детстве всегда заступался за обижаемых, он как-то органически не переносил, чтобы при нем совершалась какая-то несправедливость; он ненавидел ложь во всех ее проявлениях и на всю жизнь сохранил способность возмущаться как разными событиями мира, так особенно некоторыми специфическими безобразиями русской жизни или бессмысленными мерами, принимаемыми правительством. Возмущало его в сильнейшей степени все то, в чем он усматривал безвкусие. Особенно же он негодовал на немцев — будь то в политике или в художестве. Объясняется это отчасти тем, что ему было уже 14 лет, когда грянула франко-прусская война 1870 года, и в оценке ее он, типичный француз, всецело стал на сторону французов против немцев. Когда я подрос и стал несколько сам разбираться в том, что слышу вокруг, то частенько я удостоверялся, что Левушка слишком охотно верит слухам, что он не слишком задумывается над разными вопросами жизни, словом, что вся его манера отличается некоторой простоватостью. Но и в тех случаях, когда я не был в состоянии с ним соглашаться, я всегда любовался теми хорошими чувствами, которые руководили его возмущением и приговорами.
Трое из нас, братьев, унаследовали от отца художественное дарование и любовь к искусству: Альбер, Леонтий и я, но едва ли не самый даровитый из нас был именно Леонтий, который, однако, в качестве «чистого» художника менее всех из нас выдвинулся. Дело в том, что Леонтию при всей одаренности недоставало способности «задаваться темами» и выявлять в образах мысли и настроения. Альбер был большим виртуозом техники, но все же ловкость руки не была основной чертой в его творчестве и развивалась его виртуозность как-то попутно, на непрестанной практике и на восхищении от природы у Леонтия же «ловкость руки» была чем-то родовым и основным, какой-то чертой его характера. Он не был в состоянии провести линию или нарисовать и малейший завиток, не обнаружив эту виртуозность. Когда он доводил рисунок до законченности, то всегда получалось нечто блестящее, аппетитное, вкусное и искрящееся. Мне кажется, что именно эта природная виртуозность и предопределила художественное развитие Левушки и наметила то место, которое ему суждено было занять в русском искусстве — и именно в архитектуре. Самый факт, что этот виртуоз рисунка и кисти (акварельной) избрал своим поприщем зодчество, находился в некоторой зависимости от этой его черты. При изготовлении проектов он мог ею щеголять — как во вкусном вычерчивании деталей, так и в аппетитной заливке водяными красками, тушью или сепией. Его чертежами можно было любоваться как картинами; и это тем более, что он (по примеру папы) их населял сотнями человеческих фигурок самого разнообразного характера, причем ему, великому любителю скачек и бегов, особенно удавались лошади.
Иногда Левушка работал и не в качестве архитектора, а в качестве как бы случайного живописца, и такие вещи в момент их возникновения приводили меня в восторг. Они пленяют меня и теперь, как пленяют некоторые произведения Изабе, Калама, Жюля Дюпре или Гильдебрандта. Но такие неархитектурные произведения — редкость в обширном творении моего брата, и самые значительные из них были созданы в начале его карьеры — в 1877 году, когда он гостил в Курской губернии у наших свойственников Бер и мог вдоволь насладиться как сочной растительностью Украины, так и лошадьми и собаками, которых Беры держали для охоты. В этой украинской серии имеются и пейзажи, и этюды животных, и интерьеры. Все это сделано с исключительным, подкупающим, почти даже чрезмерным мастерством. Однако в них же удивляет отсутствие всяких красочных задач. Большинство этих (очень разработанных) этюдов — сепии или рисунки пером, лишь слегка и условно подкрашенные.
Как архитектор-строитель Леонтий подавал блестящие надежды, и началась его карьера с исключительного триумфа. Он окончил курс Академии художеств за год до положенного срока, получив большую золотую медаль не в очередь. Такой же академический триумф выдался полвека до того нашему отцу, — вообще же это редчайшие случаи в жизни Академии. Однако правом на заграничное путешествие, сопряженное с получением медали, Леонтий не воспользовался, так как предпочел, не откладывая, жениться на той девушке, которую он полюбил. Влюбленность эта к тому же была обоюдная.
Та, которая затем стала верной спутницей Левушки на всю жизнь, принадлежала к очень богатой купеческой семье, однако весь их роман случился как раз в тот год, когда состояние Сапожниковых было совершенно расшатано. Во всяком случае, в домогательстве Леонтием руки Марии Александровны не играли роли какие-либо корыстные побуждения. Считалось даже, если он и не вступал в неравный брак, то, по крайней мере, делал невыгодную партию. Но в дальнейшем этот брак повлек за собой и необычайное благосостояние. После нескольких лет дела Сапожниковых (колоссальные рыбные промыслы в Астрахани и по Волге) поправились, а так как к тому времени и личные доходы Леонтия как архитектора повысились, то он и Маша стали в полном смысле богатыми людьми. Через год после свадьбы и после рождения старшей дочери молодые отправились в путешествие по Италии. Оттуда посыпались восторженные письма, писанные типичным для Леонтия очень уверенным и каллиграфическим (и все же неразборчивым) почерком и усеянные рисунками. Однако вернулись молодожены уже через полтора месяца — путешествия не были в характере ни того, ни другого из них. Левушка привез с собой целый сундук фотографий, разглядывание и изучение коих стало с тех пор моим главным развлечением, когда я бывал у него в гостях.
Первое публичное выступления Леонтия связано с цареубийством 1 марта 1881 года. Городская дума поручила ему построить на месте гибели Александра II временную деревянную часовенку, которая, при всей своей незатейливости, обладала какой-то особой грацией, что и вызвало общее одобрение. Через год Леонтий принял участие в конкурсе на сооружение того храма, который должен был быть воздвигнут на месте убиения государя. Проект он сочинил эффектный и красивый (едва ли не лучшее, что им было сочинено за всю жизнь), в котором он, из уважения к стилю Петербурга, пожелал вдохновиться произведениями Растрелли. Однако жюри присудило ему всего третью премию, тогда как первые две были даны архитектурным композициям, сочиненным в более национальном вкусе: мания национализма все более и более начинала тогда давать себя чувствовать. Однако и проект Томишко, удостоенный первой премии на этом конкурсе, не был приведен в исполнение, так как к государю проник со своим проектом (пользуясь связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение. Уже во время постройки «Храма на крови» Академия художеств настояла на том, чтобы были исправлены слишком явные нелепости и недочеты проекта Парланда, но, увы, и в этом исправленном, окончательном виде это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа.
Из дальнейшего архитектурного творчества Леонтия Бенуа следует выделить постройку двух банков на Невском, здание «Страхового общества» на Морской улице, собор-базилику в фабричной поселке Гусь (Мальцевские заводы), и, наконец, грандиозный и необычайно роскошный православный собор в Варшаве, который был разрушен сразу, как только польское государство получило независимость. Увы, из всех этих зданий я не мог бы назвать ни одного в качестве архитектурного образца или хотя бы просто как настоящую удачу. Леонтий для своего времени был передовым архитектором, он не прочь был поискать новых путей, он старался освежить старые формы, заставить их лучше служить новым требованиям. Его планы остроумно сочинены, его детали отлично прорисованы, но всему, что он создал, недостает какого-то художественного обоснования. Все носит характер чего-то случайного, все лишено убедительной гармонии. И вот спрашивается, не вредила ли моему брату больше всего та же легкость и ловкость, нечто такое, что ему мешало вдуматься, что заставляло его довольствоваться первой попавшейся комбинацией форм, раз таковая казалась складной и эффектной. Не давал он и подсознательному началу выявить внутри созревшее решение — он сразу начинал устанавливать свою композицию. При этом, обладая и хорошей памятью и значительной эрудицией, он завершал свой проект в фантастически короткий срок, тогда как у других художников-архитекторов только еще начинала созревать мысль. Зато все произведения Леонтия носили отпечаток подобной скороспелости.
А кроме того, Левушка попал в особенно скверное для зодчества время. Его воспитание было лишено уже тех строго классических основ, которые составляли самый фундамент воспитания архитекторов первой половины XIX века и которые еще действовали облагораживающим образом на архитектуру эпохи романтизма. Эпоха же более позднего архитектурного воспитания (60-е и 70-е годы) отличалась беспринципным дилетантизмом, а подражание всевозможным стилям (при очень поверхностном ознакомлении с каждым из них) дошло до известного разврата. Это кидание из стороны в сторону, из одного мира идей и форм в другой стало еще более путаным, когда вдруг ни с того ни с сего возникли требования создания во что бы то ни стало чего-то нового, когда на сознание архитекторов стали давить разнообразные теории, ставившие непременным условием подчинение требованиям «конструктивности». Принципы соблазняли своей логикой, но сами по себе они не создавали солидной почвы: они витали где-то в воздухе, им недоставало того, что может быть дает только время и накопление традиций.
Но была и еще одна причина, благодаря которой наш славный, милый и исключительно одаренный Левушка все же так и не сделался большим или хотя бы хорошим художником. Этой причиной был… его слишком счастливый брак — самый счастливый из всех мне знакомых браков, если не считать моего отца и меня самого. Для сложения художественной личности моего брата этот счастливый брак был, пожалуй, роковым. Мария Александровна была маленькой пухленькой женщиной с приветливой улыбкой, не сходившей с полных губ, с ласково-хитроватым взглядом своих серых глаз. Она физически очень подходила к мужу, который тоже был невысокого роста и отличался известной полнотой. Оба представляли собой отлично подобранную пару. Но и в смысле темперамента, в своем отношении к жизни Левушка и Маша вполне друг с другом гармонировали. Между ними за все сорок пять лет супружества не возникало даже тех мелких ссор или не более суток длящегося раздражения, которых не удается избежать и при самых образцовых подборах.
И все же Мария Александровна Сапожникова принадлежала — по своей породе, по своему воспитанию и образу жизни — к совершенно иной людской категории, нежели та, которая была подлинно нашей, а следовательно, категорией ее мужа. Ее среда была характерно купеческая, совершенно земная. Естественно, что она никак не чувствовала искусства и, мало того, совершенно в нем не разбиралась, не замечала его. Для нее, типичной дочери торгового мира, искусство было средством добывать деньги, достижения почета в обществе, средством сделать жизнь удобной для себя и завидной для других, но чтобы художественное творчество было каким-то духовным подвигом, чтобы можно было выражать посредством него устремления и мысли более возвышенного порядка — это было вне ее помыслов и желаний. Любопытно, что, воспитываясь вместе со своей сестрой Ольгой в Швейцарии, она близко сошлась с Марией Башкирцевой, которая была одних с ними лет и чуть ли не приходилась им сродни. Сохранились фотографии, на которых сестры Сапожниковы сняты вместе с автором знаменитого дневника. Но я сомневаюсь, что Мария Башкирцева действительно считала этих девушек за своих сердечных подруг; упоминает она о них как-то вскользь и без какой-либо теплоты.
При довольно остром уме, при вовсе не злом сердце меня лично Машенька огорчала именно отсутствием всякого «взлета». И особенно мне было как-то досадно за брата, которого я любил и уважал и который, как мне казалось, именно благодаря ей все более и более погружался в житейскую прозаическую тину… Мне всегда было не по себе в их доме, в детские же годы (лет до 13-ти) меня даже трудно было туда затащить, а когда попадал, мне сразу становилось у них невыносимо скучно. Чем роскошнее были обеды, которыми они угощали, чем деликатнее вина, чем оживленнее беседы в их очень теплой, но мне абсолютно неинтересной компании, тем мне становилось тяжелее на душе. Позже именно в доме Левушки и Машеньки я научился быть в каком-то особенном смысле циничным: я наедался вкуснейших и драгоценнейших вещей, запивая их винами из роскошного их погреба, но, наевшись и напившись, спешил поскорее убраться — что и удавалось без особенного труда, так как после обеда и гости и хозяева садились за карты и сразу же до такой степени бывали увлечены игрой, что ничего другого вокруг себя не замечали.
Полюбуешься на картины, доставшиеся Леонтию из кавосского и сапожниковского наследства (среди последнего красовалась и знаменитая «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, проданная впоследствии в Эрмитаж), полистаешь фотографии или какую-нибудь французскую книгу в роскошном издании, до чего Леонтий был большим охотником, а там под шумок разговоров и карточных споров удастся пробраться в переднюю и на лестницу. На их даче в Петергофе, прелестном коттедже, построенном Леонтием на самом берегу моря, имелось и другое: пойдешь в смежный с дачей царский парк, понюхаешь цветов, обильно рассаженных на клумбах, полюбуешься закатом над Финским заливом, поиграешь с собаками и с кошками, побеседуешь с попугаем; но и это все в специфической атмосфере дома брата теряло для меня свой соблазнительный характер. Я пробирался к калитке, а оттуда бежал на поезд или на пароход, чтобы скорее снова очутиться у себя, в нашей атмосфере, в атмосфере нашего дома и моих родителей.
Нашу чуждость, классовую и расовую, я особенно ощутил в тот день, когда к нам впервые пожаловали для знакомства родители Марии Александровны — тогда только что ставшей невестой моего брата. Александр Александрович Сапожников (мне уже самая фамилия не нравилась: фи — сапожник!) был необычайно ласковым человеком, с манерами английского аристократа. Раз в неделю он составлял партию виста с великим князем Николаем Николаевичем, и это ему давало ощущение, что он какой-то вельможа. В то же время у Александра Александровича было достаточно такта, чтобы не обнаруживать вследствие этого какой-то спеси. Меня поразил его необычайно маленький, почти карликовый рост и при этом поседевшая, прелестно надушенная борода, спускавшаяся до полгруди. Ногти у него были длиннейшие и тщательно выхоленные, а одет А. А. Сапожников был с иголочки. Он отлично говорил по-французски и по-английски, щеголяя даже тонкостью произношения, которая поражала наши уши, привыкшие к более простому разговору. И все же он оставался типичнейшим российским купцом, что, впрочем, не без некоторого кокетства он сам и подчеркивал, употребляя иногда простонародные, бывшие еще в ходу у его родителей выражения и называя непременно свою жену, женщину тогда вовсе не старую, «своей старухой».
Что же касается до последней, то Нина Александровна Сапожникова была одной из тех сумасбродных русских барынь, которая без толку и без смысла сорила деньгами по всей Европе, польщенная, что ее в отелях и курортах величают «прэнсесс». Нелепая во всем, она претендовала на очень высокий ранг в обществе, на нестареющую молодость и на неотразимую прельстительность. Как следствие того, за ней волочился целый хвост разных авантюристов, непрестанно куривших вокруг нее фимиам лести и клянчивших у нее всякие подачки. Этот ее специфический образ жизни и был причиной того, что Сапожниковы несколько раз оказывались на самом краю разорений, и спасало их лишь то, что каждый раз на их дело накладывалась «администрация». Держала себя Нина Александровна несколько надменно, а это я уже никак не мог выносить, а тем паче со стороны «какой-то купчихи», хотя бы она была миллионершей и щеголяла бриллиантами и жемчугами невиданной величины.
Нина Александровна, после смерти мужа (в конце 80-х годов) получившая полную свободу, пошла так дурить, что ее от времени до времени приходилось брать под опеку. Окружив себя штатом фаворитов и приживалок, она металась из Парижа в Астрахань, из Петербурга в Ниццу, слывя всюду за русскую богачку, проигрывая десятки тысяч рублей в Монте-Карло, заказывая себе, дочерям и внучкам бесчисленные платья у самых дорогих парижских портных. У своих родственников Альбрехтов она приобрела их имение под Ямбургом Котлы с великолепным барским домом и необъятным лесом, в Париже она купила на Елисейских полях роскошно обставленный особняк одной из львиц Второй Империи — маркизы Паивы, в Ницце она заново отделала свою роскошную виллу и расширила сады, в Астрахани, в почтенном родовом доме принялась все переиначивать на новый лад. Если бы она прожила еще год или два, то состояние Сапожниковых пошло бы окончательно прахом, — но тут она и окончила свою бесшабашную и безвкусную жизнь, далеко еще не будучи дряхлой старухой. Года два ушли затем на то, чтобы снова привести дела в порядок, расплатиться с долгами и ликвидировать все ненужное (в том числе и особняк Паивы), после чего обе семьи ее дочерей — Марии Бенуа и Ольги Мейснер — зажили в довольстве и в спокойствии.
Последние годы жизни Леонтий занимал должность ректора Академии художеств. Смутное время уже приближалось. Среди учащейся молодежи назревало поголовное фрондирование начальства, и постепенно оно перешло (во всех слоях общества) в открытое возмущение режимом. Но деятельность ректора Бенуа не подвергалась общей критике, ученический состав не выносил ему порицаний, его не собирались «вывезти на тачке». Уважение, которым Леонтий пользовался даже у молодежи, оставалось до конца непоколебимым. Уважали же ученики Академии своего профессора и ректора и как безупречно хорошего человека (вне всякого вопроса о принадлежности его к какому-либо классу) и как толкового и внимательного руководителя. Он не был словоохотлив, он ненавидел пустое разглагольствование, у него была манера просто, спокойно делиться своими знаниями, не навязывая советов; свою же критику он высказывал до того искренне и просто, что это не могло ни обидеть, ни озлобить. В чисто художественных вопросах он опять-таки искренно интересовался всякими «поисками нового», предлагаемыми современными теоретиками, и если не давал особенно убедительных ответов на эти вопросы, то умел в других возбудить к ним внимание. Наконец, покоряюще продолжала действовать и вся талантливость его натуры, все та же изумительная легкость карандаша, та же аппетитная сноровка «заливать акварелью и тушью». Ныне характерные для него приемы могли бы показаться устарелыми, но кому давалось видеть самое применение этих приемов, получали огромное удовольствие с примесью большого уважения к подобному мастерству.
Даже после воцарения большевиков Леонтий, бывший любимец великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны, бывший архитектор высочайшего двора, продолжал профессорствовать, хотя уже ректором он не состоял (да и самая эта должность как будто была упразднена). Популярность же Леонтия в академической среде получила особенно внушительное выражение в момент его кончины, в 1928 году. Ему были устроены от Академии такие похороны, которые вообще не допускались для «пережитков буржуазии» в пролетарском государстве. Его тело было выставлено в круглом Конференц-зале, в котором он когда-то был чествуем как самый талантливый из учеников, у гроба его дежурили академисты, а до кладбища его провожала тысячная толпа.
В профессорской деятельности Леонтия и во время революции все оставалось по-старому. Его преподавания не коснулись те бредовые реформы всяких полоумных ораторов, которые внесли полную неразбериху в академическое обучение. Но не так счастливо обстояло в его интимной жизни. Свое разорение после октябрьского переворота он пережил легко — как это было почти со всеми тогда. Когда гибнет целый корабль, то мысль об утрате каких-то личных ценностей почти теряет свою значительность. Более чувствительным ударом было то, что сгорела от несчастного случая та прелестная дача, которую он себе построил в Петергофе и которая каким-то чудом оставалась в его пользовании первое время при большевиках. Еще печальнее было то, что большую часть своей уютной квартиры в собственном доме (на 3-й линии Васильевского острова), ему пришлось отдать совершенно чужим людям, и этот насильственный симбиоз повлек за собой для моего бедного, избалованного роскошью и комфортом брата ряд величайших неудобств. Затем начались болезни и более тяжелые горести. Дважды за последние десять лет ему пришлось подвергаться операции, и это отозвалось на всем его мироощущении. Он как-то поник, завял, утратил в значительной степени свою жизнерадостность. Но, разумеется, всего трагичнее было то, что трое его детей, спасаясь от нужды и всяких угроз, покинули Петербург и Россию. (Одна из его дочерей, Надежда — ныне известна в Англии как художница Надя Бенуа, сохранившая для выставок свою девичью фамилию, хотя ее настоящая фамилия по мужу Устинова. Переселилась она за границу не вследствие нужды, голода и опасности для жизни, а потому, что вышла замуж по любви за одного молодого человека, приехавшего в Россию в поисках своей матери. Единственный сын их, Питер Устинов, ныне приобрел мировую славу как автор необычайно остроумных комедий и как первоклассный актер.) Младший же сын, милейший юноша и блестящий гвардейский офицер, Шура, бежавший, как и старший брат, во Францию, поступил затем в Добровольческую армию и был заколот штыками под Киевом.
Сам Леонтий едва не сделался жертвой большевистского террора. Осенью 1921 года, в разгаре арестов по делу профессора Таганцева, он вместе с женой и детьми был арестован и посажен в тюрьму. Жена и дети через несколько дней были отпущены, но Леонтий оставался в заточении месяцев шесть, и никакие хлопоты не могли освободить его, ни выяснить, на каком основании его, человека абсолютно далекого от всякой политики, арестовали. Мы все дрожали за его жизнь, ибо то и дело распространялись слухи, что его судят как шпиона, что его осудили, что его на днях расстреляют. Когда же благодаря заступничеству первой жены Горького и Н. Д. Соколова он был освобожден, то на вопрос, в чем он провинился, следователь ему ответил: «Тут вышло недоразумение».
Что касается духовного облика Леонтия за эти последние неблагополучные годы, то он представлял собой нечто удивительно просветленное. Одно за другим разваливалось и стиралось с земли то, что он почитал, чему служил, что любил, — однако ко всем этим катастрофам он относился со стоическим спокойствием или, вернее, с какой-то всепрощающей покорностью, которую я назвал бы христианской, если бы таковая была исключительной принадлежностью христианства. К религии же Леонтий относился если и с глубоким почитанием, то все же без особенного рвения. Оставаясь добрым католиком, он унаследовал от отца и полную веротерпимость — в частности, в отношении православия, со служителями которого он непрестанно, как строитель церквей и соборов, находился в общении. Я и многие из нашей семьи даже считали, что он втайне обратился к религии своей горячо любимой жены и своих детей, однако на смертном одре он все же предпочел подтвердить свою верность церкви дедов и, следуя настойчивым убеждениям своего старого друга Э. К. Липгардта, пригласил остававшегося в единственном числе в Петербурге французского священника, отца Амодрю, который его и соборовал. Кончил жизнь Леонтий как благочестивый праведник.
ГЛАВА 16 Брат Николай
Из всех братьев я менее всего был близок с братом Николаем, носившим уменьшительные имена Коли и Николаши. Причиной того, что мы не особенно сходились, была не столько разница в годах (он был на двенадцать лет старше меня) и не то, что он меньше бывал в доме, нежели другие, и не тот факт, что он был военным — сначала кадетом, потом юнкером, потом офицером. Ведь в детстве я питал большую слабость именно к «людям в форме». Скорее всего причиной нашей разобщенности было то самое, что и позволило Коле не только выбрать военную карьеру, но и остаться в ней на всю жизнь.
Коля был военным по природе, до мозга костей — по призванию. Он был насквозь пропитан воинским духом, точнее «духом военщины», а вот это мне и не нравилось; мне инстинктивно претило это даже в такие времена, когда я ровно ничего в этом не сознавал, а красивыми формами солдатиков очень увлекался. Отталкивал меня от Коли его особый стиль, вплоть до его чуть сиплого, грубоватого голоса, до манеры лаконически изъясняться отрывистыми фразами и вплоть до его слишком шумливого нрава. Пожалуй, мне даже не очень нравилась его наружность, хотя, говорят, я одно время особенно сильно походил именно на него. Я и в детстве-то не часто видел Колю, ибо он воспитывался интерном в Кадетском корпусе и даже на лето уходил в лагери, с момента же его поступления в лейб-гвардии его величества Уланский полк он совершенно переселился в Варшаву, где имел постоянное местожительство, дослужившись там до чина полковника.
Уланская форма была одна из самых эффектных, и она не утратила своей традиционной декоративности даже после того, как Александр III ввел новую, очень уродливую, якобы национального характера обмундировку для почти всего российского воинства. Уланы же сохранили набекрень надетую шапочку из черной лакированной кожи со странно прилаженным к ней квадратным донышком и с белым султаном, и свой темно-синий мундир с желто-оранжевым околышком и красной грудью, и рейтузы, и сапоги, и серебряные аксельбанты, а зимой — распашистую серую шинель с бобровым воротником. В таком виде Николай представлял в нашей семье элемент какой-то особой аристократической парадности, да и самое его состояние в гвардейском полку давало ему в глазах общества особый ореол. В известные дни он имел вход во дворец и фигурировал в качестве танцора на придворных балах. Постепенно он обзавелся обширным кругом светских знакомых, среди которых многие были титулованными и служили в таких же эффектных полках, как и он сам.
Но вот что замечательно. Эта светскость атмосферы, в которой вращался Николай, совершенно не меняла его духовного облика. Каким он был в корпусе — простым, чуть грубоватым «славным парнем», таким он и остался в полку, вследствие чего он и пользовался, несмотря на свою неуступчивую строгость, искренним расположением солдат и самой теплой дружбой со своими товарищами. Он даже приобрел известную популярность и не только благодаря своим неоспоримым моральным качествам — отзывчивости, абсолютной правдивости и тому тяготению к справедливости, которая его особенно сближала с братом Леонтием, но и своими чудачествами. Никаких художественных способностей или склонностей он не проявлял. Его варшавская квартира, сначала в полку, а затем в городе, была самая банальная, пустая и голая; он лично даже не нуждался в элементарном комфорте; однако какая-то художественная нотка все же проходила через его существование, и она именно выразилась в его чудачествах, впрочем, не всегда отмеченных хорошим вкусом. Для примера приведу два случая — один характеризует Николая в качестве какого-то паладина в духе… Дон Кихота, другой в качестве строгого начальника; однако оба едва ли могут показаться достойными подражания. В первом случае особенно неприятно поражает его явно юдофобский оттенок, что, впрочем, входило в обычай стоявшего в Варшаве гарнизона.
Как-то, когда он возвращался с ученья, где-то довольно далеко от города, в дождливый осенний день, Николаю, ехавшему со своим эскадроном, повстречалась типичная длинная-предлинная польская телега, в которой сидело человек двадцать сильно подвыпивших на свадьбе евреев, мужчин и женщин. Тащила же эту галдевшую и шумливую компанию дряхлая, совершенно выбившаяся из сил лошаденка, еле ступавшая по липкой, глубокой грязи. Николай не смог вынести такого издевательства над несчастным животным. Он остановил своего коня перед телегой и гаркнул: «Слезай». Все пассажиры не сошли, а слетели на землю… «Распрягай» — было вторым приказом, а третьим: «Привязать лошадь сзади, а самим впрячься и тащить». Перечить уланскому офицеру никому и в голову не могло прийти, все было исполнено с величайшей поспешностью, но, дабы убедиться в том, что и в дальнейшем его распоряжение будет исполнено, Николай со своими уланами проводил спешившуюся свадьбу до самой той деревни, куда она возвращалась.
Второй, не менее живописный случай был мне рассказан с возмущением самим пострадавшим, но, признаюсь, я в данном случае не мог отказать в доле симпатии моему свирепому братцу. Жертвой на сей раз был богатейший купеческий сынок, эстет и самодур, который из соображений элегантности постарался для отбывания воинской повинности попасть в уланы. Таких господ Николай еще менее долюбливал, нежели польских иудеев, а потому жизнь бедного Н.П. оказалась в полку далеко не сладкой. Вящую же неприятность ему пришлось испытать перед самым концом своей службы. Желая вернуться в Москву прежним красавчиком, очень гордившимся своими светлыми кудрями, Н.П. дал взятку кому следует и залег за полтора месяца до выхода на волю в госпиталь, где волосы у него снова успели отрасти вдали от глаз начальства. Но проделка эта дошла до Николая, и вот, не без доли садизма, он дождался предпоследнего перед выходом на волю дня и только тогда предстал перед своей жертвой. Сорвав с головы больного колпак, он увидел уже заготовленную прическу и тотчас же позвал полкового цирюльника, который при нем наголо обрил онемевшего от ужаса и стыда юного миллионера.
Эти два случая достаточно характеризуют моего брата с юмористической стороны, но достойны внимания все остальные стороны его личности как образцового служаки, как «отца своих солдат», как трогательно преданного товарища и, наконец, как семьянина, помещика и полкового командира. И тут было бы о чем порассказать, ибо, несомненно, мой брат был в полном смысле слова очень оригинальной, из ряда вон выдающейся личностью. Леонтий, тот после смерти Николая даже собирался издать о нем целую монографию. Среди материалов к ней он мог бы использовать ценнейшую исповедь Николая, не всегда складную по форме, но всегда правдивую. В ней он рассказывал свою не особенно радостную жизнь, в частности те глубокие недоразумения, что выросли между ним и его женой, а также все те мытарства, через которые приходилось ему пройти, раз задавшись целью спасти от ростовщиков колоссальное имение-майорат, принадлежавшее его пасынку. В этой исповеди он кается в своих безудержных проявлениях гнева, подчас походивших на припадки безумия. Однако все это лежит как-то вне моей основной задачи, ибо все это происходило где-то в стороне — частью в Варшаве, частью в средневековом замке Межибоже, служившем резиденцией полкового командира ахтырских гусар, которыми командовал брат в течение нескольких лет. Гораздо раньше я получил возможность изучить Николая в непосредственной близи, и с этим мне хочется здесь поделиться.
Когда Коля приезжал в отпуск и останавливался у родителей, ему каждый раз отводилась большая комната, бывшая папиной чертежной. Не успеет брат в ней расположиться, как по всей квартире поползет типичный офицерский дух — особая, довольно приятная смесь из духов, табака и кожи. Вот этот-то запах стал неотделим от нашего обиталища в течение целых двух лет, которые Коля провел (с осени 1888-го по осень 1890 года) в Петербурге, решив, что ему необходимо пополнить свое специальное образование посещением курсов Кавалерийской школы. На это время была перевезена к нам часть его личной обстановки, стены чертежной украсились фехтовальными рапирами и масками, саблями и шашками, а рядом в коридоре был поселен его денщик Степан, рослый и красивый, но необычайно тупой и нелепый парень. Впрочем, сугубая нелепость Степана была скорее всего вызываема тем страхом, который этот несчастный мужик, взятый прямо от сохи в полк, испытывал перед его высокородием и, в частности, перед теми уроками русской грамоты, которым Николай, желая просветить Степана, отдавал несколько утренних часов. Как было не дрожать Степану, когда за малейшей ошибкой следовала грозная распечка, причем не жалелись бранные, произносимые с неистовством слова, дико звучащие в нашем респектабельном доме, вообще иных криков не слыхавшем, кроме тех, что во время игр издавала возившаяся детвора. Особенно же трудно давалось Степану вытверживать наизусть все многочисленные имена великих князей, княгинь и княжон, что в представлении Николая должно было возбуждать особенно лояльные чувства, приличествующие русскому воину. Тут-то в случае ошибок и раздавались особенные свирепые окрики, а два или три раза за ними последовало физическое воздействие, за что затем сильно попадало Николаю от мамы.
В начале пребывания брата меня его присутствие тяготило, и особенно мучительно я переносил его шумливость, а также то, что он моментами, когда случайно Степан отсутствовал, требовал от меня всякие специальные услуги — например, чтобы я помог ему стащить сапоги или чтобы я продел в надлежащей системе аксельбанты, что никогда мне не удавалось сразу — откуда нетерпеливые ноты, которые я ощущал как очень обидные. Но постепенно я стал привыкать к брату и постепенно стал оценивать все то благодушие, которое скрывалось под оболочкой его военной грубости и всякого чудачества. Стал я оценивать и ненавистное сначала общество его друзей, среди которых были отставные военные. Особенно со мной был ласков Ермолай Николаевич Чаплин (выговаривалась его чисто русская фамилия точь-в-точь как выговаривается фамилия Шарло) — очень крупный, очень полный господин с усами и бакенбардами на широком типично-русском лице. Он был великий мастер на всякие пикантные анекдоты, при этом он был тем, что немцы называют «тонким знатоком». Кончил он свою карьеру, начатую в Уланском полку, петербургским почт-директором и жил он одно время в прелестном классическом здании Таможни, где у него была зала с колоннами и где он меня неоднократно кормил вкусными обедами.
Другим моим другом был царскосельский гусар Ратч, очаровательно крошечный офицерик-куколка, который являл в своих разнообразных формах (то красной, то темно-синей, то белой) необычайно кокетливый вид, точно он только что прибыл с балетной сцены, на которой откалывал мазурку. Ратч был большим весельчаком, и он очень оценил тот непринужденный стиль, который царил у нас в доме. Он вскоре стал приходить не столько к Коле, сколько к моим родителям, запросто и без приглашения, являясь то к обеду, то к вечернему чаю, занимая всех неистовым своим хвастаньем, а то и просто враньем. За последнее ему часто доставалось от товарищей, но наших домашних и даже мою правдолюбивую мамочку он именно этой чертой пленил. Она заливалась при его рассказах своим бесшумным смехом до слез, и даже строгая тетя Лиза Раевская млела перед гусариком, тем более что он был с нею изысканно вежлив и по всем правилам прикладывался к ручке. Рассказывать же Ратч действительно был мастер. Рядом с приземистым Николаем и с громадным Чаплиным он был настоящей фитюлькой, но когда в парадные дни он во всей своей гусарской красоте приезжал к нам за Николаем, чтобы вместе ехать во дворец, он являл поразительно эффектный вид, особенно когда одевал свою меховую шапку с превысоким белым султаном.
Двое из друзей Николая имели своего рода абонемент на наши воскресные завтраки — то был барон Карл Деллингсгаузен и граф Николай Ферзен, тот самый, который в последующие времена был адъютантом великого князя Владимира. Оба были тогда варшавскими уланами, и оба проходили тот же курс в офицерской школе, как к Коля. Оба были притом типичными остзейцами, оба сильно белокуры, оба говорили по-русски правильно, но с легким немецким акцентом, оба были отлично воспитаны и изысканно вежливы. Мама ценила этих молодых людей и угощала разными любимыми домашними блюдами, среди которых особенно славился воскресный традиционный пирог с вязигой. Но между бароном и графом была и большая разница. Деллингсгаузен был само добродушие; я очень скоро выпил с ним на брудершафт, после чего стал по примеру его товарищей фамильярно называть его Карлушей. Напротив, граф Ферзен строго сохранял всегда дистанцию, что и соответствовало его характерно-германской, абсолютно прямой осанке, его высокому росту и аполлоническому сложению. Деллингсгаузен поминутно смеялся, наслаждаясь шутками Николая, подчас довольно рискованными, Ферзен же довольствовался одними улыбками. Родители наши принимали малое участие в разговорах этих господ офицеров, обыкновенно делившихся своими наблюдениями о скачках, о лошадях, о приемах седлания и т. д. или же обсуждавших равные полковые дела, никогда при этом не впадая в сплетни (напротив, Ратч был великим сплетником). Бывали, однако, случаи, когда папа что-либо расскажет о временах Николая Павловича, и это всегда было встречаемо с большим интересом, ибо рассказы отца отличались живописной яркостью.
Женился Коля, сравнительно с прочими братьями, поздно, в Варшаве, и взял он себе в жены даму тоже не самой первой молодости, вдову с двумя детьми — госпожу Слезкину, урожденную баронессу Бремзен. До того у него в течение нескольких лет был роман с цирковой наездницей, на которую он извел немало (родительских) денег; мама долгое время пребывала в ужасе, как бы он еще не женился на этой «акробатке». Женитьба на даме из лучшего общества гарантировала от повторения подобных авантюр, а так как в распоряжении госпожи Слезкиной и ее матери находилось очень крупное имение-майорат сына и внука, оцениваемое в несколько миллионов рублей, то можно было считать, что этот брак будет и в материальном отношении выгодным. Правда, имение было заложено и перезаложено, но Николай считал, что благодаря более толковому ведению дел ему удастся в несколько лет освободить его от задолженности. Имение своего пасынка он, в конце концов, действительно очистил от долгов, что и послужило к упрочению особенно нежных чувств между ними, но как раз к тому времени супружеские отношения между Николаем и Констанс приобрели невыносимый для обоих характер, и им пришлось разъехаться.
Эти семейные нелады приобрели особенную остроту в бытность Николая командиром ахтырских гусар и пребывания в Межибоже, где стоял его полк. Возможно, что самая обстановка послужила обострению драмы. Командиру полка и некоторым офицерам был отведен обширный и мрачный древний польский замок, стоящий на самом слиянии двух рек, и вот крепостные его стены и своды, темные его переходы, унылые его башни и террасы сделались свидетелями почти ежедневных сцен, происходивших на глазах всего полкового штаба между супругами Бенуа. Однажды Николай, совершенно озверев, даже погнался с ножом за Констанс; насилу его удержали и нож вырвали. Кто был прав, кто виноват в каждом случае, решить было трудно, но несомненно, что главным образом здесь действовало полное несоответствие характеров. Насколько Николай был прям и абсолютно не выносил даже самой невинной лжи, настолько бедная Констанс была лишена простоты и естественности. Эту манеру она всосала с молоком матери — дамы, кстати сказать, довольно-таки склонной к интриганству. Остается удивляться, как этой черты Николай не заметил еще до того, чтобы остановить свой выбор, как мог он сделать подругой жизни особу, если и обладавшую всевозможными качествами, то отличавшуюся и такой чертой, которая должна была его коробить более, чем что-либо. Плодом этого плохо налаженного брака были три дочери, которых оба родителя сердечно любили, однако и на почве воспитания их также возникали всевозможные недоразумения, следствием которых было то, что в момент, когда Констанс разъехалась с мужем, все три девицы последовали за матерью.
Годы, непосредственно предшествующие войне 1914 года, Николай уже был в отставке; считается даже, что вечные скандалы в Межибоже были поводом к тому, что недолюбливавший его министр Сухомлинов дал понять, что ему пора уходить. Николай переехал тогда в Петербург к своему любимому брату Леонтию и очень тяжко переносил свое одиночество, особенно же безделие. Зато он с необычайным рвением вернулся к исполнению своих обязанностей, когда с началом военных действий снова был призван на службу (в чине генерала) и отправлен в сибирские губернии с ответственным поручением собирать ополчение… Но недолго продолжалась эта служба, которую он, кстати сказать, всячески старался переменить на службу на фронте. В декабре 1915 года Николая постиг удар, как раз в момент, когда он что-то вносил в свой дневник. Тело его затем было перевезено в Петербург и заботой Леонтия похоронено рядом с тем местом, которое Леонтий уготовил на кладбище в Новодевичьем монастыре себе и своим близким. Последний раз я видел лицо Николая очень потемневшим, но все еще вполне на себя похожим, через застекленное отверстие в крышке гроба. Вдова же его и дочери, прожив войну в Киеве, эмигрировали в Берлин, где Констанс скончалась, а ее дочери вышли замуж и обзавелись семьями.
ГЛАВА 17 Брат Юлий
Еще немало людей на свете, которые хорошо знали моих братьев Альбера, Леонтия, Николая и Михаила; нередко ко мне обращаются особы преклонного возраста, от которых я слышу такие фразы: «я был сослуживцем вашего брата», «я очень любил вашего брата», «я храню благодарную память о вашем брате». И это немудрено, каждый из моих братьев имел обширный круг знакомых, и многие из них живы до сих пор. Не так обстоит дело с моим братом Юлием, которого из всех живущих на свете — и после смерти наших родителей и всех моих близких родственников — кроме меня, наверное, никто не помнит. Он и не оставил никакого следа о своем земном пребывании, если не считать его бренных останков, да и те, опущенные в наш семейный склеп осенью 1874 года, может быть, подверглись уничтожению. Между тем, я обязан рассказать здесь про этого отрока, покинувшего нас, будучи всего четырнадцати лет от роду.
Впрочем, я не стану рассказывать здесь про те события семейной жизни, в которых он участвовал (об этих событиях будет сказано в моей личной летописи), но постараюсь описать его самого. Это уже потому необходимо, что я храню до сих пор самую нежную память об Ише и потому еще, что эта моя нежность вызвана той необычайной для мальчика заботой, которой он, будучи на десять лет старше меня, окружал мою крошечную персону. Я имею основания думать, что если бы Иша остался в живых, я бы именно в нем имел того брата-друга, какого мне вообще недоставало, ибо сколько бы я ни любил моих других братьев и сколько бы они ни вызывали во мне братских чувств, я все же никого из них другом не могу назвать — у меня не было с ними определенной духовной связи. Напротив, меня влекла к Ише какая-то духовная общность. Будучи ребенком, едва только начинающим сознавать окружающее, я уже резко отличал Ишу от других братьев, и это отличие было явным предпочтением. Выражаясь словами, в те времена мне неизвестными, я чувствовал, что Иша понимает меня. Его одобрение и его порицание значило для меня больше, нежели одобрение или порицание других «старших». Да я и не видел в нем старшего, он был моим товарищем, причем он и тени обидного снисхождения не выказывал в отношении меня. Большую роль тут играло то, что в нем была масса детского, ребяческого, и в то же время он был, я сказал бы, более интеллектуален, нежели прочие мои братья. Он был тоньше их, внимательнее к другим, более страстно заинтересован всевозможными явлениями, людьми, вещами, природой. Под его руководством я развивался с быстротой не совсем нормальной, и, вероятно, именно благодаря этому я сохранил в памяти с такой абсолютной отчетливостью всякие тогдашние происшествия, да и самые обстановки, вид комнат и вид той петергофской дачи, в которой прошли последние прожитые с ним летние месяцы. Его смерть оставила меня среди массы людей — и людей самых близких — в некотором как бы одиночестве. И мне думается, что все мое развитие тогда вдруг замедлилось, что, может быть, было мне и в пользу.
Наружностью Иша очень походил на меня — точнее, я походил на своего старшего брата. Когда впоследствии я глядел на себя в зеркало, мне казалось, что я снова вижу брата, и в такие минуты я как-то утешался и более снисходительно относился к своей наружности, она не казалась мне столь обидно не соответствующей моему идеалу. Особенно когда мне сшили гимназический мундир, я стал себе напоминать Ишу, которого я как раз помнил в таком же мундире. Но и волосы, несколько широко раздавшийся нос, постав глаз — все это было похоже на Ишу… Что же касается до сторон духовной и художественной, то тут я узнавал в себе именно Ишу. Меня тянуло, как и его, к изображению разных странных, а подчас и жестоких вещей, я обожал сказки и истории, в которых рассказываются жуткие вещи, в моих мечтах меня тянуло к авантюрам. Правда, я никогда не предавался с таким фанатизмом разным видам спорта, с каким предавался Иша, который был образцовым конькобежцем, бесстрашным мореплавателем и посвящал значительную часть каждого утра упражнениям на турникете, трапеции или развитию мускулов посредством манипуляций с гирями. Но я любил смотреть, как он вихрем летал на коньках по прудам Юсупова сада, я замирал от восторга, когда, управляя парусом, Иша производил всякие эволюции у казенной петергофской пристани, и я ликовал, когда он, разгоряченный и упоенный победой, являлся первым в каком-нибудь беге или выигрывал приз на каком-либо ином состязании. Не эти ли спортивные излишества, против которых иногда восставала мама, и свели его к ранней могиле? Быть может, он испортил свое здоровье и разными экспериментами, вроде длительного поста или съедания каких-либо особенно горьких или отвратительного вкуса вещей, в чем он старался проявить свое поклонение спартанским нравам.
Наконец, и его отношение к учению, к самообразованию как бы предвещало мое отношение к тому же самому. Он был, по отзыву всех, совершенно исключительно одарен во всех науках, однако плохо учился в гимназии и не лучше стал учиться, когда его перевели в ту самую осень, когда он умер, из классической гимназии в реальное училище. В зимние месяцы Иша никогда не сидел без дела, но если он и зачитывался книгой, то эта книга не была каким-либо учебником; если он часами что-либо выводил пером или карандашом на бумаге, то это не было приготовлением школьных уроков. Единственные два предмета, которые его интересовали, были география и история, особенно древняя…
К моим очень ранним воспоминаниям принадлежит такая сцена. Я стою на коленях на стуле рядом с Ишей и через локоть его левой руки с захватывающим волнением слежу за тем, что появляется из-под его карандаша. А получались у него высокие пирамиды, по склонам которых копошатся над постройкой сотни фигурок и работают подъемные машины. Вот колоссальный камень сорвался с крюка и летит вниз, укладывая на пути несчастных, и кровь струями сбегает со ступени на ступень. Или еще — стройными рядами выступают гоплиты в золотых (желтых) касках, украшенных конской гривой. Они отражают натиск других воинов, что мчатся верхом или на колесницах им навстречу. И снова кровь бежит ручьями или капает с мечей и льется струями из израненных тел, колеса подпрыгивают по кучам поверженных на землю. Иногда изображались и римские легионы и полчища Аттилы, а то и наполеоновские солдаты. Леонтий был также великий охотник до изображений военных сцен, и у меня в Петербурге хранились его юношеские, мастерски сделанные рисунки, изображающие сцены войны 1870 года, которая в его представлении и при его ненависти к немцам представлялась вся сплошным торжеством французской доблести. Но в этих рисунках у Леонтия все выглядело как-то уж очень парадно и складно, все это носило даже нарядный характер. Не то у Иши. У него доминировала трагедия, ужас, да он и сам во время рисования впадал в какой-то транс, принимался шипеть от ярости или издавать призывы, стоны, проклятия. Я же прижимался к его локтю ближе и ближе и, в конце концов, чуть ли не ложился на бумагу.
Наподобие нашего отца, Иша был большим мастером на всякие изделия из бумаги. Особенно мне запомнился конверт с историей солдата. Из большого листа бумаги Иша складывал конверт, имевший вид обыкновенного письма, однако по мере того, что вскрывались хитро один за другим заложенные углы, открывались разные похождения отслужившего срок солдата, который после всяких бесчинств попадает, наконец, в преисподнюю. Это ужасное место было нарисовано во всю ширину открывавшегося в самом конце листа и служило чем-то вроде апофеоза. Я наизусть знал, что за чем последует, однако ждал каждый новый эпизод с замиранием сердца, а перед вскрытием ада приходил в такой ужас (сладкий ужас), что даже принимался визжать и умолять Ишу, чтобы он мне не показывал этой страшной картинки. И действительно, картинка могла хоть кого привести в ужас. Огненные вихри извивались ввысь, клубы дыма валили во все стороны, а языки лизали котел, в котором варился провинившийся солдат. В нижнем же правом углу восседал сам Сатана, косматый, черномазый, с трезубцем в руке и короной между рогами. По его приказу черти и чертенята, прыгая и кувыркаясь, поддавали жару, мешали вилами в котле и всячески издевались над своей жертвой.
По нынешним понятиям такие рисунки мало педагогичны; они должны воспитывать в ребенке свирепость. Однако никаких следов особенной свирепости ни эти рисунки, ни все те фантазии, которым я предавался уже по собственному почину в отроческие годы, во мне не оставили. Из последующего читатель увидит, что я самый миролюбивый человек, с сердцем, очень склонным к жалости, и таким же, наверное, вышел бы и Иша, если бы Бог дал ему жизни. Но в каком-то возрасте в людях живет известное тяготение к этим проявлениям кровожадного инстинкта, и пожалуй, следует приветствовать, когда этот инстинкт выявляется в форме ребяческих безобидных рисунков и вообще всяческого художества. Вспоминать же мне сейчас об этих наших забавах приятно. Ведь в них совершенно отсутствовало настоящее осознание, страдания. А разве не тот же инстинкт сказывается в нас, когда мы на сцене или на экране видим сердце раздирающую трагедию, хотя бы, например, последнее действие «Гамлета», когда все гибнут от меча или яда?
ГЛАВА 18 Брат Михаил
Брат Михаил мне не заменил покойного Ишу, хотя между мной и Мишей разница в годах была меньшая (на два года), нежели между мной и Ишей. В те дни Миша был очень хорошеньким мальчишкой, типичным школьником, но я его помню несравненно менее отчетливо, нежели Ишу. Часть фокусов, в которых отличался Иша, и он умел показывать; он умел складывать и конверт с историей солдата, одно время и он возился с каким-то театриком, добиваясь воспроизвести в нем все ужасы «Волчьей долины». Иногда он с кузинами и товарищами носился по квартире, изображая калабрийских бандитов или краснокожих. Однако все это выходило у него не так потешно, как у покойного брата. А кроме того, у Миши не было таланта общаться с малышами; он их либо не замечал, либо сторонился. Между тем меня к нему притягивала его необыкновенная красота. Тип у него был какой-то «сарацинский» (уж не какой-либо предок с острова Майорки, откуда Кавосы были родом, откликнулся в нем?). Пухлые, как у негра, губы, слегка кудрявые, черные, как смоль, волосы и смуглый цвет кожи. Ни на кого из братьев он в детстве не походил и лишь к старости в нем более определился общий тип нашей семьи, и особенно он приблизился к Леонтию.
Учился Митенька еще хуже, нежели Иша, и в конце концов его пришлось из 4-го класса взять (из 5-й классической гимназии), после чего и его стали готовить в реальное училище. Однако из этого ничего не вышло, и тогда-то в нем вдруг определенно заговорило призвание. Он пожелал стать моряком. Мамочку это сильно встревожило из-за тех опасностей, которым подвергается моряк, но отец, вообще питавший уважение ко всем видам военного ремесла, дал свое благословение. Пробыв в Морском училище положенный срок, он оттуда был благополучно выпущен в гардемарины. Еще не дождавшись этого, он и его друзья заделались настоящими «морскими волками» и заходили в морской одежде, с ленточками на шапке, с синим воротом, из-под которого виднелась нательная полосатая фуфайка. До той поры никогда не певший, Миша теперь выучился всяким солдатским песенкам вроде — «Царь Ляксандра в поход поехал» или «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши жены», или «Друзья, подагрой изнуренный» — и эти песенки он со своим другом, бароном Клюпфелем, распевал целыми часами. Выучился Мишенька и всяким веревочным плетениям и даже однажды смастерил себе очень искусно из тонкого каната фуражку, в которой я потом щеголял по своей склонности к необычайным одеждам и уборам.
Ярким воспоминанием осталось у меня, как оба этих морских молокососа, сидя на бельведере нашей кушелевской дачи, грызут для вящего стиля семечки, курят трубки (Мишу от курения тошнило, но он все же продолжал курить), пьют пиво и задирают прохожих на улице, свесившись через забор, к которому бельведер был прислонен. Во всем надлежало выражать военную удаль, и это выражение удали чуть не стоило однажды ему (и мне) жизни — в тот день, когда он вздумал со мной в неистовую бурю переехать на лодке через Неву, о чем я расскажу в своем месте. В другой раз его чуть не изувечило, когда у него под руками взорвались те снадобья, которыми он набивал трубки ракет: элементарная пиротехника входила в программу морского воспитания.
Этот период Мишенькиного «приготовления к службе» представляется как очень беспечная, бестолковая, чуть нелепая и чуть шутовская эпоха. Но время шло, и настал, наконец, тот день, когда пришлось всерьез зажить жизнью моряка. Гардемарина Бенуа определили на клипер «Пластун», а «Пластуну» вышел приказ присоединиться к какой-то отбывавшей в дальнее плаванье эскадре. И начались сборы. Мишенька получил новенькую с иголочки обмундировку, и особенно ему пошел парадный черный сюртук с черным галстуком при поясе с львиными головами, на котором болтался кортик из слоновой кости; на голове же в парадных случаях полагалась треуголка с кокардой. Мишеньку родственники стали наперерыв чествовать прощальными обедами, а там, в какой-то июньский день 1880 года, настал момент отплытия.
Поехали мы, т. е. папа, мама и я, провожать Мишеньку в Кронштадт, в котором ни мама, ни я раньше никогда не бывали. Насилу разузнали, на каком рейде «Пластун» находится, а до него добрались на лодочке, причем пришлось пробираться между разными судами. Папа вез с собой для украшения каюты Миши (он разделял ее со своим товарищем, благодушным близоруким Виноградовым) вставленные в рамки литографированные портреты государя и (почему-то?) супруги наследника престола Марии Федоровны, и они тут же были торжественно повешены на стену. А затем все молодое офицерство (да и тучный, сонливого вида старший офицер) как следует выпили; сильно, после розданной водки, повеселел и прочий экипаж. Когда же наступил вечер, то все провожающие перебрались на специально нанятый пароход, якоря были подняты, дым повалил из трубы клипера (мне было обидно, что у мишиного корабля всего одна труба, зато три мачты), и мы на своем пароходе неравной парой поплыли рядом с «Пластуном», мимо грозных гранитных фортов в открытое море. Версты две-три наше пыхтевшее, сильно качавшееся суденышко старалось не отставать, но расстояние между нами и клипером все росло, и наконец наступила минута, когда наш пароход повернул в обратный путь. При этом произошло традиционное заключение проводов. По команде все реи «Пластуна» были в один миг засыпаны белыми фигурами матросов, и в то же время при дружных криках «ура» какие-то хлопья полетели в воду, — то, по древнему обычаю, офицеры бросали летние чехлы своих фуражек. Через несколько минут «Пластун» на пылающем фоне заката превратился в беззвучный, далекий, как-то вытянувшийся в высоту силуэт, а через еще несколько мгновений он точно нырнул за горизонт. В это время, взглянув на мать, я увидал, что она украдкой утирает слезы, тогда как до этого она крепилась, чтобы не испортить всем настроения. Другие дамы — матери, жены или невесты — те просто рыдали, продолжая махать платками и косынками. Поздно ночью, но в белую северную ночь, мы добрались до дому, в наше опустевшее родное гнездо…
Потянулись месяцы и годы плаванья нашего Мишеньки. Родители подписались на «Кронштадтский вестник», в котором вообще интересного для неморяков было мало, но по которому можно было следить за передвижением судов российского флота по земному шару. Когда сообщалось, что клипер «Пластун» в составе такой-то эскадры пришел туда-то, то в доме наступало успокоение. Когда же долго не приходило таких известий, то нарастала тревога. Особенно долгий перерыв получился во время перехода «Пластуна» от Сингапура через весь славившийся своими бурями Индийский океан до Капштадта. Я себе живо воображал, как десятисаженные (такие нарисованы в одной из книг Жюля Верна) волны накидываются на судно, на котором плыл Мишенька и которое превращалось среди разъяренной стихии в «жалкую скорлупку». Но совершенно иные видения рисовали письма брата, приходившие из Шанхая, Гонконга, Нагасаки, с Сахалина («Пластуну» было предписано произвести проверочные обмеры какого-то залива), из Гонолулу, из Сан-Франциско, с Таити, из Мельбурна и из Сиднея. Описания Миши были правдивы, просты, точны, но не обладали особенной красочностью и не вызывали ярких образов. Этот дефект до известной степени восполнялся путевыми записками Гончарова, совершившего кругосветное плаванье на фрегате «Паллада», которые мы с мамой читали по вечерам. Еще более возбуждали мою фантазию почтовые марки, отштемпелеванные на местах отправки, а также целые серии совершенно чистеньких марок, вложенных Мишей внутри письма. Эти последние специально предназначались не для моей коллекции, а для более серьезного собирателя, для городского садовника господина Визе, но кое-что перепадало и мне.
После Капштадта началось мишенькино постепенное приближение к дому. В сущности, на пути возвращения он был уже целый год после отплытия от крайнего пункта путешествия — Сан-Франциско, но пока он не обогнул мыса Доброй Надежды, это возвращение не представлялось вполне реальным. Тут же стало ясным, что он скоро снова будет среди нас. Еще успело прийти письмо из Амстердама, где Миша посетил тогдашнюю Всемирную выставку, а затем он и совсем замолк. И вдруг телеграмма из Кронштадта: «Благополучно приехал». Боже, какое тут поднялось у нас волнение! Легкая на слезы Степанида (когда-то нанятая в кормилицы именно к Мишеньке и с тех пор служившая у нас в горничных), та даже стала от радости причитывать, как над покойником, причем ее очень тревожил вопрос, не женился ли ее любимец на японке, чем мы все время ее дразнили. Папа, тот сразу приступил к приведению в порядок чертежной, предназначавшейся под Мишин кабинет.
Это был июнь 1883 года. Как раз случилось так, что я поехал с нашими английскими свойственниками — сестрой Мата Эдвардса Эллен и ее мужем Реджинальдом Ливесей, совершавшими экскурсию в Петергоф, и было решено, что, по осмотре дворцов и парков мы заедем передохнуть на дачу дяди Сезара, а затем, захватив моих кузин, отправимся все вместе через Ораниенбаум в Кронштадт. Однако программа не удалась вполне: до Кронштадта и до «Пластуна» мы добрались, но когда шумливой компанией вступили на палубу клипера, то Миши уже там не оказалось: он не утерпел и отпросился на землю, в Петербург. Это не помешало оставшемуся на корабле офицерству нас принять с честью, и мне особенно польстило, что Мишин друг, который особенно ласково меня угощал, был князь Путятин. Я тут же с ним выпил брудершафт, заедая шампанское особенно мне понравившимся закусочным блюдом — редькой в сметане. Осушив бокала два, я так охмелел, что, желая отличиться перед кузиной Инной, слетел с лестницы, ведущей к капитанскому мостику.
Очень меня тронуло, что в Мишиной каюте на тех же местах, куда их повесил папочка, по-прежнему висели овалы с портретами Александра II и Марии Федоровны, но теперь царствовавший в 1881 году государь, убитый нигилистами, лежал в Петропавловской крепости, а эта миловидная дама со смеющимися глазами и с высокой прической стала нашей императрицей.
Достигли мы (все в той же компании) Петербурга на последнем пароходе уже в сумерки. Входя в нашу квартиру, я громко восклицал: «Где Миша, где Миша?» Но папа и мама замахали на меня руками: «Миша спит, и его не надо будить!» Мне только разрешили посмотреть на спящего путешественника. Пробравшись на цыпочках к кровати, я… обомлел от удивления. Вместо прежнего нежного юноши я увидел большущего, мощного, но все-таки такого же красивого мужчину, почти черного от загара. И как странно пахло в этой комнате: пряными духами, чем-то далеким, восточным, чужим. Запах этот шел от раскрытых и частью уже опорожненных чемоданов. Повсюду на столах, стульях, на комоде лежали пакеты, и я уже спрашивал, что из всех сокровищ предназначается именно мне, — ведь в каждом письме Миша сулил мне какой-то сюрприз.
Увы, в этом отношении меня ожидало разочарование. Когда на следующее утро, после кофе, все пошли в Мишин кабинет и началась раскладка содержимого больших сундуков, то я вскоре получил свой подарок. Миша, очевидно, представлял себе на расстоянии своего маленького брата вовсе не тем молодым человеком, с ухватками молодого щеголя, какого я из себя теперь, в тринадцать лет, корчил, а все еще ребенком, для которого вполне подходящим подарком мог служить механический лаявший и скакавший пудель. Поняв свой промах, Миша смутился, мне же стало так его жалко, что представился, будто я в восторге от этой игрушки, но на следующий же день я ее уступил одному из своих маленьких племянников. Остальное же, что предстало в то утро, вынутое из Мишиных сундуков, было до того занимательно, что разглядывание этих диковинок вполне отвлекло и поглотило мое внимание.
Тут был и зубчатый клюв пилы-рыбы, и ожерелье из ракушек и птичьих яиц с Таити, и волшебное японское зеркало, и индусский ларец, выложенный тончайшей мозаикой, упоительно пахнувший внутри, и роскошный японский алый платок с вышитым на нем желтыми шелками павлином, и чашечки с завода Сатсумы, и какие-то издававшие дикие звуки музыкальные инструменты, и черепаховая модель рикши, и масса альбомов с фотографиями, и яркие шали, и невиданные раньше большие раковины, отливавшие цветной радугой. И от всего этого шел тот сладкий пряный дух, который меня поразил накануне и который теперь распространялся на всю квартиру. А из большого деревянного ящика вытаскивались бесчисленные банки с консервами заморских фруктов и прелестные полубутылочки со сладким капским вином. Его я затем пивал частенько или даже с гордостью потчевал им своих товарищей гимназистов.
Меня только огорчала Мишенькина несловоохотливость; он почти ничего не рассказывал и еле отвечал на мои вопросы, отделываясь двумя-тремя фразами. А мне так хотелось услыхать что-нибудь более подробное, и особенно про то, как он проводил время в Японии, где, говорят, все офицеры на время своей побывки на суше обзаводились прелестными женами-японочками. Да и таитянки меня интересовали чрезвычайно. О них уже тогда шла по свету молва, которая была одной из причин, побудивших несколько позже Гогена покинуть старую Европу и поселиться в Океании. Но от Миши, кроме отрывистых фраз, ничего касающегося подобных тем я не мог добиться. Да я и сейчас уверен, что целомудренный наш брат вернулся после трехлетнего путешествия совсем таким же чистым и девственным, каким он уехал. Для него девушка в каждом порту не существовала.
Зато его сердце сохранило во всей своей свежести способность любить, и это сказалось через несколько же недель после его прибытия, когда всем стало ясно, что возник роман между ним и его кузиной Олей Кавос, тоже за эти три года из институтки-подростка превратившейся в девушку, если и не отличавшуюся красотой, то все же в своем роде привлекательную. Французская пословица говорит, что двоюродные братья и сестры — опасное соседство, и в данном случае она могла найти себе тем большее подтверждение, что Оля с отцом и теткой, служившей ей матерью заместо умершей родной, жила в двух шагах от нас, а парадная дверь их квартиры выходила на ту же площадку, как и наша. Оля, впрочем, предпочитала приходить к нам, и тогда оба влюбленных засаживались в Мишином кабинете, где они то читали, то целыми часами шушукались и ворковали. К весне 1884 года этот роман принял официальный характер. Миша и Оля были объявлены женихом и невестой, а те препятствия, которые могли помешать браку между столь близкими родственниками, удалось преодолеть благодаря связям дяди Кости в св. Синоде.
Летом Миша и Оля отправились к Лансере в их Нескучное, но там Мишенька чуть было не сделался виновным в гибели своей невесты… По морским законам он не мог жениться, не достигнув какого-то положенного числа лет (двадцати четырех), но обоим молодым людям не терпелось «отведать предельного счастья». Поэтому Миша, наш морской волк, вынужден был выйти из флота. Однако свою страсть к лодке, к парусу ему не так легко было затушить. Уже зимой в Петербурге Миша принялся катать Олю на буере по льду, а когда Нева вскрылась, то и на парусной яхте. Оказавшись же в имении сестры на Украине, откуда до моря не доскачешь, он вздумал продолжать такие же спортивные упражнения, прикрепив к беговым дрожкам громадный парус. Первый эксперимент прошел благополучно, они прокатились по мягкой от пыли дороге версты две, но на следующий день произошла катастрофа. Внезапно поднявшийся ветер понес Мишин сухопутный корабль по кочкам вспаханного поля, дрожки опрокинулись, а когда наконец Миша справился с парусом, то увидал Олю далеко позади себя, лежащей бездыханным телом в глубоком обмороке, с лицом, испачканным кровью и землей. Еще не успели Олю донести до дома, как, очнувшись, она стала кричать: «Я изуродована», — и лишь когда ее обмыли и она увидала в зеркале израненное, но все же похожее на прежнее лицо, бедняжка успокоилась. Миша же, стоя на коленях у ее ложа, обливался слезами, целовал ей ноги и молил простить его.
Свадьба была сыграна в середине сентября того же 1884 года. И какая же это была блестящая свадьба! Благословение брачующихся происходило в верхней летней церкви великолепного собора св. Николы Морского. Наш дядя Костя все отлично устроил. Густо раззолоченная церковь, более походящая на бальный зал, сверкала тысячами свечей; духовенство и певчие облачились в свои праздничные ризы; всюду стояли лавры и пальмы, среди толпы съехавшихся гостей алели ленты, сияли звезды и эффектно на фоне фраков выделялись военные мундиры и светлые вечерние платья дам. Со двора перед церковью, запруженного экипажами, была постлана дорожка красного сукна вверх по лестнице. В качестве посаженного отца невесту вел товарищ обер-прокурора св. Синода (иначе говоря, правая рука самого Победоносцева) Смирнов. Это был высокого роста уже пожилой человек, с темным и на редкость некрасивым лицом, но контраст между разбойничьей физиономией, как определила Мария Александровна наружность Смирнова, с золотым шитьем придворного мундира, пересеченного синей лентой Белого Орла, так меня поразил, и он был действительно до того эффектен, что я именно это запомнил с совершенной отчетливостью. Очень эффектна была среди прочих дам бабушка Кавос в своей горностаевой мантилье с убором из венецианских кружев, свешивавшимся с головы на плечи. Впрочем, я и сам себя чувствовал в этот вечер каким-то празднично-прекрасным и с особым упоением отдавался этому чувству потому, что как раз переживал тогда некое возвращение к жизни после своего неудачного романа, о чем речь впереди. На мне к тому же был новый парадный гимназический мундир с серебряным шитьем на воротнике, и мне казалось, что в нем я произвожу неотразимое впечатление на бледненькую, тихонькую Аршеневскую, за которой я в тот вечер немного приударил.
Начавшаяся столь блестяще супружеская жизнь Миши и Оли представляла затем в течение первых десяти лет картину полного лада и счастья. Двое прелестных детей, Константин и Ксения, придавали особую прелесть их дому. Мишенька, выйдя в отставку, поступил на государственную службу, которая не отнимала у него много времени. Жили они в полном довольстве на отпускаемые дядей Костей средства в просторной и изящно меблированной квартире на Английском проспекте. Весной же 1890 года умер дядя Костя, и все его большое состояние перешло к единственной дочери. Образ жизни Миши и Оли меняется. Они переезжают в квартиру дяди Кости и сразу начинают ее переиначивать на новый и более модный лад. Мало того, большая эта квартира в 12 комнат представляется Оле тесной (надо же было куда-то поместить и весь штат прислуги, бонну, гувернантку, гувернера для детей), и поэтому к квартире, занимавшейся дядей, присоединяется квартира над ней. На видных местах в бывшем кабинете дяди Кости и в зале повешены старинные картины (среди них небольшая овальная «Похищение Елены» Тьеполо и две большущие венецианские перспективы из дедушкиного палаццо), особенно же удачной получилась столовая с ее орнаментами на золотом фоне и потолком, имитирующим деревянную резьбу. Какие чудесные обеды мы едали именно в этой приятной комнате!
Да и вообще традиции, учрежденные дядей Костей, продолжали жить вплоть до того, что Миша, ни в какой степени не готовившийся стать промышленником и финансистом, унаследовал от своего дяди и тестя как директорство пароходного общества «Кавказ и Меркурий», так и директорство в разных банках… По отзыву его сослуживцев, он во всех этих делах если и не обнаруживал настоящего призвания (того признания, которое так ярко сказывалось в дяде Косте), то, во всяком случае, выказывал большой толк и чрезвычайную добросовестность.
Большой радостью для Миши и его семьи была жизнь летом на собственной даче в Петергофе. Участок этот с одной стороны упирался в смежный парк «собственной его величества дачи», а с другой он прилегал к коттеджам, построенным в английском вкусе Леонтием для себя и для своего зятя А. Э. Мейснера. Мишину виллу — самую большую из трех — трудно было счесть за архитектурный шедевр, но удобное расположение многочисленных, не особенно больших, но уютных комнат, искупало то, что ей не хватало в смысле внешней декоративности. Совершенно прелестен был сад, разбитый вдоль самого берега моря. Мостки с перилами на тоненьких столбиках вели от него к собственной купальне и к маленькой пристани, где всегда ждал хозяина «тузик», на котором и переправлялись к яхте, стоявшей в море на более глубоком месте. На этой яхте Миша, став членом яхт-клуба, почти ежедневно предпринимал далекие прогулки, доказывая, что он не забыл своего основного ремесла. Было наслаждением видеть моего брата в его настоящей стихии — уверенность его маневров, спокойствие и тихую радость, которой он весь исполнялся, носясь чайкой на просторе.
А затем все это благополучие пошло прахом. Между когда-то влюбленными друг в друга Мишей и Олей пошли нелады, поведшие к тому, что они разъехались, поделив между собой детей: дочь перешла к матери, сын остался с отцом. Они бросили свою прекрасную двухэтажную квартиру в родительском доме, и каждый поселился особо. Еще через несколько лет моя бедная кузина и невестка, уже годами страдавшая неизлечимой болезнью, скончалась в каком-то австрийском курорте. В последний раз я ее увидел лежащей в гробу среди той же раззолоченной церкви Никольского собора, в которой происходило ее венчание. Сначала Костя, а затем Кика — оба обзавелись собственными очагами, собственными семьями, а там началась трагедия войны, вызвавшая еще более страшную трагедию — революцию. Из некогда богатых людей и Миша и его дети превратились в неимущих. Мой брат по-прежнему продолжал жить в той обширной квартире на Екатерингофском проспекте, в которую переехал после развода, но вместо того, чтобы занимать ее целиком, он по примеру своих сограждан «сократился» и поселился на собственной кухне, тогда как в остальных апартаментах были чужие люди. К отцу приехал сын, но и он устроился с женой и сыном в бывших комнатах для прислуги. Дочь же, Ксения, вышедшая замуж за талантливого архитектора Василия Федоровича фон Баумгартена, следуя за мужем, оказалась за границей, в Югославии, в столице которой Баумгартен построил несколько значительных государственных зданий.
Последние дни жизни Михаила в дни большевистского режима были омрачены не столько болезнями и стеснительными обстоятельствами, которые было сравнительно легко переносить, раз нужда стала общей, сколько чувством горькой незаслуженной обиды, которой не избег и этот благородный и идеально-чистый человек. В один день с Леонтием он был арестован и посажен в тюрьму. Леонтий перенес испытание со свойственной ему благодушной покорностью, в характере же Миши, при всей его доброте и мягкости, жила известная доля горечи, и потому это бессмысленное, абсолютно произвольное шестимесячное заключение оказало разрушительное действие на всю его психологию… Он стал мрачным и раздражительным, тяжело переносил свою никчемность, его прекрасное лицо осунулось.
Хотя Миша до конца дней сохранил почти все волосы и первоначальный черный их цвет, однако он выглядел более понурым и усталым, нежели Леонтий и даже Альбер. В последний раз, что я посетил его, я застал его в комнате рядом с кухней за клеением крошечной кукольной мебели. В эту минуту он мне очень напомнил нашего отца, который тоже был большим мастером на такие дела и отдавался им со всем рвением своей души, оставшейся детской до глубокой старости. Но папочка создавал свои перлы для своей забавы и особенно для забавы детей и внуков. Для Мишеньки же это был единственный заработок. Он, подобно отцу, раз взявшись за что-либо, предавался весь работе, однако все же для него, больного, усталого — эта работа не была каким-то отдохновением. Смерть наконец сжалилась над ним, и он умер в Петербурге через три года после Леонтия и за четыре года до Альбера… Известие о том достигло нас уже за границей.
ГЛАВА 19 Дяди и тети с отцовской стороны
Попробую охарактеризовать еще тех лиц, которые составляли наш ближайший круг. К ним бесспорно принадлежали оба брата моего отца — дядя Лулу (на русский лад Леонтий Леонтьевич) и дядя Жюль (Юлий Леонтьевич). Однако я несколько затрудняюсь представить именно их «портреты». При всей их нежности к папе и при всей его любви к ним, они вели образ жизни, уж очень непохожий на наш. Главное отличие заключалось в том, что оба они были совершенно чужды искусству, тогда как папа был целиком отдан ему, и в нашей семье искусство было вообще чем-то даже обыденным и насущным. Немудрено поэтому, что мне становилось убийственно скучно, когда я бывал в гостях у моих дядей с отцовской стороны, хотя все же мне нравился весь старосветский уклад дома дяди Лулу и его жены Августы, да и сами эти старички, дожившие в трогательном единении до золотой свадьбы, были удивительно милы. Дядя Лулу представлял собой типичнейшего француза эпохи Луи Филиппа, а его жена в своих широких кринолиновых платьях очаровательно пахла увядшими осенними листьями.
Дядя Лулу был на целых тринадцать лет старше папы (он родился вместе с веком), и это одно уже отодвигало его в глубь прошлого. Напротив, дядя Жюль был на девять лет моложе отца. Однако общество этого веселого, необычайно подвижного и бодрого сухенького старика, так же как и общество его величественно-молчаливой супруги — тети Луизы, я еще менее ценил, нежели общество дяди Лулу. Попадая в дом последнего, я оказывался в каком-то ином мире, в эпохе, когда царил Александр I, когда еще в Петербурге памятны были заветы Екатерины. В самой атмосфере их дома жила какая-то поэзия прошлого. Этому способствовали и мебель, и картины, и даже посуда и лампы.
Напротив, у дяди Жюля все отдавало жестокой прозой. Скопив себе порядочное состояние (он был значительно богаче своих братьев), дядя Жюль, однако, ничего не предпринимал, чтобы придать своему обиталищу приятную изящность. Все у него было голо, чопорно и банально. Ни ему, ни тете Луизе не было никакого дела до того, что я почитал самым важным в жизни. И как обстановка, так и беседа в доме дяди Жюля была тоскливо банальной и бесцветной. Старший сын его Юлий Юльевич (владелец знаменитой на весь Петербург «Лесной фермы») был совершенной копией отца как по наружности, так и в смысле своих интересов. Правда, он был архитектором, но такая как бы причастность к художеству не отражалась на его образе жизни. Из трех дочерей дяди Жюля две старшие — Женя была замужем за шотландцем Бертоном, а Аля за швейцарцем Массе. Они были очень похожи на моих двух сестер и уже потому были мне дороги, но я их видел редко и ни разу не посетил их. Третья дочь — Эля была всего на три года старше меня и росла довольно миленькой девочкой, однако если я и питал к ней те чувства, которые подобает питать к своим родным, то все же это не привело к большому сближению.
Зато ее брата, своего кузена Франца, бывшего на два года моложе меня, я прямо ненавидел. Уж из-за него одного я неохотно бывал у дяди Жюля и всячески топорщился, когда раза два-три в году меня силком тащили туда по случаю каких-либо именин или рождений. Находясь же в гостях у дяди, я старался не отходить от мамы, и все же Францу удавалось каждый раз совершать в отношении меня какие-либо проделки, нелепая жестокость которых наполняла меня бешеной злобой и возбуждала мысль о кровавой мести. Это были самые обыкновенные мальчишеские шалости, однако вид, с которым Франц их проделывал, его сжатые губы, его тупо-злое выражение лица, выдавали его «черные» намерения. Такую злость я вообще редко встречал и впоследствии в детях. Я был уверен, что из него неминуемо выйдет разбойник и душегуб. Однако ничего подобного не получилось. Франц, став тоже архитектором, архитектурой почти не занимался, а превратился в помещика, образцового пчеловода, засел где-то под Лугой в деревне и поэтому окончательно исчез с нашего горизонта. Недобрые же чувства, проснувшиеся у меня к нему, когда мне было восемь, а ему шесть, так с годами и не исчезли.
Весьма вероятно, что к третьему брату папы я бы исполнился более горячих чувств, если бы он жил в Петербурге, но он жил почти безвыездно за границей и умер там сравнительно не старым человеком. Кончина брата необычайно огорчила папу, питавшего к нему особую нежность. Дядя Александр (Саша) был очень похож на моего отца не только чертами и выражением лица, но и всем своим духовным складом, художественной жилкой, жившей в нем, и тем, что дядя Саша был большой затейник, тративший немало времени на всякие забавные вещи, в которых художественный элемент так или иначе проявлялся. Рассказы об этих затеях, в особенности о замечательном кукольном театре, устроенном дядей Сашей у себя в гамбургском доме, возбуждали мое любопытство в высшей степени. Но кроме того, моя к нему нежность на расстоянии поддерживалась тем, что почти в каждое письмо, приходившее от дяди, было вложено специально для меня несколько листиков рельефных картинок, носивших в те времена название «облатэн». И вот получение этих «облаток» исполняло меня восторженной благодарностью. Дядя Саша представлялся мне издалека каким-то добрым волшебником, владевшим несметными сокровищами, которыми он щедро одаривал своего племянника. На самом же деле жизнь дяди сложилась вовсе не блестяще.
Женившись в Петербурге на дочери богатых коммерсантов Фиксен, он последовал за ней и за ее родителями, когда вся семья переселилась в свой родной Гамбург, но тут почти сразу произошла катастрофа. Родители разорились и вскоре после того умерли, а дяде Саше (тоже готовившемуся когда-то стать архитектором) пришлось кое-как зарабатывать себе на жизнь, обзаведясь небольшим магазином канцелярских принадлежностей. К счастью, еще ему удалось сохранить один из домов, принадлежавших Фиксенам, и в этом доме на Бургфельдер-пассаж он и прожил до своей слишком рано наступившей смерти. Единственный сын дяди Саши, называвшийся также Сашей, но с прибавкой — Бог знает почему — Конский, вернулся при жизни отца в Петербург, женился на своей троюродной сестре Густе Эбергардт и основал собственную многочисленную семью. Он был сверстником и ближайшим другом моего брата Альбера и сам очень даровитым пейзажистом, с успехом участвовавшим на наших акварельных выставках. К этому Саше Конскому я питал всегда сердечную любовь, но не без нежности относился и к его трем сестрам, также впоследствии переселившимся вместе с матерью в Петербург и носившим у нас в семье прозвище «гамбургских».
Следовало бы дальше остановиться на двух сестрах моего отца (остальные пять скончались до моего рождения), но я могу сказать только то, что обеих этих тетушек я искренне любил, а они меня усердно баловали. Особенно, как это и полагается, баловала меня крестная мама тетя Маша, я же ей за это платил бессовестной эксплуатацией. Боже, какой испуг рисовался на ее увядших чертах, каким отчаянием наполнялись ее серые, много горя и мало радости видевшие глаза, когда оказывалось, что почему-либо мою очередную прихоть исполнить невозможно. Я же, бессовестный, не щадил доброй тети Маши, и мне даже нравилось мучить ее, сознавая свою власть над ней.
Что же касается до старшей сестры моего отца, Жаннет Робер, родившейся еще в XVIII веке, то мое представление об этой крошечной, в комочек съежившейся старушке, нераздельно связано с той квартирой в доме ее дочери Катеньки Романовской у Покрова, в которой она жила до своей кончины в 1881 году. У папы вошло в обычай каждое воскресенье после службы в церкви св. Станислава заходить к своей старшей сестре, где его (и меня, когда я его сопровождал), ожидал вкусный завтрак с замечательным пирогом. Но в те годы не пирогами можно было меня заманить к тете Жаннет и к тете Катишь (последняя была на пятьдесят лет старше меня и все же приходилась мне кузиной), а тем, что их квартира была полна котов, кошек и котят, кошачью же породу я буквально обожал. Мне тем более было приятно ласкать здесь этих очаровательных зверюг и играть с ними, что у нас дома таковые не водились. Изредка, сдаваясь на мои просьбы, мне дарили то черненького, то серенького котенка, с которым я тогда и возился до совершенного исступления, в ущерб всем прочим занятием — но затем наша прислуга, ненавидевшая кошек, к великому моему отчаянию, моего очередного любимчика куда-то спроваживала.
Вместе с тетей Катей жил и ее единственный сын, мой племянник (бывший лет на двадцать старше своего дяди), Евгений Осипович. Этот Женя Романовский был человеком унылым и печальным, особенно стал он таковым, когда после смерти матери остался один, как перст. Напрасно наши семейные свахи, в особенности моя невестка Мария Александровна, старались подыскать для этого довольно состоятельного жениха подходящую невесту. Он не поддавался их уговорам — мне думается, потому, что абсолютно не знал, что с женой делать и как с ней поступать. Несмотря на свою унылость, Женя был непременным участником наших семейных сборищ, не внося, впрочем, в них ни малейшей доли веселья и приятности. Я не очень жаловал его, а однажды даже крепко с ним поссорился из-за того, что этот хмурый человек ни с того ни с сего позволил себе сыграть со мной довольно глупую шутку. За большим обедом у моей сестры на Кушелевке он запустил мне за шиворот кусочек льда. Однако позже наши отношения приняли более дружественный оттенок, произошло это в период моей разыгравшейся страсти к книгам, когда Женя, к большому моему удивлению, стал выказывать интерес к моим новым приобретениям. Интерес этот, впрочем, был чисто внешний. Он покрутит в руках книжку, вскроет ее, прочтет заглавие и оглавление, объявит, что ему данное сочинение уже известно (по заглавию или оглавлению) и затем отложит, чтобы приняться за другую. И у него самого была порядочная библиотека, но состояла она почти исключительно из книг по естественным наукам. Сам Женя состоял кем-то при Академии наук, даже издавал какие-то брошюры, быть может, и очень ученые, не то по геологии, не то по минералогии, но, признаюсь, я их не читал, хотя он мне их и подносил.
ГЛАВА 20 Родственники с материнской стороны. Дядя Сезар
Несравненно более, чем родственники с отцовской стороны, меня интересовали и притягивали родственники со стороны матери. За исключением бабушки Кавос, о которой я уже рассказывал, и тети Кати Кампиони, о которой речь впереди, тут были только одни мужчины. Единственная же единокровная сестра моей матери, хорошенькая тетя Соня Зарудная, скончалась за несколько лет до моего появления на свет в родах своего единственного сына Сережи, и точно так же жены дяди Сезара и дяди Кости умерли до моего рождения, дядя Миша остался холостяком, вдова же дяди Вани жила на Кавказе. И вот относительно этих «дядей Кавосов» я могу сказать, что они именно все, но каждый по-разному, меня пленили. Объединяла же их в моем представлении одна черта, нечто такое, что теперь я бы назвал стилем, но что тогда, в детстве, я не мог сознавать и что тем не менее оказывало на меня особое притяжение. Этот их стиль действовал на меня тем сильнее, что он был чем-то заключенным в самой их природе; тут не было ничего напускного, перенятого, никакой позы, никакой гримасы — просто в этих людях жила известная «изящная манера быть», и с нею они родились. Прибавлю, что контраст между этой группой лиц и родственниками Бенуа подчеркивался тем, что мне, мальчугану, не нравилось в последних. Рядом с дядей Сезаром, дядей Костей и прочими Кавосами, дядя Жюль и его дети, все потомство дяди Лулу, дяди Мишеля к других дядей и теток с папиной стороны представлялось мне несколько простоватым. Все они были людьми вполне воспитанными, но одно дело «уметь быть приличными», а другое производить впечатление каким-то своеобразным, во всем сказывающимся прирожденным стилем.
Дядя Сезар — Цезарь Альбертович Кавос — был старший мамин брат. Мне было всего тринадцать лет, когда он скончался, но помню я его с совершенной отчетливостью, а в то время мне казалось, что я уже давным-давно живу на свете, и в этом прожитом периоде дядя Сезар занимал безусловно очень значительное место. Как всякого другого родственника, мне надлежало его любить, и я старался исполнять этот долг по мере своих сил, но удалось это мне не вполне, так как то чувство, которое он мне внушал, не было лишено известного трепета. Уж если говорить про стиль, то дядя Сезар был самый стильный из братьев, но его стиль (как мне казалось тогда) выражался главным образом в высокомерии. Он мне казался ужасно важным и малодоступным. К тому же меня смущало его специфическое обращение с детьми — несколько свысока, покровительственное. Возможно, что это было вовсе не так, но я был мальчик преувеличенно обидчивый, избалованный всем тем, что я встречал со стороны своих близких, и малейшее отклонение от этого я принимал за нечто оскорбительное. Я даже избегал попадаться на глаза дяди Сезара — что было не так легко, когда я с родителями целыми месяцами живал на его даче и мог каждую минуту его встретить.
Было бы, однако, ошибкой представить себе Цезаря Альбертовича в виде какой-то величественной фигуры. Подобно большинству Кавосов, ростом он был ниже среднего, ходил он отнюдь не задрав голову, голос у него был не громкий, он редко сердился и никогда не кричал. Однажды он все же сломал зонтик об спину своего зятя Митрофана Ивановича Зарудного, но случилось это при столь исключительных обстоятельствах, что человек с натурой и самой покорной мог бы выйти из себя. А именно: дядя Митрофан, в обычном для него нетрезвом состоянии, так погнал своего рысака по петергофской Самсониевской аллее, что угодил шарабаном в тянущийся вдоль этой аллеи канал. И вот, когда дядя Сезар с большим трудом вылез из воды, то ему показалось, что сын его Женя, продолжавший лежать без движения на берегу, мертв. Тут-то дядей Сезаром овладело такое бешенство, что он принялся бить незадачливого возницу, причем бил так крепко, что действительно сломал хороший, привезенный из Парижа зонтик. Повторяю, то был казус исключительный, потому и попавший в семейные анналы, что был слишком необычайный для моего дяденьки.
Оставшись с незначительными средствами после смерти своего отца, Цезарь Альбертович, хотя по профессии и был, подобно дедушке, архитектором, однако зодчество он постепенно запустил, предпочитая заниматься «делами» и главным образом спекулируя на покупке и продаже домов, что в 60-х годах приобрело в Петербурге прямо-таки азартный характер. На этих аферах он и составил в несколько лет очень крупное состояние, исчислявшееся в момент его кончины в три миллиона тогдашних рублей. К сожалению, скончался дядя, не успев привести дела в должный порядок, и после разных операций наследников и опекунов капитал этот съежился. Тем не менее, мои кузины оставались богатыми невестами, а единственный сын дяди, мой двоюродный брат Женя Кавос, мог всю жизнь существовать в условиях вполне барских.
Представление о дяде Сезаре сплетено во мне наитеснейшим образом с представлением об его обиталищах. Так я уже создан. Я и господа Бога ощущаю вполне только в его «домах» — в церквах. Да и самых близких людей я представляю себе не иначе, как на каком-либо фоне — будь то комната или целая квартира, или дача, усадьба. Возможно, что это во мне сказывается черта художественная, живописная… Так и дядю Сезара я вижу или в его петербургском доме или в саду его роскошной дачи. Дом дяди Сезара представлялся мне чуть ли не самым изящным во всем Петербурге. Стоял же он на Кирочной, насупротив того места, где начинается Надеждинская.
Самый дом был полуособняком в два этажа над высоким подвалом, но можно было с натяжкой за третий счесть мансарды (в Петербурге явление в те времена чуть ли не единственное). Как раз слуховые окна (люкарны барочного стиля) этого мансардного этажа придавали дому дяди заграничный, парижский характер. Сам дядя с семейством занимал весь первый этаж (по русскому счету), а во втором, в комнатах очень высоких, с закругленными окнами жили Сабуровы — Андрей Александрович, бывший одно время министром народного просвещения, и любезнейшая супруга его, которую почему-то весь Петербург называл тетей Лёлей. Их две дочери, Мария и Александра, девочки лет восьми-девяти, бывали иногда приглашаемы вниз, к Кавосам, и принимали участие в наших играх. Позже в этой бывшей сабуровской квартире жила в течение многих лет другая знаменитая петербургская дама — баронесса Варвара И. Икскуль.
В последний раз я побывал в доме дяди Сезара (к тому времени уже переставшем принадлежать его наследникам) весной 1918 года, когда все еще прелестная, несмотря на восемьдесят лет, баронесса, собравшись покинуть навсегда Петербург, позвала меня, чтобы помочь ей выбрать то, что стоило бы взять с собой в эмиграцию. И в последний раз я тогда вошел в монументальный подъезд, поднялся по занимавшей всю ширину вестибюля лестнице и, минуя знакомые с детских лет стеклянные двери бывшей квартиры дяди, поднялся в верхний этаж, держась за перила кованого железа. Этот визит потому мне так и запомнился, что во время него с удивительной отчетливостью встало передо мной все то, что в этом же доме мне когда-то импонировало и так мне нравилось. Особенно мне импонировала именно эта лестница. Она была поистине парадной и неизменно производила на меня впечатление какой-то своей торжественностью. Уже одно то, что на ней чудесно пахло (дядя Сезар был большим любителем душистых цветов и благовонных курений), придавало ей в моем представлении особенно «знатный» характер. У нас в прародительском доме была тоже весьма замечательная лестница — одна из немногих в Петербурге уцелевшая в своем первоначальном виде со времен Павла I, но, по обычаю тех патриархальных времен, у нас не было швейцара, и лестница была холодная (она не отапливалась), а ее довольно стертые ступени пудожского камня не были покрыты ковром. Здесь же, у дяди Сезара, прямо с мороза я вступал в тропическую атмосферу, а ноги топтали густой алый ворс. По уступам с обеих сторон марша стояли горшки и вазы с пальмами, лаврами и другими вечнозелеными растениями…
Однако было время, когда лестница дяди Сезара таила для меня и известную жуть. Дело в том, что напротив швейцарской в полуподвальном помещении доживал свой век несчастный полоумный брат моей матери и дяди Сезара — Станислав Альбертович Кавос, известный в семье под прозвищем «дяденьки Фа». Он родился калекой, — одна рука и одна нога была у него короче другой (считалось, что причиной такого несчастья было то, что бабушка до полусмерти испугалась, когда во время одной заграничной поездки, остановившись по дороге в Неаполь в гостинице какого-то захолустного местечка, она ночью увидала, что лезут в окно бандиты. Бабушка бросилась из кровати и упала, а была она на последнем месяце беременности. Кстати сказать, у меня в детстве представление об Италии и в особенности о Неаполе и его окрестностях было неразрывно связано с представлением о бандитах, в частности я был уверен, что они грабят всех путешественников на большой дороге и уводят их к себе в гроты в качестве заложников). В течение же своей печальной жизни дяденька Фа успел себе еще раза два поломать и здоровую руку, и здоровую ногу.
Вид у дяди Фа был страшноватый. Его толстенный выгнутый нос свешивался над непрестанно чмокавшими губами, а в темных его глазах то и дело вспыхивал тревожный огонек. Нрава он был вообще кроткого, но терпеть не мог, чтобы над ним подшучивали. В те годы, когда и меня к нему стали водить на поклон, дяденька Фа уже был совершенной развалиной. Он не вставал со своего высокого ложа (мне, маленькому, казалось, что он лежит на каком-то катафалке) и почти не говорил, а больше мычал. Но в прежние годы, рассказывали мне, дядя Фа бывал иногда и опасен. Раз он чуть было не задушил нежно его любившую сестру — нашу обожаемую мамочку; ее насилу отняли, а за своими юными кузенами (сыновьями Ивана Катариновича Кавоса) он гонялся с ножом, приведенный в ярость их шутками. Особенно выводили его из себя намеки на некоторую его нечистоплотность, что было выражено и в особой, дарованной ему кличке. Услыхав свое имя с присовокуплением (вместо обычного дяденька Фа — «Фафалифафёнок»), он начинал скрежетать зубами, брызгать пеной и, сорвавшись с места, долго носился за своими мучителями, натыкаясь на мебель и разрушая все, что попадалось ему под руку. Во время таких преследований он и ломал себе руки и ноги…
Каждый раз, когда мы, братья Бенуа, бывали у дяди Сезара, надлежало сделать визит и дяденьке Фа. Я боялся этого, но любопытство брало верх, и я без особого протеста следовал за другими. С высоты своих подушек и перин он немедленно повертывал голову, взором окидывал пришедших и необычайно громко, почти крича, произносил протяжное «а а а…». В этот момент дяденька совершенно напоминал мне людоеда из сказки о Мальчике-с-пальчике. Затем начинался всегда один и тот же вопрос, причем он всех и все путал, мешая наши имена и не вполне разбираясь в родственных связях. «А, — говорил он, уставившись в кого-нибудь из нас, — это Бертуша». И тут же поправлялся: «Нет — это Люля, нет — это Женя, нет — Сережа… Как поживает папа? Как твоя мама? Как, она померла? Когда?… А это кто? Шура? Какой такой Шура? (мое имя он произносил как-то по-итальянски Сшиура). Дай-ка я посмотрю на тебя поближе». Меня тащили к дяденьке, поднимали до его лица, а он чмокал меня своими мясистыми губами, причем больно колола его небритая борода. Тут я не выдерживал, пускался в рев, и меня спешно уносили.
Кажется, в 1875 году дяденька Фа скончался. Для всех это явилось облегчением, но мне его стало ужасно жалко. Я устыдился своих капризов и понял, что обижал его своим нежеланием к нему приближаться. С этого же момента лестница в доме дяди Сезара и получила для меня свою «мистическую атмосферу». Дух дяди Фа для меня не переставал обитать в его подвальной квартире… Ни за что я не остался бы здесь один. Мне непременно почудилось бы, что дверь к дяденьке отворяется и что он в виде мертвеца выступает из нее, точнее, всползает вверх по ступенькам. Каждый раз, когда мы входили в вестибюль, надлежало пройти мимо этой двери, и хотя я знал, что она теперь ведет в приятную гарсоньерку кузена Жени, я все же взглядывал на нее не без трепета.
Еще два слова о парадной лестнице дяди Сезара. Памятна она мне еще тем, что иногда на ней (несмотря на запрет) происходили наши игры с кузинами Кавос и другими детьми. Очень удобно было на ней устраивать засады при игре в «казаки-разбойники». Но особенно запомнились мне те заседания, которые по какой-то традиции устраивались здесь при разъезде гостей. Обыкновенно их открывала бабушка Кавос, которая, пока слуга или швейцар надевали ей зимние ботинки (вешалки для верхней одежды находились на лестнице), опускалась на тут же стоявший ларь-диван. Рядом садилась мама, и начинался разговор. Давно уже и бабушка, и мама, и я, и все были готовы к отбытию, однако оказывалось, что так приятно сидеть в этом просторном и теплом помещении, так неприятна перспектива выйти на стужу, что беседа затягивалась. Постепенно к ней присоединялись и другие гости, одни за другими покидавшие квартиру дяди Сезара. И все-то рассаживались вокруг кто на фарфоровых тумбах-бочонках, служивших стульями, а кто просто на ступенях. Вот это подобие импровизированного табора и нравилось мне чрезвычайно. Я едва ли понимал что-либо из тех пересудов, которым предавались дамы; к тому же то и дело беседа переходила на французский или на итальянский языки, и как раз это случалось тогда, когда надлежало, чтобы я чего-либо не понимал, чему неизменно предшествовал наказ: «Не при детях». И тем не менее, несмотря на то, что мне становилось невыносимо жарко в полном зимнем снаряжении, с головой, закутанной в башлык, мне не хотелось, чтобы это заседание кончилось. Вся обстановка складывалась во что-то похожее на пикниковый бивуак, иначе говоря, на какую-то шаловливую игру, которой предавались такие обычно скучные серьезные большие. Конец все же наступал, бабушка, поддерживаемая швейцаром и внуком Сережей, спускалась вниз, и все процессионально следовали за ними. А там за дверью чудовищный холод и скучнейший переезд в потемках кареты через весь город до нашего дома.
Кабинет дяди, коим замыкалось правое крыло квартиры, выходил своими окнами — так же, как и предшествовавшая ему приемная — на улицу. Это была глубокая, просторная, но по своей длине недостаточно высокая комната, что придавало ей характер несколько мрачный, давящий. По темно-зеленым стенам висели очень тесно картины, считавшиеся оригиналами Тинторетто и Веронезе, а также и эффектная «перспектива» XVIII века. На столах, по полкам и на консолях выстроилась коллекция старинных бронз и других редкостей. Но главное свое украшение кабинет дяди получал от большого фламандского шкапа начала XVII века (если я не ошибаюсь, замок, чудо слесарного искусства, был помечен 1610 годом). Этот шкап представлял собой целый архитектурный фасад с массивными колоннами и резными статуями. Он был сделан из разноцветного прекрасно подобранного дерева и роскошно убран по карнизам, ящикам и всюду, где только можно было, изящными интарсиями. В моих глазах это был не просто шкап, а царь всех шкапов. Как ни обидно было в этом признаться, наша обстановка ничего подобного не содержала. Я не пропускал случая, чтобы потрогать и погладить эти полированные, столь аппетитно круглившиеся колонны, полюбоваться тонкой резьбой капителей и тех мифологических персонажей, что стояли в нишах.
Вместе со шкапом и с самым банальным качальным креслом, на котором я любил качаться до одурения, в строгом кабинете дяденьки приманкой служили для меня английские старинные часы, заключенные в деревянный ящик, стоявшие на письменном столе против того места, где дядя обыкновенно работал. Этой замечательной диковине я мог (все из того же чувства фамильной зависти) противопоставить из наших вещей единственно только мамочкин будильник, когда-то привезенный ей в подарок с лондонской Всемирной выставки. И действительно, будильник был вещицей затейливой — весь его сложный механизм можно было изучать через стеклянные стенки. Но нельзя не сознаться, что часы в кабинете дяди Сезара были все же куда более удивительные. Они могли играть разные старинные пьесы, да и кроме того каждые четверть часа раздавались отрывки чарующих переливов, а каждый час эти переливы складывались в подобие какой-то курьезной песенки, тем более пикантной, что в нее вплеталось несколько фальшивых ноток. Меня эта музычка и пленяла, и чуточку мучила. Казалось, что из волшебной коробки доносится голос завороженного существа иного времени.
В сущности, настоящих сверстников для меня в семье дяди Сезара не было. Младшая его дочь Инна была на два года старше меня, а следующая по старшинству, Маша, даже на целых четыре. И все же я очень дружил с обеими кузинами, и мы резвились и играли в разные игры, никогда не ссорясь. Обе были необычайно добрые, покладистые девочки. Никогда не случалось, чтобы они сердились, капризничали. Мимолетные огорчения происходили лишь вследствие какого-либо придирчивого и незаслуженного замечания Талябины или миссис Кэв, о которых речь впереди. С отцом же они были почтительны, но такие изъявления нежности, какие были в обычае в нашей семье, здесь не полагались. Несомненно, они обожали отца, но эти чувства не выражались вовне, что, впрочем, меня тогда не удивляло, так как подобная сдержанность и церемонность вязалась со всем характером дома дяди. Характер же этот был в значительной степени обусловлен тем, что дядя был вдовцом, что матери у моих кузин не было: она скончалась за несколько лет до моего рождения. С тех пор всем домом заведовала Наталья Любимовна Гальнбек — она-то и есть помянутая Талябина, занимавшая в доме положение среднее между гувернанткой и ключницей. Когда же подросла старшая сестра Соня, то и ей было поручено следить за порядком и заменять сестрам мать.
Тети Сони (рожденной Мижуевой) я в живых не застал, но отлично знал, как выглядела эта «мама Сони, Жени, Маши и Инны», так как ее овальный портрет, рисованный в 60-х годах искусным итальянским художником Беллоли, висел в маленькой гостиной, находившейся между залом и столовой, а вокруг этого портрета висели в таких же овальных рамках портреты ее детей. Эти портреты детей были все еще похожи на тех, кого они изображали, хотя с момента их создания прошло семь или восемь лет, а потому нельзя было сомневаться, что и портрет этой молодой дамы в точности передает ее прелестные черты. Шестой овал, висевший в том же ряду, изображал незнакомую мне девочку с голубым бантом на голове, но от кузин я узнал, что это их сестра, умершая, когда ей было четыре года и которую звали Нина.
Кстати об этом салончике. Весь светлый, со стенами, покрытыми грациозными орнаментами, раскрашенными в бледно-розовые и фисташковые тона, с мебелью изогнутых форм, с фарфоровыми фигурками на зеркальном шкафчике, с большой жардиньеркой ароматичных цветов у окна, он производил впечатление чего-то лакомого — комната эта напоминала мне любимые сладкие пирожные от Берена. Я любил забираться сюда и либо разглядывать книжки с картинками, либо складывать специально для меня припасавшуюся коробку детского театрика с декорациями и с вырезанными из бумаги действующими лицами. Женские персонажи в этом «Коньке-горбунке» были изображены в кокошниках «а ля рюсс», но и с широченными кринолинами, а большинство мужских ролей представляли татар в восточных халатах и доспехах. Некоторые из этих фигурок были на проволоках, благодаря чему их можно было водить по сцене или же поднимать для полета.
Из окна того же салончика и из окон соседнего зала я мог следить за тем, как в зимнее время возилась молодежь на чистом, обсаженном елками дворе дяди Сезара. Весь двор в морозные месяцы превращался в каток, а по одной из его сторон строилась из дерева высокая гора, прилегавшая к самому дому. Во время многолюдных сборищ столовая дяди Сезара превращалась в раздевальню; надлежало переменить до и после беганья на коньках обувь, надеть специальные шубки и шапки. Впрочем, кадеты, а за ними и правоведы, коих всегда было несколько (кузены Зарудные приводили с собой целую ораву товарищей), щеголяли на морозе в одних мундирах. Обыкновенно коньки привинчивались или привязывались внизу, у самого катка, но некоторые виртуозы производили эту операцию наверху, и тогда было слышно, как они с грохотом спускаются по черной лестнице во двор, причем не обходилось без падений. К самым отчаянным конькобежцам принадлежал мой брат Коля — кадет. У него была даже слава настоящего чемпиона, так как он не раз получал призы на публичных состязаниях в Юсуповском саду. Барышни были несравненно скромнее и боязливее; они лишь изредка спускались на салазках с горы и тогда, как полагается, неистово пищали и визжали. Когда у дяди Сезара были только свои, то и я решался побороть свою опасливость и просил, чтобы меня одели для возни на дворе, но и в таких случаях, шлепнувшись раза два носом, я предпочитал бегать по льду без коньков, держась за деревянное кресло на полозьях; особенно же я любил, чтобы в этом кресле меня катала добрая Инна. Когда же на катке у дяди Сезара собиралось много чужих, то я предпочитал оставаться наверху и глядеть на эти потехи из окон.
Особенно эффектное зрелище плавно скользящих на фоне светлого снега темных силуэтов становилось под вечер, когда зажигались фонари и плошки, от которых во все стороны по льду и по стенам протягивались и сплетались тени. Все представлялось особенно фантастичным благодаря такому безмолвию. Самое скольжение по льду не производило шума, но и голоса, смех и крики едва достигали моего уха из-за двойных зимних рам. Было ужасно весело, когда мне удавалось, барабаня по стеклу, привлекать внимание мальчиков и девочек. Они мне корчили гримасы, манили к себе, жестами срамили меня, но что они при этом говорили и кричали, доходило до меня как еле слышное бормотанье. Мне было несколько стыдно оставаться взаперти, но в то же время я утешался тем, что вот я, маленький, смотрю на весь этот праздник, как «король или принц». Вообще во мне спортивных наклонностей не пробуждалось; я был порядочным неженкой, типичным маменькиным сынком, за что мне нередко попадало от моих более воинственных и мужественных братьев.
Почти все до сих пор сказанное относится к ранним годам моего детства, но и в позднейшие времена до кончины дяди Сезара у меня с домом его связано немало воспоминаний. Так, я помню происходившие здесь очередные семейные обеды, на которые Бог знает почему родители брали с собой и меня и на которых я отчаянно томился. Мне не так уже нравилось все то, что на этих пирах подавалось, да и мое место за этим столом было незавидное — среди больших, рядом с мамой, откуда я не без зависти смотрел как за другим столом веселилась молодежь. Некоторым вознаграждением служили напитки — шипучий мед, который наливался в затейливые стаканчики венецианского стекла, и сладкое итальянское вино асти спуманте. Памятны мне большой бал, а также экстраординарный домашний спектакль, состоявшийся у дяди Сезара первый в 1878 году, а второй — в 1882 году, но об этом я буду говорить в другом месте.
Не менее отчетливо, чем городской дом дяди Сезара и его квартира, запомнилась мне его дача в Петергофе. Незадолго до ее создания Ц. А. Кавос доказал свое архитектурное мастерство постройкой больницы принца Ольденбургского, однако свою дачу он не пожелал строить сам, а поручил это дело племяннику — моему старшему брату Альберу, только тогда окончившему Академию художеств. Вероятно, дяде Сезару захотелось поощрить своего юного родственника, и он предоставил ему полную свободу в сочинении проекта. Работы длились около года, и летом 1876 года дача на Золотой улице была готова и торжественно освящена. Надо отдать справедливость Альберу, он отличился отменно; дача получилась не только самой значительной по размерам из всех, что были построены в Петергофе за последние тридцать лет, но она была и самой из них роскошной и нарядной.
Одновременно с главным жилым зданием, позади него были сооружены службы с сараями для экипажей, с конюшнями на шесть лошадей, с прачечной, с комнатами для друзей и с квартирами для прислуги. Это второе здание было целиком деревянным и увенчивалось высоким бельведером в каком-то необычайном стиле, представлявшем собой смесь мавританских и русских мотивов. Сама же дача была наполовину каменная, в два этажа над высоким подвальным помещением. Она была обнесена с двух сторон крытыми верандами и, кроме того, всюду, где только можно было, затейник Альбер украсил ее балконами разнообразной формы. В общем строитель пожелал создать подобие итальянского ренессансного палаццо, но получилось нечто смахивающее на те проекты, которые появлялись тогда в немецких и французских журналах. Как бы там ни было, ансамбль не был лишен приятности и производил элегантное впечатление. Вероятно, обошлись эти постройки дяде не в один десяток тысяч рублей, зато он был вполне удовлетворен в своей склонности к великолепию…
Существенным недостатком дачи было ее расположение на том участке земли, который дядя приобрел специально для нее. Непонятно почему, обладая таким обширным участком, выходившим на две улицы, решено было самую дачу соорудить близко к замыкающему ее со стороны Золотой улицы забору. Пространство, оставшееся между домом и этой высокой оградой, было до того узко, что на нем, кроме площадки для крокета и двух цветочных гряд, ничего не уместилось. Необычайно широкая и высокая масса дачи давила и ту часть сада, которая тянулась по боковому фасаду, и тот проезд от двора до ворот, что был расположен по другую сторону. Зато двор получился просторным; посреди него стоял столб для гигантских шагов, а недалеко от конюшни была устроена усаженная цветами горка — одно из любимых мест наших игр. Наконец, позади служб тянулся огород. Дядя был большой охотник до всяких ягод, поэтому в огороде произрастали редчайшие и чудеснейшие сорта земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, а также всевозможных овощей, начиная от моркови и огурцов и кончая спаржей и артишоками. Посреди этого огорода в круглом бассейне бил небольшой фонтан, и хоть он ни в какое сравнение не мог идти и с самым незначительным из петергофских дворцовых фонтанов, однако это все же был фонтан, и я имел все основания им гордиться и любоваться. К сожалению, в этом же бассейне потонул крошечный щенок, которого мне подарили и с которым я не уставал возиться целыми днями.
Характерной особенностью дачи была та крытая веранда на столбиках, которая тянулась по двум фасадам на юг и на запад. На западной стороне дамы проводили дни за рукоделием и разговорами как в хорошую, так и в дождливую погоду, наблюдая оттуда за тем, как молодежь в саду играла в крокет и другие игры. Непременными членами этих собраний были моя мама, старшая кузина Соня, англичанка миссис Кэв, иногда же к ним присоединялись мать и две дочери Лихачевы, а также другие знакомые, приезжавшие из Петербурга или проводившие лето в Петергофе. Веранда, выходившая на юг, была вдвое шире первой и служила столовой; именно там в теплые дни устраивались большие парадные обеды. В комнатах, выходивших на эти веранды, было довольно темно; зато столовая и комната кузена Жени, выходившие во двор, были залиты светом. Наименее приветливую комнату дядя Сезар выбрал себе под спальню. В ней всегда царил мрак и пахло сыростью. Она выходила на север и к тому же была затемнена близко стоявшими деревьями и полукруглым балконом на колоннах. Когда дяди не бывало дома (он на целые месяцы уезжал пользоваться водами в Мариенбад и в Карлсбад), любимой моей комнатой была угловая рядом со спальней, служившая дяде кабинетом. Мне нравились ее темно-зеленые стены и крытая зеленым штофом мебель.
В гостиной рядом висела очень большая, прекрасно писанная картина — одна из тех «перспектив», считавшихся работами Антонио Канале с фигурами Тьеполо, что некогда украшали дедушкин дом в Венеции. Занимаясь обязательными, очень скучными экзерсисами на рояле, стоявшем как раз под этой картиной, я утешался тем, что во всех подробностях разглядывал ее, как бы прогуливаясь по улицам и площадям этого вымышленного города и встречая по пути те странные фигуры, которыми его населил художник. Много лет спустя, когда эта же картина вместе со своей дружкой попала в столовую наших друзей Оливов, стоило мне во время какого-либо обеда взглянуть на эти столь знакомые башни и дворцы и особенно на того всадника, который был представлен в несколько неуклюжем ракурсе на самом первом плане, как в моем воображении восставало летнее утро, полумрак дачной гостиной и чудилось, будто я снова слышу те унылые нотки, что отбивали на клавишах мои детские пальцы. Другая перспектива, парная к этой, служила украшением верхней гостиной на даче, а третья принадлежала дяде Косте. При разделе наследства, оставшегося после смерти дяди, петергофская дача досталась Инне, однако она ни разу не воспользовалась этим и сначала сдавала дачу, а затем и продала ее. Узнав об этой продаже, я обеспокоился тем, что сталось с любимыми моими картинами, и оказалось, что они, по нерадению, остались на даче как часть мебели. Тогда я стал приставать к кузену Жене, чтобы он обратился к новым обладателям дачи с предложением выкупить эти семейные драгоценности. Однако за это время владельцы успели узнать, что картины эти редкостные, и потребовали с Жени довольно крупную сумму. Когда же Женя через двадцать-тридцать лет пожелал с ними расстаться, я устроил продажу этих картин Оливам, и наконец, я же постарался, чтобы вся роскошная обстановка Оливов была в первые годы революции превращена в художественно-бытовой музей. Когда этот интереснейший комплекс был раскассирован, наши мнимые Каналетто попали в Эрмитаж. Однако тут они были переименованы и значатся теперь под более скромными именами Баталиоли и Дзуньо, что, впрочем, не мешает им оставаться прекрасными и высокомастерскими произведениями.
Особенную прелесть придавало даче дяди Сезара необычайное количество цветов, за которыми ходил специальный садовник. И как же пахли все эти цветы! Особенно мне памятны с тех пор пряный запах гелиотропа, аристократический горьковатый резеды и сладко-дурманящий душистого горошка. Все эти божественные ароматы почему-то не пользуются фавором людей середины XX века, помешавшихся на том, чтобы цветы были как можно более пышны и красочны, и это хотя бы в ущерб их аромату. Здесь же все эти благовония сливались в настоящую симфонию, к которой в начале лета присоединялся запах цветущей черемухи и сирени, а позже густой, бальзамический дух липового цвета. Лип было много в саду дяди, и липами же был обсажен тот канал, что тянулся вдоль Золотой улицы и служил резервуаром для фонтанов Золотой горы и для марлийских прудов. Воспоминания о петергофской даче дяди Сезара приобретают во мне особую остроту, когда мне удается вызвать в себе как помянутую симфонию запахов, так и все те звуки, которые в нее вплетались. Часть этих звуков были вульгарны и обыденны, часть даже довольно уродливы и назойливы, но на расстоянии все получало нежную мягкость и становилось элементами одного чарующего целого. С канала временами доносился яростный крик пасшихся там гусей, из казарм конногренадеров, расположенных за каналом, трубные звуки зори и барабанная дробь, с соседних дач крики детей и скрип качелей. Иногда в этот концерт врезались крики разносчиков с цветами, с ягодами, с печеньями, а в тихие и несколько сырые вечера можно было различить топот лошадей по мосту купеческой пристани и даже то, что играл придворный оркестр на «музыке». На этом расстоянии (километра в полтора), добираясь до нас сквозь густоту парковых рощ, аккорды увертюры «Вильгельма Телля» или рапсодия Листа приобретали особую прелесть.
Последний раз я видел дядю летом 1883 года и именно в той гостиной, в которой в предыдущие годы я брал уроки музыки и где висел большой Каналетто. На сей раз я не гостил у дяди Сезара, а проводил лето у Альбера в соседнем с Петергофом Бобыльске; я случайно забрел к кузинам на Золотую улицу и тут узнал, что как раз с часу на час ожидается возвращение дяди Сезара из Мариенбада. Я застал в доме гнетущее настроение и из бесед домочадцев между собой понял, что дяде очень плохо, что он умирает. Мысль, что я сейчас увижу умирающего, приговоренного к смерти и, вероятно, вовсе не желающего умирать человека, показалась мне столь невыносимой, что я даже не пошел к нему навстречу, когда в доме поднялась суматоха, означавшая, что дядя Сезар прибыл. Я сел за рояль и по своему обыкновению попробовал развлечь себя импровизацией. Но не успел я взять несколько аккордов, как услыхал приближение сложного шума, состоящего из топота многих людей, говора, приказаний. Это вверх по лестнице со двора несли дядю, несли его в кресле преданный камердинер Тимофей и кучер Ермолай. Позади шли мои кузины, миссис Кэв и семенила своими крошечными ножками Талябина. Дядя Сезар, исхудавший и изменившийся до неузнаваемости, сидел с ногами, покрытыми пледом, над головами других, и это прискорбное подобие триумфа медленно и осторожно продвигалось мимо меня в сторону кабинета. Не забуду никогда того взгляда, который дядя на миг остановил на мне, стараясь мне улыбнуться и произнося с необычайной для него нежностью слова: «Здравствуй, Шуренька». О, эта страдальческая улыбка не имела уже ничего общего с той, которая мне казалась надменной и которая чуть обижала меня. Это была бесконечно печальная улыбка человека, безвозвратно прощающегося с жизнью и сознающего тщету всего земного.
Дядю живым я уже больше не видал, а когда через две недели я снова пришел на Золотую улицу, то дом был полон народу. Но не пировать на сей раз пришли эти гости, а пришли они проститься с тем, кого уже не стало. Стояла жара, но не дивными ароматами был полон воздух, а зловещим духом тления, который не удавалось заглушить ни благовонными курениями, ни густыми облаками ладана.
Дети дяди Сезара, последовавшие за его гробом в Петербург, где состоялось погребение (если я не ошибаюсь, на Волковом кладбище, где были похоронены и отец и дед дяди Сезара), не пожелали затем возвращаться туда, где еще только что жизнь для них была такой радужной и прелестной. Но хозяйственная Талябина не могла перенести, что даром пропадут сокровища знаменитого огорода, и помня, что я был лакомкой, любил малину и черную смородину, она распорядилась, чтобы хотя бы я мог воспользоваться этой роскошью. Вот мы, т. е. я и мой закадычный друг Володя Кинд, запасшись огромной корзиной, отправились на Золотую улицу, а через два часа работы на огороде дяди Сезара покинули его, столь нагруженные всякими плодами, что пришлось взять извозчика, чтобы добраться до дому, ибо ноша показалась не по силам. Таким образом я в последний раз побывал на моем любимом огороде, но уже в качестве форменного грабителя. В последний же раз я увидал то пространство, что некогда было занято дядиным огородом, в 1924 году, когда я приехал в Петергоф для отбора картин из дворцов, достойных попасть в Эрмитаж. За все истекшие годы я много бывал в Петергофе и даже прожил в нем целых три лета, однако всегда избегал заглядывать на Золотую улицу; тут же меня одолело искушение взглянуть на место детских моих радостей. Лучше было бы этому соблазну не поддаваться. Картина, представшая передо мной, оказалась прямо-таки трагической. То место, что было отведено под Кавосский огород, расстилалось во всю ширь и во всю длину, но ни малейших следов прежних бесчисленных грядок с их чудесными произрастаниями не осталось, и все поросло высокой сорной травой. Самой дачи тоже не существовало, ее еще в 1918 году сожгли расквартированные в ней красноармейцы.
Правда, курьезный павильон еще стоял, но, боже, в каком виде! Точно корабль, наскочивший на подводную скалу, здание раскололось пополам, и обе половины угрожающим образом накренились одна к другой, готовые каждую минуту окончательно рухнуть. Эта картина развала чего-то мне особенно дорогого была до того разительна, что подумалось, уже не заставила ли меня прийти сюда какая-то сила — нарочно, чтобы преподать особенно наглядный урок о тщете всего земного? Однако если это и было так, то урок пропал даром. Я по-прежнему остался верным поклонником прошлого, ревностным хранителем и собирателем старины.
Перед тем как покинуть этот зачарованный в моей памяти мир, мне хочется еще остановиться на нескольких обитателях дачи дяди Сезара. С одними из них я продолжал и впоследствии часто встречаться и общаться, другие же, напротив, после смерти дяди как-то сразу исчезли из моего кругозора навсегда. Всего страннее, что такое исчезновение произошло и с обеими моими подругами, с Инной и с Машей. Попав под бдительную и ревнивую опеку своей старшей сестры Сони, они и после целого года строжайшего траура редко затем появлялись на семейных собраниях, да, пожалуй, Маша — та и вовсе не выезжала. Инна вскоре затем вышла замуж за полковника Лашкевича, тогда как бедняжка Маша, болезненная, жалкая, почти совершенно оглохшая, не выдержала своего одиночества и угнетавшей ее тоски и, поселившись в Неаполе, отравилась серными спичками. Ей было в это время не более двадцати пяти лет. Ее самое я уже не видал, так как привезенный из-за границы гроб ее стоял в Сергиевской церкви закрытым.
Маша была маленького роста, худенькая, хрупкая, во всем своем облике необычайно трогательная. Очень подходило к этому облику то, что она писала стихи и некоторые из них, отличавшиеся, при всей своей наивности, неподдельным чувством, мне очень нравились. Поэтичная и столь трагично погибшая Маша Кавос не была при этом какой-либо взбалмошной истеричкой. Напротив, она была сама простота, и бывали дни, когда она была жизнерадостна, весела, и с нею чаще, чем с другими, случались приступы беспричинного безудержного смеха. Была она и страстной любительницей чтения. Чаще всего ее можно было видеть с книжкой в руках, но только, разумеется, в те годы, о которых я вспоминаю (ей было не больше 14–16 лет), не разрешалось барышням «хорошего круга» читать иное, нежели всякие скучные, нудные книги, английские и французские. Летом ее главной забавой был крокет, которому она отдавалась с неистовством. Только она да я могли заниматься этой тогда модной игрой часов по пяти подряд и доходить при этом до полного одурения. Страстно предавалась она и бегу на «гигантских шагах», единственному спортивному развлечению в те годы. Особенно любила Маша, чтобы ее «заносили», да и участники бега охотно производили с ней заноску, потому что легкая, как перышко, она взлетала выше всех и неслась по воздуху, как сильфида. Еще сближало меня с Машей ее поклонение скульптору Оберу, гостившему целыми месяцами у дяди на даче, во флигеле под мавритано-русским бельведером.
Об Обере речь будет впереди, он занимает в моей жизни и в моем художественном развитии исключительное место, но здесь я все же упомяну хотя бы об его способности смешить молодежь. Самые скучные дождливые дни проходили на Золотой улице, благодаря всяческим дурачествам милого Артюра, в бурно-веселом настроении. Обер ко всему находил какой-то остроумный, шутливый подход, и сам при этом первый веселился больше всех. Однажды вышла даже большая неловкость именно из-за нашей привычки вместе с Обером веселиться. Приехали к Кавосам с визитом две какие-то важные дамы, и Соня принимала их в гостиной с подобающей церемонностью, заставив и нас при этом присутствовать. И вот среди самых чинных скучнейших разговоров из угла, где мы сидели с Обером, раздалось сдавленное хихиканье, перешедшее сразу в самое неприличное прысканье, Маша же, задыхаясь от смеха, принуждена была даже убежать в другую комнату. И попало же нам тогда и от Сони, и от миссис Кэв, и от моей мамы. Соня решила даже сделать внушение Оберу, который был лет на двадцать старше ее и уже приобрел известность как выдающийся художник. Но Обер изобразил такое раскаяние, и это, в свою очередь, было до того комично, что и Соня не выдержала и рассмеялась.
Инна была самая миловидная из трех сестер. Она несколько походила на свою красавицу-мать, но было в ней что-то общее и с моей мамой. Я относился к ней как к сестре, но уже рано стал чувствовать и ее женственную прелесть. И в данном случае поговорка (про кузенов и кузин), которую я не раз слышал, оказалась правильной, и я стал испытывать эту правильность на самом себе в отношении Инны. Я как-то по-особому замирал, когда находился в ближайшем соседстве с ней и еще более, когда мог к ней прикоснуться. Это бывало, например, во время бега на гигантских шагах или во время игры в горелки, когда доходила до нас обоих очередь, убегая от «горящей», схватить друг друга и даже обняться. Наконец во время нашего пребывания в течение целого лета на даче дяди Сезара в 1881 году я уже почувствовал нечто вроде определенной влюбленности, и в моем ребяческом воображении стали рисоваться сцены очаровательного счастья в обществе Инны. Но роман этот, точнее, намек на роман не принял более определенных очертаний, а после смерти дяди мы и видаться с Инной стали редко, и никогда больше в той интимной обстановке, которая создавалась сожительством под одной кровлей. После ее замужества я не встречался с ней больше раза или двух в год, да и то только на каких-либо многолюдных сборищах, а там у Инны пошла размолвка с мужем, кончившаяся разводом и новым замужеством. Нашла ли Инна счастье со вторым мужем, из-за болезни которого она должна была жить годами в Швейцарии, я не знаю. Последний же раз я увидал свою подругу детства в 1916 году. Она неожиданно пришла посоветоваться со мной, стоит ли ее дочери заниматься искусством, нахожу ли я в ней талант. Она принесла с собой рисунки этой девушки, но я теперь не помню, что они представляли собой и каков был мой ответ и мой совет. Запомнился мне только несколько официальный тон Инны и то, что она обращалась ко мне на «вы». Несомненно, таких же прелестных воспоминаний о годах, прожитых вместе, у нее не сохранилось.
Кроме Маши и Инны, семья дяди Сезара состояла из старшей дочери Софьи и единственного сына Евгения. Если до сих пор я не говорил о них, то это не потому, что они не играли никаких ролей в доме, а потому что они для меня представлялись уже принадлежавшими к разряду «больших» и «старших». Впрочем, кузен Женя был само добродушие и благодушие; он был закадычным другом моих братьев Люди и Коли, разделял их спортивные увлечения, ко мне же он относился если не свысока, то с несомненным безразличием — ведь между нами была разница в десять или двенадцать лет. Ближе я с ним познакомился и лучше оценил его, когда из каких-то соображений меня на время поместили в его прелестную комнату, всю увешанную портретами знаменитых скаковых лошадей, и тогда на сон грядущий он стал меня удостаивать небольшими беседами. Мне нравилось при этом полное отсутствие в Жене покровительственного тона и его обращение со мной, мальчуганом одиннадцати лет, как с равным.
Напротив, главный недостаток кузины Сони в моих глазах заключался как раз в том, что она неизменно и недвусмысленно выражала свое какое-то превосходство над младшим поколением и что она даже позволяла себе делать нам замечания в довольно обидном тоне. Теперь, когда я смотрю на все это издалека, познав по долголетнему опыту жизнь со всеми ее требованиями, мне кажется, что Соня справлялась со своей ролью сестры, заменяющей мать при сиротах, с тактом, но в те дни я был мальчиком своевольным, до крайности избалованным и самолюбивым, и естественно должен был приходить в столкновение с теми, кому надлежало следить за порядком и ладом в доме. Хорошо воспитанная Соня никогда не выходила из себя, не вспыхивала раздражением и была очень ровна и очень спокойна. Но от нее исходили запреты, и она же с явной укоризной молчала, когда не могла не сердиться на мои проделки. Мне не нравился и вообще ее гордый вид, прищуренный взгляд ее близоруких глаз, ее манера держаться, выражавшая, как мне казалось, большое самодовольство. Особенно меня злило, когда она в элегантной амазонке и с цилиндром на голове галопировала на своем гнедом коне. Мне не нравился ее певучий, несколько томный, в нос, говор, больше же всего меня огорчали подарки, которые делала Соня на елку, но об этом будет рассказано в своем месте.
Жизненная судьба Софьи Цезаровны была в некоторых отношениях более счастлива, нежели судьба ее сестер. Она пользовалась отличным здоровьем и дожила до глубокой старости. Вышла Соня замуж согласно свободному выбору за известного в те времена врача Владимира Гавриловича Дехтерева, и ей удалось образовать в своем доме род литературно-художественного салона, в котором бывали всякие знаменитости, что несомненно льстило ее самолюбию. В ее нарядной гостиной, увешанной венецианскими зеркалами из палаццо дедушки и теми же портретами Беллоли, которые когда-то мне очень нравились в доме ее отца, я, например, слышал пение знаменитой Ферни Джермано и чтение стихов маститого Я. П. Полонского. Бок о бок с поэтами и художниками восседали на прелестных стульях, крытых белым шелком, знаменитости русской адвокатуры и разные политические деятели либерального толка. Дехтеревские дети, три мальчика, росли, как все «кавосята», прехорошенькими, и Софья Цезаровна ревностно следила за их образованием. Словом, со стороны глядя, все обстояло благополучно, — во всяком случае до того момента, когда она овдовела. Но была ли Соня и в самый свой цветущий период по-настоящему счастливой, познала ли она истинную радость жизни, в этом я сомневаюсь.
Трудно, например, себе представить, чтобы она, такая разборчивая и брезгливая, могла страстно и нежно любить этого громоздкого, неотесанного бородача, каким был ее супруг, напоминавший видом вагнеровских первобытных героев вроде Фафнера или Гундинга. Во всяком случае, вся наша родня относилась к этому «Гаврилычу» с иронией, и так же относились к нему мои друзья Дима Философов и Сережа Дягилев. У Философова, впрочем, были на то особые причины. В студенческие годы Дехтерев был один из деятельных ревнителей освободительного движения и даже «ходил в народ», сея среди мужиков семена того, что он и с ним несметные русские люди считали за самое доброе и святое. Он был в этой своей роли до того характерен, что удостоился даже быть изображенным в карикатурном виде в романе «Новь». Тургенев использовал при этом хвастливые признания самого Дехтерева, содержавшиеся в одном из его писем к Анне Павловне Философовой, пересланном этой музой русского либерализма великому писателю в порыве ее восторженного увлечения Дехтеревым. Дима же Философов никаких увлечений матери не разделял и, напротив, питал к таким дилетантам революции непреодолимое отвращение.
Последние мои встречи с кузиной Соней происходили уже в эмигрантской обстановке в Париже. От всей прежней роскоши не оставалось и воспоминания. Правда, ее старший сын имел обеспеченное положение в Лондоне, куда он и звал свою мать, но она предпочитала делить нужду со своим младшим сыном, безнадежным неудачником, в Париже, где этот несчастный и покончил с собой в 1938 году. После этого Софье Цезаровне не имело смысла дольше оставаться во Франции, она перебралась в Лондон и вскоре там умерла.
Не могу пройти молчанием еще тех лиц, которые, каждый по-своему, придавали известную характерность дому дяди Сезара. То была экономка Талябина, англичанка миссис Кэв, кучер Ермолай и лакей Тимофей. Мне уже потому хочется сказать о каждом из них несколько слов, что именно к каждому из них я имел особенно близкое касательство.
Самой замечательной фигурой из них была, бесспорно, не раз уже упомянутая Талябина, прозванная так моими братьями, когда они были детьми, но настоящее имя которой было Наталья Любимовна Гальнбек. Когда-то она состояла ключницей в нашем доме, но затем мама уступила ее своему брату, когда тот, внезапно овдовев, совершенно растерялся, — дом остался без хозяйки, дети без материнского присмотра. Талябина же представляла собой поистине образец надежности во всех смыслах. С раннего детства я помню ее крошечной старушкой, почти карлицей, со смятым, как печеное яблоко, розовым личиком и настолько сутулой, что она могла сойти за горбунью. На голове, почти лысой, она носила старомодную черную наколку, одета же она была всегда необычайно опрятно, но незатейливый фасон ее платьев восходил по крайней мере к 40-м годам. Зимний ее туалет состоял из короткой шелковой кофточки на пуговицах и шелковой юбки без шлейфа, и того же покроя была ее летняя одежда, но материал был ситцевый.
Несмотря на преклонные годы (Талябине было тогда уже за семьдесят) и на внешнюю хрупкость, Талябина никогда не болела и отличалась баснословной выносливостью и энергией. Без отдыха рыскала она своей бесшумной, семенящей походкой в мягких башмаках из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам, обнаруживая свой дар вездесущности, особенно на даче, где она как-то одновременно следила и за приготовлением еды на кухне, находившейся в подвале, и давала уроки музыки и немецкого языка, успевая посетить прачечную, сад и огород. При этом Талябина вставала с зарей, а ложилась позже всех, когда последний гость отбудет, а девочки подымутся к себе в верхние комнаты. И все это она производила безропотно, без охов и вздохов, почти весело. Говорила она шепотом, что, однако, вовсе не подрывало ее авторитета. Эту маленькую старушонку все не только уважали, но чуточку побаивались, — не исключая, пожалуй, даже самого строгого и важного дяди Сезара. Говорила эта природная немка почти всегда по-русски, но на таком странном жаргоне, что понимали ее только те, кто уже имел в этом опыт. Кроме занятий по хозяйству, присмотра за тем, чтобы весь порученный ей довольно сложный механизм работал без перебоев и задержек, Талябина успевала еще давать нам уроки немецкого языка и игры на фортепиано, и как раз к самым сладко-меланхолическим воспоминаниям о даче дяди Сезара принадлежат часы, которые я переживал за инструментом под перспективой Каналетто рядышком с неумолимо педантичной и изумительно терпеливой Талябиной. С механической точностью отсчитывала она шепотком такты и костлявой своей ручкой изредка стучала по крышке.
О, эти томные музыкальные заседания в жару, в дурмане цветочных запахов, в окружении жужжащих мух и пчел! Как я ненавидел эти уроки музыки тогда; моментами я принимался ненавидеть и свою неумолимую мучительницу. И как мне теперь подчас остро хочется очутиться на той скамеечке, на которой надлежало (с подкладыванием двух томов «Иллюстрированных лондонских новостей») сидеть за роялем. Увидать бы снова наяву освещенный зеленым отблеском деревьев зал, почувствовать и тот легкий, чуть кисленький запах, который шел от милой, чистенькой и усердной старушки, от незабвенной Талябины. Если я ее и мучил порядком, то все же из бесчисленных учительниц своих я именно ее больше других почитал…
У Талябины были и свои очень странные причуды. Так, она до маньячества берегла хозяйское добро, и из-за этой ее скупости возникали домашние драмы. Однажды она чуть было не отравила весь дом потому, что не пожелала заменить подгнившую от жары дыню свежей, тогда как чтобы купить эту свежую, надлежало сделать не более полсотни шагов до той знаменитой на весь Петергоф колониальной лавки, что стояла на конце Конногренадерского канала, напротив Золотой горы. Свежее масло также было редкостью на богатой даче дяди Сезара — все благодаря экономической диктатуре Талябины. Это не помешало мне, однако, объесться тартинками с совершенно прогоркшим маслом. Даже хлеб к утреннему кофе подавался совершенно черствый, а то и с мухами, запеченными в тесте, — это потому, что Талябина предпочитала покупать хлеб в какой-то захудалой булочной, в которой он стоил на грош дешевле, нежели у разносчиков, обслуживающих других дачников. Все эти чудачества Талябины если и не вызывали протесты, то прощались ей во имя ее «уж очень добрых намерений». При этом надо сказать, что сама она вела совершенно аскетический образ жизни и питалась, как птичка. В интимном кругу она восседала на верхнем конце стола и ей принадлежала прерогатива разливания супа, когда же в доме были гости, то она оставалась в буфетной, следя оттуда за порядком сервировки.
Кончила свою жизнь Талябина на службе у Инны, когда ей уже было под девяносто лет. Годы ее пребывания у дочерей дяди Сезара (после его смерти) омрачились всякими дрязгами между ней и миссис Кэв. Ненавидели эти особы друг друга от всего сердца, но пока был жив дядя, взаимная их неприязнь не дерзала проявляться наружу. Когда же девушки остались одни, то один домашний кризис следовал за другим. Что-то окончательно возмутительное произошло однажды из-за жареной корюшки («курошка», как выговаривала Талябина), которой что-то уж очень много наложила себе на тарелку англичанка. Драма эта через несколько недель осложнилась до того, что миссис Кэв предпочла покинуть дом. Однако и Талябина, недовольная тем, что ее своевременно недостаточно поддержали, не пожелала оставаться с Соней и Машей, а переселилась к «Иннушке». Рассказ про скандал с корюшкой с тех пор стал ее любимой темой, что до слез смешило Обера, который умел навести старушку на этот сюжет, продолжавший ее волновать даже тогда, когда и всякий след миссис Кэв в Петербурге простыл…
Должен сознаться, что я при всей моей нежности к крошечной Талябине не менее ценил и любил этого самого ее врага — англичанку. Впрочем, эта англичанка не была чистокровной британкой, а попала она в Европу из Бостона, к тому же при весьма странных и романтических обстоятельствах. Ее муж, англичанин, но родом из России, скончался в молодых годах и перед смертью высказал пожелание быть похороненным на родине. Исполнение такой воли было в сущности немыслимо, но сознание своего вдовьего долга помогло миссис Кэв добиться своего и, истратив на подкуп нескольких лиц из пароходной прислуги массу денег, она сумела-таки перевезти труп через океан в качестве своего багажа. Оставшись по совершении такого подвига совсем без средств, она перебралась в Петербург, где благодаря знакомству с моим зятем она и попала в семью дяди Сезара. Это плаванье через море в обществе покойника придавало миссис Кэв в наших глазах романтический ореол, а ее фанатическая преданность католической церкви служила в глазах моего дяди ручательством ее моральных качеств, что, однако, не помешало ему поставить одним из главных условий требование, чтобы она отнюдь не пыталась воздействовать на религиозные взгляды порученных ее воспитанию девушек. Дядя Сезар так же, как и его брат Константин Альбертович, был убежденным вольнодумцем (свободомыслящим), и если он не мешал детям посещать церковь (по матери они были православными), то все же строго следил за тем, чтобы никаким излишествам религиозного характера они не предавались. Доверие, которое оказал миссис Кэв дядя Сезар, она постаралась оправдать вполне, но, в сущности, она и не старалась, ибо у нее все естественно выходило мягко и тактично. Дама она была уже немолодая, некрасивая, с горбатым римским носом, выдержки образцовой и в то же время очень сердечная. Не будь ее глупейших распрей с Талябиной, никто из нас не узнал бы, что она вообще может питать недобрые чувства.
Уже до того, что я стал пользоваться обществом миссис Кэв и практикой с ней английского языка, я кое-что понимал и читал по-английски, но я почти не говорил по-английски. Напротив, проведя летние месяцы 1879, 1880 и 1881 гг. на даче дяди Сезара, я приобрел в общении с миссис Кэв такую беглость в изложении своих мыслей по-английски, что не только мог участвовать в беседах, ведшихся на этом языке, но мог и писать по-английски письма как моим кузинам, так и той же гувернантке, письма, приводившие эту добрую даму в восхищение. «My sweet Shoura, you are such a clever boy», — писала она мне в ответ. Но нужно прибавить, что никто так не умел завести разговор и не давать ему иссякнуть, как именно миссис Кэв. Говорила она отчетливо, не слишком скоро и без тех вульгарных гримас, которые сейчас в моде у американцев даже хорошего общества. Американизм в ее произношении сказывался только в своеобразном произношении некоторых слов и что th она, к великому негодованию Матвея Яковлевича, выговаривала почти как «д». Но она сама каялась в дефектах своего произношения и следила, чтобы мы их не перенимали. Что же касается стиля ее изложения, то он не был лишен известной живописности, а юмор ее так и искрился. Вообще миссис Кэв вовсе не напоминала классических чопорных, сухих гувернанток, а потому все дети, попадавшие в ее круг, быстро привязывались к ней, да и она несла свою подчас не очень легкую службу не как обузу, а как бы своего рода светское развлечение.
Самые книжки, которые она читала нам или давала читать, были всегда очень милые, забавные и не страдали той шаблонной приторностью, которая часто портит детскую литературу. Но почему-то она недолюбливала Диккенса, да и вообще предпочитала американских авторов. Иные, и как раз очень страшные, рассказы Эдгара По я узнал из ее живых, несколько измененных пересказов, но о том, что это были именно произведения По, я не имел понятия. Иной такой рассказ длился часами, и в осеннюю пору, когда в наступившей на дворе тьме бушевал ветер и по окнам хлестал дождь, эти повествования приобретали особую силу. Подчас нам становилось до того жутко, что никто не решался один пройти хотя бы в соседнюю комнату. Я и заснуть после таких рассказов не мог иначе как при непременном условии, чтобы дверь моей комнаты оставалась открытой в смежную спальню Инны и Маши. И уже лежа в своих постелях, мы перекликались, отчасти чтобы придать друг другу смелости, отчасти чтобы вспомнить еще какую-либо подробность. Со строго педагогической точки зрения такая система должна казаться предосудительной, но… для практики английского языка она приносила несравнимую пользу.
После смерти дяди Сезара миссис Кэв недолго жила с моими кузинами, и это несмотря на всю их любовь к ней. Не только одни недоразумения с Талябиной заставили ее покинуть их дом. Уступая необоримому влечению, она переселилась в Лурд, откуда первое время она нам писала довольно часто, приглашая и нас приехать, чтобы убедиться, какие чудеса творит вера и в наши дни. Собраться мы не собрались, но случилось так, что однажды миссис Кэв, живя в Лурде, оказала нашей семье некоторую услугу. А именно, через нее были наведены справки о тех испанских корреспондентах, которые в письмах к моей сестре Кате неожиданно объявили себя представителями каких-то родственников Лансере, оставивших после себя миллионное наследство. Надлежало только выслать известную сумму денег для некоторых формальностей, причем надлежало хранить все это в абсолютной тайне. Моя сестра попалась на эту приманку и переслала по сообщенному адресу какого-то священника несколько довольно крупных взносов. Когда же никаких миллионов из Испании в ответ не прибыло, не прибыла и та «сиротка-племянница», воспитанием которой должна была заняться моя сестра, то у нас зародилось подозрение, не кроется ли под всем этим мошенничество. Об этих подозрениях мы сообщили миссис Кэв, она же потрудилась поехать в Мадрид и по наведенным там справкам выяснилось, что наша бедняжка Катенька сделалась жертвой самой банальной и прямо даже классической проделки, известной под техническим названием «испанское наследство». С течением времени письма от миссис Кэв стали приходить реже, они все более пропитывались специфическим лурдским духом, не встречавшим в нас живого отклика, и наконец переписка с ней прекратилась вовсе.
Третьим из второстепенных персонажей в доме дяди Сезара мне хочется назвать кучера Ермолая. Пусть тени Талябины и миссис Кэв не оскорбятся соседством с таким мужиком, но так оно сложилось в моей памяти, на что имеются и настоящие основания. Стоит мне заглянуть в эту часть милого прошлого, как тотчас предо мной выступают топчущаяся по комнатам старушка Талябина или восседающая на веранде миссис или, наконец, расхаживающая по двору богатырская фигура Ермолая Ивановича.
Ермолай не был заурядным «бонмезонным» (т. е. из хорошего дома) кучером, а был настоящей знаменитостью, красой и гордостью всего Петергофа. Недаром императорская придворная конюшенная часть подсылала к нему вербовщиков и пробовала его переманить на царскую службу, суля ему даже честь возить самого царя-батюшку. Ермолаю больше нравилось состоять при особе «Кесаря Альбертовича». Да и относились к нему все в доме с каким-то особенным почтением, вроде того как, скажем, меломаны относятся к исключительным артистам. Зная себе цену, он благосклонно принимал поклонение и все же никогда не задирал носа и был всегда любезен и почтителен. Лишь изредка (раза два в лето) Ермолай напивался до беспамятства и тогда уже не показывался, а валялся у себя в квартире под бельведером, охраняемый своей Акулиной.
В описываемые годы Ермолаю было лет сорок; росту он был большого, сложения могучего, с широкой, вечно улыбающейся физиономией, с черной окладистой бородой и с такими же маслом помазанными и под скобку остриженными волосами. Операцию этой стрижки производила сама его супруга, для чего клался на голову горшок из-под каши, по краю которого она и обрезала торчащие волосы. Богатырь при этом сидел не шелохнувшись, жмурясь от блаженства. Было, впрочем, в Ермолае два человека. Один был домашний или, так сказать, закулисный, «без грима и костюма», и это был видный, но все же довольно обыкновенный мужик в бархатной жилетке, из-под которой торчали рукава розовой рубашки. Этот Ермолай не гнушался того, чтобы скрести и чесать лошадей, мыть с помощью конюха экипажи и сбрую, убирать солому в стойлах. Этот же Ермолай препотешно беседовал с лошадьми, поругивал или похваливал их. Походка у него была вовсе неважная, чуть вразвалку, а когда он выпивал лишнее, то становилась она и вовсе валкой, ковыляющей. С видом крайнего смущения и полной покорности Ермолай выслушивал выговоры и распеканции Талябины за какую-либо провинность, и странно было видеть ее крошечную фигурку перед этим стоящим в согбенной позе исполином.
Но был и другой Ермолай — не простой смертный, а существо высшего порядка, удивительно раздававшийся в своем объеме благодаря подложенным под его армяк подушкам, что, однако, не мешало ему с изумительной легкостью взбираться на высокие козла. Да и подвластные ему лошади при одном легком шлепке вожжей, сжатых в белых перчатках этого сверхчеловека, превращались из обыкновенных тварей в картиноподобных коней; они поводили ушами, крутили шеями и прелестно пританцовывали, исполняясь ретивого настроения. И повезет такой полубог свою колесницу с господами на «музыку», где надлежало стать в ряд с другими экипажами, а то покатит он их в «Рамбов», как называл он Ораниенбаум, или по Английскому парку. И выходило, что настоящий господин или герой именно он, а те, что сидели за его спиной в открытом ландо, вроде как бы только его подручные. Хорошо было катить под ритм дружно и ровно цокающих копыт. А захочет Ермолай показать удаль, то слегка только причмокнет или вполголоса крикнет, и уже мчимся мы вихрем, обгоняя всех, и даже великокняжеские экипажи, что, в сущности, не полагалось. В 1881 году, в первое лето после воцарения Александра III, чуть ли не на каждом перекрестке парка были расставлены конвойные казаки, и вот завидит такой конный часовой нашу коляску и приготовится к тому, чтобы отдать честь, принимая сидящих в ней за августейших особ. Нас эти ошибки очень забавляли, особенно льстило моему ребяческому тщеславию, что меня (все благодаря Ермолаю) принимают за государя-наследника. С подобающей величаво-милостивой улыбкой и я кивал опешившему казаку, старавшемуся справиться с приплясывающим конем и приложить руку к папахе.
И что же, этот колосс, этот полубог оказался более хрупким, нежели карлица Талябина. Не прошло и десяти лет с этих наших торжественных выездов, как Ермолая отвезли на кладбище. Уже кончина любимого барина его потрясла в чрезвычайной степени, а через год наследники объявили ему, что они больше не нуждаются в его услугах. Барышни Кавос сочли благоразумным избавиться от лишнего штата, дабы получить возможность когда вздумается уехать за границу, а Евгений Цезаревич — тот вообще не был охотником до помпы, а к тому же, женившись, и он отбыл в чужие края, где, по своей беспечности, сильно порастряс отцовское наследство. К чему тут было держать такое чудо-юдо? Ермолай с горя запил, а там, глядишь, у этого геркулеса обнаружилась чахотка, превратившая его через несколько месяцев в жалкую тень.
С Ермолаем никак не мог тягаться бледный, испитой, худенький камердинер дяди Сезара Тимофей, но и ему мне хочется посвятить хоть несколько слов, не лишенных доли благодарности. Я очень ценил этого тихого, услужливого, богобоязненного человека с грустным, несколько стертым лицом. Бог не одарил его ни выгодной наружностью, ни какими-либо особыми, приличествующими его роду деятельности талантами; его способности не шли далее толкового служения за столом, образцовой чистки сапог и платьев, содержания всего барского имущества в порядке. Но все, что делал Тимофей, было полно чего-то достойного и успокоительного. Он презирал суету и излишнее усердие, В нем было много и других качеств, много здравого смысла. С ним приятно и полезно было поговорить. Он и на чаи брал без всякой униженности, благодаря за них как подобает человеку, их заслужившему. Если Ермолая я охотнее всего представляю себе восседающим олимпийцем на козлах, то Тимофея вижу склоняющимся в утренний час надо мной со словами: «Пора вставать, Шуренька, уже все за кофием сидят». Он же с ласковой улыбкой предлагал мне вторично отведать какого-либо любимого блюда, вроде ракового супа или пудинга под соусом. Тимофей еще долго оставался при моих кузинах. В этом тщедушном и печальном человеке оказалось больше жизненных сил, нежели в его веселом и великолепном сослуживце.
ГЛАВА 21 Дядя Костя Кавос
Перечитывая свой рассказ о дяде Сезаре, я замечаю, что очень мало говорю о нем самом. Но это объясняется тем, что он скончался, когда мне было всего тринадцать лет и когда, в сущности, он как-то проходил на горизонте всего того, из чего составлялась моя жизнь. Кроме того, в течение даже тех месяцев, которые мы проводили у него на даче, он подолгу отсутствовал, уезжая летом за границу. Напротив, о дяде Косте, о нем самом я имею рассказать гораздо больше, так как он вполне вошел в мою жизнь, и, повзрослев, я мог в течение нескольких лет лучше изучить его, оценить и полюбить. Но характеристика и его не будет каким-либо всесторонним исследованием, а передает лишь мои отроческие и юношеские впечатления о нем.
Константин Альбертович Кавос был вторым братом моей матери, года на два старше ее. Молодым я его уже не застал, помню же я его с самого раннего детства и до его кончины в 1890 году все в одинаковом, не менявшемся облике маленького сухонького господина с длинным прямым носом, с черными короткими усами на бритом лице и с черной без проседи волной хорошо приглаженных волос. Он не был щеголем, вроде своего брата Сезара, он скорее предпочитал придавать своей наружности некоторую стушеванность, но он все же всегда был одет безукоризненно. Только воротничок рубашки он повязывал черным бантом на манер Лавальер, и одна эта деталь придавала ему некоторый оттенок «художественности». Кроме того, от него всегда пахло утонченными духами, что было редкостью среди мужчин. Держался он несколько сутуловато, ходил же дядя Костя удивительно размеренной походкой, ступая вывернутыми наружу носками. Была у него и своеобразная манера здороваться с меньшей братией и сестрой. Он подавал нам «на французский манер» левую, а не правую руку и одновременно подставлял свою гладкую выбритую щеку для поцелуя. Однажды, лет восьми, я позволил себе при этом довольно безвкусную шутку. Вместо того, чтобы поцеловать щеку дяди, я ему тоже подставил свою, и обе щеки стукнулись. Дядя только усмехнулся, но долгое время после того он, здороваясь, отстранял меня рукой на значительную дистанцию, не допускавшую совершения ритуала, что я принимал не без огорчения и обиды.
Вообще я дяди Кости чуточку чуждался, но совершенно в другом роде, нежели я чуждался дяди Сезара. Дядю Сезара я по-настоящему боялся, а порою, обижаясь на его замечания, принимался даже его ненавидеть. Дядя Костя не переставал быть для меня милым дядей, и я питал к нему известную нежность, но эти чувства я хранил про себя и с такой примесью почтения, которое исключало всякую пламенность. Позже, в отроческие годы, я даже вздумал во многом подражать дяде Косте; заговорил его размеренной речью, начал выступать, выворачивая носки. Глупее же всего то, что, подражая ему, я стал горбиться. Мою сутуловатость следует в значительной мере приписать такой имитации импонировавшего мне образца — ведь вообще зачастую в аналогичных случаях «атавистические побуждения» руководят детьми. Воображая, что во мне больше кавосских элементов, нежели унаследованных от семьи Бенуа, я именно в дяде Косте видел квинтэссенцию «кавосизма», и именно это меня пленило.
По месту своей службы дядя Костя считался «дипломатом», но я должен это слово поставить в кавычки потому, что в сущности он был просто чиновником министерства иностранных дел, где, впрочем, он дослужился до чина тайного советника и до Аннинской ленты через плечо, чисто же дипломатических миссий он не получал, но, состоя в продолжение многих лет присяжным переводчиком и будучи посвящаем в иные и очень сокровенные тайны международных отношений, он и сам носил на себе отпечаток чего-то таинственного, почти заговорщического, что вообще подходило к дипломатическому стилю тех дней. Дядя Костя и шутил и смеялся так, как тому учила школа Меттернихов и Горчаковых, — всегда с каким-то загадочным видом, давая почувствовать, что за тем, что сказано, кроется более значительный смысл. Смеялся он не громко, а как-то про себя, чуть хмыкая и лукаво при этом оглядываясь, как будто он остерегался, чтобы его слов или его смеха кто-нибудь не подслушал. Смеялся он, впрочем, редко, зато улыбался часто и опять-таки с видом, что под улыбкой следует подразумевать нечто колючее, язвительное. Эта вольтеровская улыбка имела свойство особенно раздражать его брата Михаила Альбертовича, убежденнейшего либерала и гуманнейшего идеалиста. Сам же дядя Костя исповедовал взгляды, приличествующие взглядам государственного человека. В людскую доброту и добродетель он абсолютно не верил, в международных дружбах усматривал один материальный интерес, во внутренних мероприятиях стоял за крутые меры. Он был усердным читателем «Голоса» и «Нового времени». Иные грубые, но талантливые фельетоны и пасквильные пародии Буренина доставляли ему особенное удовольствие. Среди же исторических фигур он особенно почитал Тьера, Бисмарка, питая некоторую слабость и к Наполеону III.
Как почти все в нашей семье, дядя Костя был завзятым западником, тогда как ко всему характерно русскому он относился скорее пренебрежительно, а подчас и с нескрываемым презрением. Русское государство он чтил, русскую культуру готов был терпеть, но «русский стиль» он ненавидел, будь то в обыкновенном быту, в произведениях искусства или в проявлениях государственной власти.
Так, мягкосердечие, растерянность и непостоянство Александра II были ему противны. Всякая расхлябанность, несдержанность в чувствах, способствующая созреванию опасных непоследовательностей в людях, стоящих у власти, он клеймил как особенно тяжкие грехи. «Корсет» моральный и политический казался ему первым условием человеческого благополучия. Впрочем, он не столько заботился о благополучии, сколько о порядке, о порядочности, о джентльменской выправке, о возможности сосуществования отдельных людей и целых народностей благодаря взаимной корректности и хотя бы фикции взаимного уважения.
В русском театре дядя Костя бывал в исключительных случаях, и тогда умел оценивать отдельные таланты и «сочность» всего ансамбля, не впадая при этом в какой-то патриотический преувеличенный восторг, вообще же русскому театру он безусловно предпочитал иностранный. Во французском (Михайловском) театре у него была абонементная ложа, и, несмотря на занятость, он пропускал редкий спектакль, тонко разбираясь в достоинствах и недостатках исполнителей; о самих же драматических произведениях он обыкновенно не высказывал суждений; мне кажется даже, это его как-то мало касалось. Театр был для него тем, что для другого бывает спорт и чем для него же самого служила карточная игра, — каким-то развлечением и отдохновением. Он был особенно силен в винте, которому он посвящал в Английском клубе несколько вечеров в неделю. Вообще Константин Альбертович находил удовольствие в том, когда комбинация слов, положений, чувств (да, пожалуй, и взаимоотношения звуков и красок) складывалась в стройный порядок. Всякое нарушение его, всякое столкновение, всякий неразрешенный диссонанс вызывали в нем досаду, а иногда и гнев.
В его гневности, в его горячности, не так уже редко прорывавшихся наружу через весь меттерниховский и талейрановский стиль, сказывалась итальянская основа его характера. Я, впрочем, не думаю, чтобы такие прорывы происходили у него на службе или на заседаниях тех банков и компаний, в которых он был директором или членом правления. Зато довольно часто эти взрывы получались за семейными обедами, когда после супа появлялся вечно опаздывавший его (единокровный) брат, дядя Миша Кавос, и «в порядке дня» ставилась какая-либо животрепещущая тема, часто им самим припасенная специально для этого момента. Пока дядя Миша догонял других и молча ел традиционную минестру аль ризо, дядя Костя только лукаво взглядывал на него, пряча за пазуху острие своего оружия, но уже за рыбой перчатка оказывалась брошенной и подхваченной. Впрочем, не всегда спор зажигался сразу: иногда он разгорался со значительным запозданием, но и в таких случаях атмосфера семейного симпозиума насыщалась особенным электричеством, которое затем разражалось настоящей, не лишенной патетичности грозой. Перепалка между дядьями достигала высшей напряженности за десертом, и уже оба антагониста с яростью кричали друг на друга, причем моя мама то и дело в ужасе восклицала: «Костя, не горячись, тебе это вредно».
Особенно запомнился мне тот жестокий спор, что возник по поводу национальных похорон, устроенных в Париже Виктору Гюго (1885). Дядя Костя не находил слов, чтобы клеймить такое «безвкусное преувеличение, ту нелепую (в его освещении) эффектность», с которыми Франция почтила своего великого человека. Впрочем, он лично не любил Гюго, а памфлет его по адресу «Наполеона маленького» он прямо считал гнусным поклепом. Напротив, дядя Миша почитал Виктора Гюго и всю его, пусть и напыщенную, но все же вдохновенную проповедь свободы, душевного благородства и т. д. Поэтому та грандиозная церемония, в которой Франция решила выразить свое благодарное и благоговейное поклонение, представилась ему вполне естественной и заслуженной. Мне, впрочем, казалось тогда, что они оба правы поочередно, и именно с этого спора я как-то по-особенному полюбил слушать обоих. Меня восхищала их темпераментность, то самое, что жило во мне и просилось наружу. Нравился мне и специфически итальянский характер таких турниров.
Дядя Костя, имевший в себе одну итальянскую кровь, без примеси иной, если и не произносил никаких панегирик в честь Италии и, в частности, итальянского искусства, то все же стоял на страже того, чтобы «его Италию» не задевали и не оскорбляли. Напротив, возможно, что в дяде Мише говорила значительная примесь русской крови и немного немецкой (так как мать бабушки была немка), и благодаря этому он не только не выступал паладином Италии и всего итальянского, а был склонен разделять общее тогдашнее мнение о безнадежном упадке этой страны. И на подобные темы была истрачена обоими братьями баснословная масса пламенности, в особенности когда дело касалось итальянской музыки и итальянской оперы. Но тут однажды произошел и инцидент, очень неожиданно прервавший спор. Бабушка Ксения Ивановна, возмущенная в своем итальянском патриотизме (несмотря на то, что в ней не было и капли итальянской крови), швырнула через весь стол салфеткой в своего сына, приняв со всей ей присущей пылкостью сторону своего пасынка, причем она свой жест сопроводила на самый российский манер возгласом: «Молчи, дурак». Дядя Миша тогда очень обиделся на мать, и, вероятно, дома у них последовало объяснение по всем статьям, но самый спор был вмиг прекращен и уже в тот вечер не возобновлялся.
Эта бестактная выходка бабушки очень огорчила и моих родителей. Вообще же ни тот ни другой из них в обеденных спорах участия не принимали, разве только иногда один из спорщиков обратится к папе по поводу какого-либо вопроса как к авторитетному специалисту. Но и подобные заключения отца, высказываемые в его обычном мягком тоне, выслушивались без особенного внимания, так как противники спешили вернуться на поле брани. Папочка не успевал сообщить требовавшуюся справку, как уже оба они, стуча пальцами по скатерти и стараясь перекричать друг друга, с прежней яростью возобновляли свои доказательства. В этих же спорах обоих дядьев принимали иногда деятельное участие мой зять Женя Лансере и его закадычный друг Зозо Россоловский. Кузен Сережа также получил право голоса, но лишь после того, как он окончил «Правоведение».
Рано овдовев, дядя Костя поручил воспитание единственной дочери Ольги своей свояченице Екатерине Анжеловне Кампиони. Эта дама, хоть и носила итальянскую фамилию, однако принадлежала к совершенно обрусевшей семье, к тому же исповедовавшей православие. Тетя Катя Кампиони была маленькая, смуглая, очень некрасивая женщина, с некоторыми замашками благожелательной важности. Улыбка не сходила с ее сжатых губ, а руки были всегда скрещены на животе под удивительно мягким и теплым оренбургским платком. Все это вместе придавало тете Кате приятную уютность. Лучшими месяцами своего существования она почитала те, что проводила на водах, преимущественно в Киссингене и в Мариенбаде, где она сводила весьма лестные знакомства и где она, несмотря на некоторую щекотливость своего положения, могла сходить за барыню неоспоримо лучшего тона. В Петербурге она вела замкнутый образ жизни, но замкнутость эта не носила какого-либо предосудительного характера.
Правда, ни для кого не было тайной, что тетю Катю с дядей Костей связывают не одни только отношения, получившиеся вследствие того, что она заменила Оле ее покойную мать, но эта узурпация произошла так давно, сожительство этих двух уже далеко не молодых людей носило столь корректный характер, что никому не приходило в голову их за это упрекать. Только как раз со стороны дочери дяди иной раз возникали довольно гневные упреки, переходившие в бурные объяснения. Но эти скандалы бывали только в первые годы после выхода Ольги из института, да и они происходили в самой строгой интимности, я же узнавал о них потому, что обе стороны обращались затем к моей маме, которой удавалось мирить отца с дочерью и заставить последнюю идти с повинной к воспитавшей ее, не без труда и некоторых жертв, тетушке. Вообще же тетя Катя участвовала в общей нашей семейной жизни на самых почетных началах. И папа и мама относились к ней с такой же лаской, с какой они относились к прочим близким родным. Впоследствии тетя Катя сделалась почти нашей ежевечерней гостьей, — благо для этого стоило ей перейти площадку парадной лестницы, на которую выходили двери наших квартир.
Вообще полное сближение обеих семей стало возможным с тех пор, как дядя Костя переселился в наш дом. До этого он занимал казенную квартиру в доме министерства иностранных дел на Большой Морской. Эта квартира была в верхнем этаже, выходила окнами во двор и не была особенно привлекательной. В моем детском представлении она уже и вовсе не казалась парадной потому, что у мамы, в ее частых посещениях брата и тети Кати, выработалась довольно странная привычка: мы попадали туда не через парадный вход, а через наполненную чадом кухню, где хозяйничала толстенная и малоаппетитная кухарка Васильевна. Каким образом могла сложиться в те совершенно нормальные времена такая ненормальная привычка, я не сумею объяснить, возможно, однако, что тут действовала просто всегдашняя деликатность мамочки, нежелание заставлять эту самую Васильевну (других прислуг в те времена у дяди не было) бежать на своих распухших ногах по длинному коридору к парадной двери, о существовании которой я даже и не подозревал. Ход же через кухню, по моим понятиям, означал некоторое убожество, и именно впечатление какого-то убожества я и выносил из моих посещений дяди Кости, несмотря на то, что комнаты у него были увешаны картинами и уставлены вовсе не бедной мебелью. Вследствие того же у меня в те времена образовалось отношение к дяде вроде как бы к бедному родственнику.
Надо прибавить, что в этом обиталище дяди Кости царила (для меня в особенности) убийственная скука. Ведь кузина Оля, воспитывавшаяся в Смольном институте, никогда, кроме как на рождественские праздники, не приезжала домой, и мне приходилось коротать целые часы в обществе мамы и тетушки. Мама брала меня с собой специально для прогулки, чтобы я подышал свежим воздухом, а я в данном случае повиновался и шел безропотно, так как путь наш лежал через Морскую, а там меня притягивала огромная роскошная витрина магазина Кумберга (типа позднейших универсальных магазинов) и еще более то, что было выставлено насупротив в низеньких окнах «Иностранного магазина», где всегда на прельщение младшего поколения бывали расставлены оловянные солдатики и всевозможные игрушки — сущий рай для детей.
Насладившись лицезрением этих чудес, надлежало затем лезть на четвертый этаж по довольно темной лестнице с тем, чтобы попасть в объятия толстухи Васильевны, неистово принимавшейся меня чмокать в обе щеки, что я ненавидел пуще всего, а там, вслед за этим обрядом, приходилось провести в томительном бездействии часа два, пока обе дамы не переберут все интересующие их темы (самого дяди Кости при этих дневных посещениях не бывало дома, так как он находился на службе). Меня несколько притягивал письменный стол в кабинете дяди, весь уставленный бронзовыми статуэтками, среди которых особенно меня пленяли два пресс-папье с изображениями Петра Великого — одно из них в миниатюрном воспроизведении знаменитого памятника Фальконета, другое, изображавшее Петра, спасающего гибнущих на Ладожском озере. Однако мне строго было запрещено до чего-либо дотрагиваться или что-либо сдвигать с места…
И вот однажды, именно в этой скучнейшей квартире дяди Кости, передо мною открылся целый неведомый мир. Меня уже давно интриговал деревянный ящик с двумя круглыми стеклышками на покатой крышке, что стоял в столовой перед окном. Однако тетя Катя Кампиони каждый раз, когда я спрашивал, что это такое, отводила мое любопытство разными предлогами, — она, видимо, опасалась, как бы я, не дай Бог, не попортил этой вещи. Но однажды, желая от меня отвязаться и меня чем-либо занять, она посадила меня на высокий стул перед ящиком и пригласила взглянуть через стеклышки вовнутрь ящика. И тут-то я мгновенно застыл от восторга. Предо мной на зеленом кресле, свернувшись калачиком, покоилась чудесная киска. Она спала сладчайшим безмятежным сном. Каждый волосок ее серого, с очаровательной правильностью разрисованного меха отделялся один от другого, составляя все же в целом одну сплошную, восхитительно заманчивую поверхность, а под носиком киски торчали, как тончайшие хрустальные прутики, длинные усы. Один вид зажмуренных глаз говорил о тех роскошных сновидениях, которыми упивался этот очаровательный Васька и которые вызывали на его сомкнутых устах род блаженной улыбки.
Вообще всякий представитель и всякая представительница кошачьей породы вызывали (да и по сей день вызывают) во мне своеобразный восторг, а тут этот кот был тем более пленителен, что он был недоступен, что его нельзя было погладить и разбудить, что он имел в себе что-то сказочно зачарованное. Вот лежит тут под носом, спит, чуть что не дышит, а все же это только так кажется и, если захочешь тронуть, то под рукой окажется одна лишь наклеенная на картон бумажка-фотография. Самое замечательное, что мой восторг от этого единственного в своем роде кошачьего портрета не остыл до самого сегодняшнего дня. Благодаря щедрости моего брата Михаила, унаследовавшего многое из имущества дяди Кости, я впоследствии стал обладателем этой спящей киски, снятой и отпечатанной еще в те дни, когда Францией правил Наполеон III. Эту картинку я захватил с собою в эмиграцию, и она до сих пор тешит меня иногда своим олицетворением блаженного покоя.
Но, кроме кота, волшебная коробка дяди Кости содержала массу интересного. Тетя Катя научила, как нужно медленно вертеть ручку, вставленную в бок коробки, чтобы перед взорами проходили всевозможные изображения. Вслед за котом я увидел и чужеземные города — Париж, Рим, родную Венецию, пальмы Египта и льды глетчеров — чего-чего только не оказалось в этом удивительном ящике. Наглядевшись досыта одной картинкой, я вертел ручкой, и тогда картинка проваливалась куда-то в неведомое, а вместо нее возникала откуда-то другая. Пока новый сюжет был только в пути, он казался плоским куском картона с двумя одинаковыми изображениями, а когда он вставал на нужное место, то обе эти картинки вдруг сливались в одну, и тут возникали передо мной не картинки, а сущая правда. Именно эта правдивость доставляла мне, безотносительно к сюжету и в силу одной своей чудесной иллюзорности, неописуемое наслаждение. Теперь я уже не докучал маме и тете все учащавшимися вопросами: «Когда же мы пойдем домой?» — я оставался час и более в молчаливом оцепенении, не уставая разглядывать то обледенелые стенки ходов, проделанных в снежных завалах, то какую-либо тирольскую деревушку, каждый домик которой делился и лепился с удивительной отчетливостью. Одна из картинок изображала накрытый для чаепития стол, за которым сидели дети. Приятная дама с гладкой прической, вроде тех, которые еще носили тогда дамы постарше, грозила пальцем девочке, вылито похожей на одну из моих кузин, тогда как другая с видимым наслаждением опрокидывала чашку в рот; третья девочка в чем-то провинилась — и в наказание ее поставили к стенке в смешном колпаке на голове. Еще одна картинка мне полюбилась чрезвычайно. Она изображала столь значительный в детской жизни момент укладывания спать. В слабо освещенной, уставленной кроватями комнате мама наблюдала за тем, чтобы ее дочки отдали перед спаньем известную дань природе; одна уже сидела на горшочке, другая, постарше, в ожидании своей очереди стояла рядом, подобрав юбки. Все это мне казалось выхваченным из нашей же жизни, причем, разумеется, ничего предосудительного мне в голову не могло прийти — до того все было здесь знакомо и обыденно.
Были среди огромной коллекции стереоскопических карточек дяди Кости и довольно пикантные сюжеты. Для взрослых, для понимающих, они, пожалуй, представляли собой известный соблазн, но мне, не понимающему, они тогда казались просто более скучными, чем другие. Почти все они изображали дам не очень привлекательных, с лицами очень обыденными. Эти дамы то отдыхали на диване, то читали книжку, то причесывались перед зеркалом, причем каждый раз оголены были руки, плечи, грудь, а из-под высоко задравшейся юбки виднелись ноги в белых чулках и прюнелевых башмачках. Это было типичное «парижское изделие» — товар, который привозили с собой и очень солидные люди, вроде дяди Кости, в память о веселых днях, прожитых на берегах Сены, или хотя бы рассказов об этих днях.
Много-много раз я видел все те же картинки, которые когда-то были вставлены в стереоскопический аппарат и с тех пор не менялись; я не подозревал, что данная серия может быть заменена другими изображениями, что у дяди припрятаны еще целые массы их. Но как-то раз меня ожидал сюрприз, — все картинки в аппарате оказались невиданными, и тогда тетя Катя открыла секрет, как эта замена производится. С тех пор я уже стал требовать все новых и новых картинок и не успокаивался, пока мне таковые не вынимали с заповедной этажерки в кабинете. Вскоре я сам выучился вставлять картинки в предназначенные для них проволочные рамочки, приделанные к вращающемуся турникету, и с этого дня передо мной ставился весь снятый с этажерки ящик с его богатствами, я же до одурения разглядывал эти чудеса. Теперь я не только уже не звал мамы домой, но и сердился, когда меня отрывали от этого занятия.
Возникшая тогда у меня стереоскопная мания осталась затем на всю жизнь. Впоследствии я составил свою собственную коллекцию карточек, во много раз превосходившую дядину, а когда я стал заниматься фотографией, то первым долгом приобрел себе два съемочных стереоскопических аппарата, благодаря которым моя коллекция значительно обогатилась изображениями нашей семейной жизни, а также видами наших загородных дворцов и садов. Все эти драгоценнейшие документы я, увы, не мог взять с собой в эмиграцию, тогда как «спящую киску», «девочек за чаем» и «девочек, ложащихся спать» я взял, и эти картинки по сей день в любой момент позволяют мне окунуться в наслаждение, подобное тому, которое я познал, когда мне было пять лет. Пожалуй, в проснувшемся тогда инстинкте разглядывания изображений более, чем в чем-либо другом, впервые выразилось мое живописное призвание.
В отдаленные годы моего детства (до 1880 года) дядя Костя оставался для меня фигурой относительно далекой. Встречал я его не более раза в месяц и почти всегда на каком-либо семейном обеде — то у нас, то у дяди Сезара. У себя же дядя Костя в те годы обедов не устраивал, вероятно, из экономии. Крайне редко встречал я и его дочь, мою кузину Олечку, гостившую у себя дома лишь во время рождественских каникул. 25 декабря устраивалась крошечная, сохранявшаяся из года в год искусственная елочка, а самое празднование происходило в формах крайне интимных и скромных, не то что у нас или у других родственников и знакомых. В связи с черным ходом и это способствовало тому, что я был невысокого мнения о средствах дяди Кости. Летом он нанимал в Петергофе дачу, а Олечка ходила в самых простеньких платьицах, ничем не отличаясь от своих кузин Кампиони — Жени и Маши, родители которых были людьми скромными и малозажиточными.
Наконец, и то, что дядя Костя при всяком случае рекомендовал соблюдение чрезвычайной расчетливости, не свидетельствовало в моем представлении об его богатстве. Запомнился мне такой глупейший, но все же характерный случай. Как-то в Петергофе, зайдя к нам рано утром, он взял меня с собой пройтись в соседний Английский парк. Прогулка, проведенная в столь необычайный час, получила удивительное вознаграждение. Не успели мы зайти за чугунные готические ворота парка и сделать шагов тридцать, как мое внимание было обращено на что-то, блестевшее у самой дороги в траве. Оказалось, что то блестит металлическая ручка очень хорошенькой, совсем новенькой детской тросточки — как раз мне, шестилетнему, по росту. Я был в восторге от своей находки, дяденька же, совсем как в нравоучительной книжке для детей, счел своим долгом прочесть целую мораль: «Ты видишь, мой друг (иначе, как „мой друг“, дядя ни к кому из близких не обращался, не делая разницы ни по полу, ни по возрасту), ты видишь, как полезно рано вставать. Мы вошли в парк первыми и вот нашли эту вещь. Если бы пришли позже, то ею воспользовались бы другие», — и т. д. в том же роде. Долгое время после этого я оставался при убеждении, что по утрам улицы бывают усеяны потерянными драгоценностями и что мусорщики, подбирая их, становятся со временем ужасно богатыми людьми.
От дяди Кости слышал я и нравоучительный рассказ о том, с чего началась карьера тогдашнего богача, «русского Ротшильда» — барона Штиглица. В юности Штиглиц будто бы очень нуждался и тщетно искал себе заработка. Однажды он явился к одному банкиру, у которого в банке открылась вакансия, но банкир не пожелал брать человека без всякой рекомендации, и бедный Штиглиц покинул подъезд банкира, убитый своей неудачей. И тут-то и случилось то, что произвело полный поворот в его фортуне. Несмотря на все свое огорчение, Штиглиц заметил лежавшую на мостовой булавку, нагнулся, поднял ее и аккуратно засунул себе за отворот сюртука. Банкир все это увидел в окно и вынес сразу столь выгодное впечатление о достоинствах молодого человека, главным образом об его бережливости, что позвал его обратно и для пробы дал ему какую-то бухгалтерскую задачу. Штиглиц прекрасно с ней справился; через два дня он уже сидел в конторе, принимая участие в общей работе, а в дальнейшем он получил ответственное место в том же банке, после чего он взобрался по всем ступеням финансовой иерархии и стал самостоятельным банкиром и миллионером, одним из самых богатых людей не только в России, но и на всем свете.
И еще другой, не менее нравоучительный и не менее наивный рассказ я слышал от дяди Кости, на сей раз об известном кондитере в Петербурге — Ландрине. Фабрика Ландрина стояла на том же Екатерингофском проспекте, на который выходил одним фасадом и наш дом. Она была мне хорошо знакома по упоительным запахам шоколада и всяких сластей, соблазнительно ласкавших мое обоняние, когда я проходил мимо. Явился Ландрин в Петербург босоногим, нищим мальчишкой, но изворотливый его ум, а еще более выдержка и, главное, бережливость помогли ему в несколько лет составить весьма значительное состояние. Начал он с того, что коптил сахар на свечке и получавшиеся таким образом леденцы продавал на улице. Леденцы его имели успех и постепенно доставили ему известность. Но долгие годы Ландрин не позволял себе отходить от своего первоначального образа жизни, он только копил и накапливал, пока нажитое не составило сумму, давшую ему возможность сначала открыть лавку, а там обзавестись и фабрикой. И снова дядя Костя на этом примере настаивал на необходимости придерживаться принципа бережливости. Увы, эти семена попадали на неблагодарную почву. Его племянник так делового отношения к жизни и не приобрел, а остался в финансовом отношении сущим калекой и уродом, о чем он искренне и постоянно сожалеет.
И вот внезапно произошла радикальная перемена во всей манере дяди Кости. Случилось это в 1880 году, в момент, когда Оля окончила институт и, как говорили в старину, заневестилась. Дядя выразил желание поселиться в нашем доме, на одном этаже с нами, и это так соблазнило маму, что она решилась на шаг, который показался бы немыслимым при других обстоятельствах. Ей пришлось попросить стародавних жильцов и к тому же наших хороших знакомых Свечинских очистить место. Но дяде Косте оказалась мала их довольно поместительная квартира, и пришлось выселить еще и жильцов рядом со Свечинскими. Всю анфиладу комнат стали сразу в летние месяцы отделывать, и уже осенью того же года дядя мог въехать в свое новое обиталище. Жертвой этого переустройства стала между прочим прелестная, украшенная колоннами, гостиная Свечинских, так как из нее, с прибавлением соседней комнаты, была образована большая зала, настолько обширная, что в ней в одну из следующих зим можно было соорудить сцену для домашнего спектакля.
Как только работы были окончены, дядя Костя с тетей Катей и Олечкой переехали к нам в дом и стали нашими ближайшими соседями. Когда все было готово, мебель расставлена, картины, зеркала, портьеры и занавески повешены, меня поразило, до чего эта новая квартира дяди не похожа на ту, в которой он жил на Морской. И откуда только взялись эти изящные диванчики, столики, люстры, лампы и бра, рояль и ковры, что заполнили и украсили залу? Да и в новом кабинете дяди до чего все выглядело парадно и внушительно, хотя кабинет был уставлен теми же предметами, которые мне были знакомы с давних пор. При этом ничего здесь не носило того несколько случайного характера, какой господствовал у нас, вероятно, вследствие частых, вызываемых семейными обстоятельствами переборок. У дяди все стало точно на специально заготовленные места с тем, чтобы уже никогда не передвигаться и всегда говорить о том, что здесь живет человек с солидным состоянием, а к тому же и с хорошим вкусом.
Кое-что приобрело даже несколько официальный характер. Теперешний кабинет дяди годился бы для министра, зала с голубой обивкой мебели была настоящей парадной комнатой, предназначенной для многолюдных и блестящих приемов, столовая с ее закусочным буфетом и с огромным обеденным столом сулила великолепные пиршества, и это обещание она сдержала — нигде я так вкусно не едал, как на тех обедах, которые дядя устраивал теперь через каждое воскресенье, тогда как другие семейные обеды, но менее изысканные, происходили по очереди у нас или у дяди Сезара. Были и уютные комнаты в этой квартире дяди Кости; мне особенно нравилась комната тети Кати, в своей передней части служившая чем-то вроде будуара, в своей задней, за матерчатой перегородкой, — спальней. В передней части так приятно было сидеть на штофных креслицах и на диванчике, а драпировка, разделявшая комнату, придавала всему впечатление теплоты и замкнутости.
Естественно, что дядя не пожалел денег на то, чтобы его единственная дочь Оля забыла о казарменности институтских дортуаров и почувствовала бы себя, наконец, действительно дома, в теплом, приятном гнездышке. Ей досталась последняя, залитая светом комната, имевшая в плане круглую форму. Была она угловой и выходила и на Никольскую и на Екатерингофский проспект. Стены были обтянуты чинсом с большими яркими цветами, и такой же материей были обтянуты мягкие стулья, кресла и диван, а на всю комнату был постлан бархатный ковер. Попадая в эту комнату, не хотелось ее покидать. Меня особенно тянул в Олину комнату книжный шкаф, на полках которого стояли сомкнутым строем томики в разноцветных переплетах с золотым тиснением. Почти все эти книги были французские, а значительная часть их принадлежала перу графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Это собрание я досконально изучил в несколько месяцев. В другом шкафчике береглись игрушки, когда-то служившие Оле, и среди них была большая коробка с бесчисленными миниатюрными предметами кукольного хозяйства. У меня была особенная страсть как раз к таким карликовым вещицам. Расставляя их и рисуя себе при этом жизнь каких-то крошечных существ, я сам как бы превращался в одного из моих любимцев — в Гулливера среди лилипутов.
Теперь сам дядя Костя стал нашим завсегдатаем. Каждое утро около десяти он являлся и проходил прямо к маме, с которой у него были длинные разговоры — почти всегда финансового характера. Под его руководством и через него мама производила операции с покупкой и продажей бумаг, и как будто благодаря этим операциям одно время мы стали обладателями довольно значительного состояния. Но затем, к концу 80-х годов, произошел какой-то крах, приближение которого проглядел хитроумный дядя Костя, и все это богатство так же быстро растаяло, как образовалось. Дядя тоже пострадал (я помню расстроенные и озабоченные лица обоих), но все же он скоро успел наверстать потерянное, так что к моменту его кончины капитал дяди исчислялся в 800 000 рублей. Сумма была немаловажная (капитал давал около 40 000 годового дохода) и позволила впоследствии наследнице дяди Кости вести столь же «полный» образ жизни, какой вели другие наши семейные богачи: мой брат Леонтий с женой, дети дяди Сезара и другие.
Возвращаюсь еще раз к семейным обедам, так как они играли в нашем быту большую роль. С момента поселения дяди Кости на Никольской улице и особенно после смерти его брата Сезара они вошли в окончательно утвержденную систему. Обеды у нас чередовались через неделю с обедами у соседей. К обедам у дяди Кости я сначала относился с некоторой опаской, как к чему-то скучному, но затем постепенно я к ним пристрастился. При всей своей расчетливости дядя оказался великим хлебосолом и тонким знатоком гастрономической части. Древнюю расхлябу Васильевну сменила первоклассная кухарка — настоящая мастерица. Особенно же дядино угощение славилось обилием закусок. Дядя сам ездил выбирать деликатесы к Смурову и к Елисееву, где он прислушивался к советам и рекомендациям преданных ему приказчиков. Он лично заведовал и погребом, в котором водились разнообразные отборные марки, но особенно прекрасны были рейнские вина. Солидной парадностью отличалась и сервировка. Серебро было массивное и тяжелое, скатерти и салфетки ослепительно белые, посуда, хрусталь — высшего качества. Среди стола красовались три вазы с отборными фруктами, а на тарелочках мейсенского фарфора были разложены специально заказывавшиеся конфеты от Кочкурова, на которые с самого начала обеда я кидал полные вожделения взоры. Мое место на этих обедах у дяди Кости было всегда на самом конце стола, между кузеном Сережей и дядей Мишей Кавос. И вот тут, незаметно от «главных старших», я мог тешить свое пристрастие к сладкому тем, что урывками схватывал то одну, то другую палочку, кругляшку или шарик — все сказочно вкусные вещи. Напрасно мама с другого, почетного конца делала мне знаки, чтобы я от этого воздерживался: соблазн становился только еще более сильным.
В первые годы обеды у дяди Кости не представляли для меня иного интереса, нежели именно такое потворство моим плотоядным инстинктам, духовное же содержание этих обедов не доходило до моего сознания. Но по мере того, как я рос, я стал более внимательно прислушиваться к возникавшим между старшими спорам, и эти контроверсы людей остроумных и на редкость культурных сослужили немалую службу моему развитию. Бывало, на наших домашних обедах мне делалось скучно, и тогда я под каким-нибудь предлогом покидал столовую и удалялся к себе в комнату, возвращаясь только к десерту (в очень ранних летах я при таких приступах скуки за семейным обедом умудрялся соскальзывать под стол, где оказывался в совершенно особенном сумрачном мире, в чем-то вроде длинного мрачного зала, в котором роль колонн играли ножки стола, а кариатид — панталоны мужчин и юбки дам. Удивляло меня и то, что пол был здесь усеян крошками и объедками, которые я из одного озорства, забыв о своей брезгливости, подбирал и совал в рот. Иногда мне в этом «подстолье» держали компанию собаки и кошки). Но на обедах у дяди Кости я не позволял себе подобных вольностей уже из-за одного уважения к нему, и вот постепенно я стал интересоваться тем, что говорилось, и меня начал пленять азарт, с которым велся спор.
Вначале мне казалось, что каждый последний говорящий был абсолютно прав, но позже я стал чувствовать все большую солидарность с одной партией и соответственную враждебность к противоположной. В общем, я был на стороне более идеалистической, и подчас меня возмущали ультра-позитивистические и узко-материалистические взгляды самого дяди Кости, едкое остроумие которого я все же не переставал и тогда оценивать по достоинству. Беседа обрывалась за кофием, который подавался в дядином кабинете, дамам же и «дамским кавалерам» — в зале. Главный спорщик дядя Миша, выбрав себе из великолепного старинного ящика сигару (у дяди Кости был всегда целый ассортимент сигар очень высоких сортов; сунув в этот ящик нос, я вкушал с особым удовольствием шедший из него сложный аромат), под предлогом, что ему нужно спешить в другое место или в театр, покидал семейное сборище, и с этого момента все как-то затухало. Красивый, статный, всегда облаченный в генеральский мундир лесного департамента Павел Анжелович Кампиони, милейший перс Мирза Казим-бек Абдинов, сослуживец дяди Кости по министерству иностранных дел и единственный его приятель, садились за винт; с кузиной Олей и ее подругами я не находил тем для разговоров, и единственным моим развлечением оставались все те же стереоскопы, в разглядывание которых я погружался, открывая все новые и новые прелести: аппарат в таких случаях и ящик, вынутый из этажерки, ставились на стол перед кожаным дедушкиным диваном, в мое распоряжение предоставлялась лампа с шаровидным колпаком, и тут, сидя под большой «Венерой» Падованино, я в продолжение часа и больше отдавался лицезрению любимых карточек, напряженно разглядывая каждую деталь на них.
Иногда, впрочем, дядя вынимал из библиотечного шкафа карельской березы ту или иную книжку специально для того, чтобы отвлечь меня от стереоскопа, якобы портящего зрение. Но книжки у дяди Кости были куда менее интересные, нежели те, что составляли папину библиотеку. Меня еще занимала многотомная зоология, но все тонко раскрашенные изображения в ней я знал наизусть, а книжки научного содержания или скудно иллюстрированные сочинения исторические не могли удовлетворить мою жадность до всего изобразительного. Для полноты упомяну, что в зале на отдельном овальном столе лежал толстенный альбом с фотографиями самых знаменитых и самых популярных картин Дрезденской галереи, а рядом с ним три тома в роскошных переплетах — «Мозаики». Это были кипсеки большого формата с гравюрами на стали. В Дрезденской галерее меня особенно притягивала в те годы пробуждающейся чувственности картина Чиньяни «Иосиф и жена Потифара», а в «Мозаиках» — картина Маклейза, изображающая тот спектакль, что дает Гамлет при дворе короля Клавдия. В этой очень толковой композиции меня пленила, так сказать, «режиссерская часть» — то, как все было размещено и уравновешено в группах; к тому же эта картина изображала спектакль, и уже этого было достаточно, чтобы меня притягивать.
В общих же чертах жизнь этих обеих семей, так тесно связанных родственными узами, протекала в мире и дружбе, и только для меня лично этот лад был нарушен по моей вине в 1887 году, когда я случайно услыхал несколько иронический отзыв дяди Кости о моем романе с той, в которую я был без памяти влюблен и которой впоследствии суждено было сделаться моей подругой жизни. Сейчас я решительно не помню, что сказал дядя Костя, но, обуреваемый ультрарыцарскими чувствами, я считал долгом выказывать их при каждой оказии, а посему, не задумываясь, я вычеркнул дядю Костю за его провинность из круга моих знакомых. Напрасно мама увещевала меня изменить отношение к любимому брату, напрасно меня моментами сильно тянуло отказаться от принятой нелепой позиции, напрасно во мне иногда заговаривали соображения чревоугодия (мне становилось особенно обидно, когда все наши собирались на обед к соседям, где, я знал, будут подаваться самые вкусные вещи), — верный своему решению, я оставался дома, довольствуясь тем обыденным, что готовилось у нас для младшего поколения Лансере.
Все это сопровождалось еще и страданиями совести. Уже одно то, что мое поведение огорчало мамочку, вызывало во мне мучительные угрызения, но, кроме того, ведь я и сам продолжал любить и чтить дядю, а тут, в силу данного глупейшего обета, я при встречах еле отвечал кивком на его ласковую улыбку, а то проходил мимо, не замечая его. Эта опала дяди началась осенью 1887 года (одновременно за подобные же провинности моей опале подверглись и тетя Лиза Раевская, и наша бывшая гувернантка мадемуазель Леклерк, и еще несколько близких лиц) и длилась эта опала целый год. Кончилась она как-то сама собой, просто потому, что стыд за свою мальчишескую глупость взял верх над тем, что я почитал своим долгом.
Увы, недолго после того я еще пользовался обществом моего дорогого дяди. Проболев несколько недель, он скончался от сердечного припадка на пасхальной неделе 1890 года. В первый раз я понял обреченность дяди Кости, встретив его как-то на нашей парадной лестнице. Поднявшись всего ступеней десять, дядя присел на первой промежуточной площадке на креслице и тяжело дышал. Я до этого еще не видал столь явственной печати смерти на чертах близкого человека, и вид этого перекошенного лица меня ужасно напугал и огорчил. Я бросился к нему, чтобы как-нибудь помочь, но он только замахал на меня рукой, указывая, чтобы я проходил мимо. Несомненно, он страдал не только физически, но и нравственно. Ему было стыдно внезапно почувствовать себя таким слабым и униженным — ведь в каждом недуге есть что-то унизительное, какая-то насмешка судьбы, и это особенно должны чувствовать люди с таким гордым характером, каким обладал Константин Альбертович. И как раз за несколько дней до этого случая (и тогда, когда еще ничто не предвещало роковой развязки) я видел дядю во сне до того печальным, до того бледным, что я даже заплакал. Сон оказался вещим.
То был первый припадок грудной жабы, заставший дядю на лестнице, но уже через две недели он повторился в более сильной степени. Все же дядя продолжал себя вести как здоровый человек, бывал на службе и вечера проводил в клубе, куда он добирался в наемной карете (собственных лошадей он не держал). Однажды дяде сделалось дурно, когда он переступал порог дома, и его пришлось нести наверх — те двадцать ступеней, что отделяли его квартиру от улицы. С этого момента он стал, так сказать, официально значиться болеющим, доктора его навещали по два раза в день, а он, облекшись в халат, медленно бродил по комнатам или отлеживался на диване в кабинете. Последний раз я видел дядю Костю живым, когда я явился с мамой его поздравить на Пасху. Он сидел в кабинете в своем довольно-таки поношенном шлафроке, желтый, восковой, со впалыми щеками, с тусклым светом в глазах. Однако на устах по-прежнему играла его тонкая вольтеровская усмешка.
Как раз то была эпоха, когда я до безумия увлекался мейнингенскими спектаклями и даже мечтал поступить в герцогскую труппу, что, разумеется, немало вредило моим занятиям в гимназии. Для начала и для того, чтобы больше походить на актера, я даже сбрил бороду и усы. Мамочку мое решение очень тревожило, но, верная своим принципам, она не считала себя вправе противодействовать тому, в чем, как я уверял ее, я видел свое призвание. Все же она попросила брата как-либо меня урезонить. И вот, выслушав жалобу мамы, дядя Костя оживился, в глазах забегали искорки иронии, и он залился своим молчаливым смехом. А затем он протянул мне свою иссохшую, холодную, как лед, левую руку и, обратись к сестре, молвил: «Не беспокойся, Камилла, это пройдет, это несерьезно. Это просто забавная мальчишеская блажь». И что же, благодаря этим словам умирающего дяди, мою блажь (мое «призвание» было действительно блажью) как рукой сняло, и если мир благодаря этому лишился нового Гаррика, Росси или Сальвини, то я лично от этого остался только в выигрыше.
Эти слова дяди Кости особенно глубоко запали мне в душу потому еще, что они оказались чем-то вроде предсмертного наставления. Через неделю его уже не стало. Я сидел за роялем и разбирал по нотам сцену в лесу «Спящей красавицы», которой я тогда до полной одури увлекался. И как раз я дошел до веселенького «танца маркиз», когда раздались один за другим несколько нервных звонков на парадной, за которыми сейчас же последовал тревожный стук в дверь, когда же дверь была отперта, то вбежала Оля в полном горестном исступлении, с глазами, наполненными ужасом и слезами. Она на ходу повторяла одну и ту же фразу: «Папе дурно, папе дурно, нужно сейчас доктора, папа умирает». Тотчас же я помчался за одним из докторов, лечивших дядю, и с трудом его отыскал в женской палате для тяжелобольных Обуховской больницы. Доктор сначала отказывался прерывать начатый обход, но я все же убедил его, особенно настаивая на том состоянии, в котором находится дочь больного. Однако прибытие привезенного мною врача оказалось лишним: он нашел уже бездыханный труп. То была третья из близко меня касавшихся утрат. Четвертой, о горе, была смерть мамы, последовавшая почти через год после смерти ее любимого брата.
ГЛАВА 22 Дядя Миша и другие дяди Кавос
В сущности, я дядю Мишу оценил только с того момента, когда стал прислушиваться к спору старших во время семейных обедов. До этого времени брат мамы[1] (сын бабушки Ксении Ивановны) занимал меня исключительно тем, что он систематически на те же семейные обеды опаздывал и появлялся в дверях столовой тогда уже, когда все, закусив, сидели за супом. В этот именно момент, точно по расписанию, слышалась тяжелая поступь дяди, а через секунду он входил с виноватым видом, окидывая глазами общество. Неизменно ему каждый раз за это опаздывание попадало от папы, для которого соблюдение обеденного часа было чем-то священным, на что дядя Миша, помня, что когда-то мой отец носил его на руках, не обижался, а покорно извинившись, садился на свое место. Но этот растерянно покорный тон скоро сменялся другим и очень «крепким». Это случалось, как только затрагивалась какая-либо злободневная тема. Иногда дядя Миша сам провоцировал спор, привезя из города, где он делал свои воскресные визиты, ту или иную сенсацию. Иногда сюжет подавался дядей Костей и на лету подхватывался его младшим братом.
Я уже говорил выше, какое впечатление произвел на меня спор по поводу национальных похорон Виктора Гюго, но не менее горячие споры запомнились мне о картинах Репина, выставлявшихся на передвижных выставках: «Не ждали» в 1884 году и «Убийство сына Иваном Грозным» в 1885 году. Особенно же как-то раз рассвирепел Михаил Альбертович, когда неугомонный забияка Зозо Россоловский без всякого решпекта коснулся особы баронессы Варвары Ивановны Икскуль. Баронесса была предметом рыцарского культа дяди; попросту говоря, он был в течение многих лет влюблен совершенно безнадежно в эту действительно пленительную чаровницу. Целыми днями он просиживал у нее, да и она питала если и не какие-либо пламенные чувства к нему, то известную нежность, что особенно сказалось, когда он, уже болея грудной жабой, на довольно долгий срок нашел гостеприимное убежище в ее хоромах и когда она самоотверженно за ним ходила, пренебрегая даже своими светскими обязанностями. Но вот баронесса Икскуль, которую Репин увековечил в знаменитом портрете «Дамы в красном платье» (с лицом под черной вуалькой), была вообще притчей во языцех — и даже очень злых языков — петербургского общества. Иные ее недолюбливали за слишком передовые взгляды, дамы же завидовали ее красоте, ее успехам. Все это были сплетни, ни на чем не основанные, однако одна из них, принесенная В. С. Россоловским, повергла однажды за нашим патриархальным обедом паладина баронессы Михаила Кавос в настоящую ярость. Зозо Россоловский, в сущности, милый и сердечный человек, отличался вообще бестактностью и поминутно кому-нибудь наступал на мозоли, данная же гневная вспышка чуть не привела к дуэли; насилу моим родителям удалось успокоить Михаила Альбертовича, что же касается Зозо, то он охотно принес повинную, после чего не без некоторого журения был прощен.
Род настоящей дружбы между мной, семнадцатилетним юношей, и моим пятидесятилетним дядей завязался около этого времени — в 1887 году. До этого нашему сближению уже способствовало увлечение театральными представлениями — мейнингенцами и Вирджинией Цукки. Тогда дядя Миша увидел, что едва замечаемый им за длинным семейным столом мальчик такой же ярый театрал и поклонник божественного искусства Мельпомены, Талии и Терпсихоры, каким он был сам. Но в 1887 году моя страсть к книгам получила особенную пламенность, я стал их забирать десятками у своего поставщика Эриксона, и вот разглядывание разных новинок повело к сближению. Когда я «открыл» Беклина, то мне доставило особую радость, что дядя Миша уже имел представление об этом художнике и даже был очень высокого о нем мнения. В течение нескольких лет, приблизительно до 1891 года, мы только и делали, что возбуждали друг друга восторгами от новых произведений гениального Арнольда. Теперь дядя уже не спешил сразу после кофия покинуть семейное сборище, но забирался ко мне в Красную комнату, и тут при тихом свете керосиновой лампы шло изучение всяких новых увражей или только что прибывших последних номеров заграничных художественных журналов. Иногда к нам присоединялся Сережа Зарудный, изредка брат Леонтий, мой племянник Женяка Лансере и мои гимназические товарищи, приходившие по воскресеньям к вечернему чаю. Всем им очень импонировал мой высококультурный дядя.
Но из-за этих же моих товарищей начались и первые мои размолвки с дядей Мишей. Его раздражало наше молодое всезнайство, необузданное желание эти наши знания выказывать и навязывать другим. Особенно действовал ему на нервы Валечка Нувель — его апломб, его дурные манеры. Спорить с таким недорослем-гимназистом Михаилу Альбертовичу, приятелю знатнейших писателей и художников, казалось зазорным, и он избрал для парирования Валечкиных наскоков особый насмешливый тон. Подчеркивая то, что в Валечке было еще мальчишески-незрелого, дядя прозвал его «кресс-салатом», по аналогии с той своеобразной травкой, которая играла известную роль в петербургской гастрономии и выращивалась парниковым способом в крошечных корзиночках. Кресс-салат мог служить олицетворением комнатной скороспелой культуры. И вот пропасть между всей нашей группой и дядей Мишей стала постепенно расти; он как-то принялся остерегаться нас, его раздражало то, что такие молокососы «тоже что-то о себе воображают». В разряд «кресс-салата» попали уже мы все, не исключая язвительного Димы Философова и присоединившегося к нам в ту пору Левушки Бакста.
Дошло и до ссор. Мне особенно памятна одна, когда мне захотелось поразить дядю Мишу только что полученным из-за границы изданием «Немецкие художники-граверы», где, между прочим, были воспроизведены и три очень эффектных офорта Макса Клингера. Но дядя Миша не только не разделил моего восторга, но и жестоко раскритиковал эти офорты, а меня высмеял. Я так тогда обиделся, что наговорил любимому дяде разных дерзостей и даже объявил ему, что вычеркиваю его из списка своих знакомых. Ссора длилась недолго, но какой-то холодок в наших отношениях с тех пор появился. Свое недовольство мной дядя выразил, между прочим, в том, что прервал показывание мне своих коллекций, среди которых меня особенно прельщали литографии Гаварни и Домье. Оба художника были у него собраны в значительной полноте, — возможно, что эти листы достались в наследство от его отца, от моего деда Альберта Кавос.
Одна из запомнившихся последних встреч с дядей Мишей произошла в 1894 или в 1895 году, но на сей раз не в семейной обстановке, а в гостиной Мережковских. Это был первый мой визит в компании с Валечкой Нувелем к уже знаменитым в те дни супругам-поэтам. Хоть мы и очень храбрились, однако, очутившись в таком ультрапередовом салоне, мы почувствовали себя порядком смущенными, тем более что хозяйка дома избрала в обращении с нами слегка насмешливый тон. Помню и тот вопрос, с которым, усадив нас прямо на пол перед камином, она обратилась: «В каком же роде вы декадентствуете?» Но постепенно мы стали осваиваться, не без удачи отвечать на ее язвительные колкости, а уже через час разговор принял вполне свободный характер, и как раз на тему о нашем неприятии всякого декадентствования. И вдруг хозяйка вскочила на обе ноги и побежала в соседнюю столовую, откуда послышались ее визгливые возгласы: «Миша пришел, здравствуй, Миша», — после чего в гостиную вошел под руку с Зиновеей Гиппиус… почтенный мой дядюшка. Тут его близорукие глаза различили нас, греющихся перед камином, совсем как у себя дома, и едва ли это ему понравилось. Одно было под слегка пьяную руку выпить брудершафт с уже прославленной петербургской Сафо и позволять ей «грациозно забываться» в общении с ним, почтенным общественным деятелем, а другое — найти непредвиденными свидетелями такого ущерба собственному достоинству родного племянника, да еще в компании с раздражавшим его забиякой. С другой стороны, ему было, пожалуй, и лестно, что он предстал перед нами в виде совершенно своего человека в таком недоступном для профанов святилище.
Милый дядя Миша! Несмотря на свои иногда и очень язвительные замечания, он был само благодушие, а некоторое тщеславие его было очень безобидного характера. Мне думается даже, что именно из-за этих черт из него, при всем его уме и образованности, «ничего не вышло». Он вполне удовлетворялся небольшими малозначащими и тут же проходящими салонными успехами. Сознавая, что его остроумие создает ему известный ореол, он этим довольствовался и пренебрегал более существенными достижениями.
Служил он с давних времен в петербургской земской управе. Место это было невидное и малодоходное, однако он все же как-то гордился им. Он и выбрал такую общественную карьеру по убеждению, так как состояние на государственной службе противоречило бы его либеральным взглядам. Будучи человеком усердным и дотошным, он пользовался в управе всеобщим уважением, но, разумеется, служба эта не могла ни в малейшей степени удовлетворять его, поклонника муз, в духовом смысле. Надо отметить еще ту странность, что этот наиболее культурный член нашей семьи сам никакими художествами не занимался. Зато несомненно, что я ему обязан многим, особенно тем, что в раннем возрасте встретил в близком родственном общении человека, который с абсолютным пиететом относился к искусству и обладал способностью разбираться в нем.
Дядя Миша скончался летом 1897 года в Петербурге, в то время, когда я со своей маленькой семьей жил за границей, в Бретани. Его смерть потрясла меня не менее, нежели смерть дяди Кости. С его уходом завершилась очень важная страница не только моей личной молодости, но и молодости всего нашего кружка. Он умер в год, когда только назревал наш журнал «Мир искусства», но, увы, приходится сознаться, что если бы он еще продолжал жить, он едва ли приветствовал бы выступление на общественной арене тех самых людей, которых он только что величал «кресс-салатом». В характерной полемике между нами и Репиным он, наверное, принял бы сторону последнего против нас. Прибавлю еще, что если уже нам было горько увидать врага в лице Репина, художника, которого мы особенно чтили, то мне лично было бы особенно грустно оказаться в том лагере, против которого дядя Миша считал бы нужным ополчиться.
Для полноты семейной хроники необходимо еще рассказать о трех членах семьи Кавос, которые мне с братьями приходились двоюродными дядьями. То были сыновья брата моего деда Ивана Катариновича, служившего в театральной дирекции в качестве хормейстера петербургской оперы. Мать этих трех братьев была немка (балетная танцовщица), а воспитание они получили в русской гимназии, и, тем не менее, трудно было себе представить более типичных и живописных итальянцев, нежели эти Альберто, Камилло и Стефано Кавос.
Все трое при небольшом росте обладали очень заметными горбатыми носами, голос же у всех трех имел своеобразно гортанное, характерно итальянское звучание; кроме того, все трое при необычайной темпераментности сопровождали свою речь обильными и выразительными жестами. Двое из них — Камилло и Стефано — могли приобрести этот итальянизм на самой родине своей семьи, так как оба они одно время служили в итальянской армии, а Стефано состарился даже в качестве итальянского офицера и вернулся в Россию только по выходе в отставку. Но старший брат, Альберт Иванович, как будто России не покидал вовсе, а между тем как раз он был из них всех наиболее выраженным итальянцем и не только по виду, но и по существу. В нем очень гармонично уживалась русская беспечность с итальянской dolce farniente (блаженным ничегонеделанием), он был горазд на всякие шутовские выдумки, его неодолимо влекло к сцене (одно время он даже выступал в качестве актера-любителя), а всем своим обликом он напоминал одного из персонажей commedia dell’arte — не то пройдоху Труффальдино, не то задиру Капитана, не то лукавого и все же часто проводимого Панталоне.
Однако в смысле отношения к деньгам Альберт Иванович не был похож на последнего. Дядя Берта страдал крайней степенью расточительности, и это, между прочим, сказывалось и в том, что он, будучи моим крестным отцом, задаривал меня всевозможными подарками. При этом Альберт Иванович уже тогда (т. е. в раннем моем детстве, приблизительно до семилетнего возраста), видимо, задавался целью направить своего крестника на театральное поприще, так как большинство его даров заключалось в картонных коробках, в которых лежали декорации, кулисы и фигурки действующих лиц. Иные из этих детских театриков были довольно аляповатыми изделиями (это те, которые носили определенно российский характер, вроде «Громобоя» или «Ивана-царевича»), Аляповатость эта отталкивала меня, воспитывала в то же время во мне отвращение от всего фальшиво-национального вообще. Другие же детские театрики, стоившие гораздо дороже, были заграничного производства, и те были прелестны. При помощи их я устраивал спектакли на потеху моим маленьким друзьям и еще более на потеху самому себе. В каждой такой коробке лежала и брошюрка с текстом данной пьесы, по которой надлежало читать роли выступавших (висевших на проволоках и подпираемых деревяшками) персонажей, но я предпочитал этими либретто не пользоваться, а экспромтом сочинять свой собственный текст, испещренный патетическими междометиями.
Спасибо тебе, милый дядя-папа (так мне полагалось называть своего крестного), за все доставленные мне когда-то радости! Но почему же впоследствии, Альберт Иванович, ты стал таким редким у нас гостем, а потом и вовсе исчез с нашего горизонта? Не потому ли, что обиделся на то, как была принята в нашем доме твоя молодая жена, в которую ты был страстно влюблен, но манеры которой заставляли желать многого и голос которой отличался невыносимой пронзительностью?
Не подошла к нашему двору и жена добродушного дяди Камилло, состоявшего политическим сотрудником «Нового времени». Но тут были причины особого рода. Камилло как-то отважился привести ее к маме на поклон, а мама нашла эту мадам Кавос очень скромной, чуть ли не забитой, в сущности же симпатичной. Но можно ли забыть, что эта дама принадлежала до своего замужества к разряду милых, но падших созданий и что Камилло познакомился с ней не в какой-либо светской гостиной, а в месте весьма предосудительном? В романах иной раз можно прочесть, что такие случаи приводят к полной реабилитации, но в жизни это почти никогда не бывает, и главной помехой служит то, что сами эти особы, вступив в среду, дотоле им недоступную, продолжают себя чувствовать в ней мучительно неловко.
Остроумнее своих братьев поступил младший брат Стефано — наш дядя Степа. Военное его прошлое в Италии было полно бурных романов и приключений. Будучи дерзким задирой, он не раз дрался на дуэли, за что попадал под арест и даже однажды удостоился сидеть в самом римском Замке Святого Ангела. Вернулся он доживать свой век в Петербург вполне перебесившимся, а добытая им жизненная философия спасла его, несмотря на старания всех наших свах, от совершения такого бессмысленного шага, как вступление в брак. С конца 1890 года дядя Степа делается непременным членом всех сборищ в семьях Кавос и Бенуа, придавая им своими дерзкими манерами очень своеобразную пикантность. Своеобразно прелестен был и его говор, в котором было столько потешных итальянизмов. Я получал громадное удовольствие от одного слушания дяди Степы, безотносительно к тому, о чем он всегда с большим жаром толковал. Поэтому я был сердечно огорчен, когда после двухлетнего отсутствия из Петербурга узнал, что дяди Степы уже нет в живых.
ГЛАВА 23 Моя собственная особа
Теперь, когда я охарактеризовал ту среду и тех самых близких людей, среди которых я вырос, наступил, пожалуй, момент, когда я должен рассказать про центральное действующее лицо настоящего рассказа, т. е. про мою собственную особу. Однако задача эта вовсе не легкая. Хоть я с самых ранних лет интересовался этой особой, изучал ее и в зеркале и в своих внутренних переживаниях, но прийти к каким-либо определенным выводам мне тогда не удалось, да и впоследствии тоже. Теперь же, когда мне целых восемь десятков лет, оказывается, что задача эта стала еще менее мне под силу уже потому, что я успел за истекшие годы много раз меняться.
Разумеется, особенно справедливы эти слова в отношении внешности. Между кудрявым очаровательным ребенком, бегавшим по комнатам родительской квартиры и влезавшим всем на колени, и почтенным, седым и согбенным старцем, каким меня теперь рисует зеркало, — даже я сам ничего не могу найти общего. Тут же, однако, прибавлю, что мое внутреннее самоощущение не находится в соответствии с этим объективным и бесспорным показателем. Внутри я себя чувствую совершенно иным и если не тем младенцем и даже мальчиком или студентом, — то все же существом молодым, еще полным сил и стремлений, исканий, — не побоимся слова — иллюзий! Этот курьез можно объяснить главным образом тем, что моя подруга жизни, физически и нравственно изменившаяся несравненно менее меня, не перестала относиться ко мне так же, как относилась в своей ранней юности, и что, следовательно, в самом основном и главном нашего бытия мы остались как бы все теми же (увы, обожаемая мною жена внезапно скончалась 30 марта 1952 года).
Спешу прибавить, что при всем том я собой никогда особенно доволен не был. Не был я доволен даже тогда, когда, несомненно, был и мил и в разных отношениях приятен. Моя наружность никогда мне не нравилась, она не соответствовала моему идеалу. Я испытывал даже известное огорчение каждый раз, когда я свою физиономию и свою фигуру видел в зеркале. Настоящий же ужас меня охватывал, когда я в комбинации сопоставленных под углом зеркал (у портного, у парикмахера) вдруг видел профиль какого-то уж совсем чужого господина — и господина мне малосимпатичного. Каких-либо мер, однако, для поправки того, чем меня наделила природа, я не предпринимал и лишь в детстве радовался своему «похорошению», когда надевал на голову какой-либо тюрбан, утыканную перьями повязку или картонный шлем. Позже, с целью хоть чуточку изменить свою наружность, я разгуливал в феске, привезенной братом из Алжира, и едва ли не это способствовало тому, что я скорее, нежели полагается, стал терять волосы. О, какое щемящее чувство овладело мной — когда лет двадцати, причесываясь, я заметил в зеркале в своих темных волосах прогалины розовеющей кожи. Да, впрочем, и моя сутулость произошла едва ли не вследствие такой же ребяческой блажи, как ношение фески. Отчасти это произошло от того, что, как уже сказано выше, я вздумал подражать дяде Косте, но, кроме того, мне нравилось, когда я в зеркале напоминал себе не то самого Ричарда III, не то Риголетто. Эти деформации представлялись мне более пикантными и интересными, нежели мой настоящий образ, казавшийся слишком обыденным и банальным…
Вероятно, вследствие все того же неодобрения себя, я так и не приобрел способности хорошо одеваться. Но тут было и нечто семейное. Ни мой отец, ни моя мать не уделяли большого внимания своему туалету, да и брат Альбер, который во многом служил мне образцом, одевался неряшливо, а ближайший ко мне брат Михаил — неумело. Совсем скромницами в своих одеяниях были и мои сестры. Напротив, брат Леонтий в штатском платье и Николай в военной форме умели придавать себе всю требуемую декоративность, но как раз это мне не импонировало. Впрочем, был период в моей жизни, когда я захотел, под влиянием чтения всяких романов, сделаться элегантным денди, чуть ли не вторым Брюмелем. Эти старания продолжались даже целых два года, приблизительно с 1884 по 1886 год, и совпали с моими первыми безумными театральными увлечениями и с первыми собственными серьезными романами.
Но именно тут моя бездарность в этой области и сказалась. Сваливаю вину на бездарность, а не на молодость и неопытность. Сколько моих сверстников я видел превосходно одетыми или превосходно умевшими носить одежду; ясно было, что они обладают талантом приобретать и хранить какую-либо изящную видимость. У меня же это не выходило, и тогда я махнул на себя рукой и совершенно себя забросил. С тех пор и на всю жизнь у меня осталось какое-то абсолютное недоверие к себе в отношении своего костюма, а всякое посещение портного сочеталось с известной моральной пыткой, вследствие чего я откладывал заказ нового платья до последней крайности, а результатом чаще всего оставался недоволен.
Борода у меня стала пробиваться еще четырнадцати лет, а к 17-ти я уже был форменным бородачом, и это старило меня удивительно. Но и с бородой и с прической я не знал что делать. Брить ли бороду или нет? Брить ли ее целиком или оставлять короткие бачки (те бачки, которые так к лицу испанским тореадорам), или оставлять при бачках и подстриженные усы, — как это я видел на молодом портрете дедушки Кавос? Пребывание в Париже с 1896 по 1899 год вовсе не подвинуло меня в этом отношении и, в конце концов, я себя так запустил, что даже заслужил среди французских друзей прозвище «человека с первобытной бородой». Оглядываясь назад, мне теперь кажется, что, может быть, это было не так плохо и что образ мой имел в себе нечто даже любопытное. Представьте себе господина несомненно юного, но с густой, запущенной бородой, из-за которой просвечивали ярко-малиновые губы, с длинными на затылке волосами, выбивавшимися из-под цилиндра — неизменного в те дни придатка каждого парижанина. Положительно, это было весьма пикантно. Но вот мне тогда казалось, что это безобразно, и в то же время у меня не хватало ни воли, ни догадливости выйти из этого положения и принять вид «приличного» человека. Обидела меня природа…
Так обстояло, так и до сих пор обстоит дело с моим наружным обликом. Но почти так же обстоит дело и с обликом внутренним. Редкий человек не представляет из себя мешанины всяких противоречий, во мне же такая пестрота объясняется уже тем, что во мне столько разных кровей и что эта моя пестрая основа еще раскрашена всевозможными колерами, значительную часть коих дала Россия. «Поскоблите русского — и вы обнаружите татарина», — говорит поговорка, но если можно было бы поскоблить мое духовное «я», то обнаружилось бы не одно какое-либо племя, а целых три, причем особенности каждого вовсе с годами не сгладились и каждое до сих пор заявляет свое право на существование. Это касается «расовых покровов» моей души, — но под ними имеется еще зерно, и мне вот кажется, что и оно не такое цельное и элементарное, каким ему полагается быть… Были времена, когда такая путаница меня озадачивала и огорчала, но в общем я пронес этот свой духовный груз, не особенно заботясь о нем, если же то одна, то другая особенность вылезала вперед, то моя регулирующая воля не особенно реагировала против этого. Я не вмешивался. Вернее, мне и не приходилось не вмешиваться, так как это делалось само собой. Как-то все утрясалось и возвращалось к довольно сносному равновесию.
Духовная мешанина не позволила мне решить и один из самых краеугольных вопросов своего бытия. Я так и не решил, кто я таков. Во Франции за меня решило общественное мнение — и решило оно с чисто французской прямолинейностью, вернее, с чисто французской узостью. Я зарегистрирован в качестве художника-декоратора русских балетов. Так меня представляют в обществе. Естественно, что с такой явной несправедливостью, продолжающейся уже столько лет, я примириться не могу. Однако что мне поставить на визитную карточку взамен того? Не помещать же на ней, как это делают иные безвкусные люди, список всяких своих профессий. Даже в узкой сфере театра, разве я не в гораздо большем смысле «постановщик» и то, что называют в кинематографе художественный руководитель. Деятельность же моя отнюдь не ограничивалась театром. Я и художественный критик, я и журналист, я и просто живописец, я и историк искусства… Если идти по линии тех разных дел, которые я возглавлял и коими заведовал, то я был и редактором двух весьма значительных художественных журналов, я был в течение трех лет и чем-то вроде содиректора Московского Художественного театра, я был и полновластным постановщиком в Большом Драматическом театре в Петербурге, я был управляющим одним из самых значительных музеев в мире — петербургским Эрмитажем и т. д. Все это, правда, относится к царству, подвластному Фебу-Аполлону, но не могу же я на карточке поставить:
Александр Бенуа, служитель Аполлона.Следовало бы просто ставить Александр Бенуа. Так я и делаю, но слава моя не достигла такой степени, чтобы подобная карточка, будучи подана в чужом доме или в казенном учреждении, могла бы производить впечатление — ну, вроде того, которое производят такие имена или сочетания имен, как Мистенгет или Морис Шевалье или Чарли Чаплин.
Выходит, что я в каком-то смысле неудачник, а иные еще прибавят, что я и заслуживаю свою неудачу, что я за слишком многое брался и потому ни в чем не преуспел до конца. С этим можно поспорить. Дело в том, что я сам ни за чем не гнался и сам ни за что не брался, а все складывалось так, что я был как бы принуждаем делать то одно, то другое. Иногда я брался за что-либо потому, что мне надо было находить средства существования. И это «навязываемое дело» давало мне заработок. Но чаще я брался за те или иные задачи потому, что меня они соблазняли, что я усматривал в них случай создать нечто такое, что и мне и другим доставит удовольствие. И я справлялся с возложенными на меня задачами в полной мере, я почти ни в чем за свою жизнь не отведал горечи неуспеха, — и все же каждый раз что-то мешало тому, чтобы на данном успехе успокоиться и извлечь из него исчерпывающую пользу. Я не успевал завершить одно дело, как меня уже захватывало другое и это другое увлекало в новую область. Из ученого и театрала я становился творцом-художником, из театрального деятеля я превращался в музейного и т. д.
Сыграла тут роль и моя абсолютная непрактичность, мало того, прямая ненависть ко всякой практичности. Под этим же таилась весьма неразумная, но, увы, непреодолимая жажда свободы. Величайшая роскошь, которую только можно себе позволить, — это когда человек всегда поступает так, как ему хочется. И вот я почти всегда поступал, как мне хотелось, и поступал я так даже в тех случаях, когда мне эта роскошь была совсем не по средствам, когда раздавался внутренний голос, пытавшийся урезонить меня во имя простого благоразумия, а то и долга перед семьей, перед обществом… Черта эта, если хотите, романтичная, — но, о господи, сколь неудобная.
Есть во мне еще одна черта, которая тоже повинна в моей относительной неудачливости. Каяться, так каяться, — во мне нет ни капли честолюбия, зато я в немалой степени страдаю пороком тщеславия. Эта черта чуточку постыдная и люди предпочитают в ней не признаваться, однако сколько самых даже перворазрядных людей этим пороком обладали, скольким он испортил существование и просто погубил их. Суетное тщеславие имеет то свойство, что оно способно удовлетворить человека сразу. Упиваясь сладостью удовлетворенного тщеславия, человек забывает принять надлежащие меры, чтобы данный успех упрочить, подвести под него фундамент, возвести вокруг него те укрепления, которые могли бы парализовать действие неизбежных враждебных сил. Эта форма удовлетворения суетного чувства становится еще опаснее, когда человек, которому выдался успех, не только ничего не предпринимает, чтобы успех упрочить, но из какой-то гордости навыворот сам старается преуменьшить значение его. Он надевает маску скромности, а иногда даже сам против себя интригует. Эта черта у нас, к сожалению, семейная. Она была очень выражена у моего отца. Я не страдаю этим дефектом в такой же степени, но все же я им страдаю, и выражение «самоуничижение паче гордости» мне знакомо по собственному и притом довольно горькому опыту.
Вот приблизительно таким я щеголяю на арене жизни. Если же теперь обратиться к моей духовной особе в ее интимных проявлениях, то тут получится нечто пестрое. Удивительно еще, что при этом не получилось уродливой какофонии. Напротив, духовная моя пестрота сочетается в нечто даже гармоничное и приятное, — так, по крайней мере, говорят близкие люди, друзья и широкий круг знакомых. В одном я могу поручиться, — я не злой человек и даже от природы я очень благожелательный человек. Во мне сильнее многих других чувств говорит известный альтруизм, выражающийся главным образом в желании доставить моему ближнему радость. На этом построена вся моя художественная деятельность и все то, что в ней есть неизбежно жертвенного. Но в то же время я никак не могу себя назвать в полном смысле добрым человеком и уж, во всяком случае, добродетельным. Последовать зову Христа или Франциска Ассизского «продать все и раздать бедным» я не в состоянии. Я не в состоянии себя настолько обездолить и тем менее расстаться с тем, что необходимо для моего духовного равновесия. Моментами я очень жалею, что я не богач и никогда им не был. Мне кажется, что тогда я бы находил особую радость в том, чтобы творить всякие благодеяния направо и налево, — однако спрашивается, хватило ли бы у меня выдержки для таких операций, хватило ли бы толковости? Скорее всего с богатством я просто не сумел бы справиться. А в конце концов, мне нравится, что я не обладаю какой-либо обеспеченностью, благодаря чему я как-то и безответственен, мне это состояние гарантирует ту свободу, которую я почитаю за необходимую мне роскошь.
Помянутая только что черта благожелательности находится в связи с другой, которая иным представляется какими-то моими педагогическими способностями. Это верно, что я оказал немалое влияние на развитие, на образование моих друзей и, в частности, на того, кто приобрел мировую известность, — на Дягилева. Но под этим не было и тени какого-то планомерного воздействия и тем менее чего-то педантичного. Просто, исполняясь восторгом от того или другого проявления человеческого гения и не будучи в силах нести один этот восторг, я бывал вынужден делиться им, мало того, навязывать его другим. Я навязывал свой восторг для их же пользы, — для того, чтобы и они порадовались так, как я радуюсь. При этом сила восторга во мне всегда такова, что я не терпел возражений и доходил в своем навязывании даже до насилия. Не имея никакого плана, я однако интриговал бессознательно и интуитивно, прибегая к некоторой системе для того, чтобы завербовать кого-либо (к кому я чувствовал влечение) в свой лагерь. Но, разумеется, мои эти интриганские приемы были не только чисты от какого-либо расчета материального порядка, но они не знали и велений честолюбия. Мне совсем не интересно было вставать во главе какого-либо движения, какой-либо группы лиц, и это отсутствие во мне честолюбивых замыслов приводило к тому, что даже там, где я бывал официально «начальником» по своему положению, я старался стать со своими подчиненными на товарищескую ногу, что, разумеется, не всегда способствовало моему авторитету. Эта страсть заражать других, этот прозелитизм не имел опять-таки в себе чего-либо общественного. Напротив, мое отвращение к тому, чтобы входить в контакт с толпой, было всегда непреодолимым. Оно и мешало мне выступать на общественном поприще. Ненависть эта, однако, не зиждется на каком-либо презрении к толпе — чувство, мне абсолютно неизвестное, страх же толпы носит у меня скорее патологический характер. Это еще один из моих неизлечимых и весьма невыгодных пороков.
Что же касается моего отношения к искусству, то надо различать два момента: я в одно и то же время любитель искусства (и знаток его), я и творец-художник. Иначе говоря, я являюсь и получающим и дающим субъектом.
Мой интерес к художественным произведениям, естественно приведший меня и к «знаточеству», стал проявляться с очень ранних лет. Скажут, что, рожденный и воспитанный в художественной семье, я просто не мог избегнуть такой семейной заразы, что я не мог не интересоваться искусством, раз вокруг меня было столько людей, начиная с моего отца, кто знали в нем толк и обладали художественными талантами. Однако среда средой (не мне отрицать ее значение), но все же, несомненно, во мне было заложено нечто, чего не было в других, в той же среде воспитывавшихся, и это заставляло меня по-иному и с большей интенсивностью впитывать в себя всякие впечатления. В старину это называлось «священным огнем», «благодатью Аполлона», теперь эти выражения кажутся смешными, но мне они представляются не пустой риторикой, а сущей простой правдой. Бывают натуры почему-то более отзывчивые, более горящие, нежели другие. Что касается меня, то горение во мне было (и продолжает быть) такой силы, что оно даже доставляло мне страдание, — страдание, связанное с величайшей радостью и тем самым имеющее в себе нечто родственное с наслаждениями любовными…
При этом я вовсе не хочу сказать, чтобы это горение было всегда вызываемо предметами, заслуживающими поклонения. Да и не в том дело, чтобы иметь какой-то абсолютный вкус, не в том, чтобы разобраться так, как разбирается какой-либо ученейший профессор эстетики. Вкус вырабатывается постепенно, к тому же я и сейчас затруднился бы назвать те объективные признаки, согласно которым можно одно почитать вполне за соответствующее хорошему вкусу, а другое нет. Испошленная поговорка «о вкусах не спорят» в основе своей права. Важно, чтобы этот личный субъективный совершенно беспринципный вкус вообще был, чтобы человека к чему-то непреодолимо влекло и чтобы он обладал способностью радоваться тому, к чему этот вкус его приводит. Такое наличие дара вкуса я в себе и констатировал во все времена. В детстве, естественно, эти влечения не были мной осознаваемы, но это вовсе не лишало их силы. Я живо помню, как мальчуганом четырех лет мной овладевал своего рода транс перед той или другой картиной или перед каким-либо музыкальным произведением, и я помню, в какую ярость я впадал, когда мне в этом перечили или, что еще хуже, позволяли себе над тем, что мной отмечено, смеяться. Бывали случаи, когда я почти заболевал от какой-то обиды за что-либо, давшее мне радость, — причем в нашем доме такие проявления неврастенического порядка отнюдь не были чем-то принятым и привычным. Ведь отец мой, при всей художественности своей натуры, был человек вполне уравновешенный, а уже о матери моей и говорить нечего. И вот как раз мамочкино равнодушие в отношении к чему-либо, мне особенно понравившемуся, вызывало во мне род бешенства. Природная чуткость подсказывала ей, как поступать, как меня успокоить, и эти приступы «священного гнева» против нее кончались моим раскаянием — отнюдь, однако, не сопровождавшимся какой-либо сдачей позиций по существу.
Но вот в этом горении не было никакой системы. Будучи одарен вкусом ко всевозможным и очень разнообразным явлениям, я и загорался от соприкосновения с ними в одинаковой степени. Это затрудняет меня ответить даже на вопрос — к чему именно у меня было определенное призвание творческого порядка… Случилось на самом деле так, что я избрал своей основной карьерой живопись, и живопись привела меня к театру, но иногда мне кажется, что могло совершенно так же случиться, что основной карьерой я бы выбрал музыку, архитектуру или актерство, причем весьма вероятно, что каждая из этих профессий меня также привела бы к театру. Выходит, что мое настоящее призвание есть театр…
В качестве курьеза я здесь должен сказать, что при множественности вкусов, влечений и связанных с ними талантов, я все же страдаю и отсутствием некоторых из них. Так, я абсолютно бездарен к скульптуре и стихотворству. В сознании этого я даже никогда не пробовал свои силы в этих областях. Да и к музыке у меня проявляется своеобразная бездарность или что-то вроде частичного паралича. Музыка является как бы основной стихией всего моего отношения к искусству и особенно к театру; музыка способна вызывать во мне наиболее сильные эмоции и потрясения, а в моей театральной деятельности именно музыка порождала наиболее счастливые идеи и как бы поддерживала меня в творческом процессе. И наоборот, там, где я должен был обходиться без музыки (например, в постановке драматических произведений), я лишался какой-то очень верной опоры. Я и творчески не бездарен в музыке. Если мои импровизации и уступают блестящим импровизациям моего брата Альбера, то все же и они бывают удачными и «чуть ли не вдохновенными». При всем том, и несмотря на бесчисленные уроки музыки (фортепьянной игры), я так и не выучился самым элементарным правилам, без которых нельзя серьезно посвящать себя музыкальному творчеству. Так, например, я очень плохо читаю по нотам, в особенности то, что касается ритма и такта, — причем страннее всего то, что в своих импровизациях я без труда и без явных ошибок этих правил придерживаюсь. Возможно, что повинна в такой аномалии неправильная (или мне лично не подходившая) система преподавания, но возможно, что это своего рода органический дефект, повторяю, нечто вроде частичного паралича.
Такой дефект сказывался и на моем отношении к стиху. И здесь можно отметить некоторые курьезы, которые представляю на обсуждение специалистам по художественной психологии. Первый курьез — это моя неспособность понимать что-либо словесное во время того, что слышится музыка. Мне даже доставляет настоящее мучение то усилие, которое я делаю, чтобы схватить смысл спетых мною слов. И одновременно я совершенно лишаюсь слова, когда слух мой занят музыкальными звуками — будь то даже гаммы и арпеджио. Я их начинаю слушать, я принужден их слушать и при этом теряю контроль над собственными мыслями. Нечто аналогичное происходит во мне и при слушании стихов. Ритм их начинает меня баюкать, как бы усыплять мое внимание и настолько, что я перестаю (в данном случае) понимать смысл слов. Разумеется, мне удается преодолевать эту свою парализованность; мало того, когда я слушаю какую-либо уже хорошо мне известную оперную арию или романс, одновременное воздействие музыки и слов, этих двух элементов, помогает мне и понимать, и наслаждаться, однако именно то, что предварительно я нуждаюсь в каком-то усвоении отдельно того и другого, показывает, что где-то в моем воспринимательном аппарате имеется дефект, своего рода мешающая перегородка…
Не присутствие ли этой именно «перегородки» повлекло меня к балету, к искусству немому, выявляющемуся не в чуждых музыке словах, а в естественно рожденных музыкой движениях тела и лица? Упоение, испытываемое мной при «глядо-слушании» какой-либо сцены «Коппелии», «Спящей красавицы», «Щелкунчика» или «Петрушки», не может идти в сравнение ни с чем. Вот когда я испытываю поистине божественные эмоции. В глубине души я даже уверен, что если «Кольцо нибелунга» было бы лирико-мимодрамой, то оно бы действовало еще сильнее, нежели оно действует сейчас, что, впрочем, не значит, чтобы я не испытывал при слушании оперной версии этого бесподобного произведения величайшее наслаждение.
Что еще сказать о характере моей особы? При изложении фактов моей жизни этот характер неминуемо будет сам собой выявляться в большей или меньшей степени, но здесь не бесполезно, хотя бы для самого себя, в качестве упражнения на тему все того же «познай самого себя» выделить те черты характера, с которыми я родился и которые если с годами и притупились, то все же остались во мне и по сей день. Однако я теряюсь, куда отнести эти приметы — к характеру или к темпераменту? Одной такой чертой является, во всяком случае, вспыльчивость. Она и по сей день внутри меня — совсем такая же, какой она была в раннем детстве, когда я в минуту овладевавшего мною бешенства ломал игрушки, рвал на себе одежды и колотил няньку. В столь же бурных и эффектных выражениях эта черта ныне, разумеется, больше не проявляется, но не проявляется она единственно… из какого-то чувства самосохранения, однако это вовсе не потому, что я боюсь, как бы не наделать непоправимых бед, а потому, что я боюсь, как бы не совершить какую-либо глупость, не сотворить поступка совершенно не соответствующего моему же отношению к данному случаю… Сколько раз в былое время я успевал что-либо выпалить несуразное и смертельно обидное, прежде чем я вообще что-либо мог сообразить. Мной в буквальном смысле слова овладевает нечто вроде вдохновения, род гневного экстаза, в котором уже не остается и тени самокритики. Лишь накопившиеся за долгую жизнь раскаяния за такие ужасно недостойные, в аффекте произнесенные речи привели, наконец, к тому, что сейчас потребовалось бы уже нечто совсем чрезвычайное и при совершенно исключительных обстоятельствах, чтобы я опять дал волю своему гневному экстазу.
Другая характерная черта сказывается в моем отношении к работе. Здесь я еще более во власти вдохновения. Пока это вдохновение владеет мной, до тех пор я работаю удачно, идеи роями кружатся в голове, просятся наружу. Я буквально не успеваю их фиксировать, а те, которые я успеваю, те меня самого иногда удивляют своей неожиданной удачливостью. Увы, так же неожиданно, как является вдохновение, оно без предупреждения и исчезает. Когда я меньше знал себя и не был научен опытом, то часто пробовал реагировать против этих капризов своей музы, я упорствовал в разработке того, к чему почувствовал охлаждение. Но тогда я неминуемо портил то, что делал, а за порчей следовало отчаяние, желание все бросить и скрыть свой стыд перед другими и перед самим собой. Припадки такого бессилия не раз приводили меня к тому даже, что я бросал и запускал на месяцы, а то и годы начатую работу. Но со временем я понял, что эти размолвки с музой — нечто весьма безрассудное, и у меня постепенно выработалось подобие творческой системы, которой я строго придерживаюсь. С одной стороны, я слежу за соблюдением правила «ни дня без строчки» и изо дня в день, как всякий другой профессионал, не ожидая вдохновения, я совершаю известный урок, исполняя только такие работы, которые, будучи необходимыми в общей экономике творчества, все же не требуют особенного возбуждения. Когда же наступает момент «призыва к священной лире», то я отдаюсь этому велению всецело, и тогда мне выдается счастье совершать своего рода подвиги — в какие-нибудь два-три часа мне удается сделать то, на что нормально потребовались бы недели… И мне это действительно удается, т. е. то, что я делаю в такие минуты, мне самому нравится.
Мне не хотелось бы, чтобы эти последние черты моего автопортрета были бы приняты за безвкусное хвастание. Потребность в хвастанье во мне с годами исчезла совершенно так же, как потребность в лганье (а каким я был лгуном в детстве и в отрочестве, и талантливым лгуном!). Если же я только что упомянул слово «удача», то это отнюдь не в объективном, а исключительно в субъективном смысле. Для данного вопроса (о моем темпераменте и о том, как он сказывался на моей работе) вовсе не важно, действительно ли хорошо мною рождаемое. Во всяком случае, в своем творчестве я лишен холодного расчета; я всегда нуждаюсь в некоем горении. Вот почему нельзя от меня требовать какой-либо выдержанности. В свою очередь эта же черта располагает ко всему тому, в чем с особой яркостью сказывается «искра Божия». Я в некотором смысле даже эксперт именно в этой области.
Я отличаю, где светится подлинная искра, а где только ее отблеск или даже просто подделка под нее. За наличие подлинной искры я готов многое простить, но в то же время я исполняюсь безграничного благоговения перед теми явлениями в искусстве, в которых эта искра разгорается в целый костер, особенно к таким явлениям, в которых такой пожар приобретает характер чего-то стройного, в которых стихийное начало вдохновения сочетается с направляющей и сдерживающей волей. Воля бывает подчас чем-то и губительным в искусстве, она приводит к нарочитости, но мы знаем такие гениальные натуры, в которых воля, и к тому же воля разумная, воля в дивной гармонии сочетается с бурей стихийности. Мы этих избранников потому и называем гениями, потому мы перед ними и поклоняемся, как перед божествами. Их творчество есть сплошное чудо чудесное и какая-то подлинная благодать Аполлона. Увы! Таких чудес мне не дано было совершить. Да и мало кому в нашу эпоху это было дано.
Теперь два слова о характере моего творения, преимущественно живописного. Характер, впрочем, я прошу не смешивать с направлением. Что касается до направления, то таковое просто во мне отсутствует. Я природный враг направления, т. е. чего-то предвзятого, что подчиняет свободу творческого излияния. Эта-то моя враждебность выразилась и в том, что и журнал нашей группы «Мир искусства» был лишен какого-либо направления; он даже выступал в качестве борца против всякого направленчества. Мы повели борьбу против всего того, что в русском художестве отражало идейные принципы предыдущего поколения. Для этого же поколения принцип свободного творчества не существовал. Целью искусства для него было общественное служение, способствующее проведению в жизнь известных полезных для общества идей. Моим главным оппонентом в данном вопросе был мой друг Дмитрий Философов, но моя твердая «беспринципность» одержала верх над его слишком туманной тенденциозностью… Отсутствие определенной идейности перешло затем и в наше театральное дело — в частности, им отличались и наши русские балеты.
Возвращаясь еще к характеру моего творчества, я должен отметить определенное влечение к тому, что принято называть реализмом. Мои любимые художники в прошлом и в настоящем — фантасты, но только те фантасты среди них действительно мои любимцы, которым удается быть убедительными, а убедительность достигается посредством какого-то «стояния на земле» и глубокого усвоения действительности. Можно сказать, что в этом мои коренные симпатии гармонируют с эволюцией вообще всего европейского искусства, которая происходила под знаком именно усвоения действительности. Скульптура готики, Ван Эйк, Фуке, Боттичелли, Беллини, Рафаэль, Тициан, Брейгель, Рубенс, Рембрандт и еще сколько самых чудесных мастеров — это все великие знатоки жизни, это художники, творившие произведения ирреальные и фантастические по существу, однако убедительность коих покоится не на чем ином, как на бесподобном знании видимости — на реализме. Напротив, мне чужда живопись отвлеченная, и меня не удовлетворяют те художники, произведения которых выдают небрежное и нелепое отношение их творцов к природе, а то просто игнорирование ее. Я вовсе не хочу этим сказать, чтобы и среди такого художественного творчества не было ценных явлений, но пламенность моей симпатии к мастерам, знавшим толк в действительности, бесконечно превосходит то холодное внимание, которое я уделяю мастерам, действительность игнорирующим…
Одной из особенностей моего личного творчества является определенное тяготение к прошлому. К такому тяготению приложено некрасивое слово «пассеизм», и для удобства терминологии пусть оно за ним и останется. Во мне пассеизм начал сказываться как нечто совершенно естественное еще в раннем детстве, и он остался на протяжении моей жизни тем языком, на котором мне легче, удобнее изъясняться. Своим пассеизмом я заразил и моих лучших друзей — Сомова, Бакста, Добужинского и даже Дягилева. Сильный пассеистский привкус был присущ, исключительно благодаря моему влиянию, «Миру искусства», и тот же пассеистский привкус был присущ и постановкам всей нашей группы, — особенно же моим собственным постановкам. Откуда взялся этот пассеизм, это страстное желание вернуть к жизни прошлое, воскресить его, я не знаю, но возможно, что тут сказалось то, что в своем престарелом отце я имел «живое прошлое». В его рассказах, в его рисунках воскресал не сегодняшний день — а времена его далекой молодости и детства. Я и XVIII век мог считать своим уже потому, что мне через моего деда, родившегося еще в дни Людовика XV, Фридриха II и Екатерины II было как рукой подать до той эпохи. Многое в прошлом представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам, какого-нибудь современника Людовика XV мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре, моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в «плане современности»… Из выдумок Уэллса мне особенно соблазнительной показалась «машина времени», но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед, в будущее, а легонечко, постепенными переездами и с долгими остановками по дороге, посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно, я в одной из этих станций и застрял бы навеки. Но очень далеко я бы при этом не забирался.
Резюмируя все сказанное, я ничем похвастать не могу. Если же все-таки я решаюсь поднести все то, что стоит на дальнейших страницах этой книги, то это не из какого-то самомнения, а из-за того, что память моя содержит слишком много таких вещей, которые мне кажутся достойными передачи потомству… Я был свидетелем последних лет необычайно пленительной (несправедливо и бессмысленно охаянной и оклеветанной) культуры, и я имел случай наблюдать ее с разных точек зрения, пребывая в разнообразных слоях общества… Это и позволяет мне надеяться, что мой труд представляет известный общий интерес. Если в памятнике, который я таким образом дерзаю сооружать собственными руками данному отрезку истории, слишком много (и даже поминутно) говорится обо мне самом, то это объясняется и оправдывается уже тем, что я и сам был творческим участником в данной культуре. Кроме того, я большой любитель до воспоминаний (когда они правдивы и подлинны) и нахожу, что именно личные мемуары наиболее убедительно и ярко отражают описываемое время. В том же, что я буду по мере моих сил честно правдив (не всегда удается отделить поэзию от правды) и по возможности точен — я здесь даю читателю клятвенное обещание.
ГЛАВА 24 Родительский дом
Невозможно продолжить мой рассказ, не описав ту обстановку, в которой протекли в составе общей жизни нашей семьи мое детство, отрочество и юность. Я говорю о нашей городской родительской квартире. Родители мои въехали в нее сразу после своей свадьбы в 1848 году, и в ней же и папа и мама прожили до самой смерти.
Квартира эта осталась в моей памяти как нечто целое и продолжающее существовать в своей целостности, тогда как уже более полувека она не существует и перестала быть нашей. Впрочем, и в те времена, когда она была нашей, она вовсе не во всех своих частях оставалась неизменной. Несколько раз комнаты меняли свое назначение. Так, «моей» комнатой становилась то одна из комнат, выходивших во двор, то ее смежная; переезжали и мои родители, уступая свои покои внукам. Это бывало, когда кто-либо в семьях моих сестер заболевал заразной болезнью и все здоровые дети с матерями и няньками перебирались к дедушке и к бабушке. Столовая тогда переносилась в кабинет, кабинет в чертежную и т. д. Но всегда неизменно оставались передняя и зала; лишь на время танцевальных вечеров, балов последняя меняла свой характер гостиной — середина освобождалась от мебели, специально сгруппированной для приема визитов, а род гостиной тогда устраивался в соседней Зеленой, служившей вообще разнообразным назначениям.
То обстоятельство, что «дом Бенуа» был нашим родительским домом в полном смысле слова, сыграло значительную роль во всем моем начальном мировосприятии, приблизительно такую же роль, какую играют для других людей родовые усадьбы или замки. В смысле своего кубического содержания дом Бенуа, помещавшийся по Никольской улице (впоследствии переименованной в улицу Глинки) под номером 15, мог, во всяком случае, вполне сравниться со средней величины замком, а так как в известный момент значительная часть его четырех этажей была занята разными членами семьи нашей, то в целом это и составляло род семейной твердыни или патриархального клана. Для психологии мальчика, имевшего в своем распоряжении совершенно необычайное количество комнат, имевшего на правах близкого родного доступ повсюду и во всякое время, считавшего и самые лестницы, соединявшие разные этажи, за части своего обиталища, все это расширяло и разнообразило «ощущение своего». Оно воспитало и какое-то чувство защищенности в отношении всего окружающего, — здесь, мол, я настоящий хозяин и никто меня тронуть не может. Наконец, будучи домом старым, уже обретавшим в своих стенах моих прародителей, он был напитан атмосферой традиционности и представлял собой какую-то верность во времени. Не я и не мы только находили в этой крепости свое убежище, но здесь уже жили и папа с мамой, и дедушка с бабушкой. Почти сто лет назад владели они все этим домом — срок для мальчика огромный, в особенности в городе Петербурге с его всего двухсотлетним прошлым.
Купил дом мой дед наполовину построенным еще в дни царствования Павла I, кажется, в 1799 году. Вначале дом Бенуа был всего в три этажа, но в архитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежели каким он стал потом: он даже был настолько красив со своими группами тройных окон под полукруглыми арками, что его можно было приписать самому Кваренги. К сожалению, папа, которому дом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстроил еще один этаж, и это обезличило фасад, ибо хотя тройные окна и остались, но как раз типичными полукружиями над ними пришлось пожертвовать. Зато сохранились в целости прелестные маски над окнами нижнего этажа. Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону рожу с разинутым ртом, другая очень миловидную улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой прической. Чередование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии.
Нетронутой осталась и характерная парадная лестница. Она начиналась внизу с прямого, ведшего вглубь коридора, под убранным сочными розетками сводом, а затем сворачивала влево и опять подымалась широкими всходами между массивными столбами; на каждом повороте открывалась своеобразная перспектива. Все это носило тяжелый и несколько мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного. Я был убежден, что фамильные тени продолжают бродить именно по этой оставшейся нетронутой лестнице и должны были встречаться с нами, с их живыми потомками. При луне или тусклом сумраке белых ночей, да и освещаемая отблеском единственного фонаря, продолжавшего гореть на дворе всю ночь, наша парадная превращалась в настоящую декорацию для драмы, хоть никаких драм и трагедий в нашем доме за все мне известные периоды, слава Богу, не произошло.
По простоте тогдашних нравов, как уже упомянуто, наша парадная не отапливалась, и в ней не было швейцара. Лишь дежурный дворник, завернувшись в свою шубу, дремал ночью снаружи в любой холод у входных дверей. До полуночи лестница освещалась газом, рожки которого были заключены в большие стенные фонари, сохранившиеся от времен, когда она освещалась масляными лампами. На ночь эти фонари тушились. Дверь нашей квартиры была со стороны лестницы обита для тепла черной клеенкой, а прибитая на ней гладкая медная дощечка курсивными буквами гласила, что здесь проживает Николай Леонтьевич Бенуа, архитектор. Звонок был старомодный — надлежало дернуть за рукоять в медной чашечке, чтобы он зазвонил, но звонил он и в передней и в конце длиннейшего коридора у двери в кухню. Замок на входной двери был особый, довольно замечательной конструкции. Изнутри он открывался поднятием железной подковы, снаружи же можно было его открыть только посредством особого ключа, состоящего из стальной палочки, конец которой, будучи введен в круглое отверстие замка, перегибался (спадал) и таким образом достигал конца помянутой подковы; подкова от нажима поднималась, и дверь была открытой…
Когда я получил (лет 15-ти) разрешение возвращаться домой ночью в такие часы, когда уже все спали, то, чтобы не будить прислугу, мне разрешалось брать этот фамильный ключ, и мне до сих пор памятно ощущение холодного, гладкого, перегибающегося стержня, который я нащупывал в кармане пальто. Отчетливо запомнился и звук открываемой им двери, — звук, означавший днем возвращение папы со службы. Характерно для моего отца, что он старался никого и никогда не беспокоить. Войдя к себе без звонка, он сам стаскивал и вешал свою тяжелую шубу; без посторонней помощи снимал он и старомодные калоши, что не всегда сразу удавалось.
Любил ли я нашу квартиру, нравилась ли она мне? На такие вопросы трудно ответить. Многое мне в ней даже определенно не нравилось, особенно после того, как движимый своей отцовской нежностью папа вперемежку с хорошими картинами и гравюрами стал вешать на стенах подношения своих детей и внуков; кто-то из них изуродовал росписью и абажур висящей над его рабочим столом лампы, в зале был поставлен громоздкий турникет для гимнастических упражнений, а Коля Лансере тут же держал свой велосипед. Возмущен я был и проникновением в парадные комнаты банальных венских стульев гнутого дерева. Впрочем, я и в исконной обстановке многое критиковал, многое (и не без основания) мне казалось мещанским, уродливым и нелепым. Родители мои с годами все меньше и меньше обращали внимания на декоративную сторону жизни, еще меньше на нее обращала внимания поселившаяся в 1886 году у нас сестра Катя, а то, что пришлось в квартире разместить ее шестерых детей и бонну, произвело то, что несколько комнат получили (несмотря на соблюдавшуюся опрятность) сходство с цыганским табором. Я же мечтал о великолепных апартаментах дворцового характера или хотя бы о том изяществе, которое я видел у бабушки Кавос, у дяди Сезара, у дяди Кости или у моего богатого брата Леонтия.
Да и не вполне уютно было у нас в квартире. Начать с того, что анфилада комнат, выходившая на улицу, лишь утром освещалась солнцем, да и то как-то сбоку, в остальное же время дня ее затемнял фасад дома петербургского губернатора. Когда же солнце после полудня ударяло в этот фасад, то наша квартира наполнялась рефлексами, которые сообщали ей какую-то специфическую меланхоличность, и это приобретало даже щемящий характер как раз в яркие, радостные весенние дни. Кроме того, подоконники в парадной половине были заставлены так называемыми «цветами», т. е. вечнозелеными тропическими растениями, отнимавшими значительную часть света.
Я не стану делать подробного инвентаря нашей квартиры, хотя и помню ее в мельчайших подробностях и хотя я был бы так счастлив познакомиться с подобным инвентарем, касающимся обиталища кого бы то ни было из близких моему сердцу художников прошлого. Не решаюсь же я это сделать из опасения, как бы такое описание не выросло в целый трактат.
Но вот спрашивается, была ли обстановка родительской квартиры характерна для нашей среды, для профессии отца и отвечала ли она вполне домашним традициям. На эти вопросы я только отвечу: наша обстановка, во всяком случае, не была выдержанной, а представляла собой смесь разных типов обстановок. Передняя была, как всякая передняя в «хорошем доме», с обязательными громоздкими вешалками, с длинным ампирным зеркалом над подзеркальником красного дерева. Особенностью нашей передней было лишь то, что для сидения служил большой деревянный ларь светлого дерева с волютами на боках и что спинкой этому ларю служила дверка, закрывавшая специальный шкаф, занимавший всю толщину стены и хранивший особенно ценные вина. Необходимой принадлежностью во всякой передней в то время был и большой красного дерева барометр. Наш был конца XVIII века; он хронически бездействовал или врал.
Из передней дверь вела в длинную и глубокую залу, выходившую окнами на Никольскую улицу. Простенок между окнами был занят зеркалом во всю высоту стены, но оно было перегорожено подстольем, на котором красовались бронзовые золоченые часы и канделябры с пышными, круглыми амурами. Намекая на принадлежность к художеству нашей семьи, один из этих putti держал циркуль, другой палитру, а у ног их валялись бюст, фолиант и тому подобное. Из-за того, что подстолье перегораживало зеркало, я мог любоваться своим отражением в нем (во время танцев) лишь до пятилетнего возраста, когда вся моя фигура целиком умещалась в нижнем отделении; но затем моя голова стала все более и более обрубаться сверху, и в конце концов я уже плясал в зеркале обезглавленным. Ничто так ясно не показывало мне, что я расту…
В зале надлежало быть фортепьяно (слово «рояль» привилось позже), стенным бра, люстре и той группе мебели, которая служила специально для визитов. Фортепьяно у нас было, но это не был ни Бехштейн, ни Блютнер, ни даже Шредер или Беккер, а это был почтеннейший длинный (палисандровый, а не черный) Гентш, что и было начертано курсивной надписью, инкрустированной над клавиатурой. Каждый новый настройщик при виде этой надписи говорил одно и то же (чаще по-немецки, ибо все настройщики были немцами): «Ах, у вас Гентш, это прекрасная, но уже давно не существующая фирма». Может быть, фирма и была когда-то прекрасной, но, увы, звук Гентша был сухой и холодный, а клавиши туго поддавались пальцам. Это, однако, не мешало Альберу и моей кузине Нетиньке (о ней дальше) извлекать из этого инструмента то бурные, то нежные, то заразительные плясовые и душу веселящие звуки. При разделе наследства я выпросил Гентша себе, но принужден был отрезать ему треть хвоста, иначе он не влезал в небольшие комнаты нашей квартиры. Когда я прощался со всей моей обстановкой в момент отъезда навсегда из Петербурга в 1926 году, мне особенно тяжело было расстаться именно с этим старым другом.
Насупротив фортепьяно помещался помянутый уголок для визитов. То был полученный мамой в приданое ансамбль туровского производства (Тур, как и Гамбс, были знаменитыми мебельщиками в середине XIX века), и состоял он из большого дивана, двух бержерок, четырех кресел, двух кушеток и нескольких стульев. Дерево этой мебели было темно-ореховое, крыта же она была синим капитонированным бархатом. Форма этой мебели была тяжелая, но все вместе создавало все же довольно внушительное и уютное целое, а когда на этом бархате сидели дамы в пышных тогдашних шелковых платьях, то получалось в общем и нечто парадное. Настоящую же парадность этому месту придавал превосходный портрет мамы в молодости работы художника Капкова, вставленный в роскошную золоченую раму, висевший над диваном (ему соответствовала на противоположной стене овальная пастель работы модного в 50-х годах Беллоли, изображавшая папу тоже в сравнительно еще молодых годах). На столе перед диваном стояла (покоясь на гарусном, имитирующем траву, плато) фарфоровая лампа с букетом цветов на белом фоне. Под столом лежал пестрый ковер обюссон с желтыми разводами и крупными, яркими цветами. Этот ковер подвергался всяким испытаниям — в тех случаях, когда, вытащенный на середину залы, он, несмотря на протесты мамы, служил для наших игр. В сложенном пополам виде он становился чем-то вроде салазок для съезжания с той горы, которую папа устраивал на время гощения своих внуков, на этом же ковре в течение пасхальной недели производилось катанье яиц, и случалось, что кто-нибудь раздавит яйцо под ногой, и тогда желток проникал в бархатистый ворс; наконец, во время елочных торжеств тот же ковер терпел от леденцов, изюма, пряников и капающего со свечей воска. Но, видно, добротность нашего обюссона была на высоте испытаний, ибо он и сорок лет спустя, после бесчисленных чисток, находясь на службе у Альбера, продолжал являть всю свою цветистость и яркость, нигде не обнаруживая ни дыр, ни пятен.
В детстве я особенно гордился этим ковром, а также тем небольшим золотым шкафиком, что стоял на углу зала, а также тем, что на нем стояло. Шкафик был в стиле буль (что это не был настоящий старинный boulle, разумеется, не играло в моей оценке никакой роли), черно-мраморную его доску поддерживали золоченые амурчики-кариатиды, а вся лицевая сторона была густо забрана орнаментом из медной и черепаховой инкрустации. В замке же торчал чудесный, узорчатый, золоченый (золотой, как мне казалось) ключик. Таким именно ключом, думал я, должна была запираться та комната, в которую был запрещен вход жене Синей Бороды. Однако, когда я повертывал ключик и открывал шкаф, глазам не представлялись какие-то ужасы, а напротив, по полкам здесь были расставлены особенно драгоценные книжки. Верхняя полка была занята роскошными молитвенниками (служебниками, пасхальными молитвословиями, требниками, бревиэрами), ниже стояли фолианты, среди коих я особенно любил «Франко-английский журнал» с литографиями Гюстава Доре и альбом «Мозаика Салонов», на нижней же хранились модные журналы молодости мамы, в которых была масса тонко раскрашенных картинок, представлявших дам в широченных кринолинах и ярко-цветистых платьях. Самый такой проволочный кринолин где-то хранился у нас, и, быть может, мама считала, что он еще пригодится, «к этому еще вернутся».
Комната направо от зала называлась по цвету своих ярких обоев Зеленой. Она служила одно время мне спальней: из нее был выход на балкон — любимое мое местопребывание в летние дни. В глубине Зеленой висели две большие венецианские перспективы XVIII века, а по бокам зеркала на кронштейнах, над комодом рококо жеманно позировали золоченые и пестро раскрашенные арапы, произведения той же Венеции и того же времени. Налево из зала был выход в коридор, а ближе к окнам дверь в папин кабинет.
Совсем же в углу залы папа пробил в стене того выступа, которым средняя часть фасада выдавалась на улицу, маленькое окошко — специально для того, чтобы можно было любоваться видом на всю улицу и на Театральную площадь — на манер того, как это допускают английские выступающие окна. Вид на Мариинский театр был закрыт рядом домов, примыкавших к нашему, зато Большой театр с его строгим колонным портиком был виден как на ладони. Ближе к нам, справа, на самом углу площади и улицы, стоял милейший особняк XVIII века графов Мордвиновых, в саду которого за решеткой иногда содержались медвежата. Перспективу Никольской улицы завершало красное здание казарм Флотского экипажа, и в нем жила та, которой было суждено стать моей подругой жизни. В глубокой амбразуре маленького окна всегда лежал молитвенник папы, и в те воскресенья, когда он почему-либо не мог попасть в церковь, он здесь, перед окошком, глядя на далекие купола Благовещенской церкви, прочитывал про себя обедню.
Двери в кабинет также заслуживали внимания. Впрочем, не самые двери, состоявшие из двух створок и глубокой коробки, а вот то, что в притолоке были ввинчены крючки, на эти же крючки вешались детские качели. Вся любовь отца к детям и все его балование их выразилось в этой подробности. У какого другого, занятого, вечно что-то писавшего и проверявшего человека можно было бы встретить подобное попустительство? Ведь эти качели действовали не только тогда, когда папы не было дома или когда он отдыхал (последнее случалось иногда по вечерам, после обеда), но и во всякие другие моменты, невзирая даже на то, что у отца сидели какие-либо служащие, пришедшие к начальнику с докладом. Какого мнения о слабости папы должны были быть эти господа, принужденные из-за нашей шумной возни повышать голос и мучительно прислушиваться к тому, что им говорил папа. В пяти шагах от их беседы Шуренька, Женяка Лансере или Джомми Эдвардс предавались наслаждению взлетать на воздух и оказываться то в зале, то в кабинете. Лишь иногда папа при таких упражнениях терял терпение или мама подоспевала к нему на помощь, останавливала качающихся и убеждала их, взывая к совести и к деликатности, отложить игру на потом. Не могла не раздражать папу и наша тут же за стеной игра на рояле, о чем я говорю в другом месте.
Папин кабинет был самой уютной комнатой всей квартиры. Он был квадратный в плане, с двумя окнами на улицу. Посреди стоял сделанный по собственному рисунку папы крытый черной клеенкой письменный стол в готическом стиле. На столе, на специальном плато с желобами лежал набор циркулей, карандашей, резинок; тут же стояла бронзовая группа Лансере, изображавшая чумацкий воз. Чернильница у папы была необыкновенная, фарфоровая, со своеобразной системой наполнения и опорожнения того сосудика, в который макалось перо. Кроме плато и чернильницы на столе кабинета всегда находилось бронзовое дупло с воткнутым в него топориком для отрезания кончиков сигар и ящик с вышитым букетом под стеклом, в котором хранились марки, сургуч и стальные перья. Этот ящичек был привинчен к столу во избежание того, чтобы его уносили. Перед столом стоял крытый кожей превосходный дубовый стул петровского времени, вроде тех, что приписывают Чиппенделю. Вся же остальная мебель была конца XVIII века и сделана из карельской березы. Это была русская крепостная работа, несколько грубоватая, но форма стульев и кресел отличалась оригинальностью. Спинкой служил выгнутый овал, ручки же подпирались дельфинами (чешую которых я любил ковырять), а ножки представляли собой что-то вроде перевитых лентами прутиков. Крыта была эта мебель полосатым зеленым с черным штофом.
Оригинальный столик XVIII века красного дерева стоял позади папиного стола у стены. На нем под стеклянным колпаком красовался изумительно резаный в буковом дереве конь — копия с одного из коней, что украшают фасад св. Марка в Венеции. Эта скульптура приписывалась Брустолоне, но мне теперь кажется, что это была немецкая работа XVI века. На камине в углу перед зеркалом в раме XVII века стоял серебряный слепок с знаменитого кубка, приписываемого Бенвенуто Челлини, и толпилась всякая бронзовая мелочь. Доставшийся от деда Бенуа красивый библиотечный шкаф красного дерева был весь набит ценными увражами по архитектуре и искусству.
Но главным украшением папиного кабинета служили фамильные портреты, развешанные по стенам. Папа гордился тем, что, благодаря этим портретам, у него «совсем, как у царя», но, кроме такого тщеславного чувства, у него был к этой портретной галерее настоящий и очень глубокий пиетет. Ему казалось, что все близкие ему и маме люди находятся вокруг него, а следовательно, что смерть не нарушила связей, соединивших разных членов семьи. Наиболее художественные из этих портретов принадлежали кисти французских мастеров начала XIX века — Буало и Куртейля. Очень хороши были также акварельные портреты прадеда Кавоса работы Осокина, портрет тетушки Стефани — Нечаева и посмертный портрет матери моей мамы работы неизвестного мастера. Акварельный портрет работы Горавского изображал давно уже скончавшегося дядю Мишеля Бенуа, старшего папиного брата, в полковничьем мундире нараспашку, сидящим верхом на стуле с предлинным чубуком в руке. Наконец, между окнами висела английская гравюра со знаменитой картины Дзоффани, представляющая натурный класс в Лондонской Royal Academy, а над столом с конем Брустолоне красовались те две дивные сепии Гварди, которые по смерти отца достались мне и которые, увы, в эмиграции я вынужден был продать.
В углу кабинета, у двери в столовую находилось мамино место — четырехугольный стол и кресло; над ними висела полка, где были разложены толстые поварские книги, лечебники, словари; там же стояли всякие медицинские снадобья, среди них гомеопатическая аптечка, банка с «жизненным эликсиром провизора Шуппе» и другие баночки поменьше с оподельдоком — зелено-желатинной мазью для растирания. У мамы, при всем ее скептическом отношении к докторам, была слабость ко всяким таким домашним панацеям. В гомеопатию же она как-то и верила и не верила; во всяком случае, она придерживалась мудрого взгляда: если это и не помогает, то и не вредит.
Вечером, когда кабинет освещался висячей лампой над папиным письменным столом (в это время папа уже кончал работу и занимался раскладыванием пасьянсов или каким-либо клеением), к его столу приставлялся другой стол, и у последнего, рядом с мамой, размещались вечерние завсегдатаи: тетя Катя Кампиони, кто-либо из братьев или сестер, нередко Артюр Обер, по понедельникам же неизменно тетя Лиза Раевская, успевавшая между обедом и отправлением в театр пробыть здесь часок в обществе своей дорогой Камиль.
Остается еще упомянуть о столовой и о моем кабинете, который можно считать колыбелью «Мира искусства». Остальные же комнаты служили спальнями и были меблированы на чисто утилитарный лад, а если в той или другой из них висела какая-либо картина или стоял какой-либо интересный предмет, то это была игра случая. Исключения не составляла и спальня моих родителей, особенно с тех пор, как вся специальная меблировка была вместе с супружеской двухспальной кроватью роздана в приданое моим сестрам, а зеленая альковная занавеска на кольцах (та самая занавеска, из-за которой папа меня голеньким показывал восторгавшимся тетушкам) была отправлена на чердак, как нечто совершенно вышедшее из моды.
Своеобразный характер нашей столовой придавало то, что она была оклеена ярко-синими «дамаскированными» обоями. Прочность этих обоев была такова, что они простояли без переклейки с 1848 года и до самого оставления нашей квартиры в 1899 году. И все еще этот синий цвет веселил глаз и придавал комнате какой-то прелестный старосветский характер. Этот синий цвет в годы, когда я вообще протестовал (по глупости) против всего, что в нашем обиходе слишком напоминало отжившую эпоху, меня возмущал. Позже, напротив, я как раз оценил особенную прелесть этой старинности, и поэтому в каждой квартире, которую мы с женой снимали, непременно одна из комнат получала именно ярко-синюю оклейку. От нас даже пошла в Петербурге 1900-х годов мода на такие синие комнаты, самый же этот цвет получил в шутку название «синий во вкусе Бенуа». Приятное (тоже очень старомодное) сочетание получалось от этих синих обоев с мебелью красного дерева — с рядом стульев, обступавших большой раздвижной стол, с закусочным столом, с буфетом, с другим буфетом жакоб (для парадного сервиза) и со шкафом-витриной, в котором были расставлены разные редкости. Среди последних красовалась роскошная кружка аугсбургского серебра, кубок слоновой кости с историей Эсфири, английские чашки, употреблявшиеся только для шоколада в дни особенно торжественные, бокалы и стаканы с вензелями Бенуа; все это представлялось мне бесценными сокровищами.
Наилучшим же украшением столовой была картина, занимавшая почти целиком одну из стен. То была копия известной картины Иорданса «Король пьет», изображающей пир в праздник Крещения, когда тот, кому попадется боб, запеченный в пироге, избирался королем и, в свою очередь, избирал себе королеву, министров и придворных. Наша версия представляла многие отступления от знаменитой композиции на тот же сюжет в Венской галерее, но нельзя сказать, чтобы эти отступления служили к особенному ее украшению, да и общий тон был более темный, краски более тяжелые, нежели в Вене, выдавая позднейшую манеру мастера. Тем не менее наш «Король пьет» был замечательным образцом живописи и, несмотря на некоторые неаппетитные подробности, служил подходящим украшением для трапезной. Не проходило дня, чтобы за обедом или за завтраком я ее не изучал. Я был пленен красотой королевы, в которой находил сходство с нашей Катей, ее же отец, коронованный старик, с жадностью пьющий из своего огромного кубка, мне напоминал папу. Служанки, сгруппированные справа, казались мне похожими на наших прислуг (особенно хороша была фигура нагнувшейся женщины, льющей в кувшин вино, а веселая девушка, оглядывающаяся на зрителя, точно приглашала его принять участие в пире, была совсем живая). Когда у нас пили за здоровье кого-либо, то орущие здравицу на картине как бы присоединялись к нашим тостам. Братскую нежность я чувствовал к тому малышу, который на первом плане, ровно посреди картины, отбивает дробь на барабане. С этим мальчиком, когда я был его роста, я пробовал заговаривать, и мальчик как будто улыбался мне в ответ…
«Красная» комната стала служить мне кабинетом с того момента, когда отбыл в плаванье брат Миша, и продолжала быть моей, пока (уже после смерти мамы) сестра Катя не настояла на том, чтобы меня оттуда перевели в смежную чертежную. О, как тяжело я пережил это выживание из насиженного в течение десяти лет гнезда. Долгое время я не мог простить этой обиды и почти возненавидел за это когда-то обожаемую Катечку. Вся меблировка и весь убор моей Красной комнаты были переведены вместе со мной на новое место, а стены там оклеены такими же красными обоями, однако того же прелестного ансамбля не получилось. Очень портило вид моего нового кабинета то, что одна стена была сплошь застеклена (что давало возможность дневному свету проникнуть в коридор). Уже раньше я лишился тех милых скульптурных фигур, изображавших двух дам, бородатого рыцаря и элегантного вельможу, которые я получил во временное пользование от отплывшего Миши и которые он по возвращении пожелал получить обратно. Я успел свыкнуться с этими ультраромантическими (позолоченными) фигурами; очень мне нравились и те золоченые консоли, на которых они стояли и которые представляли музицирующих детей и головки средневековых знатных дам, выглядывавших из каких-то полукруглых оконцев.
У другой стены моей Красной комнаты стоял большой диван, исполненный по специальному заказу папы и согласно моим желаниям превосходным столяром Биркенфельдом. Красное дерево для него выбрано было первейшего сорта, а крыт он был темно-малиновой кожей. В его боковых устоях были ящики, а на верхней полке были расставлены под резным венецианским зеркалом бронзовые и резные из дерева фигуры, раковины, японские статуэтки, чернильница XVI века и т. п. Об эту полку неминуемо каждый раз, когда он садился на диван, ударялся Дима Философов (превышавший товарищей своим ростом), что и вызывало в нем взрывы негодования. Была же прилажена эта полка к дивану по моему желанию — в подражание тому, что я видел в книге Г. Хирта «Немецкая комната», в которой широкое место было отведено под немецкий Ренессанс, бывший тогда в особенном фаворе. Диван имел еще и ту особенность, что если дернуть за особые шнуры с толстыми кистями, то сиденье и спинка складывались вместе и переворачивались, а на их месте появлялась мягкая и приятная постель. На ней я спал, когда служившая мне обыкновенно спальней Зеленая комната бывала почему-либо занята другими членами семьи.
Лишним было бы здесь приводить список всей той массы вещей, которые наполняли мой кабинет, но я все же укажу на те, которые были особенно характерны для конца 80-х годов. Над небольшим шкафиком для книг красного дерева висели фотографии и гелиогравюры с картин моего тогдашнего бога Беклина; на шкафике красовался слепок превосходной скульптуры Обера «Бык победитель», в углу у окна стояла статуя голого мальчика работы Пименова (позже она была перенесена в папин кабинет), на одном из окон был повешен портрет (подражание живописи на стекле) другого тогдашнего моего бога — Вагнера. Кроме того, служили украшением стен акварели Альбера, литографированный портрет дедушки Кавос, декорация эпохи Империи — Корсини и три декорации Биббиена. С потолка свешивался фонарь малинового стекла — тоже отголосок увлечения немецким Ренессансом, который я с невестой купили, еще будучи совершенно юными, специально для нашей будущей квартиры. Наконец, один из внутренних углов комнаты был занят камином черного с желтыми жилками мрамора, а на нем стояли бронзовые часы, изображавшие девочку с обезьянкой. Когда камин топился, то получался особенный уют, и нередко я с друзьями предпочитали для наших бесконечных вечерних и ночных бесед не зажигать лампы, а довольствоваться отблеском пламени или тлеющих угольев. Так было более поэтично, более романтично.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА 1 Первые впечатления в Петергофе
С каких лет я себя помню — в точности не могу сказать. Но едва ли мне было больше двух лет, когда папочка во время бессонницы, которой я страдал, носил меня на руках, стараясь успокоить и убаюкать. Это было нелегкое дело. Невыразимый страх овладевал мной в ночную пору. Какие только видения мне ни мерещились! Ходил он со мной по всей квартире. Длинный ряд темных комнат; лишь вдали, в спальне родителей, брезжит огонек ночника, и проникает через окна отблеск уличных фонарей. Иногда по потолку возникнет и веером простелется тусклое отражение проезжающей кареты…
Все это создавало нечто жуткое. Но жуть усиливалась вследствие тиканья больших часов, стоявших в углу в столовой… Наши часы были очень красивые, английские, XVIII века, со шкафом красного дерева и с подобием храмика на бронзовых колонках в верхней части для механизма и циферблата. В целом часы представлялись мне каким-то живым существом с круглым печальным лицом на длинном теле. Впоследствии я нежно любил эти часы, я стал их считать за нечто вроде нашего фамильного палладиума. И не странно ли, что в самый момент последнего вздоха моей матери, умиравшей в соседней комнате, эти стоявшие на страже времени часы сами собой остановились.
Но, разумеется, двухлетний ребенок, трепетавший на руках своего отца, ничего еще не знал ни о времени, ни о смерти, и боялся я этих часов безотчетно. Особенно же пугало меня то заикание и поперхивание, чем часы предвещали, что они собираются пробить час или половину. Я в ужасе вскрикивал и зарывался глубже в подушечку и в халат папы. И вот, одновременно с отчетливым громким боем наших часов, откуда-то через пол доносилась странная полуночная музыка. Это било — одни вместе, другие вразбивку — великое множество часов, висевших и стоявших в часовом магазине Сираха, жившего в нижнем этаже нашего дома. Когда же постепенно все это чужое и страшное смолкало, то слышалось тихое напевание папочки, в котором единственно понятным мне был припев «баю-бай, баю-бай», означавший, что мне нужно спать.
Другие страхи возбуждали во мне портреты на стенах и «темная комната». Ночью я портретов разглядывать не мог, но я знал, что они тут и что особенно один из них продолжает зорко следить за мной глазами. Еще вечером, когда являлась нянька, чтобы унести меня в детскую, портрет уставлялся на меня особенно пристально, его взор упорно всюду следовал за мной… Что же касается «темной комнаты», то таковой назывался чулан, в который вела скрытая в обоях зала дверка. В этом чулане хранился всякий хлам и, между прочим, в особом чемодане маскарадные маски — одни миловидные, другие чудовищные. Все эти личины с дырками вместо глаз, несомненно, оживали тогда, когда их не было видно. Иногда мне положительно чудилось, что я из зала слышу их шепоты, смех, взвизгиванья… На той же белой стене, в которой была проделана потайная дверка в «темную комнату», у нас неизменно производились сеансы «волшебного фонаря», и как-то раз, тогда именно, когда на стене появилась картина, изображавшая траурное шествие с гробом какой-то принцессы, дверь в темную комнату сама собой бесшумно отворилась и вместо красавицы и несших ее рыцарей зазияла черная дыра… Как было не бояться, как было не видеть во сне кошмары про черную комнату? Особенно мне запомнился один тогдашний сон: будто среди дня я иду по зале, и вдруг дверка в чулан отворяется, и там на темном фоне откуда-то сбоку спускается закутанное в белый саван привидение.
Вообще кошмары мучили меня; я просыпался от них, обливаясь холодным потом, и после этого я уже никак не мог снова заснуть. Навещали меня кошмары более или менее общие всем; плохо кончавшиеся (или грозившие плохо кончиться) взлеты, появления всяких чудовищ — иногда вовсе невообразимых, иногда же воспроизводивших тех чертей рогатых, мохнатых и когтистых, которые на лубочной картинке Страшного Суда мучили грешников. Но особенно часто повторялись мучительные сны про железную дорогу. Их было два варианта. Вариант первый: я стою на траве у самого пути и мне совсем не страшно, я знаю, что поезд ходит по рельсам и меня он не тронет. Но появляется дымок над деревьями, локомотив выскакивает из леса и вместо того, чтобы пройти мимо, он сворачивает и с какой-то злобой бросается прямо в мою сторону. Я погиб! Второй вариант напоминает тот сон, который видит Анна Каренина. Опять рельсы, но я не на траве, а на платформе станции. Поезда вообще нет, его ждут, но какой-то незнакомый, бритый, беззубый, скрюченный старичок, похожий на нищего, с палочкой в руке мурлычет мне под ухо одно и то же: «едет — не едет, едет — не доедет»… В этом сне, который я всегда как-то заранее предчувствовал и от которого я не в состоянии был отвязаться, было что-то особенно гнусное; он неминуемо предвещал какое-либо заболевание, да, вероятно, я и видел его уже в полубредовом состоянии…
Раз я уже заговорил про кошмары, которые вообще в детстве преследовали меня, то расскажу здесь еще один, запомнившийся мне на всю жизнь и показавшийся мне тогда же сном вещим. Приснился он мне, когда мне уже было лет пять или шесть. Будто в гости ко мне пришел незнакомый мальчик, который сразу мне особенно полюбился и с которым я стал играть, точно мы были всегдашними друзьями. Он был старше меня, вовсе не хорошенький, но какой-то весь прелестный, а одет он был в красный костюм, обшитый белой тесьмой. Мы играли с ним в разные игры, но вдруг он исчез, и я почувствовал, что стряслась ужасная беда. Я бегаю по комнатам, ищу мальчика, зову его, но он не откликается. И, наконец, я вижу — в коридоре стоит машина и в ней бьется мой мальчик, стараясь высвободиться от мнущих и раздирающих его члены рычагов и шестерней…
Должен тут же сказать, что всякие механизмы вызывали во мне непреодолимое и таинственное притяжение. Так, например, несмотря на запрет, я не в состоянии был противиться соблазну нажать кнопочку на часах, стоящих у мамы на комоде. Стоило эту кнопку нажать, и часы тоненьким, но отчетливым голоском звонили сначала тот час, который прошел, а затем и те четверти, которые приближали время к следующему часу. Вещица эта была дорогая и памятная, привез ее не то дядя Сезар, не то дядя Костя с лондонской Всемирной выставки. В момент боя я смотрел на заднюю стенку стеклянного ящичка, где приведенные в движение молоточки на упругих прутиках отстукивали то, что полагалось, по полукруглой серебряной чашечке. Эти часики, в противоположность столовым «громадным», казались мне добренькими, и я, разумеется, нисколько их не боялся.
Еще более милыми были золотые часы на длинной, надевавшейся через голову цепочке, лежавшие в кармане папиного жилета. Они были совсем плоские, с тонко выгравированным на крышке видом Венеции. Что это было именно Венеция, я знал с тех же незапамятных времен, когда меня баюкал папа, да и вообще о существовании какой-то Венеции я, кажется, знал раньше, нежели я осознал существование Петербурга. В нашей квартире было развешано немало видов города маминых родителей. Но вот это крошечное изображение площади св. Марка на крышке часов особенно зачаровало меня — в ней все так сияло золотом, а четкая перспектива уводила глаз далеко-далеко… Каждый день и по нескольку раз в день я, сидя на коленях у отца, требовал, чтобы он мне показал свои часы. Получив их в руки, я не уставал любоваться этим видом или же прикладывал к часам ухо, чтобы услышать их еле слышное тиканье. В довершение моего удовольствия папа отворял две крышечки на обратной стороне, и тогда появлялся целый волшебный мирок. Одни, блиставшие золотом и серебром, колесики вертелись быстро, другие медленно, третьи делали полуповорот то в одну сторону, то в другую. Все это было живое, суетливое, и я был уверен, что если бы заглянуть еще дальше, влезть в часы, то там открылись бы и те микроскопические человечки, которые всю эту хитрую машину приводят в движение.
Дальнейшая судьба этих часов, когда-то принадлежавших моему прадеду, композитору Кавосу, оказалась менее печальной судьбы тех больших «столовых». По смерти папы они достались в наследство его внуку Коле Лансере. Покидая в первые месяцы революции 1918 года надолго Петербург, он спрятал их в потайной ящик письменного стола, также перешедшего от деда. За время отсутствия Коли почти все его имущество было разграблено, но тяжелый письменный стол трудно было вынести, и воры, обшарив все его ящики и вынув оттуда содержимое, самый стол не тронули и до тайника не добрались. Какова же была радость Николая Евгеньевича, когда, по возвращении, он нашел часы (и еще кое-какие драгоценности) там же, куда он их положил. Радость его была такова, что он даже забыл погоревать о многом другом (и более ценном), что пропало безвозвратно.
Если вглядеться в полустертые, едва еще различимые тени той далекой поры, то рядом с папой и на фоне какой-то домашней обыденной суеты выступают еще фигуры моей кормилицы, остававшейся при мне лет до трех, и сменившей ее моей первой няньки. Впоследствии я слышал, что моя кормилица была «красивой бабой», что даже братец Альбер за ней приударял, но мне запомнился лишь ее полукруглый расшитый кокошник над высоким лбом, гладкие причесанные пряди волос и масса бус на белой рубахе. Возможно, что няня была вовсе не старая, но тучная, неповоротливая и рыхлая, она производила на меня впечатление древней старухи. Больше всего мне запомнилось, что она была бабушкой того бойкого курносого Коли Лукина, который, одетый в синюю шелковую рубашку, приходил иногда по праздникам, чтобы играть со мной. Он был лет на пять старше меня.
Отцу, как архитектору высочайшего двора, полагалась на лето казенная дача в Петергофе (я могу считать себя до некоторой степени уроженцем Петергофа, так как, родившись 21 апреля в нашем родительском доме в Петербурге, я уже недели две после этого был перевезен на лето в Петергоф), и ему предоставлялся один из тех «кавалерских» домов, которые были расположены вдоль аллеи, идущей от Большого дворца к Старому Петергофу. Эти кавалерские дома, сооруженные еще при Александре I, были одноэтажные, крепкой деревянной стройки, они покоились на каменном фундаменте и отличались изящной простотой, вообще свойственной архитектуре той эпохи. Выкрашены они были в коричневый цвет с белыми барельефами над окнами и с зелеными ставнями-ширмочками на окнах. Эти низкие зеленые ширмы особенно врезались мне в память, вероятно, потому, что, проснувшись утром, я их видел первыми, а над ними видел густую листву лип, от которых в комнатах стоял сладкий дух и зеленый полумрак. Занятно было примечать, как через узкие скважины этих ширмочек мелькают головы людей, проходивших мимо нашего дома.
Каждая группа кавалерских домов обступала широкий двор, а к каждому дому примыкал со стороны двора садик из сиреневых кустов с цветочными клумбами. Среди этих кустов устраивалась обычная резиденция мамы и сестер, которые, расположившись вокруг круглого стола, то шили, то вязали, то занимались хозяйскими делами — чисткой ягод, варкой варенья, лущением горошка и т. д. В хорошую погоду за этим же столом по утрам мы всей семьей пили кофе. За ним же я помню и папочку в светлом чесунчовом костюме. Это, вероятно, бывало по воскресеньям или по праздникам, когда ему не нужно было ехать на службу в город. Вход в занимаемый нами дом был со двора, но окна парадных комнат и спальни родителей выходили на помянутую аллею-улицу. Близко от нашей дачи шел спуск, приводивший к фонтану Евы и к средней аллее Нижнего сада. В начале спуска слева расстилалась окруженная деревьями полянка; на ней, почти у самой дороги, любила сиживать нянька, предоставляя мне возиться в высокой траве и изредка окликая меня, если я отваживался выбегать на дорогу, на которой, «не дай Бог», меня могли раздавить проезжавшие экипажи. Я эту полянку не любил, — она была слишком близка к дому, и ничего особенно интересного на ней не было. Возненавидел же я ее окончательно после того, как меня там укусила наша черная собака Трезор, которую я так долго дергал за уши и за хвост, что, наконец, она меня и цапнула. Я отделался легкой царапиной, но потекла кровь, и это меня так напугало, что я поднял рев, точно меня зарезали. Бедного Трезора за это отстегали плетью, а няньке была произведена строгая распеканция, почему недоглядела.
Бесконечно более соблазнительным представлялось мне спуститься вниз к фонтану Евы и особенно к тому, находившемуся вблизи фонтана, холмику, который дети называли «горкой», хотя он едва возвышался над общим уровнем окружающего парка. Взобравшись на эту горку, я сразу воображал, что сделался большим и что вижу оттуда беспредельно далеко во все стороны. Кроме того, было так занятно без всякого труда взбираться на горку и опрометью нестись с нее вниз. На горке собирались и другие дети с их няньками, кормилицами и гувернантками. Пока эти особы между собой судачили, малыши затевали игры в лошадки, в пятнашки, а то делали пирожки из тут же насыпанной кучи песка. Но обратный путь шел уже действительно в гору, и это было толстухе-няньке не под силу, особенно если я требовал, чтобы она взяла меня к себе на руки.
«Горка» имела еще то преимущество, что когда начинал накрапывать дождь (явление в Петергофе нередкое), то стоило сделать несколько шагов, как мы уже оказывались в одной из четырех беседок, стоявших вокруг фонтана Евы. В этих беседках собирались все, кого застигал дождь в этой части парка. И занятные же были эти беседки, выходившие со своими зелеными трельяжами и белыми колоннами в сторону фонтана! Через решетки трельяжа было весело смотреть, как продолжали бить и водяным букетом рассыпаться густые струи вокруг беломраморной статуи.
Две из этих четырех беседок представляли собой внутри странную конфигурацию. Уступая линии проложенных еще Петром I дорожек, архитектор (Кваренги) срезал свои постройки решительным образом, ничего не меняя на фасаде, а потому задние стены этих скромсанных павильонов приходились к передним под углом настолько острым, что и ребенок не мог пропихнуться в оставшееся узкое пространство. Такая несуразность занимала, но как-то и тревожила меня. Снаружи дом как дом, а внутри его точно приплюснули, причем, вероятно, что-то было раздавлено, скрыто, спрятано. Я даже видел сны, будто срезанные стены расступаются и я вхожу в какие-то новые и огромные палаты. Наяву я затем пробовал проверить эти сны и искал, где могла бы быть приснившаяся мне лазейка, но вместо нее я натыкался всюду на выбеленную штукатурку. Это чувство заключенной в беседке тайны осталось у меня на всю жизнь, и даже в 1918 году (когда мы последний раз жили в Петергофе) те же фантазии сразу принимались меня тешить. Детские воспоминания особенно обострялись благодаря запахам: несколько приторный и тяжелый запах шел от масляной краски, в которую были выкрашены зеленые трельяжи павильонов, и сливался он с освещающими ароматами бьющей воды и всей окружающей листвы.
В России меня когда-то называли «певцом Версаля»; это потому, что я не раз (с 1897 года) выставлял этюды версальских садов или исторические фантазии из эпохи Людовика XIV. И действительно, Версаль произвел на меня в первый же день моего личного знакомства с ним, в октябре 1896 года, потрясающее впечатление. Однако это впечатление не может идти в сравнение с теми чувствами, которые я испытывал, когда маленьким мальчуганом ходил, держась за руку отца, по петергофским аллеям, когда я цепенел в восхищении от вида падающего по золотым ступеням каскада у Марли (так называемой Золотой горы) или когда, стоя совсем близко внизу у водопада Большого грота под Большим дворцом, меня осыпала водяная пыль, и я через нее видел, как взлетают среди сияющих на солнце золотых божеств струи водометов!
Среди чудесных петергофских фонтанов были и такие, которые на меня навевали некоторый страх. Я побаивался тех огромных золоченых рож, которые вверху Золотой горы извергают потоки воды, сбегающей затем по беломраморной лестнице до нижнего бассейна. Но еще больше я боялся двух менажерных фонтанов около той же Горы, которые бьют необычайно сильным столбом. Когда их пускали, они на глазах постепенно росли, пока не достигали своей предельной высоты. Если тогда долго всматриваться в их непрестанно клокотавшую макушку, то получалось впечатление — точно этот массивный и тяжелый белый столб валится на вас. К страшноватым фонтанам принадлежали и черные драконы Шахматной горы, а также фонтан Нептун в Верхнем саду… Черный «железный» повелитель морей в короне с острыми зубцами и с трезубцем в руке более походил на Вельзевула, нежели на греческое божество. Под ним копошились всадники, оседлавшие морских коней с рыбьими хвостами, а вокруг из воды широкого бассейна торчали толстые морды дельфинов, извергавшие водяные дуги.
Были в Петергофе и потешные, веселые фонтаны. Таковы были те голенькие, в землю вросшие карапузы, что держали над головами подносы, а на подносах подобие стеклянных колпаков («клошей»), образуемых бьющей водой. Еще потешнее были Гриб и Елочка у Монплезира. Как весело было, когда какого-нибудь приехавшего из Петербурга гостя приглашали отдохнуть под шапкой Гриба или на скамейке около металлического деревца и когда перед ним, ничего не подозревавшим, вдруг образовывалась сплошная стекловидная пелена воды или его со всех сторон орошали тонкие струйки, возникавшие из ветвей искусственной елки. Дамы визжали, мужчины смеялись, но были и такие, которые обижались и сердились. Самая же забавная шутка была та, что скрывалась за одним из мраморных павильонов у ковша Самсона. Я очень любил это незамысловатое зрелище и подымал рев, когда папа на прогулке отказывался зайти к этому детскому фонтанчику. Но как было не плакать, когда меня лишали удовольствия снова увидеть этих плавающих друг за дружкой уточек и преследующую их собачку. Собака лаяла «тяв-тяв», уточки кричали «ге-ге-ге», а посреди сидел на вертящейся кочке пастушок с волынкой, из которой он как бы извлекал жалобные звуки.
От этих разнообразных петергофских впечатлений — смешных, страшных и восхитительных — вероятно, и произошел весь мой дальнейший культ не только Петергофа, Царского Села, Версаля, но и всей эпохи барокко. Много при этом значило то, что Петергоф моих детских лет не был обездушенной, бальзамированной мумией-музеем или объектом научного исследования. Это был еще совсем живой и продолжавший служить своему назначению организм. В Петергофе жили царь, царица и царские дети, и от этих остававшихся на недосягаемой высоте особ, имевших для детского воображения в себе нечто сказочное, излучалась на всю их резиденцию какая-то радостная торжественность. Таким же должен был быть Версаль, когда и в нем жили его настоящие хозяева, задавая тон всему свету. Эту «душу Версаля» я постиг по Петергофу еще в те годы, когда я о Версале и истории Франции не имел никакого представления.
Должен упомянуть я здесь и о цели одной из моих обычных тогдашних прогулок. То была скромная башенка, стоявшая недалеко от нашего дома — в конце поперечного канала; она походила на перечницу, и мне казалась довольно внушительной. То, что в ней никто не жил, что она была всегда заперта, что стояла она, окруженная деревянным помостом, через скважины которого поблескивала вода, — все это сообщало этому месту таинственный характер. Мой детский ум населял эту пустоту, не допуская мысли, что такой каменный дом может стоять пустым (на самом деле он служил водокачкой). Помост был ветхий, и моментами даже мои маленькие ножки, несшие мало весившее тельце, проваливались в какую-то труху, что меня очень забавляло. Особенно нравился рыхлый хруст, получавшийся при этих провалах, и те толпы муравьев, которые разбегались тогда по доскам. Няня, остававшаяся сидеть на скамейке, только стонала и молила, чтобы я вернулся к ней, сама же из-за своей тучности не рисковала ступать на ветхое дерево.
Но пора вернуться к дому, к тому летнему нашему дому, который я как-то осознал уже тогда, между тем как городскую квартиру, в которой проходило три четверти нашего существования, я все еще не примечал. Мне нравилось в петергофском доме, что комнаты в этом нашем летнем обиталище были такие громадные, высокие и просторные, а из-за близости деревьев темноватые; мне нравилось и то, что, сойдя пять ступеней, я уже оказывался среди кустов, у того самого стола, за которым мама и сестры проводили целые дни.
Под боком у мамы и я здесь пристраивался на все утро, пока меня не поручали для прогулки няне. Тут я рисовал или слушал, что мне читали, или что на своем ломаном русском языке рассказывал мосье Paul, гувернер моих братьев, такой всегда аккуратненький, одетый в бархатный коричневый сюртучок и в светло-серые клетчатые штаны. Отсюда же, уверенный в том, что меня во всякую минуту защитит мама или няня, я следил за играми Коли, Иши и Миши, к которым присоединялись соседние маленькие Кавосы, Кроны, Лихачевы. Их шумных, буйных игр я сторонился, но Иша вытаскивал меня иногда из-под материнской опеки и заставлял вместе с другими бегать по двору. Будучи мальчиком необычайно добрым и обладая удивительной способностью играть с малышами, Иша никогда не злоупотреблял моим к нему доверием и всячески меня оберегал. Это было не излишним, когда компания мальчиков в азарте теряла свои приличные манеры и превращалась в отчаянных безобразников. Самые невинные игры — в пятнашки, в горелки, в кошки-мышки, в серсо или в воланы — приобретали моментами буйный и свирепый характер, иногда возникали и форменные баталии, во время которых, несмотря на строгие запреты, пускались в ход палки и камни. Тут, того и гляди, меня могли затоптать…
Сам Иша имел большую склонность к спорту — спорту, как его тогда понимали, в формах очень скромных и незатейливых. Зимой все эти мальчики и часть девочек бегали на коньках, летом же они участвовали в разных состязаниях. Не проходило дня без того, чтобы Люля, Коля, Иша и Миша не отдавались гребле на лодке и плаванью под парусами. В поощрение специально этих морских забав папа даже соорудил в одном из углов нашего обширного двора высокую мачту — совершенно такую, какая бывает на настоящих кораблях. По ее веревочным лестницам старшие мальчики взбегали, как обезьяны, и, взобравшись до площадки, производили там, к ужасу мамы, акробатические упражнения. В праздничные дни мачта иллюминовалась бесчисленными пестрыми флажками, и на комбинации некоторых флажков братья учились языку морских сигналов. Особенно мне врезалось в память то пиршество, которое было однажды устроено Ишей в палатке под мачтой по поводу одержанной им победы на каком-то состязании… Чего-чего только не нанесли в этот день мальчики в палатку — сколько бутылок шипучего меда, квасу, ланской фруктовой воды, сколько тарелок с закусками и сладостями! Мне ужасно хотелось проникнуть туда, но один я не решался. Наконец Иша вспомнил обо мне и ввел меня в компанию своих шумных товарищей — кадетиков в форменных блузах или мальчиков, одетых, как полагалось, в морские рубахи. Лица у всех были загорелые и раскрасневшиеся, шум от разговоров и смеха стоял невообразимый, холст палатки пронизывали лучи яркого солнца, на земле уже валялись выпитые бутылки. Мне дали отведать всяких запретных в обыкновенное время вещей. И до чего же мне тогда понравились соленые грибы и какие-то колбаски! Совершенно же райским Иша объявил изобретенное им блюдо: огурцы с медом.
Эти морские экзерсисы на суше кончились однако печально. Они даже чуть не стоили жизни одному из мальчиков — французу Гастону, который был взят к моим братьям для практики языка. О чем-то поспорив на узенькой площадке мачты, Гастон оступился и слетел с трех или четырех саженей на землю. Убиться бедняжка не убился, но все же сломал себе ногу. Каким высокопатетическим осталось в моей памяти то, что за сим последовало. Как тут все засуетились, как забегали, какой пошел гомон и крик. Не кричал только Гастон, а лежал зеленый, точно мертвец, крепко стиснув зубы, чтобы до конца «оставаться спартанцем». Его подняли и понесли через весь двор. Войдя в дом, с величайшей осторожностью положили на черный клеенчатый диван, что стоял в папиной чертежной. Больше всего был огорчен маленький Крон — невольный виновник катастрофы; он стоял в изголовье, проливал слезы и все что-то шепотом приговаривал…
Рядом с такой почти трагической картиной запомнилось мне, среди первых впечатлений, связанных с Петергофом, еще одно, более сентиментального порядка. В той же группе домов, к которой принадлежала наша дача, стоял небольшой деревянный флигель, окна которого меня очень интересовали. Проходя с няней мимо них, я всегда останавливался для того, чтобы полюбоваться птичками в многочисленных клетках, висевших одна над другой по обе стороны одного из окон. На подоконнике стояли горшки с цветами, а какая-то старушка бывала занята то поливанием их, то кормлением птиц. И вот однажды эта сморщенная старушка заметила меня под окном и ласково, тоненьким голоском, стала приглашать зайти. Нянька заартачилась, но старушка мне понравилась, и я так настойчиво стал тащить свою Филипповну за руку, что она уступила, и мы поднялись на крылечко, а из сеней вступили в глубокую темноватую, сплошь заставленную мебелью комнату.
Вблизи старушка оказалась старичком: ошибка же объяснилась тем, что голова его была повязана, как повойником, и еще тем, что старичок был гладко выбрит и розовые его щечки казались мягенькими, пухленькими. Крошечным он показался даже мне, трехлетнему, а одет он был в выцветший, весь заштопанный халат из узорчатого шелка с китайцами, пальмами и павлинами на нем. Это был древний, очень сгорбленный старичок, и из того, что шамкал его беззубый рот, я еле различал какое-то мудрено звучавшее приглашение посидеть и отведать его угощений. Меня сразу потянуло к клеткам, и особенно к большой золоченой, с ярко-пестрым попугаем в ней. Тут же вышмыгнула откуда-то мартышка, начавшая скакать со шкафа на шкаф и корчить рожи… За этим первым визитом последовали другие. Уж очень меня манили к себе все эти диковинки, да и сам старичок с китайцами на халате притягивал меня тем более, что он потчевал меня пряниками, до которых я был большой лакомка; няньку же он усаживал за чаепитие с вареньем. Когда в следующем 1874 году мы снова на лето приехали в Петергоф, то я в первые же дни пожелал навестить нашего знакомого, но увы… его уже не оказалось, а вместо него теперь жил в том флигеле музыкант придворного оркестра, и из открытого окна неслось неистовое мычание его фагота. Это опустевшее, завешенное тюлевыми занавесами окно тогда дало мне впервые ощущение невозвратной утраты. Позже я узнал, что старичок этот доживал на покое свой почти столетний век, а состоял он когда-то в пажах при Екатерине II, позже на службе в Дворцовом ведомстве. Жил он на этой казенной квартире безвыездно летом и зимой, в течение многих десятков лет.
Несомненно, в том же 1874 году я познакомился со страшной, но и как-то поманившей меня тайной Смерти. В один ясный праздничный день, идя с отцом по дамбе Купеческой пристани, я заметил на воде, на небольшом расстоянии, лодочку с сидящими в ней двумя городовыми, которая плыла по направлению к дамбе. Мое внимание, впрочем, было привлечено не столько самой лодочкой, сколько тем, что она волокла за собой. Этот предмет удивительно меня заинтересовал. Как раз в эту минуту папочка повстречался со знакомыми, они остановились, и между ними завязался разговор; я же, прильнув к перилам помоста, мог вдоволь изучать то, что происходило внизу. Теперь лодка пристала к лесенке, которая вела к сторожевой будке, и городовые совещались с третьим полицейским, вышедшим к ним навстречу. В лучах солнца я мог теперь вполне разглядеть и то, что было привязано к корме лодки и что мягко колыхалось в волнах. Это было нечто похожее на большую куклу с раскинутыми руками и ногами; кукла была голая, а бледное тело ее было точно размалевано цветными пятнами; головы не было видно: она оставалась за лодкой, глубоко свесившись под воду. Никакого ужаса я не испытывал; наоборот, меня что-то приковало к этому зрелищу — я оторваться от него не мог. Когда разговор между большими прервался, я поспешил указать папе на то, что меня так заинтересовало, но он только воскликнул: «Ах, боже мой, да это утопленник!» — и сразу потащил меня прочь, причем пришлось отрывать мои цепкие пальцы от массивных перекладин перил. Позже выяснилось, что то был труп матроса с одной из царских яхт, потонувшего несколько дней назад во время купанья, и что полиция везла труп к кладбищу, расположенному на самом берегу моря, по другую сторону дамбы.
Эта дамба играла немалую роль в жизни дачников. Я лично очень был огорчен, когда во время первой мировой войны ее и пристань, к которой она вела, уничтожили. Петергоф лишился одной из своих достопримечательностей. Ввиду малой глубины Финского залива пароходы не могли подходить к самому берегу, а потому и была построена эта дамба, выступавшая на добрую четверть версты в море. От берега сначала тянулась земляная насыпь («дамба» в точном смысле слова), но дальше она переходила в мост на бесчисленных сваях, приводивший к общественным купальням (слева женским, справа мужским), в конце же моста находились те деревянные постройки, в которых помещались кассы пароходного общества, жилища для служащих и самая пристань.
Купеческая пристань в цветущую пору петергофского пароходства (пора эта кончилась около 1900 года) была весьма оживленным местом. Сюда дачники являлись встречать приезжающих по морю из Петербурга, сюда же приходили вереницы провожающих, охотники же до морского купанья распределялись между купальнями. Чрезвычайное многолюдство в праздничные дни придавало гавани характер ярмарки, чему способствовал и неистовый галдеж наемных извозчиков, для стоянки которых была отведена сбоку очень обширная дощатая площадка. Извозчики накидывались на прибывавших, стараясь перебить друг у друга седоков и почти силой устраивая их в свои ландо, колясочки и пролетки. Так и слышались со всех сторон традиционные зазывания: «ваш-сиятельство», «ваш-благородие», «ваш-степенство»! Тут же, на площадке, в гордой обособленности ожидали своих господ собственные экипажи с их величественными бородатыми кучерами, а в свою очередь среди них выделялась кучерская аристократия — придворные кучера, по-иностранному бритые, с их товарищами — выездными лакеями; как те, так и другие с золотыми позументами на ярко-красных шинелях и с набок надетыми треуголками. Когда масса прибывших оказывалась размещенной, — господские лошади двигались стройным топотом, извозчичьи клячи беспорядочной, путаной рысью, — и буквально на весь Петергоф раздавался грохот. Услыхав его, даже дачники, жившие за версту или за две от пристани, узнавали, что пришел пароход, и тогда, если кого ожидали к завтраку или к обеду, то говорили прислуге: «Они сейчас будут, можно подавать».
Услыхав в известный час такой топот на дамбе, мы знали, что приехал и наш папа, и тогда принято было идти к нему навстречу. Мы доходили до другой достопримечательности Петергофа — до высокого, выкрашенного в черный цвет свайного моста, который был перекинут через овраг, отделяющий Новый Петергоф от Старого. На пологом подъеме к этому мосту внизу и показывались перегонявшие друг друга возницы, а среди них и постоянный папин извозчик; вскоре можно было различить и папочкино милое лицо под широкополой соломенной шляпой. Въехав на верхнюю дорогу и заметив нас, папа останавливал дрожки, слезал с них и, схватив меня, начинал целовать и подбрасывать в воздух, приговаривая свои всегдашние смешные ласковые словечки. Затем он сажал меня рядом с собой, и мы шагом доезжали до кавалерских домов — я гордый тем, что сижу рядом с папой в экипаже, тогда как моя нянька плетется, едва передвигая ноги, пешком…
С кавалерскими домами связаны у меня и первые воспоминания о домашних пиршествах. На семейные праздники (1 и 15 июля) собиралось человек сорок, если не шестьдесят, и тогда приходилось обедать в саду за поставленными в два ряда столами. На этих пиршествах я помню баловавшего меня поэта Якова Петровича Полонского, тогда еще ходившего без костылей и очень увлекавшегося живописью; помню еще и трех моих двоюродных дядей — Альберта, Камилло и Стефано Кавосов, из коих двое младших служили в итальянской армии, а поэтому, находясь наездом в Петербурге, являлись на семейные торжества в своих эффектных мундирах. С этой же поры я отчетливо помню и другого своего дядю (мужа покойной тети Софи) — Митрофана Ивановича Зарудного, блестящего краснобая и очень нарядного щеголя, к сожалению, тогда уже злоупотреблявшего вином. Помню, как, стоя в траве на коленях перед далеко не привлекательной тетушкой Екатериной Анжеловной, он, подняв персты к небу, дурачась, клялся ей в вечной любви; помню и то, как, посадив меня на высококолесный свой шарабан, он гнал рысака, сея всеобщий ужас по улицам Петергофа. Запомнился мне с тех пор и тот случай, как дядя Митрофан, мчась таким же бешеным аллюром по Самсониевской аллее, опрокинул шарабан и его седоков в канал.
Однажды среди наших гостей я заприметил новое лицо — молодого человека с заостренной бородкой, одетого совсем не так, как другие, — в кафтан без пуговиц и в шаровары. На ногах у него были мягкие черкесские сапоги, а на голове странная кавказская шапочка. Уже одно это было поразительно, но еще поразительней было то, что являлся этот молодой человек всегда верхом на казацкой лошади. Почему-то в мое сердце вкралось сразу недоброе предчувствие, да долго и не пришлось догадываться: уже к концу лета (1874 года) он был объявлен женихом моей сестры Кати.
Обеих сестер — и старшую Камишу, и младшую Катю — я нежно любил. Это были совсем взрослые барышни, которые годились мне в матери и которые старались одна перед другой излить на своего крошечного братца запасы своей материнской нежности. Выходило, точно у меня не одна, а целых три мамы, но одна из них возбуждала во мне какое-то особое чувство, которое я не знаю как назвать иначе, нежели как словами «художественный восторг». Катя считалась вообще очень хорошенькой, я же в ней видел прямо-таки свой идеал. Пожалуй, будет вернее сказать, что это была моя первая (разумеется, совершенно безотчетная, но все же пылкая) влюбленность, и это чувство я почти осознал как раз тогда, когда мне сообщили, что Катя выходит замуж за Женю Лансере. Как-то раз меня позвали в гостиную, сунули в руку длинный узкий бокал, на дне которого было немножко желтоватого вина, и пригласили выпить за здоровье Кати и Жени. Все вокруг уже держали такие же бокалы, но у них вино, пенясь, переливалось через край и капало на пол. У всех был необычайно радостный вид, все стукались своими бокалами друг с другом и весело что-то приговаривали. «Что же, Шуренька, чокнись и ты со мной, — нагнулась ко мне Катя, — ведь я невеста, я выхожу замуж за Женю. Чокнемся!» Но Шуреньке было не до чоканья. Я выронил свой бокал из рук, и он разбился («это к счастью, это к счастью!» — загудели вокруг гости), сам же, заливаясь слезами, помчался к себе в детскую и, рыдая, зарылся в подушки. Что только ни предпринимали, чтобы меня утешить, — ничего не помогало. Я не понимал, что значит «выйти замуж», я даже не представлял себе отчетливо, что сестра теперь вскоре покинет наш дом, но все мое существо возмутилось против того, что вот этот чужой человек станет близким к моей Кате! Я почти занемог от жгучей ревности. К самой свадьбе, которая была сыграна через несколько недель, я уже примирился с судьбой, успокоился, а после свадьбы Женя и Катя уехали в Париж, где и прожили всю зиму. Там-то и сделала высокоталантливая ученица Зичи — Мери Эттингер — их необычайно удачный двойной портрет.
ГЛАВА 2 Брат Иша
Осенью того же 1874 года наша семья пережила большое горе. Скончался мой брат, мой любимый брат Иша. Любили ли Ишу другие братья так же, как я? Одно из самых тяжелых впечатлений того времени связано у меня как раз с фактом, который, казалось бы, доказывал обратное. Иша как-то напроказил в Зеленой комнате, служившей тогда спальней для двух старших братьев, для Альбера и для Люли. Оба были уже учениками Академии художеств и в семейной иерархии были включены в разряд «больших», чему вполне соответствовала их внешность — их рост, их возмужалость и особенно их бороды. И вот эти-то двое «больших» так взбесились поступком Иши (он нечаянно разбил какой-то гипсовый бюстик), что набросились на него и расправились с ним жестоким образом.
Как сейчас вижу дикую картину, которая предстала тогда передо мной. Сначала послышалась перебранка в Зеленой комнате, потом какая-то необычайная возня в зале, затем топот по коридору. И, наконец, уродливо толкающаяся группа, состоявшая из Альбера, Люли и Иши, ввалилась в столовую. Через секунду Иша лежал на полу… Откуда-то появилась веревка, и его, не обращая внимания на вопли, братья связали и связанного потащили в последнюю комнату, где бросили на доску, прикрывавшую ванну. О, как возненавидел я тогда этих мучителей, как они сразу же потеряли весь свой престиж. Ни родителей, ни сестер не было дома, прислуга же оставалась на кухне и ничего не слыхала. По совершении казни оба палача удалились, и в квартире водворилась жуткая тишина. Не понимаю, почему моя нянька, сначала напуганная яростью братьев, теперь не поспешила развязать Ишу и никого не позвала на помощь, но, во всяком случае, Иша оставался некоторое время лежать привязанный к крышке ванны, причем, верный своим спартанским принципам, он лишь изредка стонал и скрежетал зубами.
В первый раз я в тот же день увидел мамочку в гневе. Вообще она никогда нас не бранила, а старалась действовать убеждением и усовещиванием. Но здесь, когда, вернувшись домой, она нашла своего сына в таком ужасном положении, она воспылала негодованием. И какое же я получил удовлетворение, когда я увидал смущение обоих мучителей, их жалкий, поникший вид, их опущенные головы! Как я ликовал, когда мама их же самих заставила развязать Ишу и растереть его наболевшие члены. И как я принялся целовать бедного моего любимого брата.
Вскоре после того случилось с Ишей другое, более опасное злоключение — его укусила одна из наших собак. Иша, узнав, что с Полканом творится что-то неладное, сбежал во двор, но не успел он показаться, как пес бросился на него и вцепился ему в плечо; дворники тут же прикончили пса лопатами, а раненого Ишу понесли домой. В те времена неизвестна была прививка против бешенства, и существовало лишь поверье, что, если прижечь сразу рану каленым железом или хотя бы чистым спиртом, то укушенный будет спасен. Раздев Ишу и найдя рану (которая была неглубокой), мама стала обмывать ее этим примитивным средством. Я отчетливо вижу картину: Иша сидит, выделяясь силуэтом на фоне окна, дрожит мелкой дрожью и все же изо всех сил крепится, чтобы подавить боль и пережитое волненье, а мама с помощью Ольги Ивановны прикладывает ему примочки, черпая спирт из поставленного на пол таза.
Увы, теперь трудно решить, могло ли спасти Ишу доморощенное средство. Месяца через два моего бедного брата не стало, но скончался он от совсем другой причины. Иша заболел воспалением брюшины (или брюшным тифом) и после недели мучений, столь же мужественно им перенесенных, он скончался, будучи всего четырнадцати лет от роду. Самая смерть явилась неожиданно. Еще утром он перебрался на кресло, пока ему меняли постельное белье. Незадолго до этого его перевели из Красной комнаты, в которой он жил вместе с Мишей, в просторную комнату на улицу, служившую спальней родителей. Раза два я забегал туда, движимый неясной тревогой, но он лежал молча с осунувшимся от страданья лицом… Выбитый из обычной колеи, я слонялся по комнатам, встречая во всех какой-то раздраженный отпор. К вечеру же мы все братья собрались в Зеленой, меня усадили за стол, дали карандаш и бумагу, и я принялся рисовать. Что-то нависало все больше и больше. С другого конца квартиры доносился шорох, звон посуды, стоны Иши и иногда увещевание мамы принять лекарство. А потом все окончательно затихло, и я понял по тому, как переглядывались между собой братья и по раздававшимся рыданьям прислуг, что произошло нечто ужасное…
Через еще несколько минут послышались знакомые, лишь очень замедленные шаги папы. Войдя, он тихо произнес: «Иши больше нет, он умер». При этом папа не плакал, но лицо его было полно глухого страданья. Да и я, обыкновенно плакавший по всякому поводу, на сей раз не заплакал, хотя и ощутил всю меру своего несчастья. Вследствие этого ощущения я и запомнил каждый дальнейший момент злополучного вечера.
Гурьбой мы последовали за папочкой и вошли в спальню. Именно от Иши среди всяких других, мной любимых «страшных» рассказов я узнал, что мертвые начинают дурно пахнуть, а потому, когда я вошел, мне показалось, что сказанное им уже и подтверждается. В комнате действительно стоял тяжелый и приторный, никогда раньше мной не слышанный дух, но это пахло от всяких лекарств и особенно от мускуса, который Ише вспрыскивали за несколько минут до смерти. Сам Иша лежал на боку — точно спал. Лицо его спокойное, и даже слабая улыбка играла на устах. Я подумал — вот он увидел ангелов…
Вдруг из передней послышались какие-то протестующие возгласы. То был голос жениха моей старшей сестры Матью Эдвардса. Он быстрыми шагами вошел в спальню, еще решительнее запротестовал, когда мама подтвердила, что Жюль скончался. Подойдя к кровати, он дотронулся до покойного, затем, присев рядом, еще раз заявил: «Это невозможно, он не умер, он спит», — и, обращаясь прямо к Ише, он несколько раз воскликнул: «Ну, мой мальчик, вставай, не время спать». О, как мне захотелось, чтобы совершилось одно из тех чудес, о которых любил рассказывать Иша, чтобы открылись эти глаза, чтобы он повернулся, привстал… Но тщетно взывал добрый Мат. Иша оставался нем, без движения, теплота не возвращалась, и наконец сам Мат поверил в непоправимое: он опустился на колени и, уткнув свою рыжую голову в одеяло, принялся, громко всхлипывая, молиться.
Сейчас вслед за этой сценой неудавшегося воскресения началось жуткое «убирание» покойника. Прислуги, под руководством мамы и Камиши, принялись омывать тело (мне удалось украдкой увидеть это через щель между половинками двери), а тем временем папа при помощи братьев и Мата — соорудили в кабинете под портретами дедов своего рода катафалк, для чего был использован высокий чертежный стол, а в головах повешено большое скульптурное распятие. Потом одетого уже в гимназический мундир Ишу общими усилиями понесли из спальни в кабинет и положили на это возвышение, окружив его зажженными свечами. Еще две подробности поразили меня. На закрытые веки Иши положили по большому медному пятаку, а в ноздри запихали вату. На все это я смотрел с крайним любопытством. Что Иша, совсем недавно еще бывший таким живым, разговорчивым, превратился в абсолютно бледную, недвижную и немую статую, что от него (как мне казалось) пахнет, что глаза его могут против его воли открыться (и потому на них и положили тяжелые пятаки), — все это до того меня интересовало, что я как-то и не успевал предаваться тому горю, которому предавались остальные. Я даже нарушал несколько раз общее сосредоточенное молчание, задавая весьма нелепые вопросы. Мне было всего четыре с половиной года, и я еще не умел представляться, а все, что случилось, было столь необыкновенным, столь странным… И вот что удивительно: мне при этом вовсе не было страшно, наоборот, мной постепенно овладевала особенная экзальтация, то особенное чувство, которое неминуемо посещало меня в детстве при каждом событии, особенно потрясающем.
Дальнейшее сохранилось в моей памяти более отрывчато. Смутно помню появление у гроба Иши старого патера Лукашевича, смутно помню и то, как я в последний раз вижу Ишу в открытом гробу в церкви св. Екатерины, куда его поставили на ночь перед погребением. Несколько лучше запомнилась картина погружения гроба в яму посреди того склепа, который в церкви Католического кладбища был отведен под место погребения нашей семьи. Но и эта церемония в сводчатой, пахнущей сыростью капелле не произвела на меня большого впечатления. Меня развлекали масса лиц, обступивших могилу, и в особенности одетый во все белое отец Курнан, который совершал самый обряд в со-служении еще двух священников в черных с серебром ризах. Мне запомнилась и моя глупая острота, которую я счел нужным выпалить из-за какого-то непоборимого желания обратить на себя внимание. Я вдруг повернулся к маме и громко спросил: «Его, вероятно, потому называют Курнан, что у него курносый нос?» Мне за мою остроту попало, но на некоторых лицах я увидел улыбку, и этого уже было достаточно для сознания какого-то успеха, до чего иногда дети, пожалуй, еще более падки, нежели взрослые.
Все последующие дни были заполнены разговорами об Ише. Я же не переставал рыться в его тетрадях и рисунках, отыскивая давно знакомые его композиции или же натыкаясь на еще мне неведомые и среди них на очень страшные и странные. Но кто мог теперь мне их объяснить и растолковать? Кому из братьев было дело до меня? Сестра Катя была далеко в Париже, а сестра Камиша целыми днями просиживала со своим женихом. Папочка же и мамочка были оба такие грустные, они так странно меня ласкали, что я не решался к ним приставать с вопросами. Поразила меня еще одна вещь. Разбирая бумаги Иши, мама набрела на тот брульон, в который он что-то еще записывал накануне дня, когда он почувствовал первые приступы недуга. То было классное сочинение по немецкому языку о «Марии Стюарт». И что же, эта черновая запись кончалась фразой, которую вложил Иша в уста несчастной королевы в момент, когда она идет на казнь: «Мой последний час пробил». В таком совпадении даже не имевшая склонности к мистике мамочка не могла не увидать своего рода предчувствие. Если кого может удивить, что на четырехсполовинойлетнего мальчика эта фраза, к тому же на чужом языке, произвела впечатление, то я укажу на то, что по-немецки, благодаря своей бонне Лине, заменившей как раз в том году русскую няньку, — я уже кое-что понимал, а про судьбу Марии Стюарт я слыхал от того же Иши.
ГЛАВА 3 Любимые игрушки
Моим главным развлечением в детские годы (приблизительно до 8 лет) были солдатики всякого вида и образца. Их я любил так, как только мог любить свои войска какой-нибудь немецкий «серениссимус» — великий охотник до парадов. Друг дома А. П. Панчетта меня даже прозвал «бум-бум», ибо именно так я сам называл солдат, когда еще не умел произносить настоящие слова, но грохот барабанов проходивших мимо наших окон полков уже вызывал во мне особенное возбуждение. «Бумбумом» называл меня этот милый человек до самой своей смерти, случившейся тогда, когда мне стало лет под сорок, и я из прежнего милитариста давным-давно успел превратиться в завзятого пацифиста.
Солдатиков было у меня несколько сотен. Одни были оловянные, другие бумажные, вырезанные папой, наконец, в удовлетворение моей страсти, папочка мне делал их из игральных карт, которые он перегибал пополам в высоту и обкромсывал по краю с заострением кверху. Такая форма позволяла им стоять довольно стойко, но истинную радость мне все же доставляло не стояние их, а падение. Если, бывало, дунешь на первого, он валился на соседа, тот на третьего, и вся линия оказывалась убитой. Никаких жестоких чувств я при этом не испытывал, впрочем, думаю, что и современный летчик, бросающий бомбу на город, тоже в этот момент ни о чем, специфически жестоком, не помышляет. Он скорее так же невинно веселится, как Шуренька веселился, когда ухлопывал свои бумажные легионы.
Из оловянных солдатиков особую слабость я питал к тем сортам, которые стоили дороже и которые являлись как бы аристократией среди прочего населения моих коробок. Это были кругленькие, выпуклые солдатики, причем кавалеристы насаживались на своих коней и для большей усидчивости обладали штифтиком, который входил в дырочку, проделанную в седле лошади. Спешенные, такие всадники имели препотешный вид: они оставались с расставленными ногами, точно они замочили себе штаны (неприятное чувство замоченных штанов было мне тогда хорошо знакомо), и вместе с тем в таком виде они походили на настоящих кавалеристов, у которых от езды тоже ноги становятся колесом, — брат Коля в позднейшие годы являл живой пример такого типичного кавалериста. Эти толстые солдатики продавались в коробках, в которых обыкновенно помещались еще всякие другие вещи: холщовые палатки, которые можно было расставлять, пушки на колесах и т. п. Все это было страшно интересно, и я действительно блаженствовал, когда расставлял все это на столе, создавал себе иллюзию, что все это настоящее. Если же к этому прибавлялись оловянные тонко-ажурные кусты и деревца, а также те восхитительные домики, которые папа мне вырезал и клеил, то иллюзия правды становилась еще полнее.
Вся эта домашняя военщина, будучи привозной, заграничной, довольно дорого стоила. Напротив, почти ничего не стоили военные игрушки народные, иначе говоря, те деревянные солдатики, которых можно было купить за несколько копеек на любом рынке. К сожалению, эти солдатики по формату не соответствовали оловянным, — самые маленькие из них раза в три превышали самого большого оловянного солдатика. Это обстоятельство, однако, не мешало мне любить и свои деревянные полки. Нравились они мне по двум причинам — и потому, что они были раскрашены в особенно яркие и глубокие колеры (например, голубые мундиры с желтыми пуговицами при белых штанах), и потому, что они восхитительно пахли, «пахли игрушками», — пахли тем чудесным запахом, которым густо были напитаны и игрушечные лавки. Самые замечательные игрушечные лавки были Дойниковские в Апраксиной рынке и в Гостином дворе, но по игрушечной лавке имелось и на нашем фамильном Литовском рынке и на недалеко от нас отстоявшем Никольском.
Эти деревянные солдатики пролетарского характера были разных типов: одни были крашеные, другие просто из белого дерева; были пехотинцы, были кавалеристы, были генералы. Но особенное удовольствие мне доставлял барабанщик, стоявший у своей будки, или целый полк с офицером во главе. Барабанщик выстукивал дробь, — стоило только повертеть за ручку, вделанную в кубик, служивший подставкой; что же касается полка, то тут фигурки в светло-голубых формах при белых штанах были нашпилены на деревянные, скрепленные накрест полоски, которые раздвигались и сдвигались, вследствие чего солдатики то размыкали, то смыкали ряды.
Но не одни солдатики пленяли меня среди простонародных игрушек: были еще такие, с которыми я познакомился в самом раннем детстве, но которые и позже вызывали во мне настоящую радость. К ним принадлежали, например, кланяющийся господин, одетый во фрак по моде 30-х годов, и его пара — дамочка, делавшая ручкой и одетая в широкое и короткое розовое платьице. Сколько я этих «Иван Петровичей» и «Марий Степановных» на своем веку переломал! И как был я счастлив, когда, принявшись в 90-х годах систематически собирать игрушки (вся моя большая коллекция игрушек была в 20-х годах приобретена Русским музеем в Петербурге, где она до сих пор, вероятно, украшает Бытовой отдел), я приобрел несколько последних экземпляров этих удивительных «живых статуэток», изобретенных еще во времена Гоголя и с тех пор неизменно повторяющихся мастерами Троицкого посада. Тут же нужно помянуть с сердечной благодарностью и о тех игрушечных «усадьбах», перед которыми под дребезжащую струнную музычку плавали гусята, а также о всяких пестро раскрашенных птицах и зверях из папье-маше (барашки делали «мэээ», птички — «пью, пью, пью»), о турке, глотающем солдат, и т. п.
Вспоминая выше о своем милитаризме, я позабыл упомянуть о предмете моего особенного вожделения — о большом солдате (из папье-маше), на котором был красный мундир и у которого была такая милая, круглая, розовая рожица с черными усиками. Он стоял вытянувшись, выпятив грудь, и браво держал ружье. Ростом он был с меня! Когда я, наконец, лет трех получил такого солдата и полагавшуюся при нем полосатую будку, то я точно получил себе живого товарища. Я даже клал его вместе с его неотделимым ружьем к себе в кровать под одеяло, а в его будку я мог свободно влезать. Временами, впрочем, я и сам походил на воина, нахлобучив на голову игрушечную каску или же облачившись в рыцарский панцирь. При панцире полагался и шлем с забралом и очень страшная кривая сабля. Все эти предметы были сделаны из картона и оклеены золоченой бумагой.
Если бы дать себе волю, то моя глава об игрушках могла бы разрастись в целый трактат. Однако я никак не могу не упомянуть еще о двух категориях игрушек — о том, что я бы назвал «карликовым миром», и о том, что можно объединить термином «оптические игрушки». И то и другое отвечало, пожалуй, еще в большей степени существу моего характера; то и другое имеет связь с театром и со всяким художеством, воспроизводящим жизнь.
Что касается до «карликового начала», то, мне кажется, это было во мне нечто наследственное, ибо, несомненно, уже у папы была страсть ко всему крошечному. Эту свою страсть он выражал в тех моделях, которые он клеил как для своих детей, так даже и для представления начальству. У него в книжном шкафу, рядом с целой деревней чудесных домиков, привезенных им в 40-х годах из Швейцарии, хранилась модель Стрелинского вокзала, которую папа когда-то склеил для представления ее самому государю Николаю Павловичу. Такие же модели (рассказывали братья) он делал раньше почти для каждой своей значительной постройки, больше для собственной утехи, нежели по необходимости, тратя на это кропотливое дело массу времени.
И вот в 1875 году ко дню моего рождения папа пожелал особенно распотешить младшего своего сынка этим своим искусством. Для этого он вздумал склеить целую квартиру, которая должна была заменить доставшиеся мне по наследству от братьев деревянные комнаты столярной работы, довольно-таки нелепые и громоздкие (ведь мог же я из одной комнаты в другую проползать на четвереньках через соединявшие их двери!). Приготовления к этому подарку держались в секрете, но я очень скоро заподозрил, что нечто особенное зреет для меня, да и пробегая по папиной чертежной, куда он с Альбером или с Леонтием, по окончании очередных серьезных дел, уединялись, я мог, бросив украдкой взгляд на рабочий стол, заметить какие-то крошечные рамы для окон, что-то вроде кухонной плиты, что-то похожее на фортепьяно. Наконец день моего рождения, 21 апреля 1875 года, наступил. Когда я, тщательно причесанный, в бархатном костюмчике с кружевной отделкой и в новых полосатых чулочках вышел сияюще-смущенный в столовую, то между двух горшков с гиацинтами я узрел настоящее чудо, сразу наполнившее мое сердце восторгом. Будучи, как большинство детей, лишенным чувства благодарности (назойливыми и никчемными мне тогда казались все эти поминутно повторявшиеся понукания: «Скажи „спасибо“, Шуренька»), я на сей раз все же «до краев сердца» переполнился этим чувством и даже расплакался. Маме и тут же стоявшим с поздравлением прислугам показалось, что Шуреньке опять не угодили, и уже собирались меня за это журить, но я, преодолев конфуз, все же успел между судорожными рыданиями промолвить: «Я заплакал, потому что боюсь это испортить…» — после чего я зарылся головой в папин халат и бешено стал его (т. е. именно халат) целовать.
Правда, этот домик был бумажный, картонный, комнаты были не выше пяти вершков, да и комнат было всего три, из которых одна, большая, служила залой, другая — столовой и спальней, а третья — кухней, но зато все это изумительно воспроизводило настоящую и притом довольно «шикарную» квартиру. В зале, оклеенной белыми обоями, топился (холодным пламенем из красной фольги) камин, над ним перед зеркалом стояли канделябры и часы, у окна (со слюдой вместо стекла) были повешены кружевные занавески, в углу стоял рояль с поднимавшейся крышкой; стены были украшены картинами в рельефных рамочках. В оклеенной красными обоями столовой, кроме обеденного стола и стульев, стоял еще удобный диванчик, кресло-качалка и большой буфет с настоящей фарфоровой и стеклянной микроскопической посудой, а смежная со столовой кухня была полна кастрюль, тазов, сковородок, на стене же висел колокольчик, который заливался тоненькой дробью, если отворяли входную дверь. В петербургских домах только тогда стали вводить общественное водоснабжение, но уже в моем домике был водопровод, по крайней мере, на это указывали кран и раковина.
Официальными жильцами моей квартиры значились куколки, очень мило одетые: господин и дама (для дамы пришлось прикупить железную кроватку с матрацем и подушками, тогда как господин удовольствовался диваном, на который я его укладывал, не снимая фрака). Однако подлинным обитателем был, разумеется, я. Мне и не нужны были эти фигуранты, которых я вскоре и спровадил в коробку со всякой всячиной, раз я мог сам часами просиживать перед своей квартирой, расставляя мебель, накрывая стол, возясь с камином, у которого, за металлической решеточкой, лежала лопаточка и щипцы. При этом я воображал, что «сегодня будут гости», что вот гости явились и им из кухни несут вкусные вещи. Мне не приходило в голову, что тут нужна еще хозяйка, но с какими-то все же воображаемыми товарищами, с Петей и с Сашей, я мог подолгу разговаривать, они меня навещали в квартире, и с ними же я продолжал беседовать, когда бонна укладывала меня спать.
Культ «маленького» достиг настоящего маньячества, когда в русском переводе я познакомился с Гулливером (прелестное издание «Зеленой библиотеки»). Ах, как мне тогда захотелось попасть в столицу лилипутов, заглядывать в окошечки их домов и наблюдать, как они живут в своих крошечных квартирках! Я давал себе слово, что буду крайне осторожен при прогулках по их улицам и что никого из них не задавлю. Я так живо представлял себе этих человечков, их лошадок, их костюмы, вооружение, что моментами мне казалось, точно я, как Гулливер, действительно, уже когда-то держал их в руках, точно действительно чувствовал, как они дрыгают в перепуге ногами, точно я их подносил под самый нос, чтобы лучше разглядеть. Да, может быть, я и впрямь все это видел в своих, всегда очень реальных снах. Вечером, когда тушили лампу, я начинал вглядываться в полумрак освещенной ночником комнаты в надежде, что кто-нибудь на комоде или на висячей полке вдруг и закопошится, и это окажется лилипут. Случись это действительно, я, наверно, и не испугался бы, тогда как умер бы от страха при появлении какого-нибудь мохнатого-рогатого. Меня интересовал и точный размер гулливерских лилипутов. Когда мне прочли в книжке, что они были семидюймовой высоты, то я просто обиделся, — это уже не были бы те совсем маленькие людики, в существование коих я так слепо верил и с которыми так хотелось войти в общение! Как было бы приятно брать их в карман, вынимать во время прогулок — пусть погуляют среди травки, которая должна им казаться дремучим лесом. Но годы шли, а лилипуты не удостаивали меня своим посещением; приходилось довольствоваться марионетками и всякой другой неодушевленной мелочью.
Здесь же нужно упомянуть о тех замках, о целых городках, которые продавались во время Вербного торга и в которых, как и в картонажных рыцарских доспехах, доживали свой век мечты отошедшей в вечность романтики! О романтике, как о некоем литературном движении, пятилетний мальчик, разумеется, никакого понятия не имел, но о замках я знал, что в них жили разные персонажи из любимых сказок: рыцари, принцы и принцессы, Синяя Борода, Людоед, которого в виде мышонка сожрал Кот в сапогах, и т. п. Да и про самые замки мне много рассказывал Иша, и я знал, что у них подъемные мосты, что их окружают зубчатые стены с башнями по углам; я приблизительно знал и то, как выглядят замки внутри, какие там лестницы, переходы, залы. Многое такое я видел в папиных путевых альбомах, но со многим я знакомился как раз по тем замкам из пробки, о которых я упомянул только что.
Кто создавал эти чудесные и прямо-таки поэтичные вещицы? Кто был тот милый, уютный художник, который, вероятно, задолго до Вербного торга подбирал пробки, разрезал их на пласты, клеил их, сочинял самую архитектуру, бесконечно варьируя комбинации элементов, из которых складывались эти крошечные сооружения. Этот же анонимный волшебник выкладывал скалы, на которых возвышались его многобашенные замки, ярко-зеленым мхом, сажал по ним крошечные рощи из перьев, он же вставлял в пробочные берега зеркальца, представлявшие пруды чистой воды. Какие тончайшие пальцы лепили этих малюсеньких восковых лебедей, что подплывали к ажурным перильцам пристани? Неужели этот архитектор, доживший вероятно до глубокой старости, пережил себя и познал коварную переменчивость вкусов? Неужели он терпел нужду, боролся за жизнь, производил все эти чудеса для того, чтобы заработать десятка два рублей за те семь дней, что длилась Вербная неделя? Постепенно мода на эти замки стала проходить. Их уже редко кто покупал, хоть и стоили они не больше рубля или двух; никого не трогала их подлинная поэтичность. Над ними стали смеяться, как над непонятным пережитком глупой старины. И странное дело, даже у меня, хотя не обходилось и года, чтобы я не приобретал такого замка, даже у меня не сохранилось их ни одного. Хрупкие эти изделия требовали большой осторожности, их следовало бы держать под стеклянными колпаками! Но и колпаки ломались от недостаточно осторожного обращения прислуги и меня самого.
Радость, совершенно подобную той, которую я получал от этих вербных замков, испытывал я при виде того, что было сгруппировано в одной из зал Академии художеств. Через нее надо было проходить, отправляясь в комнаты, отданные под «конкурентов». Так как папа всегда меня брал с собой, когда делал свой обход знакомых академистов, в том числе и моих двух братьев, то я побывал в этом «зале моделей» несколько раз. Это была просторная, но не очень светлая комната. В самой глубине ее и в наиболее освещенной ее части возвышался дивный купол римского San-Pietro, а перед ним в некотором беспорядке были расставлены прямо на полу знакомые мне Исаакиевский собор, Михайловский замок, Петербургская биржа, Смольный монастырь и десяток античных руин. Каждая такая миниатюрная постройка была представлена со всеми подробностями — с крышами, трубами, колоннами, подъездами, колокольнями и шпилями. Вот где воочию я видел город Гулливера! Мне разрешалось пройтись среди этих зданий, из которых немногие превышали мой рост и внутрь которых я мог заглядывать через окошечки. Часть этих зданий стояла как бы разрезанная пополам, что позволяло различить и внутреннее убранство, местами весьма роскошное.
Но выше всех и прекраснее всех казался мне именно собор св. Петра! Мало того, когда я очутился уже зрелым человеком перед папским собором в натуре, я не ощутил столь же сильного восторга, какой я испытывал ребенком, когда цепенел перед этой величественной массой, хотя она и не превышала высоты одной сажени (двух метров). Ничего я еще тогда не знал о художественном значении этого памятника, о том, когда и кем он был построен, я имел только смутное представление о том, что это самая большая церковь на свете и что она находится в Риме, где живет папа, — не мой папа, а папа римский, царь всех священников. Этот мой восторг был поистине непосредственным и подлинным! И именно этот восторг от собора св. Петра вместе с таким же подлинным восторгом от Рафаэля остался как бы путеводным талисманом на всю мою жизнь. Постепенно он отложился в моей душе в целую систему неопровержимых и совершенно для меня ясных аксиом, и каждый раз, когда мной овладевали сомнения в отношении чего-то главного, я, благодаря этому талисману, спасался от деморализации. Впоследствии все эти модели были (благодаря моим же стараниям и после многих лет небрежного отношения) расставлены в залах нижнего этажа Академии художеств, но, увы, модели св. Петра среди них не было; она погибла за несколько лет до того в пожаре 1900 года. Она была слишком велика, чтобы пожарные могли ее вынести через единственную дверь той залы, в которой была сгруппирована эта бесподобная коллекция.
ГЛАВА 4 Оптические игрушки
Всякие оптические игрушки занимали в моем детстве особенное и очень значительное место. Их было несколько: калейдоскоп, микроскоп, праксиноскоп, волшебный фонарь; к ним же можно причислить гуккастен и стереоскоп. Из них калейдоскоп был в те времена предметом самым обыденным. В любой табачной лавочке, торговавшей, наряду с сигаретами и папиросами, и дешевыми игрушками, можно было за несколько копеек приобрести эту картонную трубочку, которая на одном конце имела дырку, а на другом матовое стекло. Стоило посмотреть в дырку, как внутри обращенной к свету трубки появлялось удивительное зрелище, благодаря пересыпавшимся цветным стеклышкам, отражавшимся в стенках зеркальной призмы. Пронизанные светом, превратившись в драгоценные камни, эти кусочки при каждом повороте трубки соединялись, рассыпались и укладывались во всевозможные новые фигуры. Бывали и другие калейдоскопы с металлической трубкой, оклеенной цветной кожей с визиром, который можно было, как в микроскопе, двигать вперед. Но цветные фигуры получались в ней не более удивительные, а к тому же надо было с ним обращаться бережно. И ни в каком случае не разрешалось такую трубку вскрыть и изучить ее внутренность. Напротив, жизнь каждого дешевого калейдоскопа вскоре оканчивалась именно такой операцией. И до чего же было забавно, когда высыпешь на ладонь пригоршню снова превратившихся в поломанные стекляшки недавних яхонтов и рубинов!
Микроскоп не был игрушкой. Брат Иша унаследовал его от Альбера, который завел себе более усовершенствованный, но в руках Иши старый Бертушин микроскоп служил еще лучше, нежели у своего первого владельца, — ведь Иша был так пытлив, он столько знал, он столькому учился помимо своих гимназических уроков. Однако для такого маленького мальчика, каким был я, микроскоп был, разумеется, игрушкой, и игрушкой тем более чудесной, что она никогда мне прямо в руки не давалась. Помню, как Иша бережно кладет на стеклышко пыль, снятую с корки сыра, я же не могу дождаться, когда это будет готово и когда, закрыв один глаз и приложив другой к холодной меди, я увижу какой-то очень страшный мир; нечто вроде тех мохнатых чудовищ, которые меня навещали в кошмарах. Да уже не от этих ли сеансов и шло мое представление о рогатых, косматых и до тошноты гадких существах? Меня начинали мучить вопросы, где домики, норки этих зверей, и зачем боженьке понадобилось создать их да еще посадить на такую вкусную вещь, как швейцарский сыр?
Вероятно, мало кому сейчас известно, что означает эффектное слово «праксиноскоп», а между тем эта была та самая штука, которая полвека назад заменяла кинематограф. Мало того, от праксиноскопа, от принципа, лежащего в основе его, кажется, родилась и сама идея движущихся картин. В своем простейшем виде это был картонный барабан, в котором проделаны узкие вертикальные надрезы. Внутрь барабана кладется лента с изображениями разных моментов какого-либо действия — скажем, девочки, скачущей через веревку, двух дерущихся борцов и т. п. Приложив глаз к одному из надрезов, мы видим только ту часть ленты, что по диагонали круга находится напротив. Но стоит дать ладонью движение барабану, свободно вращающемуся на штативе, как изображения начинают мелькать и сливаться, а так как каждое изображение представляет уже слегка измененное предыдущее, то от этого слияния получается иллюзия, будто девочка скачет через веревку или будто борцы тузят друг друга. Разумеется, барабан, сделав круг, подводит к тому же месту, к начальной картинке, но неизбалованному тогдашнему зрителю и того было достаточно, что девочка, не сходя с места, все скакала да скакала, а борцы, оттузив друг друга, снова принимались тузить, пока барабан не остановится. Сюжеты на ленточках бывали и более затейливые, а иные даже страшные. Были черти, выскакивающие из коробки и хватающие паяца за нос, был и уличный фонарщик, влезающий на луну, и т. п.
Зоотроп — вариант праксиноскопа. Здесь принцип оставался тот же, но видели вы не самую ленту, а отражение ее в зеркальцах, которые были поставлены крест-накрест в середине круга. Из картинок этого типа (обыкновенно нарисованных в виде силуэтов) мне особенно запомнилась вальсирующая пара. Иллюзия того, что эти фигуры вертятся, была полная, причем казалось, что они и рельефно выступают. Этот аппарат нравился мне особенно потому, что он принадлежал к явлениям из карликового мира, — эти лилипутики танцевали мне на забаву, и я мог чуть ли не часами глядеть на такое милое зрелище. Мне кажется, что я перепутал здесь термины: то, что я говорю о праксиноскопе, относится к зоотропу, и наоборот. Надо бы проверить по энциклопедическому словарю.
У дяди Сезара был чудесный праксиноскоп с массой лент, но была у него и другая оптическая «штука». Это была большая «иллюзионная камера» — целое сооружение на особом постаменте, в которой большие фотографии, вставлявшиеся в нее и ярко освещенные, получали удивительную рельефность и отчетливость. Окончательная же иллюзия получалась тогда, когда прикрывалось освещение сверху, и картины освещались транспарантом, причем день сменялся ночью, на небе оказывалась луна, в воде ее отблеск, на улицах зажигались фонари, Везувий выкидывал (неподвижное) пламя, и красная лава текла по его склонам. Самой же эффектной была картина, изображавшая какое-то пожарище (Тюильри, сожженное в дни Коммуны?). Днем вид представлял унылые серые развалины, но на транспаранте они оказывались объятыми бушующим огнем, тысячи искр летели по небу, и жутко чернели силуэтами наполовину уже обгорелые стены. Наслаждение, получаемое мною при виде этих картин, было тем более острым, что мне не так-то легко было добиться подобного спектакля. Сам дядя Сезар был слишком занят, чтобы заниматься мной, барышни-кузины или их гувернантки не умели зажигать специальную лампу и переставлять эту довольно тяжелую машину, оставалось прибегать к помощи милого и всегда любезного кузена Жени, но он не всегда бывал дома.
Не меньшей приманкой, нежели гуккастен дяди Сезара, служил мне стереоскоп дяди Кости, но о нем я уже рассказал в первой части этих воспоминаний. У моего папы был тоже стереоскоп, но более скромный, более примитивный и лишенный удобства манипулирования. Зато карточки, которые были у нас в доме, являлись своего рода редкостями стереоскопии. Это были не фотографии, а раскрашенные литографированные рисунки — теоретически скомбинированные так, чтобы разглядывание их в два стекла давало слитый рельефный образ. Предрасположение мое к стереоскопии сказалось в том, что я и этими отвлеченными образами мог упиваться часами. Особенно меня восхищало то, как геометрические построения, напоминавшие те формы, в которых подавалось в те времена мороженое или пеклись парадные торты, лепились, вырастали так, что казалось, — они вот-вот коснутся моего носа! Иные же удалялись в бесконечную даль.
В сущности, «штука», которая меня так восхищала у дяди Сезара, была тем же, только усовершенствованным гуккастеном, с которым еще ходили в моем детстве раешники по улицам Петербурга. Пять или шесть таких раешников забавляли нетребовательную публику и во время масленичного гулянья на Марсовом поле, да и редкая деревенская ярмарка обходилась без того, чтобы не появлялся один из этих «разносчиков зрелища». Ходили раешники и по дворам, и тогда к коробке его прилипали дети самых различных классов, ибо всем было настолько интересно поглядеть через большие круглые застекленные отверстия на картинки, вставлявшиеся внутри коробки. Особенно заманчиво было послушать потешные пояснения к ним, дававшиеся раешником. Картинки русских гуккастенов были самые незатейливые, кое-как раскрашенные, а то это были просто иллюстрации, вырезанные из журналов и наклеенные на картон.
Зато чего только не врал раешник! Запомнились особенно классические пассажи: «Вот город Амстердам, в нем гуляет много дам». «А вот город Париж, приедешь и угоришь, французы гуляют, в носу ковыряют». Про королеву Викторию гласило так: «А вот город Лондон, королева Виктория едет, да за угол завернула, не видать стало».
Хороший раешник знал десятки всяких прибауток, причем он их варьировал, стараясь потрафить вкусу данного сборища публики или даже высказаться на злободневные темы. Бывало, что он и такое наврет, что «дамы» — горничные, швеи или просто какие-либо девчонки — шарахались в сторону и, прыская от смеха, закрывались передниками. В газетах высказывалось возмущение такими непристойностями раешников (причем надо сказать, что самые картинки были всегда самого невинного характера), я же тогда этих непристойностей просто не понимал, и если что меня влекло к коробке раешника, то это больше как бы самый «принцип» — вот увидать хотя бы дрянную картинку, но в таких условиях, которые придавали ей характер чего-то волшебного. Однажды меня так затолкали уличные мальчишки, желавшие увидеть то, чем я любовался, что я упал и больно ударился при этом о коробку. Такая бесцеремонность меня до того рассердила, что, не успев сообразить, до чего опасно вступать в бой с этими маленькими разбойниками, я схватил свою шапку и стал бить ею по их физиономиям. Это, кажется, единственный случай в моей жизни, когда я уподобился Роланду, причем, к собственному удивлению, я вышел из этого испытания с честью, — правда, при поддержке дворника Василия.
Из всех оптических игрушек, когда-то меня пленивших, не было ни одной столь замечательной и значительной, нежели волшебный фонарь. Два этих слова вызывают и по сей день во мне особые ощущения. Впрочем, в родительском доме, в котором французский и русский языки имели одинаковые права и в котором очень много называлось иностранными словами, выражение «волшебный фонарь» не было в таком ходу, как слова: Lanterne magique или по-латыни — Lanterna magica.
Самый аппарат у нас был неказистый, и стоял он на полке рядом с прочим детским скарбом, но и он обладал способностью вызывать в темной комнате на пустой белой простыне самые удивительные образы; в те времена, не знавшие кинематографа, этого было достаточно, чтобы возбуждать в зрителях (и не только в детях) восторг. Стоило зажечь лампу, помещавшуюся внутри жестяной коробки, вставить в коридорчик между лампой и передней трубкой раскрашенное стеклышко, как на стене появлялись чудесно расцвеченные, совершенно необычайных размеров картины!
Характеру волшебной таинственности «лантерны-магики» особенно способствовало то, что эти представления должны были, по необходимости, происходить в темноте. Темнота настраивала на особый лад. Темная комната — страшная комната. Когда мне случалось проходить вечером одному через темную нашу залу, я предпочитал идти, зажмурив глаза, и находить путь ощупью, только бы не увидеть «чего-либо такого, от чего можно помереть со страху». А вот тут эта враждебная и страшная темнота оказывалась желанной и заманчивой. Да она уже никому более из детей и не казалась страшной, раз в темноте набиралось столько народу и со всех сторон во мраке доносились знакомые голоса, смех, вспышки ссоры и сдержанное хихиканье. В таких условиях не страшно даже и пугнуть другого, — подкрасться к кому-нибудь и внезапно схватить его за ногу или дернуть за косу.
Уже самые приготовления к сеансу волшебного фонаря вызывали волнение. Вот старшие братья устанавливают на табурете «машину». К стене прикалывается простыня, мы же, зрители, устраиваемся на собранных со всех углов стульях, а кое-кто и впереди, просто на полу. Домашняя традиция требовала, чтобы на этих спектаклях непременно присутствовала прислуга и в первую голову наши две горничные — Степанида и Ольга Ивановна. Присутствие их было особенно желательно мне. Если бы я знал в те времена что-либо о греческой трагедии, я бы сравнил их роль с ролью античного хора. Они наперерыв старались выражать свое изумление, восторг или сожаление перед всем, что появлялось на простыне, и хотя бы они видали это много раз и знали все наизусть, их «ахи» и «охи» необычайно усиливали наше собственное настроение…
Но вот зрители все разместились, впереди малыши, позади кто постарше. Лампа, стоявшая на столе перед диваном, вынесена в другую комнату, и двери плотно-плотно закрыты, и тогда кажется, что вся комната погрузилась в непроницаемую тьму. Однако прежде, чем что-либо появилось на простыне, начинает сильно попахивать копотью, — лампа в фонаре имеет неисправимую привычку дымить. Пахнет и накаленной лаковой краской, которой покрыта жестяная коробка, но эти ароматы способствуют только мистике момента. Тут же неизменно в начале сеанса повторяется одна и та же сцена. Мама заглядывает через приотворенную в темноту дверь и встревоженным голосом произносит фразы: «Боже, как дурно пахнет!.. Смотрите, дети, будьте осторожны, как бы не наделать пожара!» Это вторжение трезвого благоразумия раздражает. Все в один голос протестуют, но с другой стороны становится как-то и лестно. Оказывается, что наше таинство связано с какой-то опасностью. Это мы можем наделать пожар, это наше колдовство может закончиться всамделишной ужасной катастрофой! Такая перспектива почему-то даже веселит.
Но вот на простыне появился большой, правильный светлый круг, и в этот круг сбоку наползает первая выросшая в громадную величину картина. Раздаются крики! Произошла вечная ошибка. Стеклышко неправильно вложено, и изображение появилось вверх ногами; распорядители полушепотом обмениваются упреками. Но далее все идет как по маслу, и оттого, что на секунду мы увидали хорошо знакомый образ опрокинутым, иллюзия от спектакля нисколько не нарушается.
Наши сеансы волшебного фонаря обычно начинались со сказки про «Спящую красавицу». У трона стоит колыбель новорожденной принцессы; ее окружают король с королевой и несколько фей. «Это добрые феи», — поясняет картину Миша, что, однако, давным-давно всем известно. Но почему же феи отвернулись от младенца и с ужасом глядят в одну сторону? Объяснение появляется тут же, ибо по мере того, как феи продвигаются влево и исчезают за круглым краем, справа вылезает длинный, крючковатый с бородавкой нос Карабасихи и ее протянувшаяся с грозящим пальцем рука. Ах, зачем ее не пригласили! Следующий эпизод. Горбунья, окруженная пламенем, творит свое проклятое колдовство, она зловеще подняла палочку, и напрасно ее умоляют о пощаде другие феи и царственные родители. Принцесса заснет от первого укола и будет спать целых сто лет… В дальнейшем, увы, историю прерывают весьма досадные пропуски. Так, выросшая писаной красавицей принцесса входит в комнатку к старушке, сидящей за веретеном, но от следующей, самой фатальной сцены сохранились лишь полруки и веретено, — остальное погибло от падения стекла на пол. Или — вот принц привязывает своего коня у ворот заросшего шиповником замка, но от сцены, где он целует спящую принцессу, видно было только изголовье роскошной кровати и ее увенчанная короной головка.
Сказочная часть программы на этом не прекращалась. Вслед за «Спящей красавицей» скользили по светлому кругу истории про «Мальчика-с-пальчика», про «Золушку», или про «Кота в сапогах». Стекла эти были не так давно куплены, они были целы и горели всей яркостью своих красок. Зато в конце сказочной серии обязательно показывалась одинокая картина, про которую никто уже не помнил, к чему она когда-то относилась (это стекло сохранилось еще со времени детства старших братьев). Но фрагмент этот производил потрясающее впечатление. То было погребальное шествие. Густой толпой, голова к голове, выступали благородные синьоры в средневековых костюмах, а сейчас за ними продвигался и самый несомый на плечах гроб. Кто лежал в нем, какому полу и возрасту принадлежали его останки, никто не знал, но нельзя было сомневаться в том, что то была особа царского рода, так как провожали ее коронованные персонажи, да и на гробу лежала корона. Если Альбер оказывался с нами (несмотря на свои двадцать лет и на свою бороду, он не меньше нашего наслаждался таким спектаклем), то он осторожно пробирался к роялю, бесшумно отворял крышку и принимался под сурдинку играть траурный марш Шопена… И до чего же эти звуки способствовали усилению впечатления!
Были в нашей коллекции картинок для фонаря и видовые сюжеты. Стоили они дороже других, так как они были вделаны в дерево и тонко раскрашены от руки. Несколько из этих драгоценностей пережили всех своих более ломких товарищей, и две из них я хранил и в позднейшее время наряду с другими наиболее трогательными сувенирами детства. Разглядывая их на свет, я каждый раз испытывал магическое их действие. Происходившее более чем полвека назад восставало передо мной, как живое, и мне даже начинало казаться, что я снова слышу знакомые шорохи в потемках и вдыхаю копотный запах.
То были: «Вид в Саксонской Швейцарии» и «Капелла зимой при луне». Особенно хороша была капелла. Благодаря не особенно хитрому трюку, двери ее отворялись, и тогда внутренность оказывалась залитой светом. Уверяю вас, что, отдаваясь в детстве наслажденью от разглядыванья этих картинок, я испытывал чувство бесконечно более сильное и глубокое, нежели то, которое теперь дает и очень усовершенствованный красочный фильм. Ведь всякое произведение искусства, будь оно самое наивное, становится прекрасным, раз оно находит доступ в душу, — а говорить нечего, что «Капелла зимой при луне» доступ этот находила и даже в такой степени, что у меня навертывались слезы умиления.
Сеанс завершался комическими номерами и «вертушками». Комические стекла изображали всякие гротескные рожи (иные из них, представая на простыне в исполинских размерах, не только смешили, но и пугали) или то были целые движущиеся сценки. Стоило, например, дернуть за ручку, торчавшую из-за деревянного обрамления стекла, как вмиг у повара на блюде вместо свиной головы оказывалась его собственная, а на его толстенной фигуре появлялось свиное рыло. Был и такой еще сюжет: мальчик весело катается по льду, но дернешь за ручку, и он уже в проруби, из которой торчат одни лишь ноги. Эффектнее всех была картинка, изображавшая жирного купца, угощающегося блинами; один блин за другим попадал в широко разинутую его пасть, и у нас на глазах пухла его утроба. Боже, какой смех вызывала эта примитивная юмористика… Хохотали дети, но пуще других хохотала почтенная Ольга Ивановна, причем, вероятно, для богомольной, стародевичьей постницы в этой картине было и нечто соблазнительное.
Вертушки служили апофеозом сеансов. Они представляли в них чисто эстетическое начало. В своем роде это были эмбрионы тех причудливых разводов и тех красочных окрошек, которыми нас теперь услаждают разные авангардные беспредметники вроде Леже, Кандинского, Маркусси, Миро, Массон и т. д. Но у их эмбрионов было большое преимущество перед новомодными проявлениями того же художественного принципа: эти окрошки двигались, они вращались и сочетались в самые неожиданные красочные симфонии. Одни при вращении производили впечатление, точно они разбрасывают узоры во все стороны и притом налезают на зрителя; другие, напротив, как-то всасывались внутрь и представляли собой подобие воронок или мальштремов. В обоих случаях оставалось непостижимым, откуда берется такая неисчерпаемость цветистой материи и куда она проваливается. При вертушках тоже требовалась музыка, причем оператор изощрялся, чтобы рисунок движущихся арабесок совпадал с ритмом звуков. Когда я сам научился производить кое-что складное на фортепьяно, то я с особым удовольствием брал на себя роль такого музыканта. Не знаю, получили ли большое удовольствие от моих импровизаций слушатели, но сам я впадал при этом в своего рода транс. Мне начинало казаться, что это я вместе со звуками произвожу всю эту красоту.
Все до сих пор рассказанное относится к фонарю, служившему еще моим братьям. Он был небольшого формата, стенки местами были продавлены, а труба давно потеряна… Но на елку 1878 года я себе выпросил новый собственный фонарь, и уже это было нечто несравненно более эффектное и внушительное. Коробка фонаря была вдвое больше, увеличительное стекло было снабжено диафрагмой, свет лампы обладал силой достаточной, чтобы при круге, достигавшем до потолка, образы оставались яркими и отчетливыми. Тогда же мне были подарены вместе с новыми сериями сказочных стекол помянутая «Капелла зимой» и еще какие-то пейзажи, которыми я особенно любил поражать своих маленьких гостей. Но мог ли я тогда думать, что я еще увижу, благодаря волшебному фонарю, и такие оптические иллюзии, в которых все изображенное будет двигаться, в которых и даже самые фантастические сказки будут развертываться во всем очаровании красок, пения, музыки и словесных диалогов?.. Что бы сталось со мной, если бы в 1878 году на семейной елке новенький фонарь показал бы на белой стене нашей залы то, что теперь может увидеть где угодно и сколько угодно даже и весьма малоимущий ребенок?
ГЛАВА 5 Любимые книжки
Моей первой книжкой был, несомненно, «Степка-растрепка», в оригинальном немецком издании «Неряха Петер». Каким-то необъяснимым чудом этот же самый, уже до меня служивший братьям экземпляр сохранился до сих пор и находится здесь со мной в Париже. Когда-то, более чем восемьдесят лет тому назад, мой Степка-растрепка лишился своего оригинального картонажного переплета, и с тех пор его заменяет обложка собственного папашиного изготовления из зеленой мраморной бумаги. Внутри книжки тоже не все благополучно, некоторые листы надорваны, целая страница в одной из историй отсутствует совершенно, а именно про мальчика-ротозея… Но в детстве я так привык к отсутствию начала этой истории и так научился добавлять воображением то, что предшествует моменту, когда ротозей попадает в воду канала, что, когда я в цельном экземпляре «Степки-растрепки» увидал полную версию этой истории, я был даже как-то разочарован.
А вообще, какая это чудесная книжка — ныне забракованная специалистами в качестве антипедагогической. Известно ее возникновение. Автором ее был детский доктор, который для забавы своих маленьких пациентов рассказывал им сказки, снабжая их тут же примитивными иллюстрациями. Кому-то пришло в голову собрать эти истории и побудить доктора издать их, — и вот успех получился совершенно неожиданный. Книга оказалась сразу в руках у всех мамаш, нянюшек и самих ребят, и с тех пор издание книги было повторено бесконечное число раз; мало того, она переведена на все языки! Существовала и русская версия (она-то и называлась «Степкой-растрепкой»), но то было не дословное повторение, а скорее своеобразный вариант с внесением в него специфически русских бытовых черт. В чисто художественном смысле рисунки в русском издании, принадлежащие известному иллюстратору 40-х и 50-х годов Агину, превосходят рисунки оригинала.
Чудесное свойство «Штрувельпетера» заключается в совершенной его убедительности. Сколько вообще нарисовано на свете всяких фигур и сцен на забаву и поучение малышей, какие отличные художники отдавали иногда свои силы этой задаче, — и, однако, ничто так не убеждает, ничто так не поражает воображение ребенка, как те наивные фигуры и нелепые сцены, из которых состоит «Struwelpeter» доктора Гофмана. Впрочем, и самому автору этой архигениальной книжки не удалось затем достичь такой же силы художественного воздействия. Существует еще несколько детских книжек того же автора, и в них рисунки сделаны, пожалуй, старательнее, исполнение обладает большим совершенством, но ни одна из этих, в своем роде тоже очаровательных, книжек («Лентяй Бастиан», «На небе и на земле») не может сравниться с первым созданием благодушного медикуса, так удивительно потрафившего вкусу и воображению детей. И до сих пор каждая из фигур «Штрувельпетера» для меня представляет нечто совершенно живое и как бы даже реально существующее. В детстве же я верил, что улицы, по которым пай-мальчик дает себя вести за ручку своей маменьке, есть наша Большая Морская, и что канал, в который свалился Ротозей, — соседний с нашим домом Крюков канал. Да и парадная лестница, на которую вышла дама, запрещающая своему сыну сосать палец, — была для меня нашей парадной, а дверь, из которой вылетает страшный портной, — это дверь наших соседей Свечинских! Именно то, что есть в этих рисунках наивного и чистосердечно обобщенного, — то самое дозволяет детскому уму добавлять эти картинки личным воображением. Я бы не запомнил столь многое в «Штрувельпетере», если бы на картинках было больше подробностей. Но кроме того, дети отлично разбираются в так называемой художественной правде, хоть ребенок и не имеет понятия о смысле этих слов. В «Штрувельпетере» есть именно та самая подлинная непосредственность, которая подкупает детскую фантазию и подкупает настолько, что ребенок не отдает себе отчета в нелепостях и неточностях, а эти нелепости и неточности он исправляет и дополняет благодаря особой яркости своих первых восприятий жизни…
Наконец, сюжеты «Штрувельпетера» вполне подходят к ребяческим интересам и в сущности содержат, как бы в эскизах, некий компендиум живой драмы. Что все это преподнесено в дурашливом виде, вовсе не лишает убедительности и лишь смягчает силу впечатлений, которые без того могли бы ранить воображение и оставить в нем болезненные следы. Специалисты педагогики это-то и проглядели, когда они забраковали «Штрувельпетера». Жестокого и страшного каждый — и даже наиболее оберегаемый — ребенок видит достаточно вокруг себя, — но его охраняет какая-то специфически детская душевная броня. Он видит все иначе, по-иному, в известном смягчении, и самое ужасное становится благодаря тому почти приемлемым. Именно такой «приемлемый ужас» присущ и историям «Штрувельпетера». Все страшно, многое даже жестоко, но манера, с которой это поднесено, та детскость, что была в авторе и чем насыщены его рисунки, это делает страшное и жестокое забавным, ничуть не подрывая убедительности.
Моей симпатии к «Штрувельпетеру» я остался верен на всю жизнь. Если впечатления от разных классических картин, в частности от рафаэлевских стансов (о чем дальше), способствовали образованию моих эстетических основ (в глубине души и несмотря на весь мой эклектизм, я все же «классик»), то «Штрувельпетер» утвердил во мне способность чувствовать и распознавать правду и именно правду художественную, иначе говоря, такую, которая более правдива, нежели и самый точный объективный фотографический документ. На такой основе выросла затем моя симпатия и к Людвигу Рихтеру, и к Доре, и к Бушу, и к Оберлендеру, позже к Ходовецкому и к Менцелю, к Брейгелю, к нидерландским и французским примитивам, к итальянским кватрочентистам, к Рембрандту и т. д., и т. д. И наоборот, я особенно чуток к распознаванию лжи в искусстве, тогда как за внутреннюю правду и подлинность я готов простить какие угодно недостатки и недочеты. Наконец, к своему собственному творчеству я был потому строг, временами даже несправедлив, что слишком часто сознавал в нем отсутствие того дара непосредственности, которым мне особенно хотелось бы обладать. Если, оглядываясь назад на свое творчество, я из него решился бы что-нибудь спасти, то сюда не попали бы те картины, которые принесли мне в свое время наибольший успех и что в момент их создания казались мне удовлетворительными, а напротив, то скромное, наивно-непосредственное, что меня подчас роднит с автором «Штрувельпетера».
Любимой книжкой после «Степки-растрепки» была в раннем детстве (тоже немецкая) история про путешествие какого-то «дяди Швальбе» на воздушном шаре. В очень ясных и на сей раз академически умелых картинках мы видим, как любитель-путешественник подымается над родным городом и при этом якорем зацепляется за церковного петуха, которого и увозит с собой в поднебесье. После разных похождений мы попадаем с ним на макушку египетской пирамиды, куда к нему приползает крокодил, и, наконец, мы переселяемся на луну, внутри которой имеется уютнейшая комнатка. В ней аэронавт в обществе лунного сторожа подкрепляется сыром и пивом, но, в конце концов, сторож выбрасывает Швальбе в черную пустоту. Все это чистейшая чепуха, но почему-то она оказывала удивительную притягательную силу. Уже не шевелились ли в мальчике 70-х годов инстинкты воздухоплавания, приведшие последовавшие поколения к овладению воздухом?
Такими же вернейшими спутниками моих детских лет, как Степка-растрепка и дядя Швальбе, были еще три книги, о которых я не могу умолчать. Одна из них познакомила меня с моим другом Арлекином, другая — ввела меня в царство музыки, а разглядывая третью, я переносился в древний классический мир, в его божественную ясность и гармонию. Название первой книги я не помню. Она еще в детстве исчезла из нашего обихода, и сколько я ни старался потом ее разыскать у букинистов, мне это так и не удалось. Вероятно, она принадлежит к большим библиографическим редкостям. Однако я отчетливо помню каждую из картинок, и мне сдается, насколько можно доверяться детским воспоминаниям, что эти картинки имели нечто общее с Домье. Одно несомненно — то были литографии и притом раскрашенные. Из отдельных проделок Арлекина (именно им и посвящена вся книжка) мне особенно запомнилась одна, с протянутым шнурком через улицу. На одной картинке Арлекин занят приготовлением своей злой шутки, но уже вдали виднеется фигура Кассандра, медленной походкой придвигающегося к фатальному месту; во второй Арлекин, спрятавшись за углом, натянул шнурок, и почтенный старец, споткнувшись об него, летит вверх тормашками. Другие проделки (вроде кражи всякой снеди) носят еще более преступный характер, и кончается история уже совсем плохо. Арлекина судят и приговаривают к повешению, но, к счастью, палач, движимый жалостью, освобождает его от петли, и на последней картинке Арлекин бежит со всех ног по полю с черной маской на лице, — дабы отныне никто не мог его узнать. Вдали же на горизонте виднеется виселица с каким-то болтающимся тряпьем.
Об Арлекине я еще буду говорить, рассказывая про балаганы, но и здесь будет кстати сказать два слова о моем культе Арлекина, о моей настоящей влюбленности в эту странную фигуру. Я видел о нем сны, я сам мечтал «стать Арлекином», я обожал маленького Арлекина, фигурировавшего среди фантошек, привезенных мне бабушкой из Венеции, и всем этим культом Арлекина (которому я, несмотря на его современное опошление, остался верен до сих пор) я обязан силе впечатлений, полученных именно отданной книжки. Несомненно, что, не получи я их в начале дней своих, я бы не считал Арлекина своим другом и даже чем-то вроде своего доброго гения. И как раз этот образ юного, прелестного существа — остался для меня подлинным, тогда как, познакомившись впоследствии с основным видом данного персонажа из итальянской комедии, я огорчился и как-то обиделся за своего героя. Арлекин с бородой, Арлекин-бродяга, Арлекин, смахивающий на уродливого арапа! Впрочем, почему не считать, что и на картинах Ватто или Жилло под уродливой маской с черным подбородком (или даже с бородой) скрывается тот же милый, поэтичный образ моего лукавого красавца и что этот проказник вовсе не чужд благородных побуждений. Когда в балаганных представлениях я видел, что феи балуют его и даже дарят ему волшебную палочку, я вовсе не удивлялся этому и принимал это как нечто, Арлекином вполне заслуженное…
В папиной библиотеке было очень много иллюстрированных книг, но в те времена раннего детства огромное большинство внушало мне лишь респект, не далекий от отвращения (особенно неприязненно я относился к большущим архитектурным фолиантам, в которых было столько планов и чертежей). Но было несколько книг, которые я любил и которые я особенно часто требовал, чтобы мне их показали. На первых местах среди этих любимцев из папиной библиотеки стояли «Похождения Виольдамура» и «Душинька» — две русские книги, состоявшие из одних картинок, тогда как текст к ним находился совершенно в другом месте и был напечатан на страницах другого формата. Впрочем, в тексте я и не нуждался. Повесть Казака Луганского о Виольдамуре я так и не удосужился прочесть, даже впоследствии, а «Душиньку» Богдановича хоть и прочел, но тех впечатлений, которые возникали во мне от рисунков Федора Толстого, я при этом чтении не получил; мало того, текст после рисунков показался мне пошловатым и глуповатым.
Картинки «Виольдамура» принадлежат перу остроумного и наблюдательного любителя-художника Сапожникова, издавшего эти оригинальные литографии пером в 40-х годах. Еще до чтения повестей Гоголя, когда я не имел еще понятия об его эпохе, во мне, благодаря этой серии картинок, создалось полное представление о гоголевском Петербурге, который был когда-то и «папиным», когда папа был молодым человеком. Сама повесть заключается в следующем. Родители Виольдамура прочили его в гении, он и превзошел науку музыки, выучившись играть на всевозможных инструментах; это, однако, не помешало жестокой неудаче сопровождать его до самой гробовой доски. Да и доски-то ему не удалось получить, — он умер в нищете на улице, и место его вечного упокоения было отмечено всего только еле заметным холмиком. Верная же его собака (о, как я любил этого Аршета), которую Виольдамур когда-то щенком спас из воды, не пожелала пережить своего горемыку-хозяина и тут же на могиле издохла.
Вообще горемычных историй я терпеть в детстве не мог и прямо даже ненавидел те специфические горемычные истории, которыми уже тогда русские педагоги-писатели и писательницы считали долгом кормить юношество, якобы воспитывая в нем сострадание и другие благородные чувства. Надуманность и ложь этих писаний я угадывал инстинктивно и протестовал, если кто из больших пытался мне прочесть подобную историю. Но Виольдамур был чем-то совсем иным. Во-первых, это была книга для взрослых, затем это была «смешная» история — смех сквозь слезы или, вернее, слезы сквозь смех. Мне было очень жалко Виольдамура, но не для возбуждения жалости была эта история сочинена, и художник, ее иллюстрировавший, меньше всего заботился именно о жалости. Ему было интересно наглядно представить, как все это произошло, и объективизм автора выражается в том, что его образы взяты прямо из жизни и что они похожи на самое обыденное и чрезвычайно типичны.
Особенно меня занимала серия сцен, в которых Виольдамур переходит от одного инструмента к другому, каждый раз возбуждая все более или менее громкую реакцию в своем воющем псе. Инструменты, имеющие вообще для детей особую притягательную силу, были изображены со всей присущей каждому «жутью». Далее замечателен быв эпизод с концертом Виольдамура, — как его приятели на все лады, и даже под угрозой пистолета, навязывают прохожим билеты и как несчастный виртуоз в элегантнейшем фраке и по моде завитой выходит на эстраду перед рядом именитых слушателей. Но не восторг возбудило его выступление, а негодование, ибо они вместо арии услыхали лишь поперхивание и кашель. Несчастный как раз перед концертом жестоко простудился! Не менее захватывал любовный эпизод — особенно момент, когда Виольдамур в замочную скважину пытается увидеть то, что происходит в квартире возлюбленной, и вдруг получает удар по носу от отворившейся двери, через которую на лестницу выступает его счастливый соперник. Более же всего я трепетал перед картинкой приготовления Виольдамура к самоубийству. Для того, чтобы особенно поэтично обставить свою кончину, непризнанный гений завесил комнату траурной драпировкой, а сам, надев, на манер факельщиков, широкополую шляпу с флером, уселся в гроб, собираясь с выражением трагического восторга писать свой собственный «Реквием».
Мне кажется, что и в своем искусстве я весьма многим обязан подобным детским впечатлениям. Эти рисунки Виольдамура, так характерно отражающие мещанский быт гоголевского Петербурга, дожившего с незначительными изменениями и до моего детства, казались мне совершенно близкими. Подобно тому как я с детства дружил с Арлекином, я был знаком со всеми этими музикусами, понимал их чувствования и переживал с ними их радости и горести. Вместе с тем сцена писания «Реквиема» явилась одним из звеньев в той цепи, которой оплетена вообще моя жизнь. Когда смерть явилась за моим братом Ишей, чтобы оторвать его навеки от нас, — я не понял, кто Она и какова Ее роль в жизни и в природе. Но вот в картинке «Реквиема» Виольдамура я почему-то ощущал некое «эстетическое» значение смерти, ее красоту, и она притягивала меня, хотя в то же время и пугала мучительным образом.
И еще вот что удивительно, — даже в лучезарной, напитанной истинно эллинским духом серии излюбленных мной рисунков графа Ф. П. Толстого к «Душиньке» Богдановича меня, пожалуй, более всего приковывала та сцена, где Душинька встречается со Смертью. Я все любил в этом замечательном и чудесном творении русского поэта-художника, столь высоко вознесшегося над своим литературным вдохновителем. Обворожительно прекрасно в нем все, что передает женские чары, прелесть любви, дивные видения царства Венеры, Олимпа, чертоги Амура и т. д. Но среди всей этой райской симфонии гениальной паузой, страшной угрозой того неминуемого конца, «который ожидает всякого», является именно момент, когда Душинька в отчаянии от утраты, по собственной вине, своего супруга (Амура), на коленях умоляет костлявое «чучело с плешивой головой», чтобы оно скосило и ее той косой, которой оно подрезает степные травы, олицетворяющие все живое на земле.
Опять-таки может показаться мало-педагогичным, что мне, четырехлетнему, пятилетнему мальчику давали в руки такие книги! Впрочем, когда я говорю давали, я выражаюсь неточно, ибо мои маленькие руки никак бы не могли взять и удержать такой огромный альбом, как «Душинька», который в раскрытом виде имеет по крайней мере полтора аршина ширины. Мне его не давали в руки, а папа клал альбом на стол, меня же усаживал на стул, подложив одну или две подушки. При этом, бывало, происходил и маленький диспут между родителями. Мамочка находила, что мне вредно глядеть на такие картинки, «которые могли бы навести его на нескромные мысли». И она не ошибалась: я не равнодушно глядел, как Душинька «совершенно голенькая» входит в воду купальни или как она позже без единого покрова лежит в объятиях своего супруга под завесой, распростертой крылатыми детьми. Ничего еще не зная о любовных утехах и имея даже весьма сбивчивое представление о поле, я, глядя на эти картинки, несомненно «отравлялся», «подпадал известной отраве». Но если взглянуть на дело с другой стороны, то и папочка, едва ли отдававший себе отчет в «опасности», был по-своему прав. Его глубоко художественной натуре доставляло удовольствие то, что эти изображения мне нравились. Внутри себя он должен был чувствовать, что, глядя на эти образы, я как бы готовил в себе известный фундамент, на котором могло бы вырасти в дальнейшем все сооружение моего художественного развития. Если при дальнейшем росте этой постройки папа утратил контроль над ней, то виной этому явилась слишком большая разница в годах между нами, а также и то, что по своему воспитанию он принадлежал к совершенно иной эпохе, нежели годы моего отрочества и юности…
Вообще вопрос о том, в чем должно заключаться воспитание художника, — точнее, какое воспитание полезнее всего для тех, которые призваны развиваться в художников, — вопрос этот остается для меня и до сих пор неразрешенным. Одно можно только сказать про художников (точнее, про тех, кто готовятся стать художниками), — что для них общий закон не писан, а писан иной закон. Им нужна своеобразная «эстетическая и моральная гигиена». Я при этом вовсе не имею в виду какое-либо преимущество художественных натур перед другими; не в том интерес — выше ли, ниже ли стоит художник по сравнению с другими людьми, а в том, что, несомненно, он обретается в какой-то иной плоскости и, пожалуй, именно в этом весь смысл его существования. Моральное развитие художника должно идти своим особым путем, и этот путь лежит в иной сфере, нежели моральное развитие «простых смертных». Вся его натура так устроена, что даже в самом своем бессознательном периоде он по-особенному выхватывает из окружающей жизни то, что ему может «пригодиться». Бывает, что сопротивление окружающей среды этому процессу только усиливает такую страсть к выхватыванию. В моем случае сопротивление мамочки было очень слабым, и я лично с ним просто не считался, а поощрение папочки было очень деликатным, и благодаря этому я мог развиваться согласно тем импульсам, которые лежали внутри меня и которые определили весь мой жизненный путь.
Я сейчас не стану останавливаться на всех литературно-художественных увлечениях своих детских лет, но для полноты я все же не могу не упомянуть о моих любимых сказках Перро, Эмиля Сувестра, госпожи д’Онуа и Андерсена, о Мюнхгаузене, а также о романах графини де Сегюр. К десяти годам моими любимцами становятся сокращенные романы Фенимора Купера, «Робинзон Крузо» и Жюль Верна, «80 000 верст под водой» которого была первая самостоятельно мной прочитанная книга.
Из всех французских сказок моими любимыми были «Мальчик-с-пальчик», «Белая кошечка» и «Красавица и чудовище». Первая из этих сказок, которая, как и многие другие, была мне известна и во французской, и в немецкой редакции, вызывала очень странную смесь бесконечной жалости и какого-то неосознанного садизма. Я переживал все ужасы вместе с заблудившимися ребятишками, от которых ожесточившиеся в нужде родители предпочли избавиться, но я почему-то был не прочь, чтобы людоед хотя бы одного из них пожрал, и я откровенно радовался тому, что он зарезал всех своих прекрасных дочерей, имевших странную привычку спать с коронами на голове. До одури я мечтал об обладании семиверстными сапогами людоеда, хотя и считал весьма неудобным каждым взмахом перелетать все семь верст без возможности по дороге остановиться, где захотелось бы.
При моем обожании кошачьего царства (вечно у меня был под рукой котенок, которого я мучил своими исступленными ласками), сказка об очаровательной принцессе, превращенной в белую кошечку, доставляла мне несказанное удовольствие, и я не уставал ее слушать в мамином чтении (иногда среди ночи, в долгие часы бессонницы). Впрочем, мое обожание (я настаиваю именно на этом слове) кошек не совсем согласовалось с благополучным исходом сказки. Я бы на месте принца, явившегося освобождать кошечку-принцессу, предпочел бы, чтобы так она и оставалась кошкой, тогда как в том, что он, все же сдавшись на ее убеждения, решился отрубить ей голову, я видел не только жестокий, но и в некоторой степени неблагоразумный, ненужный для счастья поступок.
Самой же любимой историей, самой страшной и в то же время самой пленительной была для меня сказка о «Красавице и чудовище». Без содрогания я не мог глядеть на картинку Берталя в томике «Bibliothèque Rose», когда над обнимающим обреченную дочку отцом подымается косматая лапа чудовища. Я вполне понимал и чувства этой девушки, которая, будучи тронута беспредельным вниманием к ней чудовища, в конце концов из жалости и для того, чтобы его утешить, признается ему в любви. Эта сцена одиноко страдающего под кустом кошмарно-безобразного рогатого существа, которое удалилось в сад с роскошного бала, данного им в честь пленившей его девушки, трогала меня до слез, и мне впоследствии всегда казалось, что это превосходный сюжет для театра.
Многие сказки Андерсена принадлежали тоже к моим любимым, но не те, в которых чувствовались какие-то моральные тенденции. Иные из них я и вовсе не ценил, хотя мамочка из педагогических соображений старалась мне разъяснять все те прекрасные мысли, которые в них вложены. Зато менее осмысленные сказки Андерсена про «Стойкого оловянного солдатика», про «Дорожного товарища», про «Старый дом» и более всего про «Русалочку» принадлежали (да и до сих пор принадлежат) к любимым мной особенно нежной любовью. И во всех них странная смесь печальной драмы с чем-то радужным и чудесным являлась главной основой их трогательности. В «Солдатике» (как в «Гулливере» или в «Щелкунчике» Гофмана) я, кроме того, особенно ценил прелесть всего этого миниатюрного игрушечного мира. В «Русалочке» меня пленила смесь горького со сладким, а также то переплетение всяких миров, к которому почему-то в детстве особенно влечет. В частности, мир подводный меня необычайно притягивал, и я не раз, купаясь в Финском заливе, рисковал захлебнуться, пытаясь долго оставаться под водой и воображая, что я уже в царстве морского царя, у которого такие очаровательные дочки. Что у последних рыбьи хвосты вместо ног, меня не смущало; напротив, я бы сказал, что это даже сообщало этим особам, в существование которых я абсолютно верил, особую прелесть.
Вообще в детстве, да и позже я был очень жаден до вещей фантастических с примесью чего-то жуткого или даже ужасного. На этой склонности построена и моя любовь к Э.Т.А.Гофману, с которым я познакомился, когда мне было пятнадцать лет. На этой склонности покоится и моя нежность к книжке Эмиля Сувестра «Бретонский очаг», в которой этот автор передает всякие бретонские легенды. Впрочем, я не уверен, чтобы эта нежность была вызвана именно текстом Сувестра; вызывали ее главным образом прелестные иллюстрации, принадлежащие одному из самых тонких рисовальщиков романтической эпохи — ныне несправедливо забытому Пенгильи. Иные из этих картинок оставили во мне неизгладимое впечатление. Особенно запомнились: сцена, где прекрасная дама оказывается привязанной к скелету своего мужа, или где за бретонским крестьянином, кружась, несутся крохотные кориганы, или еще та картинка, на которой представлено появление гроба в комнате гостиницы, у самого алькова, куда улегся путник. Такие сцены мерещились мне в часы бессонницы; я как можно плотнее с головой укутывался в простыню, только бы как-нибудь нечаянно не увидать этих злобных кориганов или такой вот окруженный свечами гроб!
Совсем в другом роде было наслаждение, которое я получал от всего шутливого и вздорного. Но это уже такая широкая область, что я никак не в состоянии перечислить хотя бы главное. Задача облегчится, если я просто назову четыре имени: барона Мюнхгаузена, в качестве гениального литературного враля, и трех рисовальщиков: Берталя, Буша и Оберлендера, в качестве «изобразителей смешных вещей». Разумеется, сопоставление трех последних имен позволительно только в «сувенирном аспекте» — потому что все трое одинаково на меня действовали в детстве. Если же взвесить их действительное художественное достоинство, до которого мне тогда не было дела, то величины эти окажутся несоизмеримыми. Берталь — милый французский забавник, очень ловко рисовавший и создавший несколько уютнейших книжек вроде «Маши-Разини» или «Гоши Долгие руки» (не знаю их французских названий — в детстве у меня были лишь русские переиздания, рисунки которых все же печатались и раскрашивались в Париже); истории в них уморительны, а картинки, нарисованные нервным штрихом и аппетитнейшим образом раскрашенные, полны жизни. И все же это только «детские иллюстрации». Другое дело Буш и Оберлендер… Но что сказать об этих двух колоссах юмора, к которым я еще присоединяю первого сотрудника «Punch»’a Dicky Doule и Гюстава Доре?! Впрочем, Буш, в свою очередь, возвышается над другими. Буш как автор рисунков и одновременно как сочинитель текста, несомненно, явление гениальное, равное по своему калибру Домье, а то и Свифту или Рабле. Его творения наполнены стихией смеха, но под этой стихией, ничуть не омрачая ее, лежит стихия трагическая. Поистине чудесное сочетание и тем более чудесное, что вбираешь его в себя совершенно естественно, сам того не замечая.
Многие нынешние педагоги еще менее любят Буша, нежели «Степку-растрепку». Но на то они и «педагоги». Мне же кажется, что нет лучшей «книги жизни», нежели Буш: недаром немцы издали его полностью в виде настоящего кодекса, назвав таковой «Сокровище для дома»! А впрочем, я не хочу пускаться в какие-либо споры о воспитательных преимуществах или недостатках Буша и ограничусь выражением личной моей душевной благодарности этому чудесному другу детства, оставшемуся мне другом и до самой старости. Что бы сталось со мной, каким бы я был, какой бы мне представлялась жизнь, как бы я ее вынес и как бы ее оценил, если бы у меня не было, рядом с другими спутниками жизни, вот и этого «шута горохового», шута мудрейшего, шута, обладавшего изумительным даром в нескольких штрихах создавать самые разительные образы и подобия, врезающиеся в воображение и навсегда в нем поселяющиеся…
Буша я впервые познал на листах «Münchener Bilderbogen». В этих «полународных» картинках я познакомился впервые и с Оберлендером, а также с массой вещей интересных и ценных, в том числе и с историей костюма, — что мне в дальнейшем так пригодилось. Отдельные эти превосходно раскрашенные листы мюнхенского издательства «Браун и Шнейдер» отец дарил мне по всякому случаю — то на елку, то в день моего рождения, то тогда, когда я болел какой-либо болезнью. Однако папа не давал мне их трепать. Оценивая по-должному их высокохудожественное значение, он, после первого просмотра, собственноручно наклеивал их на картон (по листу с каждой стороны), после чего наклеенные листы клались в им же склеенную папку. Бывало так, что одна сторона такого картона содержала какую-либо историю Буша, Оберлендера или Штейба (скажем, историю про виртуоза-пианиста — первого, или странную историю про оживленные игрушки — второго, или милейшую историю про ученого пуделя Каро — третьего), а оборот — нечто поучительное: например, сцены из древней истории или из быта краснокожих индейцев. Разумеется, смешная сторона имела больший успех, но попутно рассматривалась и менее интересная сторона — и постепенно благодаря этому где-то складывался запас разных ценных познаний, подносившихся в весьма приятной форме. Ведь и эти полезные картинки были отлично скомпонованы и нарисованы; чуждаясь сухого педантизма, они обладали достаточной документальной достоверностью. Рядом с мюнхенскими картинками следует, для полноты, назвать выходившие в подражание им «Немецкие иллюстрированные листы», издававшиеся, кажется, в Штутгарте. И среди них встречается немало прелестных листов, но не было среди сотрудничавших в издании художников ни Буша, ни Оберлендера. В общем эти «Deutsche Bilderbogen» представляют собой как бы более академическую версию той же идеи.
Перечисление моих фаворитных книг и картинок может привести к заключению, что у нас в доме доминировала немецкая культура. Это было бы естественно, если вспомнить, что мать моего отца (моя родная бабушка) была немка (из петербургских немцев), а кроме того, весьма значительная часть петербургского общества тяготела в те времена к немцам, а среди аристократии и буржуазии существовал обычай поручать первое воспитание детей немецким боннам, которые вербовались главным образом в остзейских провинциях. И все же заключение, что у нас в доме преобладала немецкая культура, было бы неправильно. Если отец и очень любил чисто немецкое настроение уюта (Gemütlichkeit), если действительно у нас немецкие бонны и гувернантки не переводились, если мама, несмотря на свое итальянское происхождение, расточала похвалы в отношении немецкой педагогики, то все же уклон в нашем космополитическом семействе был скорее в французскую сторону. Родители наши постоянно вплетали в свою речь французские фразы, охотнее писали письма по-французски, молитвы нас учили читать по-французски… Двое же моих братьев были настоящими энтузиастами Франции и французов, они даже считали своим долгом (вероятно, под впечатлением франко-прусской войны, которую они пережили в «разумном» возрасте) ненавидеть немцев и все немецкое. Что же касается меня, то прежде чем стать убежденным и безусловным космополитом, презирающим бессмысленные и столь уродливые народные ненависти, я в детстве и в юности был попеременно то французом, то немцем, то итальянцем, а то и русским! Последним наверное преимущественно, но сам я того не сознавал и периодами принимал свою русскую национальность даже за нечто чуть не совсем лестное… Но об этом подробнее постараюсь поговорить в другом месте, здесь же я только признаюсь, что чисто русские детские книжки (оставляя в стороне «Виольдамура» или «Душиньку», которые не были детскими книжками) я просто терпеть не мог. Меня раздражало в них и плохое качество иллюстраций, да и весь их дух — тот слюняво-сентиментальный стиль, в котором преимущественно писалась у нас литература для юношества.
О некоторых французских моих любимцах я уже упомянул, но их на самом деле было гораздо больше. Среди этих любимцев был и журнал — прелестная «Semaine des Enfants» («Детская неделя»), В моем обладании были переплетенные томики, относившиеся к 50-м и к 60-м годам этого журнальчика, когда в «Semaine des Enfants» участвовал еще юный Гюстав Доре. Достались же мне эти томики по наследству от сестер. В них я впервые познакомился с произведениями графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Странно было встретить это русское имя в соединении с французской фамилией, и еще удивительнее было, что эта русская дама так хорошо сочиняет, да по-французски! Истории про «Харчевню ангела-хранителя» («L’Auberge de l’Ange Gardien») и «Воспоминания осла» («Lee Mémoires d’un ane») я прочел, и не раз, именно в «Semaine des Enfants» и был необычайно восхищен ими. Помнится, как однажды я даже умолил маму сократить одно из моих пребываний в гостях у сестры Камиллы (а это гощение у доброй, разрешавшей вытворять всякие шалости Камишеньки — я вообще почитал за большое счастье), так как дома я оставил недочитанным какой-то особенно захватывающий эпизод. Какова же была моя радость, когда у кузины Ольги, поселившейся в 1880 году в квартире рядом с нашей, я набрел на целую серию красных тисненных золотом книжек «Bibliothèque Rose», успех которой среди детей был главным образом и обязан сотрудничеству графини де Сегюр. Тут я не только еще раз перечел «L’Auberge de l’Ange Gardien», в которой действует живописная и с натуры списанная фигура русского генерала, — но и продолжение этой повести, целиком посвященное доброму чудаку. Повесть про «Le General Dourakine» была запрещена русской цензурой (особенно за тот пассаж, в котором рассказывается про порку в полицейском участке), но это лишь обостряло наслаждение от такого чтения. Ведь в русском обществе искони процветало своего рода невинное фрондирование и было принято критически относиться к правительству, в котором и стар и млад видели какой-то заговор мракобесия против просвещения.
С английскими детскими книжками (если не считать опять-таки переводных и переработанных «Робинзона» и «Гулливера») я познакомился тогда, когда меня стали учить английскому языку. Особенно благодаря моей второй англичанке — курьезнейшей старушке, о которой я храню особенно нежную память, хоть и была она как две капли воды похожа на злых фей, изображенных Берталем и Доре. Именно по рекомендации этой милейшей Miss Evans моя библиотека обогатилась всякими иллюстрированными и неиллюстрированными английскими книгами. Благодаря ей у меня появились альбомы Кальдекота, Гринвей, романы Диккенса, Мариетта. Особенно я ценил действительно прелестные картинки в классической истории «The House that Jack built» и историю Англии в картинках — «Pictures of English History», которая у меня уцелела по сей день. Почти все картинки в последней книжке (их по четыре на странице) изображают то убийство, то войну, то казнь. Но это-то мне и нравилось. Кроме того, мне нравились и яркие краски костюмов и какие-то настроения в пейзажах. Иные из этих картинок врезались до такой степени мне в память, что я должен делать усилие, чтобы представить короля Альфреда Великого или Шекспира перед Елизаветой иначе, нежели так, как это несколько наивно изображено на этих картинках. Впрочем, с аппетитностью английских рисовальщиков я познакомился, кроме того, сделав однажды приобретение за рубль на Вербном базаре книжки-альбома со сказкой про «Желтого карлика» («The yellow Dwarf»). Это было русское переиздание, но красочные картинки во всю страницу были отпечатаны в Лондоне. Теперь я знаю, что эти картинки, среди которых особенно прекрасной мне казалась двойная, где происходит что-то с феей и с индюками, принадлежат Уолтеру Крену, и художник этот в дальнейшем не сохранил моей симпатии, но благодарен я ему остаюсь до сих пор — вот именно за ту радость, которую он мне, русскому мальчику, тогда доставил. Если я не ошибаюсь, приобретение этой книги было моим первым самостоятельным поступком библиофильского порядка, и надо отдать мне справедливость, что он делает некоторую честь моему вкусу.
ГЛАВА 6 Музыка в моем детстве
Невыразимые радости доставляли мне в детстве все начертательные и пластические художества (и даже архитектура), но если сравнивать такие вообще плохо поддающиеся сравнению вещи, как впечатления, доставляемые разными отраслями искусства, то, пожалуй, все же наиболее интенсивные ощущения я получал от музыки. Да и в хронологическом порядке первые особенно разительные впечатления я получил едва ли от картин, а скорее от всякого рода музыки. Наконец, я очень рано стал чувствовать влечение к какому-то личному «музыкальному изъявлению». Меня тянуло к инструменту, и то, что у меня выходило из-под пальцев, было чем-то непосредственным, — тогда как мое рисование часто носило скорее характер чего-то надуманного. Бывали периоды в дальнейшей жизни, когда я совсем обходился без карандаша и кисти, как-то не ощущая в них нужды, но без музыки, без слушания ее и без возможности вызывать самому какие-то музыкальные звуки я не был в состоянии прожить и неделю. Так, очутившись четырнадцати лет в имении сестры, где не было тогда рояля, я выучился довольно бегло играть на гармонике, а в следующем году я специально захватил туда же цитру, только бы иметь возможность что-то музыкальное производить и слышать.
В течение моей жизни я имел немало случаев наблюдать, как музыка действует на детей. Однако я так и не встретил ребенка, который столь же чутко и восторженно реагировал на музыку, как реагировал я сам, и это в годы самого раннего детства. Стоило кому-нибудь в зале заиграть на рояле, как трехлетний Шуренька, чем бы он в это время не был занят, срывался с места и как полоумный летел на эти звуки. А играли у нас в доме много и не только на рояле, но и на скрипке, на виолончели, на фисгармонии и на других инструментах. Устраивались домашние концерты, и в такие вечера нельзя было меня уложить спать.
Музицировали все, начиная с моих родителей, братьев, сестер, кузенов и кузин и кончая разными друзьями дома. Однако, как я уже указывал, ничто во мне не будило таких категорических велений, таких захватывающих стремлений, как импровизации Альбера (что это были импровизации, я, разумеется, тогда не знал). Один его совершенно особенный удар по клавишам пронизывал меня как электрический ток, и это ощущение было отнюдь не болезненным, а только восхищающим — в самом буквальном смысле слова. Я вдруг возносился куда-то в иной план и начинал как бы витать в совершенно особой сфере. Иногда Альбер, очень нежно со мной обращавшийся, подчинял свой дар иллюстрированию каких-то им же выдуманных историй. Таким образом, я, не имея никакого представления о программной музыке (как раз в те времена этот вопрос вызывал отчаянные споры у меломанов), подпадал ее прельщению. Я весь замирал, когда мой брат, сочиняя на ходу историю, подчеркивал ее соответствующими, тут же возникавшими мелодиями и гармониями. Образы, рождавшиеся в течение слушания, приобретали благодаря звукам необычайную яркость. Я утопал в блаженстве, когда райская музыка озаряла какие-либо волшебные сады и дворцы и, напротив, мороз пробегал по коже, когда страшная музыка подводила к какому-либо ужасу и чертовщине. Я знал, что можно изобразить звуками (теперь бы я сказал подчеркнуть звуками) любое движение, действие, походку, бег, преследование, полет, плавание, бурю и т. д., а также можно изобразить появление доброго начала, предательское подползание зла, страх, радость, смех, горе, молитву, проклятие. И вот все это подавалось мне — истинному баловню судьбы, всегда в свежем виде, в формах, тут же возникавших. Альбер редко повторялся, а вполне, пожалуй, и никогда. Каждый раз музыкальная мысль облекалась у него в наряд, если не всегда более совершенный, то, во всяком случае, новый…
Впрочем, наряду с переменчивой и зыбкой музыкальной фата-морганой Альбера, я знал и любил вещи «утвержденной формы». Не скажу, чтобы я с детства проявлял какой-либо очень образцовый вкус. О, нет! Напротив, я любил вперемежку и вещи знаменитые, и вещи, в те времена самые обыденные, как русские, так и иностранные. Папочка должен был играть мне военные марши и русские песенки (которые он играл по слуху с собственной гармонизацией). У мамочки был свой репертуар, и среди него одна пьеска, оставшаяся в ее памяти от лет, проведенных в Смольном институте. Сестры исполняли в четыре руки увертюры Моцарта и Беллини, свою крестную маму — тетю Машу Андерсин я засаживал для того, чтобы она мне играла «Руслана», а брат Леонтий, великий обожатель итальянской оперы, мастерски имитировал манеру петь разных Николини, Котоньи и других артистов, исполнявших шедевры Россини, Доницетти и Верди. Превыше же всего в раннем детстве я ставил две вещи — модную пьеску в четыре руки «Le Reveil du Lion» («Пробуждение льва») Контского и «Ave Maria» Баха — Гуно, исполнявшиеся у нас кузеном Сашей на фисгармонии и Альбером на скрипке.
Родные мои забавлялись моим восторгом и моей музыкальной памятью. Зная, что я где-то в задних комнатах, сестры нарочно начнут играть «Пробуждение льва», и как бы глухо их игра на дальнем расстоянии ни звучала, но, достигнув моего слуха, она сразу забирала меня, я бросал рисованье, солдатиков или любимую книжку с картинками и мчался по коридору в залу, чтобы поспеть к моменту, когда вслед за вступлением раздастся бойкая и бодрая музыка, представлявшая самый скок льва по пустыне. Много я с тех пор слышал более прекрасных и самых гениальных музыкальных измышлений. Некоторые среди них понуждали меня также к «пластическим выявлениям» (желание «танцевать музыку» осталось у меня даже до сих пор), но ничто не двигало мной так решительно, не вселяло в меня такого, я бы сказал, героического упоения, как «Le Reveil du Lion», эта пустенькая, ныне кажущаяся наивной и банальной пьеска.
Напротив, «Ave Maria» рождало во мне, пятилетием мальчугане, какой-то сладкий-сладкий экстаз. Перед моим воображением реяли ангелочки, я видел отверстые небеса, мягкий свет лился из облачных высот, на которых, «как у Рафаэля», восседали Бог и святые. И все эти возникавшие во мне картины навевали на меня упоительную истому и поистине неземную радость. Счастье мое, что тогда никто из окружающих не нарушал моего упоения какой-либо критикой этого произведения; никто не произносил по адресу Гуно слово «святотатство» за то, что он дерзнул свою оперную мелодийку наложить на ткань великого архигения. Но в нашей простодушной среде и не было кого-либо, кто занимался бы строгими пересудами, а вещи брались так, как они говорили сердцу… И в конце концов для чего же музыка и служит, как не для такого сердечного воздействия?
Я где-то, кажется, уже рассказал, почему из меня все же не вышло музыканта. Одной из главных причин, во всяком случае, был тот странный частичный паралич, которым я страдаю в этой области. Я так и не выучился свободно читать по нотам, записывать свои измышления и даже справляться с простейшей вещью — со счетом. Но тут было и нечто другое. Если бы я серьезно занялся музыкой, то я только мог стать музыкантом-сочинителем, тогда как к виртуозничанью, к исполнению созданного другими я скорее чувствую своего рода отчуждение. Между тем я очень рано понял, что мне не дано создавать такие вещи, которые вполне соответствовали бы заложенным во мне музыкальным идеалам. Иногда я сам изумлялся какой-либо удаче в сплетении звуков, которая при импровизации у меня складывалась под пальцами. Но, если я это запоминал, если раз придумавшееся я повторял два и три раза, то оно переставало мне нравиться, и слишком явным становилось то, что удача была случайной, нечаянной и не столь уже значительной… Так это бывало уже тогда, когда лет десяти я отдавался своим музыкальным (столь наивным) фантазиям, когда, кроме «Чижика» и участия в «Собачьем вальсе», я пробовал играть на рояле темки собственного сочинения. Помню, например, как я сам себя поразил, сочинив на даче у дяди Сезара что-то удивительно торжественное, причем это удивительное получалось главным образом от скрещения рук (то есть правая рука, перекинутая через левую, играла в басу). Но уже через неделю я убедился, что ничего удивительного и поразительного в этой моей находке нет. Разочаровался я и в том «гимне торжествующей любви», который я сложил в дни своего первого серьезного сердечного увлечения, а позже — в музыке своего балета, успевшего, однако, сложиться в целую сюиту. После этого разочарования я уже и не пытался сочинять нечто большое, прочно связанное, цельное, а довольствовался тем, что тешил себя (иногда и близких, когда бывал в ударе) удачами мимолетными.
В этой главе о музыке нужно сказать еще о моих музыкальных преподавателях, однако если бы я стал рассказывать о каждом из них, то ввиду их большого числа это заняло бы слишком много места. Ограничусь тремя: моей belle-soeur Машей, пианистом Мазуркевичем и моей кузиной Нетинькой Храбро-Василевской. Было совершенно естественно, что когда такая чудесная профессиональная музыкантша, какой была моя невестка Мария Карловна Бенуа, поселилась на одной даче с нами, то она предложила маме свои услуги в преподавании мне фортепианной игры, на что мама с радостью согласилась. Да и я отнесся к этому с полной готовностью и сел за первый урок с чувством, что вот я очень скоро выучусь так же играть, как Маша. Но уже первый урок кончился маленькой драмой, и я покинул его огорченный и надувшийся. Маша была слишком нетерпелива, слишком требовательна относительно всяких мелочей, а я такого тона в отношении к себе вообще не терпел. Второй урок кончился криком с ее стороны, слезами и бешенством с моей и беспомощным посредничеством с маминой. На третьем уроке вся затея и кончилась. Некоторое время после этого я даже ненавидел Машу, считая ее за своего рода врага и обидчика. Теперь же издали (из какой дали!) мне кажется, что Мария Карловна была и действительно неправа. Она сразу стала меня учить подобно тому, как и ее учил ее строгий папаша, не любивший шуток в музыке, — Карл Иванович Кинд, а со мной следовало начать со вселения в меня известного доверия — с того, чтобы меня чем-то заинтересовать и даже позабавить.
Подобная же история вышла с несчастным Мазуркевичем — говорю несчастным, ибо это был очень красивый поляк, лишившийся в какой-то железнодорожной катастрофе ноги. Он был настоящий виртуоз, и его игра вначале меня очаровывала. В то же время мне было безумно жаль его самого, и я дал себе слово, что не стану ни в каком случае огорчать этого калеку, что буду усердно исполнять все, что он от меня потребует. О, эта одинокая нога, эти костыли, которые он не без ловкости прислонял к роялю и снова схватывал и подкладывая себе подмышки. О, это его ковыляние, этот стук гуттаперчевых оконечностей по полу… Все это было так ужасно, так разворачивало мне душу!.. Сначала все шло хорошо, но уже на пятом уроке та же драма возобновилась. Мазуркевич потерял терпение: убедившись, что я плохо усваиваю учение о такте и счете, он позволил себе сделать замечание в раздраженном тоне, и все мои благие намерения разлетелись. Я заупрямился, я его возненавидел, а через десять уроков ему пришлось отказать, так как я решительно заявил, что больше учиться у Мазуркевича не хочу. Заметьте, что сам я при этом заявлении плакал, — плакал из жалости к своему несчастному преподавателю…
Тут и появилась в качестве преподавательницы музыки кузина Нетинька. Это была действительно моя кузина, хотя разница в годах между нами была более чем в сорок лет. Но именно то, что Нетинька не была мне тетушкой, а двоюродной сестрой, производило то, что, при всем моем обожании ее, я никакого к ней респекта не чувствовал. Нетинька, не будучи вовсе красавицей, была необычайно приятной особой, и к тому же в ней была масса благодушия, и вся она была такая ясная, веселая. Между тем я знал, что ей не с чего быть ясной и веселой: жизнь у Нетиньки сложилась трудная, муж ей попался нехороший: он бросил ее без средств на содержание многочисленного семейства, а сам проживал где-то в своем поместье на юге. И вот в том тяжелом положении, в котором очутилась тогда Нетинька, ее выручила необычайная ее одаренность. Заработок ее складывался из уроков музыки и, в более значительной степени, из того гонорара, который она получала, играя танцы на балах. А играла танцы Нетинька поистине божественно, так что ноги сами начинали ходить. В 80-х годах она стала своего рода знаменитостью в Петербурге, в течение бального сезона ее брали нарасхват, и даже образовывалась очередь из желавших получить госпожу Храбро-Василевскую к себе тапершей. Случалось, что уже назначенные балы откладывались, если Нетинька была занята. Эта-то дивная музыкальность Нетиньки являлась едва ли не главной основой моего обожания ее…
И все же как учительница музыки и Нетинька оказалась для меня совершенно непригодной. Ее приход каждый раз доставлял мне удовольствие, однако успехов я не делал никаких. На сей раз это происходило не из-за какой-либо несовместимости характеров, а единственно из-за того, что я и она несколько цинично относились к делу. Мы, в сущности, с немого согласия разыгрывали в течение тех пяти лет, что продолжались уроки, известную комедию. Сидели мы за роялем положенное время, я играл гаммы, экзерсисы, я играл пьески, кончался же урок обязательным четырехручием, но при этом я бессовестно мошенничал, а она потворствовала этому мошенничеству. Происходило это так. Каждый экзерсис, каждую пьесу, каждую мою часть в «четырех руках» она сначала проигрывала, я же по слуху сразу это запоминал, и дальше все шло как по маслу. Нетиньке следовало бы проверять, действительно ли я что-либо усваивал, но она удовлетворялась тем, что ей казалось, будто я делаю успехи, на самом же деле как раз главное усвоение музыкальной системы — чтение нот и свободное понимание такта — этого не было. Я только приобрел большую беглость, разученные (по слуху) пьесы обогатили гармонические приемы в моих собственных импровизациях, но я как был, так и остался музыкальным неучем и совершенно безграмотным в смысле музыкального языка.
Мне, впрочем, думается, что сама Нетинька была из того же десятка. И у нее все держалось на памяти, на слухе, на инстинкте, на вдохновении и меньше на знании. Но как чудесно она пользовалась своими природными данными. Какие она исполняла блестящие вальсы, мазурки, полонезы, польки, кадрили, многое в собственном, иногда довольно фантастичном, но всегда эффектном переложении. Между прочим, ей целиком принадлежали два номера — ухарский галоп на мотивы «Джоконды» Понкиелли и восхитительно звучавшее переложение вальса из «Евгения Онегина» (курьезно, что та же Нетинька давала уроки моему будущему другу, Диме Философову, с которым лично в те годы я еще не был знаком. Чтобы меня подзадорить к учению, она утверждала, что вот у нее имеется такой замечательный ученик Философов, что он гораздо лучше меня учится. Когда же в 1885 году я познакомился с Димой, я убедился, что это совершенная ложь, что Дима еще меньше меня превзошел науку музыки. О, Нетинька!).
Кто же были моими любимыми авторами на рубеже детства и отрочества? Совсем любимого автора или авторов у меня, пожалуй, тогда не было, но все же от многого я был в упоении — главным образом от опер и главным образом от «Фауста», являвшегося вообще царем оперного репертуара тех дней. Даже Альбер, индифферентно относившийся к музыке, не им играемой (да и к своей он не питал никакого уважения), возлюбил «Фауста» и знал его от первой ноты до последней наизусть. Фантазии на «Фауста» были даже одним из его средств воздействия на женские сердца. В них он вкладывал всю силу страсти, на которую был способен. Сейчас после «Фауста» у меня шли «Аида», «Риголетто» (гораздо меньше я ценил «Травиату» и «Трубадура»), «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник», несколько позже «Король Лагорский», еще позже «Нерон» Рубинштейна. Первые же произведения музыки, которые меня действительно свели с ума, были «Кармен», которая до Петербурга доехала в 1882-м или 1883 году, и «Коппелия» — в 1884 году. Благодаря своей памяти я играл целые сюиты каждого названного произведения. Через нашу домашнюю виртуозку Марию Карловну я познакомился с увертюрой «Тангейзера» (всю оперу я услыхал гораздо позже), с вальсами Листа на темы Шуберта, с его рапсодиями, с мазурками, с этюдами и балладами Шопена и, наконец, с «Карнавалом» Шумана. Все это я обожал. Напротив, хоть многое из бетховенского репертуара я успел изучить, прислушиваясь к ее же игре, Бетховен оставался мне чуждым. Без настоящего энтузиазма относился я и к серьезным концертам, а русской музыки я не знал вовсе, если не считать полонеза и мазурки из «Жизни за царя», марша Черномора из «Руслана» (то и другое входило в репертуар милой тети Маши). Вот почему я пережил в глубине своего существа настоящую революцию, когда в 1889 году познакомился с «Кольцом» Вагнера, а в 1890 году с произведениями Чайковского, Римского и Бородина.
Из бесчисленных тогдашних исполнителей, которых мне в детстве и отрочестве удалось слышать, я здесь назову певцов итальянской оперы — Мазини (сладчайшего из всех мною слышанных теноров), Котоньи, Уэтама, Девойо и певиц Нильсон, Репетто, Дюран, Зембрих и, несмотря на свою физическую неказистость, идеальную исполнительницу «Кармен» — Ферни-Джермано. Вообще же я должен сознаться, что я к человеческому голосу был более равнодушен, нежели к инструментальной музыке. Из пианистов назову чудесную мастерицу фортепьянной игры Есипову и Антона Рубинштейна. Игра последнего остается в моем представлении и по сей день непревзойденной. Могу только пожалеть, что слышал я Рубинштейна всего раза три, но эти слушания оставили во мне неизгладимое впечатление. Это была поистине вдохновенная игра. Он мазал, он врал, он присочинял, но вещи, даже самые знакомые и избитые, приобретали под его толстыми, неуклюжими на вид пальцами совершенно новую и потрясающе яркую жизнь. Нравился мне и весь его облик — его приспущенные веки, не-приглаженная грива и даже то, что он соединял в себе нечто и от атлета и от бабы. Странная была фигура! А какой это был чаровник, каким он умел прикинуться милым, простоватым, когда он ухаживал за дамами, — за этим занятием я мог его наблюдать, когда он бывал в гостиной у Марии Карловны. Что говорить: Антон Рубинштейн был настоящим солнцем музыкального мира, но вот то, что, добившись получения в дар для основанной им консерватории здания Большого Театра, он способствовал разрушению этого чудесного памятника, — этого я ему простить не могу, а в свое время я его за это и возненавидел.
ГЛАВА 7 Мое художество
В семейных преданиях хранилась память о том, как я, будучи восемнадцати месяцев от роду, получив карандаш в руки, сразу схватил его надлежащим образом, т. е. сложил на нем пальцы именно так, как это считалось правильным. В этом факте все увидели чуть ли не какое-то предзнаменование того, что я буду художником. Думаю, что я и действительно награжден наследственным предрасположением к искусству, а художественная атмосфера нашего дома и то, что почти все вокруг меня занимались разными видами художественного творчества, в частности же папочка охотнее всех занимал меня рисованием, когда мне еще и году не было, — все это явилось настоящей школой — чуть ли не с пеленок. К сожалению, и очень ранние пробы мои в искусстве были до известной степени отравлены рано проснувшимся тщеславным чувством. Чуть только стало во мне просыпаться некоторое сознание того, что я делаю, как я уже перестал рисовать просто для себя, в удовлетворение какой-то потребности изображать, а стал добиваться в своих рисунках успеха. Надлежало поразить и вызвать то восхищение и те хвалы, которые я вкушал с особым наслаждением. Отсюда и забота о поражающих сюжетах, отсюда и утрата непосредственности даже и в очень раннем моем рисовании. Между тем, как раз непосредственность составляет вообще главную прелесть детских рисунков.
Не надо все же думать, что я рисовал только напоказ. Большинство и тогдашних моих рисунков создано для собственной утехи, но часто, особенно в присутствии посторонних, в присутствии гостей, желавших своими восторгами оказать приятность моим родителям, я в рисовании щеголял.
Известное «щеголяние» своим даром оставило некоторые следы и на моем дальнейшем художественном развитии. Надлежало пройти многим годам, пока я сам не понял нелепость такого тщеславия, мешавшего мне делать то, что могло бы иметь действительную ценность и могло бы, первым долгом, давать удовлетворение мне самому. Между тем, живой пример того, как надо относиться к делу, был у меня перед глазами — в лице папы. Я очень любил разглядывать его путевые альбомы, в которые он с такой точностью, с таким мастерством и с таким вкусом зарисовывал все, что его поражало, и я дрожал от наслажденья, когда он, заканчивая какой-либо свой архитектурный проект, оживлял его для собственной забавы бесчисленными малюсенькими фигурками. Я наслаждался всем этим, но делать так, как он, вернее, приступать к делу так, как он, я не догадывался. Да к тому же при всем моем наслаждении его рисованием (а также акварелями моих двух братьев) я, пятилетнее ничтожество, на них смотрел чуть свысока. Ведь я уже трех лет был объявлен Рафаэлем и собирался со временем поразить мир своим искусством.
Упомянул я здесь имя великого Санти вовсе не в качестве риторического приема, а потому, что имя Рафаэля было как раз первым из всех имен художников, которое я запомнил. Запало же оно мне в душу благодаря тому впечатлению, которое производили на меня его ватиканские композиции, красовавшиеся в копиях в Академии художеств, исполненных в оригинальную величину лучшими русскими художниками: Брюлловым, Бруни, Васиным, Бориспольцем и др. Попадая в «Рафаэлевский зал» в Академии, я цепенел в любовании этими огромными картинами, известными под названием «Больсенская месса», «Афинская школа», «Изгнание Гелиодора» и «Освобождение св. Петра из темницы». Сюжеты мне объяснял папочка в очень ясных выражениях, но не в сюжетах было дело, а в красоте. Да, тот трехлетний или четырехлетний карапуз, каким я был тогда, уже млел перед красотой этих произведений и одновременно с этим во мне тогда же просыпалась склонность к священному негодованию, которое вспыхивало во мне каждый раз, когда я видел в других равнодушие к этим, так особенно меня волновавшим и столь изумительно красивым вещам. Особенно в композициях Рафаэля я был пленен коленопреклоненными фигурами на «Больсене». Красивее того повернутого в профиль швейцарского офицера, который стоит в нижнем правом углу, я ничего не мог себе представить, а ведь красота этой фигуры заключается не в чертах лица и не в великолепии его одежды, а в чем-то совершенно ином, что только и можно почувствовать и что есть красота.
Впрочем, для удовлетворения моей страсти к Рафаэлю мне не нужно было непременно находиться в академических залах. Я мог предаваться ей и дома. Как раз в эти годы выходило в Италии издание в гравюрах крупного формата всех фресок ватиканских стансов и стенных ковров, тканных по картинам Рафаэля. Папа получал это издание выпусками, доставлялись же они курьезнейшим маленьким, седеньким и лысым старичком, занимавшимся всякого рода комиссионерством. Он же привозил нам настоящие итальянские макароны, вино кьянти в соломенных бутылках и превосходные апельсины. За все это я его нежно любил, но, к стыду своему, как звали этого скромного, ласкового синьора, которого папочка встречал всегда с изъявлением дружбы (мамочка же несколько сдержаннее, ибо она не слишком поощряла всякие папашины художественные безумства), я не запомнил. Мне это тем более совестно, что специально мне старичок приносил особенно диковинные подарки. То были сделанные из папье-маше подобия грецких орехов, которые внутри, в обеих половинках содержали по целой, тончайшим образом выпиленной из кости капелле с алтарем, свечами, цветами и херувимами. Какая это была прелесть. Закроешь — орех как орех, а вскроешь — там целый тончайший ажурно-узорчатый мир. Эти чудеса, изготовлявшиеся в каком-то итальянском монастыре, к сожалению, попадая ко мне, погибали очень быстро. Я не в состоянии был устоять перед соблазном залезть пальцами в хрупкую их внутренность, хотелось изведать, что еще находится позади алтаря и почему так горят выложенные красной фольгой окна. Разумеется, после такого вторжения грубой силы — ничего, кроме бесформенного лома, не оставалось.
Каждый новый выпуск гравюр Рафаэля (их появлялось по два или по три в год, а закончилось издание, кажется, около 1880 года) рассматривался всей семьей. С папиного стола снималось все лишнее, покрывавшая его клеенка тщательно вытиралась, и на нее с особой, подчеркнутой торжественностью клались новые листы, из которых каждый был прикрыт прозрачной бумагой. Когда же все гравюры последней присылки были осмотрены, папочка их складывал в склеенную им самим большущую папку, и там в сохранности гравюры и покоились. До этой рафаэлевской папки никто без разрешения папы не смел дотронуться, и лишь в исключительных случаях рафаэлевская папка клалась на стол, развязывалась, вскрывалась, и тогда можно было лицезреть все, что в ней накопилось. В этой же папке хранились большие гравюры с пейзажей Пуссена, гравюра с грезовского «Счастливого семейства» и кое-что еще.
Рядом с нами, с выходом на ту же площадку парадной лестницы, жили старинные друзья семьи Бенуа Свечинские: почтенная старушка с сыном Николаем Кирилловичем — благодушнейшим стареющим холостяком, над которым у нас полагалось немного подтрунивать и для которого неустанно, но тщетно, наши дамы подыскивали невесту. Меня туда иногда водили, и там были всякие для меня приманки: курильница в виде черта, у которого зажигалась и докрасна накалялась голова, серый с красным, злой и надменный попугай и, наконец, девочка — внучка бабушки Свечинской Алечка Лепенау, к которой у меня была известная слабость. В столовой же у Свечинских стены были сплошь увешаны опять-таки Рафаэлями. Гравюры эти были старинные и, вероятно, более ценные, нежели те новейшие, которые получал отец из Италии, но, разумеется, этого я не понимал, а из какого-то чувства фамильного гонора я гравюры у Свечинских презирал; они мне казались совсем «не похожими» на то, что я видел в Академии и у нас дома. Сколько раз добрый Свечинский, зная мою любовь ко всякого рода изображениям, пытался обратить мое внимание и на эти картинки, я глядеть на них не хотел, причем бесцеремонно заявлял, что «наши лучше».
В конце концов, я так освоился с Рафаэлем, а с другой стороны, я до такой степени был уверен, что я сам Рафаэль, что однажды пожелал это доказать неоспоримым образом. Копировка была у нас обычным занятием. Копировали обе мои сестры, а Катя даже до того успела в этом, что копировала на заказ в Кушелевской галерее (только что тогда устроенной) картины разных сладковатых художников середины XIX века, иногда же она решалась пробовать свои силы и на передаче картин более трудных. Знаменитая в те дни «Украинская ночь» Куинджи (это было, когда Катя была уже замужем) прогостила у Лансере года два, не то потому, что собственник «Ночи» пожелал иметь дубликат, не то потому, что сама Катя пожелала поучиться на таком образце. Копировал всяких художников (в том числе Гильдебрандта и Калама) и Альбер, дабы преуспеть в акварели, копировал Леонтий, и последний делал это очень свободно и искусно, внося в копию свои собственные усовершенствования. Почему же было и мне не скопировать Рафаэля? Я и не сомневался в том, что срисую все точка в точку.
Увы, совсем иначе мне представилось дело, когда папа по моей просьбе вынул из лиловой папки гравюру с «Больсенской мессы» и, нашпилив ее на большую доску, укрепил последнюю на мольберте, меня же посадил перед ней на табурете.
Мне было тогда пять лет, и уже далеко было то время, когда, рисуя кружочки, под ними две палочки и род штыка рядом, я воображал, что изображаю солдатиков; далек был и период, когда кружочки оживились глазами, носами, ноги я стал приставлять не прямо к голове, а к туловищу (на котором непременно изображались пуговицы), штыки же вкладывались в руки (более похожие на грабли). Затем все это еще более ожило, стало входить в контакт друг с другом, появились лошади (или то, что мне казалось таковыми), взрывы бомб, пушки, выстреливавшие целые охапки пуль, а все в целом должно было изображать баталии. Под влиянием Иши появились на моих рисунках и рыцари — в касках, с забралами, с мечами и пиками в руках, на конях в попонах, что, кстати сказать, было и эффектнее и легче нарисовать. Однажды я даже попробовал сделать портрет папы (его портрет как раз тогда писала Катя), но меня смутило, что у меня это «не совсем вышло» — лишь то, что на щеках были бакенбарды, а глаза прикрыты очками, действительно, создало известное подобие, от которого все домашние, как полагалось, пришли в восторг. Словом, за мной был уже пройденный путь и, вечно захваливаемый, я действительно мог вообразить, что я Рафаэль. Тут-то меня и ожидало первое прискорбнейшее разочарование.
Еще куда ни шло, я довольно точно передал полукруг, замыкающий сверху композицию, и тот квадрат окна, что в него включен снизу, но когда дело дошло до первой же фигуры, то и получилась осечка… Через несколько минут рисования я совершенно размяк и ужасно устал, пот выступил на лбу, и, вероятно, я сделался весь красный. Действовали и досада, что у меня ничего не выходит, стыд и даже род какой-то обиды на Рафаэля, почему он мне не дается. Однако, пожалуй, тогдашняя досада послужила мне на пользу! В первый раз я понял, как это трудно, в первый раз я почувствовал, кроме простого восторга перед картиной, и какое-то почтительное изумление.
К сожалению, моим разочарованием, как мне теперь кажется, не сумели тогда воспользоваться. Правда, папа собственноручно и с необычайной аккуратностью склеил для меня из бристоля целую серию геометрических, частью очень сложных фигур и попробовал меня пристрастить к срисовыванию их, показав на бумаге, как это делается (тогдашний рисунок папы я храню). Но, попробовав раза два собственные силы на таком срисовывании, я почувствовал только непреодолимое отвращение к нему, и фигуры были сложены в ящик моего рабочего стола. Пролежав в нем лет шесть, они расклеились. Братья Альбер и Люля, видя мои рисовальные импровизации, говаривали: «Рисуй, Шурка, с натуры», «Надо с натуры рисовать», — и оба подкрепляли эти воззвания собственным примером, причем опять-таки Альбер старался передавать натуру точно, а Леонтий скорее фантазировал на реальные темы. Но эти понукания только меня раздражали, так как я ничего хорошего в «натуре» тогда не усматривал, и меня гораздо сильнее тянуло рисовать солдатиков и рыцарей. Наслаждаясь безотчетно природой, как только может наслаждаться совсем юное существо, я не чувствовал потребности каким-либо способом эту природу передать.
Память моя регистрировала немало таких вещей, которые достойны были попасть на бумагу или быть изображенными в красках, но это самое их достоинство я не осознавал. Как раз помянутая «Украинская ночь» Куинджи приоткрыла мне поэтическое достоинство пейзажа. Вглядываясь в эту картину, особенно в бездонное темное небо, в мерцание огоньков в хате, белые стены которой так чудесно светились в фосфорических лучах, я ощущал поэзию всего этого целого, а также почувствовал прелесть передачи ее. Но в те годы я не решился бы попробовать сделать нечто подобное и, поняв после ряда осечек, до чего вообще все это трудно, я предпочитал (со все меньшей уверенностью в успехе) рисовать «от себя» всякую всячину, то импровизируя на бумаге разные комические истории (отголоски моего восторга от Буша и Оберлендера), то пробуя силы на более внушительных композициях исторического характера.
Колоссальное впечатление, произведенное на меня Библией Шнорра (о чем я расскажу в своем месте), побудило меня изображать события Священного Писания, и одну такую мою тетрадочку, посвященную «Дням творения мира», бережно хранила до смерти директриса моего киндергартена Е. А. Вертер. Чтение и особенно разглядывание иллюстраций какой-то «Histoire de France» для детского возраста познакомило меня с условными, но тем более пленительными для детского воображения фигурами Франциска I, Генриха IV и Людовика XIV — в результате чего в довольно большом формате я пробовал представить своего рода синтетические их портреты, которые я дарил отцу на елку или на рождение. При этом действовали и оперные сувениры, — так все мои герои получали неизменно бородку-эспаньолку — принадлежность тогдашних теноров, и кружево по низу панталон. Что же касается до уроков рисования, проходивших в киндергартене под руководством симпатичнейшего мягкого и тусклого художника Лемоха, то это, разумеется, было совершенно непроизводительной и скучной тратой времени.
Едва ли не важнейшую роль для дальнейшего моего художественного развития сыграла моя страсть к театру. Я еще вернусь к своим детским театрикам и, в частности, к тому, который мне устроил папа, но и тут необходимо отметить, что то самое, что в отверстие сцены и при свете крошечных керосиновых ламп, стоявших в кулисах, эти, специально для меня написанные и вырезанные папины акварели вдруг приобретали полное правдоподобие, — побудило и меня испробовать свои силы в этом роде. И вероятно оттого, что я был движим каким-то особенным воодушевлением, эти мои опыты удавались лучше (по тогдашней моей оценке), а удача подзадоривала на дальнейшие. Запомнилась мне из тех моих первых театральных опытов размашисто, в бурых красках писанная декорация, изображавшая какой-то ученый кабинет с крокодилом, подвешенным к потолку, а также дремучий лес, в котором мне нравилась гамма зеленого с коричневым. К театральному же роду можно было бы отнести и другую мою тогдашнюю гордость — род театральной макетки, изображавшей европейцев, вступивших в бой с зулусами. Это был ряд нарисованных пером и раскрашенных, а затем тщательно вырезанных фигурок, которые, окруженные такими же кустами и пальмами, были приклеены на картон, изображавший поросшую травой землю. Мне казалось, что на сей раз мне не только удалось выразить стремительность движений, а также ярость и ужас на лицах сражающихся, но что мне особенно удались краски — гармония их, получившаяся от прозрачных колеров, положенных поверх очерка, залитого тушью.
Но вот с начала 80-х годов я все реже и реже берусь за карандаши и за краски (исключительно за акварельные, масляные у нас в доме вообще, после отбытия сестры Кати, не водились). Однако эти годы не пропали даром для моего художественного развития. Напротив, именно за этот период я постепенно, сам того не зная, начал становиться своего рода любителем искусства. Запомнились мне несколько этапов в этом приобретении более осмысленного отношения к искусству. Рафаэль продолжал доминировать над всем, но Рафаэль был чем-то совершенно исключительным, я в нем видел божество, и принимал я его всего, не дерзая выяснить себе, чем именно он так хорош. Другие же художники приводили меня в восторг более определенными сторонами своего творчества — кто ловкостью и бойкостью штриха, кто сочностью светотени, а кто композицией (например, иллюстрации Невилля в книге Ж. Верна «80 000 верст под водой» или иллюстрации Доре к басням Лафонтэна). Постепенно стали на меня действовать краски, независимо от того, что изображено, — действовать как в положительном, так и в отрицательном смысле.
На какой-то выставке в Академии я пришел в восторг от «Балаганов» и от «Перенесения ковра» К. Маковского. В Кушелевской галерее меня восхищали картины разных немцев, французов, бельгийцев середины XIX века. Другие картины меня трогали и даже потрясали своими сюжетами. Я уже говорил про свой восторг от картины Делароша «Кромвель перед гробом Карла», перед которой я буквально столбенел; часами был я способен вглядываться и в помянутую «Украинскую ночь» Куинджи. Больше же всего (пока в гравюрах, ибо в Эрмитаже я в те времена, до 1883 года, не бывал) я восхищался «Последним днем Помпеи» К. Брюллова, и мне прямо казалось невероятным, что папа когда-то мог лично знать такого совершенно божественного гения! Брюллов для меня был «почти Рафаэль». Наконец, в 1882 году Леонтий, вернувшись из заграничного путешествия, навез с собой массу фотографий, и впервые меня тогда взволновали грустные взгляды, хрупкие фигуры и неловко-стыдливые жесты Сандро Боттичелли, и одновременно меня покорил Микеланджело, о котором, впрочем, я уже имел некоторое понятие.
В своем месте, где я говорю (по поводу своих игрушек), что был пленен «лилипутским» началом, я упустил сказать, что в равной степени я был пленен и всякой колоссальностью. Во сне я часто видел, что подхожу к подножью какой-либо чудовищно громадной бронзовой статуи или что такая статуя сдвигается, протягивает ко мне свои страшные металлические руки. В Академии художеств я боялся (но чувство это было сладостное) подходить к стоящему в глубине Тициановского зала Диоскуру (слепок с одного из гигантов, стоящих на Монте-Кавалло в Риме), я мечтал увидеть на самом деле колоссы Мемнона или св. Карла Борромейского, а среди похождений Гулливера меня одинаково пленяло как его пребывание у лилипутов, так и его пребывание у бробдингнегов. И вот на одной гравюрке в «Magasin pittoresque» («Живописное обозрение») фигура Ионы под потолком Сикстинской капеллы — чудилась мне чем-то сверхъестественно ужасающим. Даже в таком виде Буонаротти действовал своей terribilita, — и этой-то его «ужасностью» я мог теперь вдоволь упиваться на фотографиях, привезенных Леонтием, с рисунков мастера и со статуй гробницы Медичисов…
Вообще я теперь все чаще и чаще вытаскивал книги с нижних полок папиного желтого шкафа, и я все внимательнее к ним присматривался. Из них я узнал о существовании и о значении первоклассных архитектурных памятников, из них познакомился с историей костюма, из них заинтересовался всякими предметами культурно-исторического значения, из них же узнал, как выглядели и разные знаменитые люди: музыканты, писатели, философы. В особенности же впивался я глазами в те картинки, которые довольно удовлетворительно передавали превосходные произведения изобразительных художеств — живописи и скульптуры. Тот же брат Леонтий подарил мне в 1883 году популярную «Историю искусств» Рене Менара, которую я тогда довольно основательно изучил.
Одновременно с «Magasin pittoresque» и «Историей искусств» я напитывался художественными впечатлениями и познаниями из журнала «Пчела», а также из нескольких томов «Illustrations», в которых я особенно наслаждался карикатурами Берталя, Кама, Марселена и Дики Дойля. Ряд композиций Доре содержал и выходивший во время Крымской кампании «Le Musee Français et Anglais». Отдельно я должен поставить серию книжек, унаследованных папочкой от своего отца и носящую собирательное название «Les Annales du Musee». Эта коллекция из более чем сорока переплетенных в светло-розовый картон книг занимала три четверти верхней полки большого папиного красного шкафа, и для того, чтобы достать один из этих томов, надлежало мне, десятилетнему мальчику, не только влезть на стул, но еще вытянуть до предельной возможности руку. С десяти лет я эти «Annales du Musee» и стал изучать со все возрастающим интересом. Они состоят почти из одних только иллюстраций с короткими пояснительными текстами. Картинки воспроизводят картины и статуи Лувра (того Лувра, в котором рядом с основной коллекцией фигурировали и все художественные трофеи Наполеона), а также особенно замечательные произведения парижских «Салонов» начала века — все это сопоставленное в самом произвольном порядке: мифология чередуется с библейскими сюжетами, жанровые сценки с глубокомысленными аллегориями.
То, что в «Les Annales du Musee» гравюры исполнены одним штрихом, при отсутствии всякого оттенения, не вредило моему наслаждению, — тем более, что к такому способу передавать образы я уже привык и достаточно его полюбил благодаря «Душиньке». Теперь же мне кажется, что именно эта «отвлеченность» в передаче прекраснейших произведений искусства учила меня (без того, чтобы я сознавал, что учусь) тому, что, в сущности, является основой всякого изобразительного искусства, — тому, что называется рисунком и что вмещает в себе и композицию, и ритм, и большую или меньшую «правильность». Стал я заглядывать и в небольшие текстики, сопровождающие в «Анналах» каждую гравюру. В этих заметках я находил рядом с умеренными критиками и указания на колорит, на светотень. Из этих текстов я узнавал кой-какие данные из жизни авторов картин и скульптур. «Les Annales du Musee» рядом с «Magasin pittoresque» были моими первыми художественными руководствами, причем главным образом благодаря «Анналам» я познакомился с чем-то вроде конспекта истории искусства. Значительная часть гравюрок «Анналов» воспроизводит и картины эпохи наполеоновской эпопеи, и отсюда получилось, что я, сын конца XIX века, превратился тогда в какого-то восторженного приверженца классической школы конца XVIII века. Этому же я обязан и тем, что сохранил на всю жизнь известную нежность к классицизму. Ту самую роль, которую в настоящее время для начинающей жизнь художественной молодежи играет французская школа импрессионистов (если не всякие гримасы упадочного «модернизма»), — эту роль для двенадцатилетнего Шуры Бенуа сыграли строгие, благородные, полные убежденности произведения Давида, Жерара, Жироде, Гро и в особенности Прюдона.
Почти все, что мной до сих пор названо из художественных произведений, которыми я увлекался в дни детства, относится к чужестранному и к тому же «старинному» и «отжившему». Однако, кроме того, видел я и тогда уже немало образцов современного искусства — главным образом на больших выставках в Академии художеств, на которые меня ежегодно водили весной то папа, то мама, то один из братьев. Там я наслаждался уже не черными уменьшенными воспроизведениями, а оригиналами в красках; там я мог оценивать и манеру, ловкость, бойкость кисти, приятный колорит или, напротив, меня возмущала робость, беспомощность, уродливое сочетание красок. Свои личные оценки я затем мог проверять на основании общих споров во время семейных сборищ, причем в те дни я обыкновенно в душе вполне соглашался с мнением отца. Особенное впечатление произвела на меня та сборная выставка, которая была устроена в 1882 году также в Академии художеств, на которую попали разные знаменитые картины русских мастеров последнего времени, предназначавшиеся затем для большой выставки в Москве. Тут я увидел шедевры Репина «Бурлаки» и «Проводы новобранца», тут же увидал исторические картины Якоби и Венига, лесные пейзажи Шишкина и всевозможные моря Айвазовского, общий восторг от которых я вполне тогда разделял. Кроме того, на меня около того же времени произвели потрясающее впечатление исполинское полотно «Светочи Нерона» Семирадского.
И несколько картин В. В. Верещагина на тех отдельных выставках, которые гремевший на весь свет художник устраивал то в «Обществе поощрения художеств», то в частных помещениях. Стечение публики на выставки Верещагина было таково, что приходилось на улице ждать очереди и очень медленно продвигаться затем среди густой толпы. Но эти страдания были вознаграждаемы тем, что показывалось при ослепительном, только что тогда изобретенном электрическом освещении. В лучах волшебного света и «Выезд принца Уэльского в Индии» и «Панихида» (священник служит над полем, покрытым голыми трупами солдат) приобретали удивительную иллюзорность. Бывал я как раз на этих выставках Верещагина (в виде исключения) с мамой, вообще к искусству относившейся довольно равнодушно. Тут же и она не смогла устоять перед соблазном увидать вещи, о которых говорил весь город. Впрочем, не одно желание быть в курсе всего замечательного притягивало ее, но и ее глубокий «интерес к правде». Это сказывалось и во время споров за семейным столом, когда она, вообще в них не вмешивавшаяся, робко, но не без настойчивости защищала Верещагина от нападок наших заправских эстетов. Что за беда была в том, что Верещагин в своих выступлениях прибегал к некоторым «шарлатанским трюкам» (самый его способ показывать вещи в темных помещениях под прожекторами вызывал обвинение в шарлатанстве), велика ли беда, что он, Верещагин, часто бывал «бестактным» (в бестактности его обвиняли наши домашние политиканы и вояки с Зозо Россоловским во главе), велика ли беда, что он представил «Взятие Плевны» как спектакль, устроенный в угоду царю, а в картине «Si jeune et deja decore» («Такой молодой, a уже отличившийся») он обличал кумовство и протекционизм военных кругов? Все это была правда, но мама была непоколебимо убеждена, что «только правда хороша». Этот стих она очень часто цитировала.
Из разных других художественных событий того времени могу еще указать, но скорее как на курьез, на гастрольные выставки новейших произведений немецких архизнаменитостей того времени: Макарта и Макса. Трудно себе представить, какую сенсацию производили все эти показы, обыкновенно устраивавшиеся в только что отделанном новом помещении «Общества поощрения художеств» на Большой Морской. Успех этот свидетельствовал о том, в каких глубинах провинциализма утопала тогда художественная жизнь Петербурга. Не только широкая публика ничего не знала о подлинном художественном творчестве на Западе, но не ведали о нем сами художники. Даже передовые мастера, даже передвижники и их трибун В. В. Стасов принимали всерьез вещи, едва возвышающиеся над уровнем ординарной посредственности. Только провинциализмом можно себе объяснить, что такие картины, как «Штиль» Судковского, «Невский проспект» Клевера, «Последние лучи» Куинджи или «Голова Спасителя» Габриэля Макса, могли вызывать яростные обвинения и бешеные восторги. Картины Куинджи и Клевера казались до того иллюзорными, что на выставках происходили настоящие скандалы; посетители залезали через перегородку (эти картины тоже выставлялись при искусственном свете), дабы заглянуть за полотно и удостовериться, нет ли под этим «чудом» какого-либо фокуса, не освещаются ли картины транспарантом сзади. Иные же тыкали пальцем в полотно, гладили его, искали каких-либо трюков, и таких дерзателей приходилось при помощи полиции выводить насильно.
Что же касается помянутой картины Габриэля Макса, изображающей голову Христа (более натуральной величины) на плате св. Вероники, то перед ней происходили даже настоящие сцены кликушества. Истерические дамы вдруг начинали голосить: «Он смотрит, он смотрит», — и падали в обморок. Трюк же Макса заключался в том, что на опущенных веках Спасителя были едва обозначены полутенями зрачки. Сначала казалось, что глаза у Христа закрыты, если же долго в них всматриваться, то чудилось, будто они открылись, и не то с упреком, не то с каким-то призывом, взирают на вас. В зале, где была выставлена эта картина, царило поистине молитвенное настроение. Перед ней в несколько рядов стояли стулья и на них часами восседали в глубоком молчании дамы и господа, ожидавшие момента, когда «глаза Спасителя откроются для них». Посетил с кем-то из наших домашних и я раза три эту выставку. Мне не нравилась картина, я сразу раскусил, в чем дело (и папа тоже неодобрительно отзывался о ней), но меня манила вся атмосфера, создавшаяся славой ее чудотворности. Впрочем, Макс, ныне забытый даже у себя на родине, был тогда до того знаменит, что и другие его картины, гастролировавшие в Петербурге, вызывали почти столько же толков, как и «Голова Христа». Так, очень поразила петербуржцев картина «Художественные критики», на которой были изображены (по примеру француза Декана) обезьяны, усевшиеся перед картиной и ее обсуждающие, а также «Аппиева дорога», изображавшая молодую нищенку, в отчаянии поникшую над своим младенцем, тем временем как готовая исчезнуть вдали карета последнего туриста подчеркивала ужас ее оставленности. Должен добавить, что в смысле живописной техники и того, что называется «кухней», как раз эти картины Макса были очень замечательны, и я получил от их фактуры несравненно большее удовлетворение, нежели от той беспомощной мазни, которая в значительной степени наполняла Академические выставки. Изредка, впрочем, и на последней появлялись произведения первоклассных иностранных мастеров (вероятно, в ответ на получение ими нашего академического звания). Так, на Академических выставках я видел картины Макарта и даже самого Пилота.
Может показаться странным, что, рассказывая про то, как я все более и более приобщался к искусству, я до сих пор не упоминал об Эрмитаже, а также о наиболее передовых выставках того времени — о передвижниках. Но на это имеются причины. Эрмитаж в более или менее сознательном состоянии я впервые обозрел тринадцати лет — в 1883 году, и об этом весьма значительном дне моей жизни я повествую в другом месте. Что же касается передвижников, то у нашей семьи не было принято посещать их выставки, так как отец и братья придерживались убеждения, что искусство могло цвести только в Академии художеств и вокруг нее. Передвижники же представлялись им чем-то вроде разрушителей устоев, чуть ли не нигилистов. Однако и среди ближайших моих родственников был один человек, который держался более передовых взглядов, и стоило выставке передвижников открыться, как уже на ближайшем семейном обеде возникал спор, каждый раз вызванный сочувственными словами дяди Миши Кавоса о какой-либо новой картине Репина, Сурикова, Ярошенки, Вл. Маковского или Савицкого. И тогда сразу дядя Костя Кавос, брат Леонтий, бабушка и даже неизменный друг дома, синьор Bianchi, ловили мяч на лету, после чего начиналась словесная баталия между теми, кто на выставке не побывал, да и не собирался быть, и теми, кто выставку посетил и готов был вслед за дядей Мишей счесть одобряемые им картины за шедевры. К таким защитникам более передового искусства принадлежали и великий забияка — Зозо Россоловский, по профессии журналист, а также мой кузен, тогда еще учившийся в Училище правоведения, — Сережа Зарудный.
Тут я забегу вперед. Один из таких рьяных споров побудил, наконец, и меня отправиться посмотреть, в чем дело и кто прав. Эта экспедиция уже имела до некоторой степени оттенок бунта против семейных традиций, что в последующие годы стало для меня чем-то обычным. Впрочем, к этому времени я уже несколько научился оценивать вещи самостоятельно и, отправляясь на «Передвижную», помещавшуюся в том году в доме Родоконаки на Невском, я уже не рисковал поддаться какому-либо совершенно случайному влиянию. Покинул же я выставку, как пьяный, — до того меня поразила картина Репина «Не ждали», до того это было не похоже на все то, что у нас в доме почиталось за достойное внимания и до того это было смело, просто и «подлинно». Наконец, и самая живопись и приемы поражали своей свежестью, уверенностью и свободой. В следующем, 1885 году я стал ждать открытия очередной «Передвижной» как наизначительнейшего в течение года события. И на сей раз, если впечатление от «Иоанна Грозного» Репина не могло сравниться с впечатлением от «Не ждали», то все же и оно было потрясающим. Упомяну еще здесь о том, что благодаря репинским картинам во мне проснулся интерес вообще к более серьезному современному творчеству, как к русскому, так и к иностранному. Правда, не было никакой возможности познакомиться в оригиналах с действительно передовым искусством в Германии и во Франции, но уже то было хорошо, что я стал искать, как бы удовлетворить свою любознательность и свою потребность в художественных впечатлениях, по разным иностранным изданиям, книгам и журналам. Ознакомление это не имело никакой системы и было полно весьма странных блужданий, но уже достаточно было того, что я все же изредка находил ту или иную подлинную жемчужину, и когда находил, то восторгу не было пределов.
В 1885 году я сподобился не только лично познакомиться с Репиным, но видеть его изо дня в день за работой и слушать его речи об искусстве. Илья Ефимович начал писать портрет жены Альбера, Марии Карловны. Происходило это в квартире брата, находившейся этажом выше нашей и служившей как бы продолжением нашего обиталища. Репин писал Машу играющей на рояле и метко схватил то выражение «холодной вакханки», с которым эта замечательно красивая женщина, откинувшись назад, как бы поглядывает на своих слушателей. Портрет уже после нескольких сеансов обещал быть чудесным, но затем что-то помешало продолжению работы (не то Марье Карловне просто надоело позировать, не то она отправилась в какое-либо турне), и портрет так и остался неоконченным. Но пользу я себе извлек из того, что успел видеть в течение тех пяти-шести раз, когда украдкой, не смея шевельнуться, замирая в молчаливом упоении, я следил за тем, как мастер пытливо всматривается в модель, как он затем уверенно мешает краски на палитре и как без осечки кладет их на полотно. Ведь ничто так не похоже на волшебство, как именно такое возникновение живого образа из-под кисти большого художника. Но когда я говорю о пользе для себя, то я совсем не подразумеваю пользу творческую; я и не пытался использовать эти уроки Репина для собственной работы. В это время я вообще почти бросил рисование и лишь редко касался красок (всегда акварельных — других, повторяю, у нас в доме не было). Польза заключалась в том, что я вообще видел, как это делается, как создается настоящее искусство, а не тот его эрзац, которым почти все вокруг меня довольствовались. Однако я сильно забегаю вперед, и пора теперь вернуться к прерванному хронологическому порядку моего рассказа.
ГЛАВА 8 Лето 1875 года в Павловске
Лето 1875 года мы провели в Павловске, но познакомился я с Павловском за несколько месяцев до нашего переезда туда на дачу, и нельзя сказать, чтобы это первое знакомство произвело на меня приятное впечатление. Например, я сохранил об этом пребывании в Павловске, длившемся всего один вечер и одну ночь, очень жуткое воспоминание, и курьезнее всего, что какая-то тень, брошенная на Павловск тогда, когда мне не исполнилось еще пяти лет, оставалась лежать на нем и впоследствии, несмотря на мои частые посещения Павловска, на жизнь там целыми месяцами на даче, несмотря, наконец, на все мое художественное увлечение чарующим местом.
Сестра Катя, вернувшись из своего свадебного путешествия, поселилась на первых порах в Павловске, где у ее мужа был довольно большой каменный дом. (Этот дом — один из самых любопытных в Павловске. Считается, что он принадлежал знаменитому Аракчееву. В последний раз я его видел в 1922 году, и тогда он был все еще таким же, каким он был в моем детстве: трехэтажный, с затейливым, кирпичным фасадом, на красном фоне которого резко выделялись белые фигурки кариатид и другие лепные украшения. Он, несомненно, был павловского времени. На том же участке, принадлежавшем моему зятю, стояли еще две деревянные дачи. В одной из них, выходившей на улицу, поселились в 1875 году мои родители вместе с молодыми супругами Лансере; в другой жила сестра Жени — Зинаида, только что вышедшая замуж за инженера Анатолия Серебрякова, Большой же «Аракчеевский» дом занимали наши знакомые Благово, которые вскоре после этого приобрели этот дом со всем участком в свою собственность.)
Продолжая обожать своего маленького брата, она пожелала меня получить к себе на несколько дней, и, как я сначала ни упирался, не желая уходить из-под маминого крылышка, меня все же в конце концов уговорили, забрали и потащили поздно вечером за город. После часа езды в поезде, мы на трясучих дрожках (дело было к весне) дотащились до места назначения. От дома ничего нельзя было в темноте различить, но тем ярче выделилась освещенная свечой прислуга, отворившая нам дверь. Я сразу заподозрил нечто недоброе, готовый принять эту старую крючконосую женщину за жену людоеда из сказки о «Мальчике-с-пальчике», но идти на попятный было поздно. Затаив ужас, я отдался в руки Кати; она освободила меня от башлыка, шубки и валенок, и я очутился в обширной, необычайно высокой комнате, едва освещенной канделябром, стоявшим среди уже накрытого обеденного стола. Все, чем меня угощали, мне не нравилось, и я сразу после обеда стал проситься домой, особенно после того, что Женя, раздраженный моими капризами, раза два на меня прикрикнул.
Но как тут было ехать ночью в Петербург? Меня уверили, что и поездов теперь до утра не будет, и я покорился. Катя с трудом меня успокоила и уложила. Я уже стал засыпать, когда меня разбудил странный шум, доносившийся со двора. С назойливой равномерностью что-то стучало в ночной тишине; иногда эта стукотня затихала и прекращалась, но затем она снова раздавалась под самыми окнами… Это было не менее жутко, нежели появление «жены людоеда», и ничего подобного ни в Петербурге, ни в Петергофе я еще не слышал. Катя поспешила объяснить, что то бьет в колотушку ночной сторож, делающий обход, а делает он обход дач для того, чтобы отгонять воров и чтобы жители могли спать спокойно, — вот и мне надлежало успокоиться и заснуть. Не тут-то было. При словах «отгонять воров» мне сразу представилось, что здесь, в Павловске, и в соседнем лесу этих воров кишмя кишит, и они только ждут, чтобы пойти на нас походом. Где тут одному сторожу с ними справиться?.. Все же часам к двум, когда стук затих, я забылся и заснул, стараясь утешиться тем, что утром меня поведут к «настоящей» крепости, где стоят «настоящие» пушки, а затем мы проедемся по парку, к ферме, где царские дети пьют «самое вкусное молоко».
Но все вышло совсем иначе. Проснувшись еще до солнца, я, к беспредельному своему ужасу, увидал в окне две слабо выделявшиеся на фоне еле брезжившей зари фигуры. На головах у них были каски; сами они не двигались, но, очевидно, они только и ожидали подходящего момента, чтобы ринуться в комнату. Вырвавшийся у меня пронзительный визг, такой визг, какого я и сам еще не слыхал, разбудил Женю и Катю. Оба бросились ко мне, я же продолжал кричать, не имея возможности произнести ни слова и только указывая пальцем в окно. И каков же был мой стыд, когда выяснилось, что то, что я принял за воров, были две стоявшие на подоконнике большие японские вазы с их шлемообразными крышками. Их пузатый силуэт, сквозивший через прозрачную штору, имел действительно что-то общее с человеческой фигурой, как бы старающейся подняться на локтях. Тут терпению Жени Лансере наступил конец, и он с первым же поездом сам отвез меня обратно к родителям, а злобный тон, с которым он объяснял маме столь непредвиденно скорое мое возвращение, в достаточной степени говорил о том, до чего пятилетний зятек ему надоел и отравил те несколько часов, что был его гостем. Это заслуженное озлобление не помешало ему вскоре после этой авантюры вылепить с меня превосходный бюст, который и был отлит из бронзы.
Причиной тому, что мои родители изменили летом того же 1875 года Петергофу, в котором они до тех пор живали на даче в течение четверти века, было то, что в этом году папа отказался от своей службы в Министерстве двора, связанной с Петергофом; в Павловске же ему надлежало возвести у вокзала большой деревянный театр, простоявший затем без изменения целых пятьдесят лет (сгорел театр уже при большевиках в 1930 году). Мы переехали ранней весной, когда деревья едва начинают покрываться светло-зеленым пушком и стоит порядочная стужа; таков был обычай семьи Бенуа, предпочитавшей мерзнуть и мокнуть на даче, лишь бы поскорее выбраться из Петербурга, подальше от его сутолоки. Но поселились мы не в каменном доме Лансере, а на деревянной дачке, довольно уютной и приятной, стоявшей рядом в глубине отдельного садика. Катя и Женя Лансере переехали вместе с нами на эту же дачу, но им была отведена более отдаленная от улицы часть ее, дабы Кате было спокойнее, так как в конце лета она ожидала ребенка. Ожидание этого события наполнило меня торжественным любопытством. Особенно интересно было то, что я буду тут же поблизости, когда прилетит ангел и положит на постель крошечного малютку. Тому, что детей доставляет аист, я уже перестал тогда верить, хотя изображение этой птицы с запеленутым младенцем в клюве было очень распространенным.
И как раз первое, что бросилось мне в глаза в Павловске, когда мы ехали с вокзала, был именно аист — скульптурное изображение его в гербе на фасаде только что тогда построенной огромной виллы господина Шторх (Storh — аист). Папочка тогда же не преминул меня заверить, что именно этот аист и готовится принести обещанного мне племянника, однако шуточность его слов была слишком очевидной. В ангелов я верил твердо: не могли же обманывать картинки в Священном Писании.
Столь поразившая меня дача господина Шторха и стала на первых порах главной приманкой моих прогулок по Павловску. Туда, к мосту, с которого открывался вид на это подобие замка, я и тянул свою бонну, очень мне полюбившуюся Лину, и оттуда подолгу я любовался и замком, и его необычайным гербом. Лишь после всяких уговоров Лине удалось меня затащить и в другие места, в Павловский парк и ко дворцу. Там приманкой для меня явился памятник Павлу I, стоящий в центре овальной площади перед фасадом дворца, в те годы принадлежавшего великому князю Константину Николаевичу. Странное дело, но свою притягательную силу этот монумент оказал через много-много лет и на моего старшего внука Татана Черкесова, когда ему было еще неполных два года. К этой статуе, которую он сам, неизвестно почему, прозвал «дядей Павлом», он требовал, чтобы его подвозили в колясочке, а подъехав, он сползал на землю, и тогда начиналась курьезная церемония. Малыш раза три обходил вокруг постамента, отвешивая поклоны и что-то бормоча себе под нос. Случай этот я предлагаю вниманию людей, интересующихся особенно загадочными проявлениями атавизма.
Нужно, впрочем, признать, что этот памятник имеет действительно в себе, помимо своих художественных достоинств, и какую-то особую притягательность. Гордо занеся голову в огромной треугольной шляпе, вычурно, по-балетному, расставив ноги в тяжелых ботфортах, отнеся в сторону правую руку, которой он опирается на трость, безумец-государь представлен как бы присутствующим на смотру своих гренадеров. Меня, бредившего тогда военными парадами и маршами, пленило именно то, что в этой статуе выражено «военно-начальственного», доведенного даже до карикатуры. Тогдашнее детское увлечение этой статуей несомненно легло в основу и тому своеобразному культу Павла, который я питал затем всю жизнь ко всей романтической фигуре императора. Уже тогда я знал по секрету от папы, что бедного царя задушили придворные, что он был добрый, но сумасшедший. Когда, едучи на Кирочную в гости к дяде Сезару, наша карета равнялась с Инженерным замком, то папа указывал мне на окна той комнаты, в которой это убийство произошло. И то, что об этом нельзя было говорить открыто, что это была какая-то запретная, всем известная, но и всеми хранимая тайна, придавало в моих глазах особый ореол несчастному государю. Подойдя к памятнику в Павловске, я принимался его разглядывать со всех сторон, всматриваясь в ноздри вздернутого носа, любуясь сказочно огромными сапогами, треугольной шляпой, одетой набекрень, и длинной шпагой, выглядывавшей из-под подстегнутых фалд.
Курносый император, комичный и страшный, нелепый и рыцарски-благородный, изящно-образованный человек и грубый солдафон, неудачный вершитель судеб мира, гроссмейстер иоаннитов без ореола святости, образцовый отец семейства, в конце же жизни запутавшийся в неудачных амурных интригах, — почему он до сих пор так пленяет меня? Еще удивительнее, что он заинтересовывал меня — пятилетнего мальчугана! Чем приковывает к себе тот портрет Боровиковского, в котором Павел, несмотря на императорскую корону, на далматику и порфиру, на скипетр и державу, выглядит каким-то шутом гороховым? Или еще тот портрет Павла, который с него написал Тончи, на котором он являет как бы самый тип нелепого неудачника и который потомки царя (с полным основанием) скрывали в одном из недоступных для обычных посещений кабинетов гатчинского замка? Почему даже в те времена, когда я еще ничего не знал о Павле, кроме только того, что он был сумасшедшим и что его умертвили какие-то злодеи, почему именно тогда я его полюбил? Как мне понятна и та любовь (вовсе не почтение и не страх, а именно нежное и любовное чувство), которое он умел внушить к себе тем, кого приближал к себе — Нелидовой, Ростопчину, даже Аракчееву и еще нескольким. Не потому ли еще живет во мне особое чувство к Павлу, что я узнал его через Павловск, что я подошел к нему через поэзию этого зачарованного мира, точно так же, как прадеда Павла — Петра Великого — я полюбил через поэзию Петергофа?
Всего в нескольких шагах от нашей дачи стояла Павловская крепость, носящая шутливое название Бип. И вся-то крепость эта — такая бессмысленная, такая «картонная» со своими никчемными, вовсе на средневековые замки не похожими башнями и с подъемным мостом, с равелинами и контрэскарпами, с игрушечными пушками на лафетах и со статуями рыцарей в нишах у ворот — носит такой же шутовской характер, как ее прозвище. Пятилетним карапузом я чуть ли не ежедневно бывал у крепости, и, пользуясь тем, что Лина, усевшись на траве, отдавалась чтению какой-либо книжки, я без устали карабкался вверх по мягкой траве окопов, скатывался с них или же, взлезая на лафеты пушек, заглядывал (не без опаски) в их грозные жерла. Крепость — детская игрушка монументальных размеров, но не детской ли игрушкой представлялась Павлу вверенная ему богом империя, эта неисчерпаемая кладовая оловянных солдатиков, которых он гонял через всю Европу, которых он посылал сражаться в защиту священных и грандиозных, но все же им как-то по-детски понимаемых идей? А не взрослым ли ребенком он проехался по той же Европе в сопровождении своей статной и добродетельной, но скучноватой супруги? Не детским ли гневом плохо воспитанного ребенка гневался он на тех, кто не умели ему угодить, кого он прямо с плацпарада отправлял в Сибирь за отстегнувшуюся пуговицу? Не детским ли кошмаром было все его пресловутое безумие, его растерянность, его страх, его жажда подвигов и столь неуместная, несвоевременная, плохо направленная «справедливость»?
Обреченная жертва, он всю свою недолгую жизнь сознавал эту обреченность (не сознавал ли ее и потомок Павла — Николай II?) и пытался вырваться из-под гнета этого ужаса. Он силился найти себя, утвердить свою волю, но ее-то ему и не хватало — ему не хватало той самой выдержки воли, которой было так много у мудрой и хитроумной и ненавистной ему матери и которую унаследовал от нее сын Павла — строгий Николай, с неукоснительной выдержкой отбывавший свою царскую повинность и за эту честную и жертвенную службу России навлекший на себя презрение нескольких поколений.
Разумеется, в 1875 году меня, пятилетнего, такие исторические мысли не посещали. Напротив, как и всякого другого ребенка, меня в Павловске особенно манили два места: Розовый павильон и Сетка. То были сборные пункты дачной детворы, хотя как раз Павильон роз находился на довольно далеком расстоянии от нашего жилища и туда иначе, как пешком, нельзя было добраться. Я часто таскал туда покорную Лину, а по воскресеньям и самого папочку.
Приманкой в Розовом павильоне служил мне вовсе не самый тот милый помещичий домик, на фасаде которого написано по-французски: «Pavillon de Rosse», и не тот садик, в котором погибало несколько чахлых розовых кустов, а служили приманкой детские игральные приспособления, стоящие здесь с самых дней Марии Федоровны. Можно было крутиться, сидя на деревянных лошадках, можно было катать шары на кегельбане, можно было до одури качаться на разного рода качелях, и тут же возвышалась катальная горка, с которой скатывались на специальных салазках или же просто садясь на гладкую наклонную плоскость. Это скатывание было моим любимым занятием — занятием, которому, кстати сказать, я предавался и зимой у нас в зале, где папа устраивал горку довольно примитивным образом, кладя на высокий табурет конец покрытой клеенкой широкой доски, другой конец которой касался пола. И сколько же заноз я и мои маленькие приятели получали на самом чувствительном месте благодаря тому, что мы с размаху съезжали на этот наш старинный паркет! Спрашивается, что в таком скатывании хорошего, что нам так нравилось? Однако нравится же людям, даже совершенно взрослым, летать с «американских» и «русских» гор. Внутри дворцов для забавы царских детей сооружались такие же, но довольно высокие горы отличной столярной работы.
Сеткой называлась другая павловская забава. Она была устроена поблизости с дворцом в боскете, специально отведенном под морские упражнения детей великого князя, генерал-адмирала русского флота Константина Николаевича. Состояла Сетка из мачты с ее канатными лесенками и реями и из туго натянутой под ней канатной сетки. Можно было без риска увечий производить всякие эволюции на реях и на лесенках, так как в случае падения эта сетка вас подхватывала. Масса более взрослых мальчишек (все одетые в матросские рубахи) с утра до ночи взбегали здесь по лесенкам и проделывали, под наблюдением двух всегда при Сетке дежуривших матросов, всякие акробатические номера. Мы же, малыши и карапузы, мальчики и девочки, довольствовались тем, что топтались по сетке, куда мамаши, няньки, гувернантки или те же дежурные матросы нас подсаживали. До сих пор я помню то насладительное ощущение, которое испытываешь, топчась по зыбкой, поддающейся и снова вздымающейся под ногами дырявой поверхности. Наслаждение это было столь острым, что когда наступал момент идти домой, то раздавался рев. Плакали все мои сверстники, но громче всех плакал я.
Отчетливо запомнились мне и работы папочки над постройкой театра в Павловске. Покаюсь, мне не нравилось это здание, сочиненное им в каком-то, как в те годы требовалось, псевдорусском стиле. Театр, несмотря на свои четыре яруса, казался снаружи не в меру расползшимся и приземистым, а фасады его состояли из одних галерей на столбиках. Эти галереи обслуживали снаружи ложи и коридоры. Столбики соединялись посредством аркатур из прорезанных орнаментов, и это придавало зданию какой-то беспокойный и уж очень несерьезный вид. Неудачно был выбран и цвет, в который театр окрасили, — темно-коричневый, скучный, плохо вязавшийся с зеленью парка. Впрочем, в своем окончательном виде театр предстал только в самом конце нашего пребывания, в тот день, когда я был доставлен на вокзал, чтобы на поезде вернуться в Петербург; во время же производства работ мне очень нравилось бывать на постройке, всюду сопровождая папу, лазая с ним по мосткам, взбираясь по сквозным ступенькам и доскам под самое небо. Над сценой на портале папа поместил (по примеру Мариинского театра) большущие часы, но самый механизм их не поспел ко дню открытия театра, и циферблат на первых порах был заменен вставленным в его рамку изображением колоссальной головы Аполлона. Эту голову я помогал делать папе, когда он (больше для собственной забавы) вздумал ее написать сам. И как чудесно, по всем правилам школы Давида и Шебуева, он это исполнил! Лист аршинной бумаги был положен на полу в гостиной нашей дачи и разграфлен бледными квадратиками, на которые и наносился абрис, согласно с предварительным эскизом. Мне была затем поручена (из чистого баловства) раскраска желтым гуммигутом лучей, шедших от головы бога, что я, с чрезвычайной аккуратностью и удачно исполнил. Какова же была моя гордость, когда я увидал на месте вставленного нашего Аполлона! Каким он мне показался прекрасным и грандиозным.
Папин театр вырос в нескольких шагах от вокзала. Курьезно то, что это слово «вокзал», которое для русского уха отождествляется с понятием о станции железной дороги, было впервые употреблено в России именно в применении к этой конечной станции первого в России железнодорожного пути, соединявшего столицу с Царским Селом и Павловском! Тогда же, в 30-х годах, при станции была устроена концертная эстрада и большой ресторан, и этому увеселительному ансамблю и было, в подражание лондонскому, всемирно когда-то известному Vaux-Hall, присвоено название вокзала. Постепенно такое наименование стало затем означать любую, несколько значительную станцию.
Вокзал являлся для постоянных (взрослых) обитателей Павловска главным сборным пунктом, своего рода клубом на открытом воздухе. Сюда же по вечерам, отчасти для слушания музыки, а более для того, чтобы хорошо покушать в славившемся вокзальном ресторане, приезжала масса петербуржцев, которые самим Павловском и его буколической красотой не интересовались вовсе. Была впоследствии и у меня полоса, когда я сделался завсегдатаем павловских концертов, перебравшихся к тому времени в специально для того построенное закрытое помещение. Но это мое увлечение павловским вокзалом относится к иной эпохе, к моим студенческим годам, тогда как в детские годы вокзал и его округа были для меня местом скорее ненавистным. Трудно себе представить ту скуку, которую я испытывал, когда бонне удавалось меня затащить туда, и я был вынужден топтаться на солнцепеке по пыльному песку дорожек или смирно сидеть на скамейке, тем временем как Лина предавалась болтовне с какой-либо знакомой бонной или гувернанткой. Мы и в Петербурге иногда совершали подобные посещения увеселительного сада, что находился при доме Демидовых, но там, на открытой сцене, я мог по крайней мере смотреть, как клоуны или акробаты готовили свои номера. А здесь, в Павловске, среди дня приходилось слушать настраивание инструментов или же репетицию непонятной, трудно усваиваемой и беспрестанно прерывавшейся дирижером симфонической музыки. Это было убийственно скучно!
Но вот, придя однажды с Линой на вокзальную площадку, где не было и намека на тень и где вместо кустов сирени чахли в зеленых бочках тропические растения вокруг никогда не бившего фонтана, мы застали здесь несравненно больше народа, нежели обыкновенно бывало днем, да и публика была совсем особенная, нарядная. Щеголихи шуршали шелками своих шлейфов и защищались от солнца крошечными пестрыми зонтичками, а кавалеры вскидывали в глаза монокли. Немало было и военных в белоснежных кителях. А на эстраде — там, где в другие дни я видел махающего палочкой бородатого Главача, — теперь стоял затянутый, вытянувшийся в струнку, заморского вида затейливо причесанный господин. Он то широким взмахом правой, то успокаивающим жестом обеих рук, заставлял музыкантов играть как раз те вальсы, от которых тогда в дикий восторг приходили «большие» и под которые на балах кавалеры до обморока кружили своих дам. Этот стройный господин был среди дня во фраке (фрак в ту эпоху вообще надевался по всякому поводу и даже утром — для визитов), а его хорошенькое личико было украшено бравыми усами и обрамлено бачками.
То был сам Иоганн Штраус. Божество всей Европы (об Америке тогда меньше думали), диктатор придворных и светских балов, покоритель мириада дамских и девичьих сердец. Тут в это летнее утро выдался случай поглядеть на него и послушать его во время репетиции на даровщинку (за вход на вокзал ничего не взималось), да еще и без тесноты и давки, которая получалась вечером, когда «на Штрауса» ожидались экстренные, битком набитые поезда. Но какое было мне тогда дело до Штрауса? Разве только, что я смог затем похвастать, что собственными глазами видел этого знаменитого человека, портреты которого были даже мне известны. Знаменитые же его вальсы я тогда терпеть не мог, и это было даже первое во мне определенное выражение какой-то музыкальной идиосинкразии. Хотя я еще самого слова «пошлость» не знал, однако пошлость я ощущал очень остро, и мне именно пошловатый дух этой музыки был не по нутру. Позже я изменил свое отношение к автору «Голубого Дуная» так же, как я изменил и отношение к авторам «Дочери мадам Анго» и «Прекрасной Елены». Я достаточно для того «развратился». Но пока я еще был «неиспорчен», я эту, типичную для своего времени, музыку терпеть не мог: она даже вызывала во мне странное чувство, похожее на тошноту. Видно, я уже тогда «не шел с веком». Мне, например, ненавистны были такие причуды моды, особенно мужской, как прическа a la Capoule, растопыренные у шеи воротнички, плоские круглые шляпы и штаны книзу раструбом; в дамском наряде мне ужасно не нравились высоко взбитые на спине массы материи, кружев и лент и низко свисавшие на спину шиньоны.
Наше павловское лето 1875 года кончилось для меня довольно печально. Заразившись от детей дворника, я заболел скарлатиной. И нужно же было так случиться, что болезнь обнаружилась как раз накануне того дня, когда дядя Чарльз Хис пригласил меня к себе на дачу (стоило дорогу перейти, чтобы оказаться у него) принять участие в играх его высочайших воспитанников, любивших приезжать к нему и играть в его саду в солдаты! Для того даже была устроена палатка-землянка, а при палатке стояла настоящая полосатая будка со столбом для колокола.
Первые дни болезни я лежал в сильном жару и в довольно приятном полузабытье, но временами меня вдруг схватывало желание выскочить и пройти в соседние комнаты. Чтобы удержать меня под одеялом, мне сулили новые картинки, новые игрушки, и тогда мое возбуждение сменялось ожиданием этих подарков. Под вечер я мучительно вслушивался в шумы, окружавшие дачу, стараясь уловить стук колес извозчика, на котором возвращался с вокзала папочка. Вот я слышу, как хлопнула калитка, по ступенькам крыльца подымаются папины знакомые шаги, он уже в дверях и обращается ко мне с обычными ласкательными словами на своем, специально для излияния чувств созданном, тарабарском наречии. Меня, однако, вид его самого не трогает, а я стараюсь разглядеть, что у него в руках. Чаще это приводило к разочарованию, — у папы, кроме портфеля, ничего не оказывалось, но в особо счастливые дни в ответ на мои плаксивые требования папины руки протягивали пакет с теми или иными «сюрпризами» (это было у нас традиционное слово для обозначения подарков), и тогда всякое ощущение болезни исчезало, хотя, вероятно, от волнения температура повышалась в значительной степени.
О самом течении болезни я почти ничего не помню. Не помню я о каких-либо определенных страданиях, в памяти осталось только то, как меня то и дело перекладывают из моей кроватки на большую, родительскую кровать и обратно. Это перекладывание вызывалось необходимостью менять намокавшее от обильного пота белье. Мамочка при этом утешала себя, что «потом вся болезнь выйдет». Лучше я себя помню в периоде медленного поправленья, сидящим на просторе двуспального родительского ложа, окруженным игрушками и книжками. На колени мне положен большой картон, и я на нем расставляю только что полученные оловянные фигурки — охоты. Среди ажурных деревьев несутся олени, зеленые охотники стреляют в них из ружей, на конечности коих был представлен выстрел — дым и пламя, другие на конях гонятся за зайцами и кабанами. А то я разглядываю только что привезенные листы «Munchener Bilderbogen» — препотешные истории про влезающих в дом воров, про пуделя Каро, который находит серебряный талер в брюках странствующего мастерового, или про атлета, который проваливается через пол прямо на нижних жильцов. Вечером меня окончательно укладывали к себе в кроватку красного дерева, плотно-плотно запихивалось одеяло, и я лежал, как запеленутый. Но тут начиналась пытка бессонницы. Из соседней столовой проникал мягкий свет лампы, по крыше барабанил дождь, с улицы доносилась знакомая, уже не тревожившая меня стукотня ночного сторожа.
В этот же период болезни произошло обещанное с начала лета семейное событие. У Кати родился маленький Женя, и до меня стал доноситься его слабый захлебывающийся крик. Как я рассердился на Лину за то, что она меня не разбудила, когда прилетел ангел с ребеночком. Таким образом остался неразрешенным для меня вопрос, был ли то действительно ангел и как он выглядел? Катю я увидал через несколько дней, когда ее под руки провели мимо меня в гостиную. Она была в сером, никогда мной раньше не виданном халате, а за локоть ее поддерживала Софья Яковлевна — дама, иногда появлявшаяся на нашем горизонте и принадлежавшая к нашим интимным домочадцам. Степанида, странно подмигивая, говорила в таких случаях — «это она и вас принесла», что, разумеется, меня возмущало, так как я не сомневался, что меня-то уже наверное принес самый распрекрасный ангел. И, подумаешь, та же Софья Яковлевна двадцать лет спустя стояла у постели моей жены, и это она «принесла» тогда нашу старшую дочь. А сколько отпрысков семьи Бенуа она успела еще принести между этими двумя событиями!
К концу болезни мне чуть было не произвели «операцию» — какое ужасно-страшное слово. У меня образовался огромный нарыв за левым ухом, и лечивший меня в Павловске доктор Павлинов настаивал на том, чтобы эту шишку взрезать. Мамочка же была врагом всякого хирургического вмешательства, сопротивлялась и откладывала операцию. Все же день ее был назначен, и в положенный час доктор явился со своими инструментами. Но тут меня спасла хитрость, о которой я всегда вспоминаю не без известной гордости, вроде той, с которой какой-либо очень лукавый дипломат должен вспоминать об особо удачном политическом ходе. Услыхав, как подъехала докторская пролетка, я повернулся на бок, закрыл глаза и изобразил человека, заснувшего непробудным сном. Павлинов пробовал меня разбудить сначала словами, потом трясением и дерганьем, но я продолжал «спать». Тогда доктор попробовал прибегнуть к хитрости: «Посмотри, Шуренька, какую я тебе привез штуку, какой барабан, каких солдатиков». При этих словах моя комедия сделалась мучительной. Мне ужасно захотелось взглянуть на столь замечательные вещи, но страх перед операцией превозмогал, я глаз не открывал и даже попробовал захрапеть. Наконец, мамочка произнесла прекрасные слова: «Оставьте его, доктор. Он так сладко спит, ему сон всего полезнее — он всю ночь не спал. Отложим операцию до завтра». И доктор сдался, забрал свои пожитки и покатил дальше.
И только тогда, когда и последний стук колес замер, я открыл глаза и сразу же закричал: «Где барабан, где солдатики?» Разумеется, ничего этого не было, да я и сам понимал, что доктор меня обманывал. На ночь же мама поставила на шишку припарку из винной ягоды, и к утру опухоль прорвалась, причем вытекло невероятное количество какой-то дряни. Приехал Павлинов, а я уже сижу, обложенный подушками, с повязкой вокруг шеи, веселый и радостный, ибо всякие терзания кончились, и я отлично знал, что теперь меня резать не будут. При этом мне было ужасно смешно, что я этого бородатого, большущего господина в форме с золотыми эполетами так провел. Было забавно увидать его сконфуженный вид и услыхать в тоне мамы какое-то торжество. Ведь вышло, что права была она, точнее, — мы оба.
Через два дня я уже был поднят, и на меня надет халатик, а еще через день мне позволено было пройти в гостиную. Но при первой попытке ступить на пол я чуть было не грохнулся; к счастью, мама и Лина удержали. И потом некоторое время я не мог иначе передвигаться, как держась за стулья и столы. Это было смешно. Но вовсе не смешно было целыми днями сидеть в полутемной дачной гостиной. Несмотря на пылавшую круглый день печь, в комнате чувствовалась сырость, а на дворе лил непрестанный дождь, от которого до того размыло дорогу, что редкие извозчики, которых я отчетливо теперь видел из-за совершенно оголившихся кустов сада, колыхались по ней, точно лодки по волнам. Через последнюю желтую листву открывались какие-то далекие постройки и заборы, о существовании которых я раньше и не, подозревал. Окна опустевшей дачи дяди Хиса стояли закрытыми, а от палатки для царских детей и след простыл. Часы тянулись тягучие, все новые игрушки успели надоесть, картинки изучены до последних подробностей, а от лакомств, от любимого гоголь-моголя тошнило, — уже слишком меня им пичкали. Хуже всего было то, что мама теперь реже сидела со мной — она проводила целые дни с новорожденным внуком. У меня даже отняли мою Лину — ее уступили Кате, после того как нанятая к ребенку нянька оказалась неподходящей. Поэтому-то я был счастлив, когда настал день отъезда, и с Павловском я простился без всякого сожаления.
Вот я уже в вагоне, вот замелькали ели парка, а среди них белый павильон Музыкального зала; потянулись поля, огороды, промелькнули станции Царского Села и Средней Рогатки, справа проплыла роща со многими надгробиями (там были похоронены жертвы первой в России железнодорожной катастрофы), слева, при замедленном ходе, появилась эффектная Егерская церковь. Мы снова в Петербурге. При выходе с вокзала в толкотне меня чуть было не потеряли, но снова нашли и посадили в карету. У самого нашего дома меня ожидало огорчение. Вместо любимого мной старого Никольского сада с его вековыми деревьями я увидал нечто, показавшееся мне жалким и общипанным, — то был только что разведенный по всем правилам городского садоводства новый сквер, кустики которого едва подымались из-под земли. Исчезла со стороны нашего дома и старинная ограда Никольского сада с ее массивными столбами и зелеными решетками. Вместо нее садик окружала жидкая низенькая металлическая сетка. Я так обиделся на эту метаморфозу, что сначала отказывался посещать новый сад. Единственно, что меня в нем манило, были два фонтанчика с чугунными амурами посреди и с такими же клевавшими воду лягушками по краю водоема.
ГЛАВА 9 Снова в Петергофе
На лето 1876 года мои родители снова поселились в Петергофе, но на сей раз папа не получил казенной дачи (я уже упомянул, что он отказался от своей петергофской службы), и пришлось довольствоваться наемной. Нанятая большая дача стояла на участке, принадлежавшем госпоже Бабушкиной, и выходило, что мы живем на «бабушкиной даче», что, однако, не означало, что эта дача принадлежала нашей бабушке. На эту тему все по-всякому острили, и я не меньше других, ведь теперь я стал совсем большой — мне минуло в апреле шесть лет, и хотя я еще не умел ни читать, ни писать, но на окружающее я смотрел более сознательными глазами и имел даже о многом свое суждение.
Находилась Бабушкина дача не очень далеко от кавалерских домов и все же в совершенно иной местности. Через дорогу от нас расстилался обширный луг, служивший для упражнений кадетов, а сами кадеты в своих холщовых светлых кителях с красными погонами населяли ряд одноэтажных белых домиков с красными крышами, расположенных в два или в три ряда в глубине этого поля. Было очень интересно наблюдать, как эти маленькие солдаты стройными рядами выходили на учение, как они производили разные эволюции и как они упражнялись на трапециях и турникетах. Однажды какие-то знакомые кадетики затащили меня, с разрешения воспитателя, в свою беседку. Пришлось, несмотря на протесты, угощаться теплой, почти размокшей плиткой шоколада, вытащенной из брюк самого гостеприимного из мальчиков. Зато меня пленил расписанный красками столик, стоявший посреди беседки. На его темно-зеленом фоне «до полного обмана» были изображены коробка спичек, три папиросы, игральные карты и две накрест положенные спички, точно кто-то здесь все это оставил. Автор оказался тут же — это был маленький краснощекий кадетик, так и расплывшийся от счастья, что его произведение заслужило восторженное внимание гостя. И кто знает, быть может, этот же кадетик, ставший с тех пор доблестным генералом, прочтет мои строки, вспомнит и тот ясный солнечный день, когда он с товарищами пригласили чужого мальчика с соседней дачи.
До Нижнего сада от Бабушкиной дачи было довольно далеко, зато до Верхнего сада, который разбит у самого Большого дворца, рукой подать, и входили мы в него не через дворец, как это было принято, а через монументальные ворота, выходившие на большую шоссейную дорогу. Высокие каменные столбы этих ворот были украшены любимыми растреллиевскими шныркулями со львиными головами и были выкрашены в «казенные краски»: ярко-оранжевую и белую. Неподалеку от ворот, справа и слева от средней аллеи стояли широко расползшиеся круглые беседки со скамьями вокруг, а затем, минуя злого Нептуна и чудесно пахнущие сиреневые кусты, можно было в тени вековых лип с громадными наростами на стволах дойти до цветника, расположенного под самыми окнами Большого дворца. Но не цветы тянули ценя туда. Там ежедневно производилась смена дворцового караула, и это представляло для меня захватывающий интерес. Из гауптвахты дворца выбегала и выстраивалась одна партия солдатиков, а другая подходила откуда-то издалека; слышались отрывистые приказы, играла музыка, опять приказы, и те солдатики, что вышли из дворца, уходили, а те, что пришли, сложив ружья, располагались внутри гауптвахты. Один только выделенный из прибывшего отряда солдат с ружьем на плече оставался снаружи и безостановочно шагал взад и вперед по дощатой площадке. Недоступность этой площадки служила символом военной дисциплины и неприкосновенности.
Я знал, что на эту площадку ни в каком случае нельзя ступить. Это было вроде «чурного места», куда, забежав во время игры в пятнашки, можно было оказаться в недосягаемости. Но тут было нечто и совсем другое. Меня предупредили, что если бы все же на это чурное место кто-либо дерзнул вступить, то часовой должен такого человека зарубить или застрелить! И вот какой-то бес толкал меня отважиться на проделку, связанную с таким риском. Я заставлял няню (после ухода Лины у меня снова была русская няня) подойти к самому краю площадки, и я уже заносил ногу, как бы собираясь на нее вступить. Часовой настораживался, делал строгое лицо, я отходил, принимался разглядывать солнечные часы, стоявшие тут же, а через минуту, невзирая на мольбы няни, та же дурацкая игра повторялась, и это до тех пор, пока солдат не буркнет что-либо или даже не пригрозит, что вот он меня сейчас отдаст придворному арапу, и как раз черномазый, одетый в роскошное платье негр, стоя в дверях дворца, скалил белые зубы, имея обыкновение беседовать здесь с ливрейными лакеями.
До сих пор я как будто не говорил о главнейшей достопримечательности Петергофа, о Монплезире. Между тем, я тогда уже, когда был еще совсем маленьким мальчуганом, питал особую нежность к этому месту с его низкими, под кирпич раскрашенными домиками, спрятанными в тени самим Петром посаженных лип. В среднем и главном из этих домиков, покрытых высокой, в малиновый цвет выкрашенной крышей, и живал когда-то сам Петр Великий. Это говорили мне с благоговением старшие, и я, прикладывая глаза к старинным, доходившим до земли окнам, смутно различал через толстые, чуть корявые стекла то, что было внутри: черные и белые шашки пола и какие-то длинные коридоры с расписными потолками, увешанные по темным дубовым стенам картинами. Особенно мне нравилась очаровательная комнатка, вся уставленная по золотым консолям белыми и синими вазочками. Если я долго так глядел в этот зачарованный мир, то чудилось, что сейчас распахнутся двери и из одной комнаты в другую пройдет своей саженной походкой по каменному полу большущий царь и грозно взглянет на меня. Через одно из окон бокового флигеля видна была еще обширная, почти пустая зала («ассамблейная»), уставленная по стенам рядом стульев, похожих на те, что стояли у папы в кабинете. Эти стулья точно всегда ожидали прибытия многолюдного собрания, но унылая эта зала с ее ткаными шпалерами, на которых были изображены темнокожие люди с перьями на головах, крокодилы, носороги и «бешеные» лошади, не располагала к веселью.
Но к Монплезиру меня манила не одна старина. У самого дворца и у самого моря находилась знаменитая Мраморная площадка, пол которой был устлан беломраморными плитами. Вдоль окаймляющей ее белой же балюстрады с толстенными круглыми столбами были расставлены зеленые садовые скамейки. Сидя на них, полагалось любоваться видом на Финский залив и особенно теми натуральными фейерверками, которые божественные пиротехники устраивают вечерами по западному небосклону. Это место было особенно облюбовано всевозможными гувернантками. «So beautiful» (так красиво), — вздыхали, вступая на ее плиты, англичанки; «c’est ravissant» (восхитительно), — утверждали француженки; «wunderschön» (великолепно), — лепетали немочки. Почему-то у меня осталось такое (довольно ложное) воспоминание, что на площадке Монплезира, кроме кисейных барышень и вот этих мисс, мадемуазелей и фрейлейн, никого не бывало. Обычай требовал чинно прийти, восторженно воскликнуть, усесться и молча взирать на эту «признанную красоту» — вроде того, как, скажем, посетители Дрезденской галереи в немом упоении млеют перед «Сикстинской Мадонной».
Что касается меня, то я был не особенно чувствителен к виду, открывавшемуся с мраморной площадки, зато мне нравилось ощущать под ногами гладкий мрамор плит и тот невысокий мраморный порог, через который надлежало переступить, чтобы попасть на них. Дети вообще чувствительны ко всяким «аппетитностям» — будь то глазурь какой-либо вазы или шелковистый ворс кота или полированное дерево. Тут же рядом можно было ощущать и другую аппетитность, ибо терраса вокруг миниатюрного дворца была выложена, на голландский манер, кирпичами ребром вверх. Кирпичи образовывали геометрические узоры. Приятно было попасть с песка дорожек на чуть взъерошенную поверхность кирпичной кладки, а с нее, переступив порог, — на гладкий мрамор, ощущение же этого благородного камня под ногами производило во мне сразу перестановку на торжественный лад. Я исполнялся какого-то театрального величия, мне казалось, что я принц, что я повелитель вселенной. Этому способствовала торжественная сень петровских лип, протягивающих свои могучие ветви над площадкой, и плеск морского прибоя о груды камней, которые ее подпирали. А в каком чарующем претворении доносилась сюда музыка придворного оркестра, игравшая под открытым небом, тут же за Монплезиром — у Царской купальни…
Для слушанья этой музыки съезжалась и сходилась публика со всего Петергофа. Но я не был в те времена больший охотником до этих концертов, особенно если в прохладные и очень сырые вечера надлежало при этом смирно сидеть под пледом в ландо и не мешать старшим слушать. Я не очень верил, что и старшие действительно наслаждаются. Бывало, только начнешь вслушиваться во что-то знакомое оперное или задорное, а тут как раз кузина Соня или бабушка и даст распоряжение кучеру, чтобы он выехал из ряда экипажей и проехался по аллеям. Вернувшись же после «тура» к «музыке», мы оказывались в ряду экипажей последними, и оттуда было уже плохо слышно. Бывало и так, что коляске позади нашей надоест стоять и топот ее лошадей врежется в самый насладительный момент. Иногда мне удавалось освободиться от опеки наслаждающихся старших, меня отпускали с кем-нибудь из кузин на землю, и с этой минуты — какая радость! — можно было пользоваться всем простором этого концертного зала под открытым небом для своих ребяческих развлечений, — велено только было не слишком удаляться и вернуться по первому зову.
И сама музыка с этого момента освобождения от обязательного сидения в коляске превращалась в чудесный аккомпанемент нашим играм. Всегда я тут встречал знакомых детей, и с ними затеивались горелки, прятки, пятнашки и чудная игра в палочку-веревочку, а при преобладании мальчиков и более бурная — в «казаков-разбой ников». Сколько тут было мест для пряток! Прикорнешь с какой-нибудь расфуфыренной и надушенной Лидочкой за стеклянным птичником и чувствуешь особое наслаждение, если какой-нибудь Павлуша или Саша никак не может тебя найти. А то начнешь в высокой и густой траве, несмотря на запрет, ловить лягушек, очень ценивших эту местность, всю изрезанную стремительно мчавшимися к морю ручейками. Теперь я бы, пожалуй, побрезгал взять лягушку в руки, тогда же мне доставляло особое удовольствие держать скользкую, дрыгающую, неистово пульсирующую тварь и пугать ею кузин или какую-нибудь другую случайную участницу в играх.
Мне скажут, что для таких глупых забав можно было найти более подходящие места, нежели петергофскую «музыку», — однако именно на той музыке они получали особую приятность — ведь вся атмосфера музыки была какой-то приподнятой, праздничной. Журчащая под мостиками вода и шелест листвы удивительно сливались со звуками оркестра. Особенно действовало и благочестивое молчание рассевшейся по скамьям публики, пришедшей наслаждаться тем, что для нее приготовил ее любимец, дирижер придворного оркестра Гуго Варлих. Действовала также вся декорация — эти своеобразные здания вокруг, голландский поселок Монплезира, рядом с которым стояли более внушительные дворцовые постройки елизаветинской эпохи, выкрашенные в желтый и белый цвет (в нем угощали раз в лето приезжавших в Петергоф институток-смолянок). Очень я любил и помянутую пузатую беседку, когда-то при Петре служившую птичником. Ее застекленные двери не распахивались, а подымались, а непомерно тяжелый зеленый купол, которым она была увенчана, придавал ей сходство с дамой в широком роброне. Тут же, по другую сторону, стояла царская купальня с аркадами и нишами и с вазами в них. Живопись, изображавшая пейзажи, как бы видимые через эти аркады, сильно от времени поблекла, но это только прибавляло поэтичности этой затее времен Екатерины II. В те времена резвившийся шестилетний Шуренька Бенуа редко вслушивался в то, что играли то духовой полковой оркестр, то тот самый струнный, который услаждал слух высочайших особ на придворных балах, но Шуреньку насыщенная музыкой атмосфера окружала, и он все же по-музыкальному блаженствовал в ней так, как никогда, пожалуй, во всю свою жизнь затем не блаженствовал…
Были еще два павильона в Нижнем саду, к которым меня тянуло и куда я заставлял во время воскресных прогулок с папой заглядывать, — то были Марли и Эрмитаж. В Марли самое интересное было не самый этот белый домик с его опрятными комнатками, а золотые рыбки в пруду, у которого он стоял. Забавно было глядеть, как сотни этих рыбок устремляются на крошки хлеба, бросаемые старым-старым дворцовым лакеем. Чтобы привлечь к берегу рыбок, он звонил в колокольчик, и тотчас же массы сверкающих золотом обжор являлись и расхватывали хлеб. В Эрмитаже мне нравилось, что этот кубический домик, простой, но прелестной архитектуры был, как крепость, окружен рвом, выложенным кирпичами и плитами. Чтобы попасть в Эрмитаж, требовалось пройти через этот ров по перекидному мостику. Меня интересовали и картины, которыми были сплошь убраны стены верхнего зала, — с Полтавской баталией среди них; но верх удовольствия я испытывал, когда сторож демонстрировал механизм, посредством которого во время обедов блюда за круглым столом Эрмитажа могли опускаться и подыматься без помощи видимой прислуги. Кухня помещалась в нижнем этаже, и там дежурные слуги, не допускавшиеся в верхний зал, принимали спускавшиеся грязные тарелки и ставили на подъемные подносы чистые с новой переменой.
Первое, но очень ясное и, я бы сказал, «фамильярное» представление о Петре Великом я именно получил при посещении этого игрушечного, на самом берегу стоявшего дворца с его шуточным столом. И разумеется, ничего предосудительного и смешного я не усматривал в том, что вот царь у себя устроил такую потеху. Напротив, этот ребяческий кунстштюк приближал его грандиозный образ до моего понимания, вызывая к себе одновременно и то особое почтение, которое я питал ко всяким кудесникам и фокусникам. Петр Великий, угощающий своих царедворцев в этом квадратном стеклянном зале, из которого виднелся широкий простор моря, за этим круглым волшебным столом, блюда и тарелки которого сами отправлялись за едой, представлялся мне не иначе, как неким магом. Я еще ровно ничего не знал о том, о чем читали и спорили «большие», а уже был полон благоговейного восторга перед этим веселым великаном, про которого мне рассказывали, что он был выше и сильнее всех, а широкое плоское лицо которого, с его вздернутыми и подбритыми усами, мне бесконечно нравилось.
К тому же 1876 году относится и мое первое отчетливое воспоминание о пикниках. Они предпринимались всей нашей семьей, иногда с участием и других знакомых семей. Самой характерной для Петергофа и самой обыкновенной целью таких пикниковых экспедиций были Бабигоны.
Откуда взялось это название, кажется, не выяснено. Возможно, что тут произошло такое же искажение какого-либо финского слова, как то, что привело к образованию пышно-великолепного названия Царское Село из скромного финского Зариц. Во всяком случае, слово «Бабигоны» могло способствовать образованию известной игры слов, а уже от этой игры слов образовался и обычай производить на Бабигонских высотах «бабьи гонки». Впрочем, приезжавшие сюда в колясках и ландо гоняли не столько взрослых баб, сколько девчонок и мальчишек.
Ехали туда целым караваном и непременно с прислугой, с самоваром и с огромными корзинами. В одной из этих корзин были сложены угощения и вина, в другой — призы для гоняющихся: пестрые шелковые ленты, платочки, бусы, купоны ситца, а также гостинцы на особый деревенский вкус: пряники, леденцы-монпансье, стручки, орехи. Благодаря этим гостинцам лето для бабигонской детворы проходило в непрерывном лакомстве, и, пожалуй, здесь легче было найти ребенка окончательно пресыщенного сластями, нежели в городе.
Конечной целью бабигонского пикника была самая деревня, расположенная по гребню довольно высокого холма, в нескольких верстах на юг от Петергофа. Но и путь до Бабигон представлял (особенно для меня и моих сверстников) большой интерес, так как он был украшен всевозможными достопримечательностями. Сначала надо было ехать длинной Самсониевской аллеей, посреди которой в канале лежали фонтанные трубы (это был тот самый канал, куда свалился шарабан дяди Митрофана, причем чуть не погиб кузен Женя Кавос). На половине своего протяжения аллея прерывалась железнодорожным полотном, и тут, если шлагбаум был опущен, надлежало ждать прохода поезда. Упиралась же Самсониевская аллея в павильон Озерки, похожий на тот, который украшал Царицын остров. Оба мне представлялись верхом роскоши, а позже эти здания, типичные для немецкой архитектуры середины XIX века (их строил любимый архитектор Николая I — Штакеншнейдер), казались мне точным воспроизведением древнеримских вилл. Традиция требовала остановиться у Озерков. Все, кроме бабушки и других пожилых дам, вылезали из экипажей и шли смотреть мраморную спящую даму. Стояла эта прекрасная скульптура под увитой плющом перголой, жерди которой поддерживались столбами из серого гранита с головами бога Морфея: для того же, чтобы увидать самое спящую красавицу, надо было дать на чай дворцовому лакею, и тогда он подымал подвешенный на блоке, целомудренно скрывавший наготу дамы кубический холщовый колпак. С этой же перголы открывался прелестный вид на небольшой пруд. На его водах, у самого дворцового сада, лет двадцать до моего рождения государь Николай Павлович угостил своих гостей незабвенным спектаклем балета «Наяда и рыбак», в котором блистала Черрито и декорацией которого служил весь окружающий, освещенный луной и фонариками, пейзаж.
Продолжая путь в Бабигоны, после Озерков покидаешь парковую тень и выезжаешь на деревенский простор. Правда, и здесь деревья были рассажены группами и казались прибранными и причесанными. Тут вскоре на одном из поворотов за речкой (или рукавом пруда) открывалась Руина — искусственные развалины, составленные из мраморов старого собора св. Исаакия, начавшего строиться при Екатерине II и затем оставленного. Вероятно потому, что эта петергофская руина была первой, которую я видел в жизни, ничто (не исключая, пожалуй, и римского форума) меня так не волновало своей заброшенностью и не производило впечатления такой печальной оставленности, как именно эти розовые колонны, торчащие из-за чахлых северных кустарников среди недоступного, окруженного водой островка.
После Руины начинался подъем к первому из холмов, оцепляющих с юга петергофскую долину. И здесь, на полу-склоне, стоял прямо в поле большущий двуглавый черный бронзовый орел, протягивающий свои свирепые клювы в разные стороны и впивающийся когтями в гранитную глыбу. Эта черная царственная птица представлялась мне тем огромнее и чудовищнее, что неподалеку от нее стоял домик сторожа с садиком, и они казались в сравнении с орлом крошечными. В последующие времена, в разгар моего романа с Атей Кинд мы очень любили заходить к Орлу, пить молоко или хлебать простоквашу, закусывая краюхой черного хлеба (это всегда можно было найти за несколько копеек у милого сторожа-инвалида), но уже прежнего трепета я не испытывал. Орел мне казался сократившимся, съежившимся, обезвреженным — так что я не пожалел особенно, когда в середине 90-х годов его сняли с Бабигонских высот и перевезли в Петербург, чтобы поставить, в ознаменование ряда побед, перед полковой церковью стрелков на Кирочной улице.
Первый из трех бабигонских холмов украшен дворцом Бельведер, высоко подымающимся своей колоннадой из синеватого мрамора над всей местностью. И тут пикниковая традиция требовала остановки, и снова все, кроме старушек, разбредались по террасам сада, в котором стояли совсем такие же бронзовые кони, как те, что украшают Аничков мост. А сверху, с балкона Бельведера, открывался на все стороны прославленный и действительно изумительный вид — вовсе не какой-либо унылый финский пейзаж, а самый подлинный российский с нежными тенями облаков, скользящими по мягко-волнистым полям, с разноцветными золотистыми нивами, зелеными лугами и темными лесами. В сторону Петергофа из-за деревьев торчала готическая башня «папиного» вокзала и сверкали купола Большого дворца, а вдали за горизонтом яркой звездой в лиловатой дымке сиял купол Исаакия. Российский характер всего этого ладного, мягкого, чуть дремотного простора подчеркивался церковью в русском стиле, возвышавшейся на соседнем холме, а подальше силуэтом двухэтажной избы Никольского домика.
Подъехав к этому домику, построенному в исполнение фантазии Николая Павловича немецким архитектором и в стиле русской избы, мы должны были расположиться станом, выгрузить из колясок корзины, поручить самовар старичку с деревянной ногой и с бакенбардами, который охранял этот маленький дворец, и выискать по скату холма место поуютнее. Пока кучера распрягали лошадей (эта операция придавала экскурсии особенный характер цыганского кочевья), дети устремлялись к еще не сжатым полям собирать васильки и маки, а молодые люди шли в деревню кликать клич, чтобы набрать побольше девушек и девчонок для беговых ристалищ. Если пикник приходился в пору сенокоса или жатвы, то деревня оказывалась точно вымершей; по пустым дворам и избам можно было разгуливать, как по сельскохозяйственной выставке и лишь изредка можно было встретить там древних приветливых стариков. Но деревенские дети, заметившие прибытие колясок, сами уже начинали собираться вблизи от нашего стана и с конфузливым хихиканьем, прячась друг за друга, робко к нам подходить. Постепенно эта масса, как хор в опере, образовывала вокруг нас плотную стену.
В сущности, барская забава эта была не слишком отменного вкуса. Мне сейчас кажется странным, что в таком «осознавшем человеческое достоинство» обществе, каким представлялась русская интеллигенция 70-х и 80-х годов, могли еще доживать подобные «крепостнические замашки». Но в те дни мое личное сознание, во всяком случае, не было на высоте гражданских требований, и моя радость от гоняния баб не омрачалась какими-либо хмурыми движениями общественной совести. Да и не было намека какого-либо благородного возмущения в тех, кого мы приглашали (а не заставляли) нам на потеху побегать…
И какой же получался азарт. Какую можно было наблюдать мимику зависти, обиды или победоносного торжества. Как блестели глаза, в какие широчайшие улыбки осклаблялись рты. Сколько было крику, сколько ссор и сколько самого бурного веселья. И как это все было красиво. Какая подлинная сцена из «русского балета» получалась, когда после бегов девушки образовывали хороводы и, надев новые, заработанные яркие платочки, ленты и бусы, кружились по лугу, распевая плясовые песни. Все это на фоне Никольского домика и Николаевской церкви носило несколько неправдоподобный, театральный оттенок, но лазурь неба была подлинная — наша северная прозрачная лазурь; вокруг стояли все же подлинные, обслуживающие действительные крестьянские нужды строения, а совсем рядом золотилась пшеница, посеянная настоящими мужиками и бабами, а вовсе не оперными пейзанами. Эти самые мужички и бабы к концу праздника с граблями и косами возвращались, распевая песни, с полей и окружали нашу группу веселой толпой…
И как представишь себе все эти картины, покажется, что вся эта поездка в Бабигоны и поэтичнейшее возвращение оттуда, да и все эти гонки, что все это происходило не далее, как вчера, а вовсе не более полустолетия тому назад. Существуют ли еще нынче Бабигоны? Не превратились ли они, под заботами социального огосударствления и под влиянием просвещенных идей — в подобие Аракчеевского поселения? Уже туда не ездят больше какие-либо «помещики» и «буржуи», чтобы «гонять баб». Едва ли и бабы с девушками водят хороводы. Скорее какой-либо агитатор собирает товарищей, чтобы лишний раз попытаться вселить в них омерзение к постыдному сверженному режиму и научить слушателей политграмоте. Да, пожалуй, теперь никто не помнит, что происходило в те давнишние дни, когда правили «обагренные народной кровью монархи»… А кто я сам? Куда девались мои светлые кудри, моя гибкость, мое проворство? Осталось от прежнего одно только неутолимое любопытство и вот эта страсть запечатлевать вещи, достойные, с моей точки зрения, запечатления. К ним, в чрезвычайной степени, и принадлежат все мои петергофские воспоминания.
Пикники в Бабигоны или в гористой деревушке Венки, за Ораниенбаумом, повторялись ежегодно, и я участвовал в них несчетное число раз, как маленьким мальчиком, так и отроком, и влюбленным юношей, и, наконец, самостоятельным отцом семейства, которого сопровождали жена и дети. Но пикник в дальнюю Лопухинку, устроенный братом Альбером в 1876 году, был единственный в своем роде. Особенную романтику ему придало то, что, позавтракав в старинном трактире деревни Гостилицы, где я с удивлением увидал колокольню, совсем похожую на нашу Никольскую, мы прибыли на место назначения поздно вечером, вследствие чего пришлось ночевать в крестьянских избах. А утром, чуть свет, я с папой совершили далекую прогулку и дошли до какого-то старинного здания, напомнившего мне те, в которых жили рыцари (что это был за замок, я до сих пор не знаю). Многим же молодым людям пришлось переночевать на сеновале, и когда они покинули его, заспанные, в помятых одеждах, с сеном в волосах и в бородах, то все имели очень смешной и сконфуженный вид. Альбер любил такие авантюры — они отлично служили ему для его амурных предприятий; однако на сей раз он едва ли был ими занят — ведь он уже был безумно влюблен в свою будущую жену Машу Кинд, и о помолвке его с ней было как раз около этого времени объявлено.
К экскурсиям аналогичного характера принадлежит и наша поездка на маневры, происходившие в то лето под Петергофом. Наша карета (почему-то на этот раз мы ехали в закрытом экипаже или то было поднятое ландо, так как накрапывал дождь) заблудилась и попала не туда, куда следует, — совсем вроде того, как это рассказано в диккенсовском «Пиквике». Я был единственный, кроме кучера, мужчина среди дам, но, разумеется, я не мог чем-либо помочь, когда пришлось объясняться с офицером, подскакавшим к нам и разразившимся бранью на кучера. Тетушки, с которыми я сидел, были так напуганы, когда мимо нас пронеслись казаки с пиками наперевес и драгуны с шашками наголо, что стали жалобно молить, чтобы господин офицер их отпустил, чтобы им дали вернуться обратно, но возврата туда, откуда мы приехали, уже не было, и пришлось ехать дальше, а взобравшись на Троицкие высоты, мы попали в тыл одной артиллерийской батареи. Тут и я натерпелся ужаса. В непосредственном соседстве с нами палили пушки, настоящие пушки, и каждый раз, когда готовился выстрел, я и мои дамы, покинувшие карету и устроившиеся на склоне холма у передних изб деревни, замирали и закрывали уши. Но очень интересно было видеть во всех подробностях, как солдаты ставили пушку и как ее заряжали. А затем пушки и пороховые ящики в один миг с грохотом, но в удивительном порядке, снялись и понеслись вниз, где, достигнув заворота под горой, исчезли на наших глазах.
Произошло еще несколько значительных событий в то же лето 1876 года. Два касались нашей семьи, третье имело общественное значение.
Первое событие едва не получило трагической развязки. Брат Николай, плавая в бурный день на яхте, принадлежавшей кузену Жене Кавосу, вместе с последним и их общим другом Ваней Лихачевым, чуть было не погиб в морской пучине. Дежурные матросы на рейде Царской пристани, где стояла яхта, напрасно пытались им отсоветовать пускаться в море в такую погоду, — все же спортивный задор взял верх. Сначала было очень весело, — яхта, забирая воду, неслась с небывалой быстротой, но в ту минуту, когда малоопытные моряки захотели повернуть обратно, они не справились с парусами, суденышко их перевернулось, и они сами оказались под водой. Ваня Лихачев не сразу выбрался на поверхность — он запутался в парусе. Еще, к счастью, все трое были хорошими пловцами; им удалось зацепиться за борт опрокинувшейся яхты и с неимоверными усилиями взобраться на нее и сесть верхом на киль. Громадные мутные волны обдавали их, а вокруг ничего, кроме разъяренной стихии, не было видно. С отчаяния Женя Кавос собирался даже отправиться к далекому берегу вплавь. Но тут подоспела помощь. Их заметили с большой царской яхты, всегда летом стоявшей перед Петергофом, и послали к ним паровой катер. Насилу их, уже совершено окоченевших, сняли, и матросы, передавая с рук на руки, положили на дно катера. На «Царевне» же их принял капитан Дубасов — тот самый, который через год после того заслужил геройскую славу во время русско-турецкой войны.
Всего этого я не видал, я даже не подозревал в те минуты, что рискую лишиться еще одного брата, но дождь погнал меня с нянькой раньше времени с прогулки домой, и вот тут, во дворе перед нашей дачей я застал большое смятение и, что меня особенно поразило, здесь же стояли дрожки дяди Сезара, запряженные черным рысаком, который, казалось, разделял общую тревогу, задирал голову, бил землю ногами и всячески показывал, что надо спешить. Дрожки были окружены нашей и соседней прислугой, и все громко говорили, кричали, а некоторые женщины принимались даже голосить. Боком хлеставший дождь и неистовый ветер прибавляли свои трагические черты к общей картине. В эту минуту я увидал мамочку, выходившую из нашего сада и направлявшуюся к дрожкам. Она была в тальме — готовая к поездке, а лицо у нее было перепуганное и глубоко печальное. Завидев меня, мамочка быстро подошла ко мне, подняла и крепко несколько раз поцеловала, — все поступки для нее необыкновенные, ибо она, сколько могла, свои чувства скрывала. «Дайте ему сначала поесть, а потом пусть тоже приедет на пристань», — успела она распорядиться.
Тут и я получил объяснение того, что происходило. Оказалось, что на дачу дяди Сезара только что прибежал нарочный с Царской пристани и сообщил, что яхта «Нина» тонет, что на ней имеются сын Ц. А. Кавоса и один из братьев Бенуа. Самого дяди не было дома, но там сразу велели заложить экипаж, который и заехал за мамой. Доставив маму до гавани, кучер вернулся за мной, и вот я уже мчусь по парку к дамбе Царской пристани. Мне ужасно захотелось видеть, как вообще «люди тонут», но этого я уже не застал, а увидел совсем неожиданную картину. Человек тридцать матросов, собравшись в кучу, подбрасывали в воздух что-то, что я принял за куклу, одетую в матросскую рубаху. В стороне же стояла мамочка, утиравшая катившиеся из глаз слезы, но то были уже не слезы горя, а радости. Оказалось, что когда завидели катер, который вез на берег «утопленников» с «Царевны», то матросы собрались для того, чтобы их по всем правилам привести в чувство, но когда это оказалось лишним (на «Царевне» пострадавших успели переодеть и очень щедро угостить), матросы на радостях решили спасенных качать: Женя, Ваня и Коля и были теми куклами, которые высоко взлетали на воздух и снова падали на протянутые руки. А затем их посадили всех троих на дрожки дяди Сезара, которые и развезли их по домам, мы же с мамой вернулись на извозчике.
Дома вообще несловоохотливый Коля, отдохнув, закусив и еще выпив полбутылки мадеры, рассказал нам подробности катастрофы. Впрочем, свой рассказ он принужден был повторить не раз, и каждый раз он его начинал сначала, так как наша дача заполнялась людьми, желавшими поглядеть на чудесно спасенного. Последний же рассказ достался папе, когда он вернулся из города. Но к этому времени я уже сам все знал наизусть и перебивал Колю, поправляя его или вставляя забытые им детали. Мне кажется, я переживал всю драму с большим волнением, нежели сам потерпевший. Особенно меня поразило то, что перед тем, как отправиться вплавь, наши мальчики, сидя на опрокинутой яхте, повытаскали из карманов золотые часы, серебряные портсигары и всякие другие предметы и все это побросали в воду, как бы в жертву Нептуну!
Вторым событием, происшедшим в нашей семейной обстановке, явилось то, что к нам пристала собака-кобель сеттер рыже-золотистой масти, постепенно завоевавший себе (и не только у нас, но и во всем нашем клане) особенно почетное положение. После случая с Ишей мамочка боялась собак и особенно берегла меня от всякого общения с ними. И к этому новому приживальщику, неизвестно откуда взявшемуся, она вначале относилась недружелюбно и даже всячески пыталась от него отделаться. Но ничего не помогало. Сколько раз дворник заводил Султана в самые глухие уголки парка, и Султан все же находил дорогу домой и с веселым видом, в котором чувствовалось что-то вроде иронии, махая хвостом, вбегал к нам в сад. Я же из всех сил интриговал, чтобы Султана оставили. Мне нравилась вся его не лишенная известного достоинства повадка, мне нравился и его вид, его гладкая, шелковистая, золотистая шерсть, его красивый хвост, его терпение, ласковость и прямо-таки благовоспитанность. Я скорее опасался, как бы не нашелся настоящий его хозяин и не отобрал бы его от нас.
Несколько к лучшему изменилось отношение к Султану мамочки (а заодно и папы), когда как-то поздно вечером, в ненастную погоду, он выкинул довольно фантастический фортель. Лил дождь, и ветер срывал сучья охапками. Тем не менее, жестокие люди не пожелали оставить на ночь Султана в доме и вывели его в сад, считая, что он уже сумеет как-нибудь там укрыться. Обыкновенно он и укрывался где-то, но тут не то его испугали молнии и гром, не то холод показался ему невыносимым, но он насильно проник в дачу и не через дверь, а влетев через окно спальни, которое не успели закрыть ставнями. Эффект получился удивительный. Султан, со всего размаха влетающий в комнату при звоне разбившегося в мелкие куски стекла, врезался мне в память с полной отчетливостью. При этом бедный пес раскровянил себе нос и лапы. Тут сказалась сердечная доброта моих родителей. Они не только не стали его за такой предерзкий поступок бранить, но мама поспешила обмыть его раны, а одну лапу даже перевязала, папа же устроил Султану на ковре у топившейся печки уютное ложе. Султан с виноватым видом лизал им руки и всячески показывал, что он до глубины сердца тронут.
И все же, когда наступил день переезда с дачи в город, мама, поручив Султана дворнику дачи, который был рад получить отличного сторожа, решила, что мы расстанемся с ним. В самый момент отъезда, его, несмотря на мои протесты, куда-то заперли, а весь наш табор, отправив вперед возы с мебелью по шоссейной дороге, покатил в карете и на нескольких извозчиках на купеческую гавань, чтобы погрузиться на пароход. Всю дорогу я не переставал плакать и обвинять маму в жестокости к Султану. Вот мы уже и на палубе, раздается последний звонок, колеса начинают хлопать по воде, снимаются сходни, сбрасываются канаты, и в эту-то минуту Коля и Миша восклицают: «Боже мой, да ведь это Султан там бежит…» И действительно, из-за перил дамбы замелькала его рыжая фигура, его хвост. Он не бежал, а летел, и в ту самую секунду, когда пароход стал уже отделяться от пристани, Султан, сразу смекнув, как поступить, вскочил сначала на высокий дощатый настил, а с него прыгнул на верхнюю палубу, где его с овациями встретили не мы одни, но буквально все пассажиры и даже капитан. Тут не выдержала мамочка. Вероятно, она и до того момента крепилась, мучаясь тем, что считала своим жестоким долгом, теперь же она убедилась, что Султан не простая собака, а существо особенное, одаренное редчайшим чутьем и такими чувствами, которых и у людей не найти. Такой подарок судьбы было бы грешно отвергать.
С этого момента Султан превратился в члена семьи. Но, к сожалению, через год, когда мы жили на Кушелевке, его постигло жестокое злоключение. Разгуливая с компанией гостей по канатной фабрике моего зятя, Султан зазевался, и его хвост, которым он бодро размахивал, попал в какие-то шестерни. В одно мгновение наш красавец пес лишился половины своего лучшего украшения. Таким калекой ему и пришлось доживать свой век, но это скорее вызывало к нему всеобщее сочувствие и отнюдь не отозвалось на его положении домашнего фаворита. Постепенно, оставаясь нашим верным другом, он завел себе полезные связи и по всему околотку. Он очень полюбил старшего дворника Василия, а затем распространил свое расположение и на городового, жившего у нас во флигеле и имевшего свой пост у ворот Никольского сада. Там и можно было всегда найти Султана среди блюстителей порядка. Знали его и баловали все кухарки и горничные, все кучера и конюхи, да и просто все ближайшие обыватели. Окончательную популярность он себе заслужил тем, что как-то обнаружил бродягу, польстившегося на содержание повешенной у входа в собор кружки, и помог его изловить.
И все же кончина этого чудесного пса, случившаяся около 1886-го или 1887 года, не была вполне достойна того высокого положения, которого он достиг. Он скончался не у нас в квартире, где его любимым местопребыванием была передняя (зимой — на коврике перед топящейся печью), а, почувствовав, что срок жизни его истекает, он отправился умирать в дровяной сарай. И положительно, мне думается, что при этом им руководил свойственный ему такт, его природная благовоспитанность. Последнее время он уже с каким-то виноватым видом помахивал своим искалеченным хвостом и с трудом привставал на своих одеревенелых ногах, когда мы к нему обращались с ласковым приветствием. Он как бы извинялся, что не может нести свою службу, не может подобающим образом выражать свою безграничную нам преданность. Видом же своего трупа он не пожелал утруждать зрение хозяев и друзей, и поэтому предпочел умереть (слово «околеть» в данном случае никак не пристойно) вдали от наших глаз.
Появление у нас Султана — событие интимного порядка, рассказ же о Петергофском лете 1876 года я закончу событием общественного характера. Я говорю о той необычайно грандиозной иллюминации, которая была устроена в том году в Петергофе. Торжественные иллюминации устраивались здесь ежегодно, но обыкновенно они устраивались по однообразному, раз выработанному шаблону, и все потребные для нее деревянные части с приделанными к ним шкаликами хранились в специальном месте, в парке близ Царской пристани, причем некоторые, особенно громоздкие и высокие, торчали из-за высокого дощатого забора.
Ребенком я поглядывал на них с тем же волнением, с каким разглядывал те театральные кулисы, которые иногда появлялись на площади около Мариинского и Большого театров перед тем, чтобы их увезти в особый склад. Однако в 1876 году иллюминация, повод которой мне не известен (не было ли то чествование какого-либо принца или иностранного монарха?), была необыкновенно грандиозная, и вот почему она мне запомнилась с особой отчетливостью.
Бабушкина дача находилась как раз не в далеком расстоянии от главной и центральной части этого праздника. Стоило пройти мимо большой готической дачи, тротуар которой состоял из свинцовых плит с гербами, стоило дойти до площади перед главными воротами Верхнего сада и обогнуть другую, тоже «готическую» дачу наших друзей Черемисиновых, как мы уже были там у самых приготовлений праздника, на берегу того пруда, на островках которого — Царицыном и Ольгином — стоят затейливые царские павильоны. Уже за неделю до праздника берега пруда были завалены бревнами, сваями и досками, и всюду мужики в красных и голубых рубахах строгали, пилили, рубили. Туда же на телегах прибывали готовые, хитро выпиленные щиты с набитыми на них расписанными холстами. По мере установки этих огромных кулис, превышавших местами высоту деревьев по берегам пруда, выяснялось, что эти щиты представляют знаменитейшие дворцы и храмы Европы. Я был особенно обрадован, когда среди них узнал хорошо мне знакомый Дворец Дожей с двумя стоящими около него колоннами. Из уст старших я слышал довольно строгую критику этой гигантской, обступавшей весь пруд декорации; говорилось, что эти памятники до смешного уменьшены и уродливо упрощены, но меня зрелище выросшего на петергофской почве Венецианского дворца только радовало и восхищало.
Во время хода работ можно было в течение нескольких дней изучить и закулисную сторону этой театральной затеи. Лицевой стороной дворцы и храмы были повернуты к пруду и к его островам (на одном из которых должно было состояться вечернее угощение членов царской семьи и двора), на аллеи же, огибавшие пруд, выходили оборотные стороны или «спины» этих кулис и те массивные, сложные конструкции, которые их подпирали. Подойдешь к такому щиту сзади, с аллеи, и ничего, кроме стропил, досок и бревен не видишь, а пройдешь мимо него к самому берегу, и в промежутке между двумя кулисами открывается противоположная картина, приобретавшая с каждым днем все более законченный вид. Это ли не была потеха и сюрприз. Тут и мой Палаццо Дукале стал совсем как настоящий, колонны его галерей казались круглыми, балкон выпятился вперед, скульптурные украшения лепились до полной иллюзии…
Однако самой иллюминацией простым смертным, не приглашенным на гала на Царицыном острове, пришлось любоваться таким же «закулисным» образом, т. е. пробираясь между подпорками по довольно топкому берегу. Тут получалась еще та неприятность, что от ближайших фонарей-шкаликов, мириадами уснащавших все архитектурные линии декораций, шел нестерпимый жар, и одновременно горевшее в них сало распространяло довольно тяжелый запах. Зато если выйти к самой воде, зрелище получалось сказочное. При свете фонарей и шкаликов дворцы и храмы вовсе уже не казались маленькими и ничтожными. Выделяясь всей своей яркостью на фоне темной листвы и отражаясь в воде, они превращались в громадные, прочные и роскошные сооружения. Придя в чрезвычайное возбуждение, я требовал, чтобы мои родные обошли со мной весь круг пруда, а это было не так легко, приходилось протискиваться сквозь густые толпы, а местами мы рисковали оступиться и попасть в воду.
К сожалению, и на сей раз безжалостная петергофская погода не пощадила людской потехи. Еще не был сожжен стоявший в программе фейерверк, как поднялся сильный ветер, от которого целыми партиями тухли фонарики, и одновременно стал накрапывать дождь. Праздник, несомненно, был испорчен, но и то, что происходило при этом с иллюминацией, представлялось мне ужасно интересным. Вдруг исчезнет половина какого-нибудь дворца и не успеют снова зажечь шкалики, как ветер задует соседние огни. Казалось, что волшебные здания на глазах разрушаются и гибнут, а ведь на детский вкус ничего не бывает более любопытного, как вообще всякие разрушения. Ведь мечтал же я в те годы, чтобы у нас в доме сделался пожар! То-то было бы занятно, если бы все — и папа, и мама, и братья, и прислуга — стали бы хватать что попало и пробиваться с поклажей среди дыма и пламени. А уж рояль непременно выбросили бы в окно прямо на мостовую…
Пожалуй, в этот вечер я во второй раз в жизни увидал царя и уже вполне осознал это счастье. Во всяком случае, это произошло тем же летом в Петергофе, тогда как в первый раз я увидел Александра II за год до того, в Павловске. Возможно, что я видел государя и тогда, когда его коляска въехала к нам во двор кавалерских домов и он насмерть перепугал нашу немку, запросто обратившись к ней с вопросом, где тут живет фрейлина Нелидова, которую корректный государь приехал навестить (об этом случае у нас в доме не переставали вспоминать в течение нескольких лет). Однако тогда я был еще совсем младенцем. К тому же мне не очень нравился этот генерал, часто проезжавший мимо нашего дома с надвинутой на нос фуражкой и с густыми бакенбардами на щеках. Меня эти проезды касались только потому, что с меня при этих проездах спешно снимали шляпку и старшие шепотом приказывали: «Поклонись, нагни головку».
И вот в первый раз до моего сознания дошло, что передо мной сам царь, когда во время прогулки перед нами шагом проехала появившаяся из-за деревьев кавалькада. То ли что государь ласковым кивком и легким поднятием руки показал, что он узнал папу, то ли что его на сей раз окружала и за ним следовала целая свита на прекрасных конях, то ли что вся эта масса блистала золотом и серебром, а на головах у свитских колыхались султаны, — но момент этот врезался мне в память, и я точно сейчас вижу и ту солнечную поляну, и рощу в глубине, и этого очень статного, очень прямо и спокойно сидевшего в седле, несколько строго поглядывавшего вокруг военного, который показался мне таким величественным — точно памятник.
Вторично же я «осознал» царя именно в Петергофе — на иллюминации. На сей раз государь не ехал верхом, а сидел в причудливой плетеной колясочке, которую влекла шестерка белых лошадок, управляемых одетыми в золото жокеями. Это то, что называлось выездом a la Daumont. Дама в белом платье и в белой шляпе с пером рядом с Александром II была, вероятно, императрица, а на странной подвеске позади восседали в застывшей позе, скрестя руки, два лакея. И царь и царица то и дело кланялись направо и налево, причем публика до того близко придвинулась к пути царского следования, что почти касалась колес. За царским экипажем следовали бесчисленные другие, и среди них курьезные, длинные низкие дроги — линеи, на которых спинами друг к другу сидело человек по двенадцати. И так долго тянулся этот поезд, столько тут было дам, генералов, расшитых золотом камергеров и министров в треуголках с белым плюмажем, что мне это даже надоело. Царская коляска давно проехала (и проехала сравнительно быстро), а вот хвост тянулся, и причем приходилось ему моментами и замедлять движение, а то и совсем останавливаться.
Царя я успел разглядеть вполне явственно, так как я сидел на чьих-то плечах. И на этот раз он очень мне понравился — он показался мне добрым, милым, ласковым.
Небо казалось черным по контрасту с фантастическим светом от сотен тысяч огней, которыми был залит весь парк. И этот свет от шкаликов был не нынешний резкий, неподвижный, мертвый свет электричества, а весь он трепетал и жил, дымчатый же чад, шедший от горевшего сала, образовывал род сияния вокруг пылающих уборов. Стеклянные шкалики были разных цветов и пестрое их сверкание сообщало особую сказочность садовым перспективам. Я бы сказал, что даже смрадный, шедший от тогдашних иллюминаций дух был каким-то необходимым элементом праздничности — таким же необходимым и желательным, как сладковатый запах бенгальских огней, как гул толпы, ровный топот лошадей и как (нота специальная для Петергофа) непрерывавшееся журчание фонтанов и водопадов.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА 1 Первые зрелища
О театрах и иных зрелищах я до пяти лет имел очень смутное понятие, только понаслышке, но этой «наслышки» было у нас в доме достаточно. Разные члены нашей семьи любили, однако, разное. Одни были сторонниками итальянской оперы, другие — французского театра, третьи — цирка и даже оперетки. Менее всего пользовался милостью русский театр. Правда, папочка когда-то был большим почитателем Каратыгина и Щепкина, он с восторгом говорил о «Ревизоре» (в Риме он знавал Гоголя) и иногда не без известного умиления рассказывал о своих театральных впечатлениях, но все это было далекое прошлое, а сам он в мое время в театр ходил редко и то только тогда, когда его «потащат». Любил он чрезвычайно и «Руслана» и «Жизнь за царя», а мелодии из «Аскольдовой могилы» он напевал постоянно или подбирал их довольно искусно на рояле. Но среди родной молодежи у него не было товарищей по вкусам.
Альбер, тот обожал только одного «Фауста» Гуно, а ко всему остальному, несмотря на свою исключительную музыкальность, относился индифферентно, хотя сам мог сочинять блестящие фантазии в духе и Листа, и Бетховена, и Шопена. Леонтий (он же Лулу) был страстным завсегдатаем итальянской оперы. У нас была абонементная ложа в Большом театре, и он не пропускал ни одного нашего вечера, до одури упиваясь пением своих любимцев. Сестры разделяли, но с меньшим увлечением, его вкусы. Среди старшего поколения бабушка Кавос была опять-таки ярой итальяноманкой, и более сдержанными, но все же верными почитателями итальянской оперы были дядя Костя и дядя Сезар. Напротив, дядя Миша Кавос, имевший обо всем свое особое мнение, решался иногда превозносить Серова и ходил на премьеры в «Александринку», похваливая того или другого из русских актеров.
Абсолютной и рьяной сторонницей русского театра были лишь тетя Лиза Раевская, да еще мамина горничная Ольга Ивановна Ходенева. Последняя, как я уже рассказывал, бегала по крайней мере раз в неделю в соседний Мариинский театр (где тогда давались русские спектакли) или в дальний Александринский, и от нее я получал подробнейшие отчеты, причем в своих рассказах она то заливалась до слез от смеха, то становилась мрачной и торжественной.
Нельзя сказать, что моя карьера театрала началась с чего-либо очень эффектного и достойного. Моим первым спектаклем был… собачий театр, и увидел-то я его не в цирке, а в самой обыкновенной квартире, где-то на Адмиралтейской площади, снятой для того заезжим собачьим антрепренером. Мне было не более четырех лет, и маме пришлось поэтому меня во время всего спектакля держать в стоячем положении на своих коленях — иначе я бы ничего не увидал через головы сидевших перед нами. Всего я не помню, но четко врезался в память чудесный громадный черный и необычайно умный ньюфаундленд, который лаял нужное количество раз, когда кто-либо из публики вынимал из колоды ту или иную карту. Он же исполнил с хозяином в четыре руки (две руки и две лапы) известный «собачий вальс» на рояле. С тех пор я и выучился играть эту нехитрую пьеску.
Впрочем, пожалуй, я совершаю неточность, называя этот собачий спектакль своим первым. На самом деле первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли Петрушки. Но вот тут невозможно установить, когда я увидал самый первый из них — столько их было уже в самом раннем детстве, и в столь разных местах я был ими осчастливлен. Помню, во всяком случае, Петрушку на даче, когда мы еще жили в кавалерских домах. Уже издали слышится пронзительный визг, хохот и какие-то слова — все это, произносимое петрушечником через специальную машинку, которую он клал себе за щеку (тот же звук удается воспроизвести, если зажать себе пальцем обе ноздри). Получив разрешение родителей, братья зазывают Петрушку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, музыкант кладет свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подвижный и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и дерзкими вопросами, на некоторые тот отвечает с полным равнодушием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развертывается сама драма. Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петровной, он делает ей предложение, она соглашается, и оба совершают род свадебной прогулки, крепко взявшись под ручку. Но является соперник — это бравый усатый городовой, и Акулина, видимо, дает ему предпочтение. Петрушка в ярости бьет блюстителя порядка, за что попадает в солдаты. Но солдатское учение и дисциплина не даются ему, он продолжает бесчинствовать и, о ужас, убивает своего унтера.
Тут является неожиданная интермедия. Ни с того ни с сего выныривают два в яркие костюмы разодетых черномазых арапа. У каждого в руках по палке, которую они ловко подбрасывают вверх, перекидывают друг другу и, наконец, звонко ею же колошматят друг друга по деревянным башкам. Интермедия кончилась. Снова на ширме Петрушка. Он стал еще вертлявее, еще подвижнее, он вступает в дерзкие препирательства с шарманщиком, визжит, хихикает, но сразу наступает роковая развязка. Внезапно рядом с Петрушкой появляется собранная в мохнатый комочек фигурка. Петрушка ею крайне заинтересовывается. Гнусаво он спрашивает музыканта, что это такое, музыкант отвечает: это барашек. Петрушка в восторге, гладит «ученого, моченого» барашка и садится на него верхом. Барашек покорно делает со своим седоком два, три тура по борту ширмы, но затем неожиданно сбрасывает его, выпрямляется и, о ужас, это вовсе не барашек, а сам черт. Рогатый, весь обросший черными волосами, с крючковатым носом и длинным красным языком, торчащим из зубастой пасти. Черт бодает Петрушку и безжалостно треплет его, так что ручки и ножки болтаются во все стороны, а затем тащит его в преисподнюю. Еще раза три жалкое тело Петрушки взлетает из каких-то недр высоко, высоко, а затем слышится только его предсмертный вопль, и наступает жуткая тишина… Шарманщик играет веселый галоп, и представление окончено.
Вспоминается еще, как в весеннюю пору и тогда, когда ясная теплынь уже позволяла выставлять двойные зимние рамы и открывать окна, мы смотрели на представление Петрушки, происходившее у нас во дворе. В этих случаях спектакль получал более демократический характер. Мы сидели, как в ложе, на подоконнике, внизу же сбегались к Петрушке дворники, приказчики лавок, а все окна унизывались головами горничных и кухарок. Вероятно, и текст был здесь приноровлен для более низменных вкусов. Иногда обступавшая ширму толпа покатывалась от хохота специфического характера, того хохота, который вызывают «свинства», и в таких случаях братья мои заговорщически переглядывались, а мама — тревожилась, не услыхал бы каких-нибудь непристойностей Шуренька. Но Шуренька, если бы и услыхал, то ничего бы не понял, а к тому же текст вообще интересовал его мало, а трепетал он исключительно от всех действий и от визга Петрушки.
Рядом с демократическим обликом Петрушки выступает в памяти и аристократический его облик. Петрушка в те годы был обязательным номером на елках и на детских балах. Последние я вообще ненавидел и поднимал скандал, если меня на одно из таких сборищ тащили, но стоило мне обещать, что там будет Петрушка, как я безропотно отдавался в руки мамы или няньки, позволял себя одевать в новый костюмчик и проделывать сложные операции с моей шевелюрой, а по приезде на место назначения терпеливо давал себя тискать и целовать незнакомым людям — все для того только, чтобы насладиться Петрушкой. Зато, как только Петрушка кончался, я требовал, чтобы меня везли домой. Бывало так, что меня за те же тридевять земель отправляли домой под присмотром няньки, тогда как остальные члены семьи оставались в гостях.
Такие светские «Петрушкины» спектакли бывали у дяди Сезара, у С. И. Зарудного, у Оливов, у Жербиных, у родителей Алечки Лепенау. Видел я такие представления десятки раз, но это нисколько не притупляло моего интереса. В элегантных барских квартирах спектакль Петрушки устраивался обыкновенно в дверях гостиной, почти всегда увешанных пышными драпировками, и это придавало представлению несравненно более парадный и театральный характер. Да и приглашался для этого спектакля не простой, грязный петрушечник с улицы, а салонный, чуть ли не во фрак одетый. Ширмы у него были шелковые с бархатным бортиком и золотой бахромой, а шарманщик был гладко выбрит и чисто одет. Инструмент у него был новый с более мягким, менее визгливым звуком и без тех досадных заиканий, которые получались вследствие изношенности валика. Самые куклы были одеты в атлас и в блестящую мишуру. Особенно эффектны были арапы, не облезлые и разбитые, а свеже-покрашенные, черные-пречерные. На голове у них торчал пучок страусовых перьев, палка же перевита серебряным позументом. До слез смеялась аудитория на этих спектаклях, веселым задором сияли лица прелестных девочек в розовых открытых платьицах с цветными бантами в распущенных волосах!
В таком театральном доме, как наш, не могло обойтись без домашних спектаклей. Однако в раннем детстве меня не так интересовало то, что делали большие «для себя», разучив какую-либо пьесу или в виде тут же импровизированных шарад, а получал я огромное удовольствие от всяких кукольных театриков, в которых особенно прелестны были декорации и пестрые костюмы на действующих лицах. Еще доживал свой век тот, сильно усовершенствованный Ишей, детский театр, который служил моим братьям, но затем лет шести я получил в подарок и свой собственный, а с течением времени у меня их накопилось несколько. Родственники, зная мою страстишку, один за другим подносили все новые и новые коробки, в которых были уложены и портал, и занавески, и целые постановки, и труппа вырезанных из бумаги актеров.
Сейчас мода на детские театрики совсем прошла, и лишь у коллекционеров старины можно еще найти разрозненные части этих игрушек доброго старого времени. Но та эпоха, о которой я сейчас рассказываю, переживала настоящий расцвет детских театриков, и в любом магазине игрушек можно было найти их сколько угодно самого разнообразного характера. Персонажи бывали то снабжены небольшими приклеенными к их ногам брусочками, придававшими нужную устойчивость (но и неподвижность), то они болтались на проволоках, посредством которых можно было их водить по сцене. В коробке с пьесой «Конек-Горбунок» к таким летучим действующим лицам принадлежали сказочная Кобылица и ее конек, тот же конек с сидящим на нем Иваном-дурачком, Чудо-юдо-рыба-кит, ерш и другие морские жители. Были и такие театрики, которые надлежало изготовлять самому. Покупались все нужные элементы от занавеса до последнего статиста, напечатанные на листах бумаги и раскрашенные; их наклеивали на картон и аккуратно вырезали. За три-четыре рубля можно было купить целый толстый пакет листов в сорок немецкой фабрикации, и в этом пакете оказывалось все нужное и для «Вильгельма Телля», и для «Дон Жуана», и для «Орлеанской девы», и для «Фауста», и для «Африканки», и для «Ночного сторожа», и даже для популярной когда-то пьесы «Die Hosen des Herrn von Bredow» (Штаны господина фон Бредов). Стиль этих декораций и костюмов был курьезный, «самый оперный», «трубадуристый». Но разве можно было тогда мыслить представление без таких нарочито театральных костюмов, потешность которых я осознал лишь гораздо позже, когда вообще познакомился с историей костюма?
Кроме плоских бумажных куколок, у меня были и марионетки (тоже на проволоках), которые мне привозила бабушка Кавос из Венеции. Это были совсем как настоящие человечки-кавалеры в фетровых шляпах и в кафтанах с золотой мишурой, жандарм в треуголке с саблей в руке, Арлекин со своей деревянной саблей, Полишинель с крошечным фонариком, Коломбина с веером. И все они имели маленькие деревянные или оловянные ладошки и сапожки, которые легко болтались при всяком движении. Иные из этих венецианцев прожили у меня десятки лет, а некоторые даже послужили моим детям.
Особо следует выделить «дойниковские театры», названные так потому, что они изготовлялись специально для игрушечных магазинов фирмы Дойникова. Такой театр представлял собой целое сооружение и занимал довольно много места. Стоил же он вовсе не дорого — всего рублей десять, а скорее и меньше. Был он деревянный, передок был украшен цветистым порталом с золотыми орнаментами и аллегорическими фигурами, сцена была глубокая, в несколько планов, а над сценой возвышалось помещение, куда уходили и откуда спускались декорации. Остроумная система позволяла в один миг произвести чистую перемену — стоило только дернуть за прилаженную сбоку веревочку. Все это было сделано добротно, прочно и при бережном отношении могло служить годами. Дефектом дойниковских театров было то, что актеров приходилось водить из-за кулис на длинных горизонтальных палочках, к которым каждое действующее лицо было приклеено, и это было не очень удобно. Впрочем, стражи, драбанты, группы народа или придворных ставились на все данное действие, и уже фантазии зрителя предоставлялось оживлять эти неподвижные фигурки.
Славились дойниковские китайские тени. В них служили те же декорации (петербургская улица с каланчой, кондитерская и красная гостиная), как в театриках, но только здесь декорации были сделаны в виде прозрачных транспарантов, а частых перемен нельзя было делать. Фигурки были частью русского, частью иностранного происхождения. Рядом с французским гренадером или немецким пивоваром действовали и русский городовой, и наши родные мужички-разносчики.
Все эти типы театриков (самый красивый такой театрик я выклянчил себе со скандалом на елке у Лепенау) были в моем распоряжении, и когда портился один, то мне дарили новый. Однако около 1878 года папа заказал столяру Адамсону, жившему у нас во флигеле и дававшему мне одно время уроки столярного мастерства, сделать специально для меня сцену, имевшую вид тех дежурных макеток, которыми пользуются все профессиональные декораторы. Этот почти настоящий театр постепенно вытеснил другие — тем более, что папа сам для начала снабдил его прекрасными декорациями, из которых мне запомнилась роскошная комната с настоящими тюлевыми занавесками и море, дававшее полную иллюзию дали и шири. В добавление к ним я сам стал сочинять и малевать декорации. С этого и началась моя личная карьера театрального деятеля.
К самым сильным впечатлениям театрального характера в детстве я должен отнести спектакли фантошей (марионеток) Томаса Ольдена, появившегося в первый раз в Петербурге на масленичных балаганах. О Томасе Ольдене ходила уже и раньше молва, будто его кукольный театр не имеет себе равных и прямо чудесен; когда же Ольден предстал перед петербургской публикой, то весь город заговорил об его куклах, и это было вполне заслуженно.
Впоследствии я видел много марионеточных театров, включая кукольные пьесы в венецианском «Teatro Minerva», римские piccoli и мюнхенского «Kasperle», а также изумительный кукольный театр известного карикатуриста Альбера Гильома, который действовал во время Парижской выставки 1900 года. От всего этого у меня остались лучшие воспоминания, но всех их продолжает затмевать Томас Ольден, и я думаю, что в данном случае действует не одно розовое сияние детских лет, но и действительная исключительность этих представлений.
Спектакль начинался с цирковых номеров: с канатной плясуньи, с шутовской возни клоунов, эквилибристов и акробатов. В заключение этих номеров появлялся скелет, который весь на глазах у публики расчленялся и снова складывался, причем на радостях череп принимался звонко щелкать челюстями. Кончался же спектакль Ольдена большой пантомимой «Красавица и чудовище». Декорации этой пьесы мне не понравились, они были слишком расцвечены и сплошь разукрашены блестками, но самое Чудовище было таким страшным, что при его появлении в зале поднимался неистовый панический крик детей. С тех пор прошло больше 70 лет, и я все еще вижу в своем воображении это представление с совершенной отчетливостью, мало того, я могу напеть две или три темки той смешной «американской» музыки, которая сопровождала разные номера, в том числе и «разложение скелета».
ГЛАВА 2 Балаганы
В первый раз Ольден со своими куклами появился на масленичном гулянье — на балаганах, и это было в 1877-м или 1878 году. Однако балаганы были мне хорошо знакомы уже раньше, да в сущности то, что я видел в балаганных театрах, и должно считаться моими первыми, поистине театральными впечатлениями. Балаганами назывались специально в короткий срок построенные большие и маленькие сараи, в которых давались всякие представления. Эти балаганы служили главным аттракционом того гулянья, которое испокон веков, а точнее, с XVIII века, являлось в России наиболее значительным народным развлечением, особенно в обеих столицах. Гулянье это соответствовало тому, что в Западной Европе называется «фуарами», ярмарками. Во многих отношениях наши эти развлечения и были копиями того, что было выработано на Западе, но все же и всему заморскому был придан у нас специфический русский дух. На этих гуляньях веселье было более буйного, более стихийного характера. Кроме того, здесь можно было видеть и много своеобразного, местного, чего-то ультрапотешного и живописного. Да и пьяных шаталось здесь больше, чем где-либо в Европе, и они были более шумные, буйные, а то и страшные. Поголовное пьянство простого люда, остававшегося под вечер настоящим хозяином тех площадей, что отводились под эти забавы, придавало им какой-то прямо-таки демонически-ухарский характер, прекрасно переданный в четвертой картине «Петрушки» Стравинского.
Что мои первые воспоминания о балаганах относятся определенно к Масленой 1874 года, когда мне еще не минуло четырех лет, находит себе подтверждение в том, что в компании тех «больших», которые потащили меня, карапуза, на балаганы, был и мой брат Иша, а он скончался как раз осенью того же года. Иша, бывший на десять лет старше меня, проявлял ко мне исключительную нежность, умел возбуждать во мне разные восторги, и сам совсем по-детски делился со мной впечатлениями. Потому и память о нем сохранилась у меня с совершенной ясностью. Я помню, точно это было месяц назад, что как раз в этот далекий, упоительный для меня день моего первого выезда на балаганы Иша беспрестанно пекся обо мне, поправлял мой башлык, следил за тем, чтобы пальтишко мое было застегнуто, и он же взял меня к себе на колени, когда оказалось, что сидевшая перед нами в театре Егарева публика несколько заслонила от меня сцену.
1874 год был последним (или предпоследним) годом устройства балаганов на Адмиралтейской площади, примыкавшей к площади Зимнего дворца. Уже на это одно стоит обратить внимание. В те годы, с самого времени царствования Николая Павловича, считающегося таким притеснителем народной самобытности, масленичная ярмарка, с ее гомоном и всяческим неистовством, происходила под самыми окнами царской резиденции, что особенно ярко выражало патриархальность всего тогдашнего быта. Затем, в 1875 году, балаганы были перенесены на Царицын луг, где они устраивались приблизительно до 1896 года. Это удаление от дворца означало, пожалуй, известную опалу, однако и на Царицыном лугу балаганы продолжали пребывать в центре столицы и даже в парадной ее части — у самого Летнего сада.
Мне именно хочется про Масленицу 1874 г. рассказать с самого начала — все, как это было с самого еще утра. Я вижу себя в нашей большой детской, выходившей тремя окнами на улицу. Она озарена белым отблеском снега, выпавшего за ночь, и залита боковыми лучами утреннего солнца. Весело трещат в печке березовые дрова. Осторожно шлепает в своих мягких туфлях нянька, приготовляя все для моего вставанья. На улице до странности тихо: ни шагов, ни топота копыт, ни грохота колес, — все заглушает густой снежный ковер. Но изредка возникает новое для уха серебристое дребезжание: это приехали «вейки» — чухонцы; это звенят бубенчики, которыми увешана их сбруя. «Если будешь пай, — говорит няня, — то и тебя повезут на вейке по городу кататься, да и на балаганы».
Кто помнит теперь, что такое были вейки? Между тем они, хоть и на короткий срок (всего на неделю), становились очень важным элементом петербургской улицы. Вейками назывались те финны, чухонцы, которые, по давней поблажке полиции, стекались в Петербург из пригородных деревень в воскресенье перед Масленой и в течение недели возили жителей столицы. Звук их бубенчиков, один вид их желтеньких белогривых и белохвостых сытых и резвых лошадок сообщал оттенок какого-то шаловливого безумия нашим строгим улицам; погремушки будили аппетит к веселью, и являлось желание предаться какой-то чепухе и дурачеству. Дети обожали веек. В программу масленичного праздника входило обязательное пользование ими, хоть прогулка на их низких санках представляла и некоторый риск. С мрачным юмором чухонец норовил подкатить под самые колеса огромных тогдашних четырехместных карет, и нередко бывало, что санки перекувыркивались на крутом повороте со скатом. Детям же как раз от таких авантюр, от этой полусознаваемой опасности, становилось особенно весело. Вейкины саночки к тому же были до того низенькими, что и ушибиться, падая с них, было трудно, а сидя в них, можно было без труда касаться рукой земли. Несешься по ухабам, а сам бороздишь снег, — точно плывешь в лодке и бороздишь, расплескивая, воду.
Контрастом этой серой деревенщине являлось масленичное катанье «смолянок». И в этом обычае праздничного выезда воспитанниц Смольного института сказывалось также нечто патриархальное, придававшее особую прелесть российским нравам того времени. Смолянкам на Масленице предоставлялись придворные экипажи с кучерами и лакеями в треуголках и в красных гербовых ливреях. Каждое такое ландо было запряжено четверкой прекрасных белых лошадей. Вереница карет в двадцать, растянувшись внушительным цугом, колесила вокруг отведенной под гульбище площади, и из каждой кареты выглядывали веселые, юные лица благородных девиц, восседавших под присмотром строгих классных дам. Аристократические затворницы лишь издали могли любоваться народным весельем, смотреть на все эти перекидные качели, американские горы, на пестро раскрашенные театры, — но и это было уже достаточным развлечением в серой, унылой обыденности их пребывания за монастырской стеной.
Вот мы и приехали на своем вейке-чухонце на площадь, отведенную под гулянье. Перед нами главная балаганная улица. Справа протянулся ряд большущих построек, обшитых только что напиленным, сверкающим на солнце и приятно пахнущим сосновым тесом. С другой стороны более мелкие и более разнокалиберные домики стоят как попало в беспорядке. Большие постройки — это театры, принадлежащие антрепренерам, всем давно известные фамилии которых значатся саженными буквами на стенах каждого балагана. Вот Малафеев, вот Егарев, там дальше Берг, Лейферт. Но пятый балаганщик, отдавая долг новым веяниям, скрыл свою персону под девизом педагогического привкуса — свой театр он назвал: «Развлечение и польза».
И среди мелких домишек имеется несколько плохоньких театров, но главным образом площадь на этой стороне занята каруселями, катальными горами и бесчисленными лавчонками, в которых можно покупать разные лакомства: пряники, орешки, стручки, леденцы, мятные лепешки, семечки, а также баранки, сайки, калачи. Особенно бросается в глаза несколько в стороне стоящий большой сарай с торчащей из него тонкой дымящей трубой. На нем, под гигантской, широко улыбающейся рожей, заимствованной из сатирического журнала «Der Kladderadatsch», вывеска, приглашающая публику покушать берлинских пышек. Тут же, прямо под открытым небом, тянутся столы, уставленные сотнями стаканов, из которых можно напиться горячего чаю, заваренного в толстых чайниках с глазастыми цветами и разбавленного кипятком, который льется из самоваров-великанов. А пить хочется — за полуденным обедом все уже успели приналечь на блины, и ничто так не томит, как вместе с блинным угаром специфическая «блинная жажда».
Но далеко не все гуляющие пьют чай или предлагаемый разносчиками горячий сбитень, бережно укутанный в толстую салфетку. Многие, весьма многие успели завернуть в кабаки или в распивочные и явились на праздник в сильно подгулявшем виде, неистово горланя песни. У иного торчит сороковка из кармана, и он то и дело, ничуть не стесняясь, прикладывается к ее горлышку, становясь от каждого глотка все озорнее и шумливее. Пьяные в будни где-нибудь на Фонтанке, на Гороховой — явление довольно-таки мерзкое, но здесь, на балаганах, «сам бог велел надрызгаться», и, несомненно, вид этих шатающихся людей придает особый оттенок густой и пестрой праздничной толпе.
А вот и Дед — знаменитый балаганный дед, краса и гордость масленичного гулянья. Этих дедов на Марсовом поле было по крайней мере пять — по деду на каждой закрытой карусели. Самое карусель или, как прозвали ее французы, «манеж деревянных лошадок», наш холодный климат заставлял замыкать в деревянную избу-коробку, наружные стены которой были убраны яркими картинами, среди которых виднелись изображения разных красавиц вперемежку с пейзажами, с комическими сценами, с портретами знаменитых генералов. Из нутра этих карусельных коробок вместе с паром и винным духом доносилось оглушительное мычание оркестрионов и грохотание машины, приводящей в движение самую карусель.
На балконе, тянущемся по сторонам такой коробки, и стоял дед, основная миссия которого состояла в том, чтобы задерживать проходящий люд и заманивать его внутрь. Всегда с дедом на балконе вертелись «ручки в бочки» пара танцовщиц с ярко нарумяненными щеками, и сюда же то и дело выскакивали из недр две странные образины, наводившие ужас на детей: Коза и Журавль. Обе одетые в длинные белые рубахи, а на их длинных, в сажень высоты, шеях мотались бородатая морда с рожками и птичья голова с предлинным клювом.
Не надо думать, чтобы балаганный Дед был действительно старцем дедовских лет. Розовая шея и гладкий затылок выдавали молодость скомороха. Но спереди Дед был подобен древнему старцу, благодаря тому, что к подбородку он себе привесил паклевую бороду, спускавшуюся до самого пола. Этой бородой Дед был занят все время. Он ее крутил, гладил, обметал ею снег или спускал ее вниз с балкона, стараясь коснуться ею голов толпы зевак. Дед вообще находился в непрерывном движении, он ерзал, сидя верхом, по парапету балкона, размахивал руками, задирал ноги выше головы, а иногда, когда ему становилось совсем невтерпеж от мороза, с ним делался настоящий припадок. Он вскакивал на узкую дощечку парапета и принимался по ней скакать, бегать, кувыркаться, рискуя каждую минуту сверзиться вниз на своих слушателей. Мне очень хотелось послушать, что болтает и распевает дедушка. Несомненно, он плел что-то ужасно смешное. Широкие улыбки не сходили с уст аудитории, а иногда все покатывались от смеха, приседали в корчах и вытирали слезы… Но те, кому я был поручен, не давали мне застаиваться и поспешно увлекали дальше под предлогом, что я могу простудиться… На самом же деле ими двигало не это опасение, а то, что болтовня деда была пересыпана самыми грубыми непристойностями и даже непотребными словами. Произносил он их с особыми ужимками, которые красноречивее слов намекали на что-то весьма противное благоприличию.
Другим краснобаем был раешник, — о нем я уже рассказывал, говоря об оптических игрушках. Раешник был таким же непременным и популярным элементом балаганного гулянья, как и дед, но его приемы были более деликатные, вкрадчивые. Всегда, кроме тех двух клиентов, которые приклеивались глазами к большим оконцам его пестро размалеванной коробки, вокруг толпилось, ожидая очереди, с полдюжины ребят и взрослых. Сеанс длился недолго, но за эти минуты можно было совершить кругосветное путешествие и даже спуститься в преисподнюю. Стишки раешника пересыпались потешными прибаутками, и эта болтовня помогала воображению добавлять то, что недоставало картинам.
В маленькие балаганчики не стоило заходить — разве только, чтобы позабавиться какой-либо уже совершенно наивной ерундой. Тут же тянулась длинная постройка зверинца, на фасаде которого яркими красками были изображены девственный тропический лес с пальмами, лианами, баобабами, а изнутри доносились дикие звуки: рев львов и тигров, своеобразное мычание слона и крики обезьян и попугаев. Увы, войдя в такой сарай, вас постигало разочарование: в холоде и, вероятно, в голоде здесь доживали век всякие отбросы знаменитых зверинцев: совсем оцепеневший, не встававший уже больше верблюд, сонные облезлые львы, походившие больше на пуделей, и чахоточные, жавшиеся друг к дружке, обезьяны. Только слон производил еще довольно внушительное впечатление, но слона я видел и более величественного в Зоологическом саду, в «Зоологии». Впрочем, в мое первое посещение балаганов меня более всего поразило в зверинце порхание на маленькой сцене танцовщицы, одетой в яркий корсаж и коротенькую газовую с блестками юбочку; однако, о ужас, лицо ее было покрыто густой черной бородой.
Потребности в чем-то чудесном и блестящем вполне ответило зрелище, которое я сподобился тогда увидеть в одном из больших деревянных театров, а именно в театре Егарева, в котором все еще, по старой традиции, давались арлекинады. Великим охотником до такого спектакля был как раз Иша, который мне уже вперед рассказывал о нем без конца. И тем не менее то, что я увидел воочию, во много раз превзошло ожидания! Выйдя из этого первого моего театра, я был словно угорелый, а память об этом посещении не утратила свежести и силы даже и по сей день. Это мое первое знакомство с театром как-то озарило меня, а в главное действующее лицо, в Арлекина, я просто влюбился.
Я уже был знаком с личностью Арлекина и чувствовал к этому маскированному повесе какую-то восхищенную нежность, но тут я увидал его живым, действующим, победоносным, издевающимся над всеми, кто становился ему поперек дороги. Мне самому захотелось сделаться Арлекином, и я серьезно мечтал о том, чтобы получить такую же волшебную палочку, как та, что подарила ему (за что?) добрая и прекрасная фея. Мало того, я даже втайне от мамы молился про себя, чтобы эта фея явилась и сделала бы мне такой подарок.
Но до чего было холодно, пока в деревянном вестибюле пришлось ожидать очереди, чтобы попасть в самый зрительный зал. Я был закутан с ног до головы, башлык покрывал уши поверх воротника толстого зимнего пальто, а ноги были обуты в валенки — и все же я зяб немилосердно. Совершенно невыносимым становилось покалывание пальцев ног и кончиков ушей, причем меня очень беспокоило, как бы не отморозить нос; я то и дело обращался к Ише с вопросом, не стал ли нос у меня белым, а чтобы не стал, я тер его изо всех сил шерстяными рукавицами. Да и все, кто вместе с нами ожидали в этом дощатом нетопленом преддверии, пританцовывали на месте, поминутно сморкались, кашляли, чихали. Но никто не ослабевал, не покидал этого места пытки, дойдя до самых врат волшебного царства и ожидая, чтобы врата растворились.
И вот блаженный миг наступил. Проходят еще минуты три, во время которых зрительный зал покидают те, кто уже насладился представлением, а затем приходится вцепиться в моего попечителя, иначе меня затопчут, раздавят между дверьми. И вот мы уже сидим на своих местах, перед нами ярко-пунцовый с золотом занавес. Иша берет меня на колени. Зрительный зал представляет собою огромный, обитый досками сарай, освещенный рядом тусклых керосиновых ламп, повешенных по стенам и издающих довольно острый запах. Но и полумрак и этот запах только усугубляют зачарованную таинственность. В то же время за нашими спинами творится нечто подобное стихийному катаклизму. Это врывается с неистовым шумом, с криками, с визгами, с воплями «батюшки, задавили» публика вторых и третьих мест, ожидавшая очереди на наружных лестницах балагана. Лавина несется со стремительностью идущего на приступ войска. Передовые отряды с удивительной ловкостью перескакивают через тянущиеся во всю ширину зала скамейки, стремясь попасть в первые ряды, и становится боязно, как бы эта дикая масса не разнесла стен, не докатилась бы до нас, не растоптала бы нас.
Постепенно все успокаивается, стихает и замирает в ожидании. Оркестранты, успевшие в промежутке между двумя представлениями сходить выпить согревающего, возвращаются и размещаются по местам, дирижер (он же первая скрипка) — поднимает смычок, раздаются звуки увертюры, и занавес медленно ползет вверх. Перед нами сельский, но вовсе не русский пейзаж; слева, в тени раскидистого дерева, домик с красными кирпичными стенами и с черепичной высокой крышей, справа холм, в глубине голубые дали, — и все «совсем как на самом деле». Сразу же начинается что-то необычайное, волнующее, смешное и страшноватое.
Старик Кассандр отправляется в город и наказывает двум своим слугам исполнить порученную им работу. Один из слуг — весь в белом, с белым от муки лицом; у него самый глупый, растерянный вид, он, несомненно, лентяй и растяпа. Простонародье его называло попросту мельник, но я знаю, что это Пьерро. Я уже и песенку про него слышал: «При лунном свете мой друг Пьеро», хотя еще плохо понимаю язык своих предков. Но почему же у Арлекина такой невзрачный, грязный костюм? С тревогой обращаюсь к Ише за объяснением, и он успокаивает меня: это его рабочее платье, подожди, сейчас увидишь, что будет дальше. Дальше же происходит нечто ужасное. Принявшись каждый за свою работу, Пьеро и Арлекин скоро начинают ссориться, мешать друг другу, они вступают в драку и, о ужас, нелепый, неуклюжий Пьеро убивает Арлекина. Мало того, он тут же разрубает своего покойного товарища на части, играет, как в кегли, с головой, с ногами и руками (я недоумеваю, почему не течет кровь), в конце же концов пугается своего преступления и пробует вернуть к жизни загубленную жертву. Он ставит одни члены на другие, прислонив их к косяку двери, сам же предпочитает удрать. И тут же происходит первое чудо чудесное. Из ставшего прозрачным холма выступает вся сверкающая золотом и драгоценностями фея, она подходит к сложенному трупу Арлекина, касается его, и в один миг все члены срастаются. Арлекин оживает; мало того, под новым касанием феиной палочки тусклый наряд Арлекина спадает и он предстает, к великому моему восторгу, в виде изумительно прекрасного, сверкающего блестками юноши. На коленях благодарит он добрую фею, а из дома выбегает дочь Кассандра прелестная Коломбина; фея их соединяет и в качестве свадебного подарка отдает Арлекину свою волшебную палочку, получив которую, он становится могущественнее и богаче всякого царя.
Второе действие — сплошная кутерьма. Декорация изображает кухню в доме. Кассандра. Оживший Арлекин шутит жестокие мстительные шутки с Пьерро и со своим бывшим хозяином. Он появляется в самых неожиданных местах. Его то находят в варящемся котле (из которого валит настоящий пар!), то в ящике стоячих часов, то в ларе из-под муки. Все слуги с главным поваром во главе гоняются за ним, но он остается неуловимым. Среди пола он неожиданно исчезает и сейчас же влетает в открытое окно. Только что он со звуком битого стекла вскочил в зеркало, как уже мчится через сцену, оседлав дракона. И, разумеется, только срамом покрываются его преследователи. Выбегая из разных дверей, они сталкиваются, падают в кучу и в досаде наносят друг другу побои. Усилия их остаются тщетными, чтобы сдвинуть большой комод, за которым спрятался повеса, и вдруг комод сам срывается с места и начинает носиться за ними.
Третье действие я пропускаю, несмотря на то, что прелестная декорация изображала мою родную Венецию, а под Кассандрой и его приятелями рушится балкон, с которого только что спрыгнул Арлекин. Зато дальнейшее уже совсем чудесно. Из дремучего темного леса, в котором еще раз появляется фея, Арлекин с Коломбиной заводят своих преследователей ни более ни менее как в ад, озаренный красным светом бенгальских огней; клубы дыма так и валят из-за кулис. Казалось, всем грозит гибель — и беглецам и преследователям, но для первых все кончается самым благополучным образом — то была лишь шутка феи. Адский пейзаж сменяется райским; с небес спускаются гирлянды роз, поддерживаемые амурчиками, а фея соединяет Арлекина с Коломбиной. Но плохо кончается для врагов Арлекина. Они все оказываются со звериными мордами, и жесты их выражают беспредельное смущение… Этот апофеоз мне так врезался в память, что я хоть сейчас способен его нарисовать. Я даже долгое время помнил его музыку, но с годами она затерялась в кладовых моей памяти…
Раза три-четыре в следующие годы видел я ту же пантомиму, лишь украшенную некоторыми новыми трюками, а затем, к моему горю, балаган Егарева исчез с Марсова поля, и остался один только его конкурент — Берг. У него тоже шли арлекинады, но актеры у Берга — о ужас! — говорили, и говорили они преглупые вещи, которые должны были сходить за остроты. Арлекин же выступал с бородой, торчавшей из-под маски, и это уже никак не вязалось с прежним, столь меня пленившим образом. Пьерро непрестанно зевал, и в этом состоял весь его комизм, тогда как Коломбина была старая и некрасивая; она, видимо жестоко зябла, несмотря на шерстяные панталоны, выглядывавшие из-под ее поношенной мишурной юбки. Эффектны у Берга были лишь сверкающие вертящиеся колеса, на которых выезжали феи, да дружный смех возбуждали дамы-куклы, которые уморительно плясали, а когда падали, то оказывались полыми внутри. Мне еще нравилась декорация ада, в которой гигантские кулисы представляли собой сидящих на корточках чертей; головы их достигали самого верха сцены, а лапы схватывали врагов Арлекина и покачивали их при звуках адской музыки. Вообще же у Берга во всем сказывался упадок. Театр был наполовину пуст, и в дешевых местах не происходило того столпотворения, о котором я только что рассказывал и которое можно было по-прежнему наблюдать на балаганах Малафеева и Лейферта. Вот где наружные лестницы готовы были рухнуть под тяжестью охотников до зрелищ, а перед каждым очередным представлением шел настоящий бой.
С 80-х годов началась и на балаганах эра национализма. Исчезли совсем легкие, забавные арлекинады и другие пантомимы иностранного происхождения, а на смену им явились тяжеловесные, довольно-таки нелепые народные сказочные «Громовой», «Ерусланы Лазаревичи», «Бовы-Королевичи» и «Ильи Муромцы». Завопили, загудели неистовые мелодрамы из отечественной (допетровской) истории, пошла мода на инсценировки Пушкина и Лермонтова. Повеяло духом педагогики, попечительства о нравственности и о трезвости. Тем не менее, общее настроение гуляющих на Марсовом поле оставалось прежним. Все еще стоял стон мычащих оркестрионов, глухой, но далеко слышимый грохот турецких барабанов, все еще гудела и бубнила огромная площадь: шумела она так громко, что отголоски этой какофонии доносились даже до Гостиного двора и до Дворцовой площади. Да и кареты со смолянками продолжали кружиться цугом вокруг площади, так же врали раешники и деды, тут и там слышался визгливый хохоток Петрушки…
А потом все исчезло. «Общество трезвости» (дворец возглавлявшего его августейшего попечителя, принца А. П. Ольденбургского, выходил окнами прямо на Марсово поле) добилось того, чтобы эти сатурналии были удалены из центра. Еще несколько лет балаганы влачили жалкое существование на далеком и грязном Семеновском плацу, а потом их постигла участь всего земного — эта подлинная радость народная умерла, исчезла, а вместе с ней исчезла и вся ее специфическая культура; забылись навыки, забылись традиции. Особенно это обидно за русских детей позднейшего времени, которые уже не могли в истории своего воспитания и знакомства с Родиной приобщиться к этой форме народного веселья. Уже для наших детей слово «балаганы», от которого я трепетал, превратилось в мертвый звук или в туманный дедовский рассказ.
Я не стану распространяться о моих первых цирковых впечатлениях. В первый раз я попал в цирк, наверное, не старше трех лет — благо тогда деревянный цирк (Берга?) помещался на Екатерининском канале, очень близко от нашего дома. Лучше запомнились мне те спектакли, которые я видел во временном цирке на Караванной площади, а затем те, которые давались в каменном цирке Чинизелли, построенном, если я не ошибаюсь, в 1875 году у Симеониевского моста. Это здание, в архитектурном отношении весьма неказистое, было украшено наружной живописью, представлявшей античные ристалища и средневековые турниры; да и внутри мне всегда импонировали те громадные портреты знаменитых наездниц, начиная с Царицы Томирис, которые были размещены по плафону купола. Но, видно, я действительно был рожден для того, чтобы стать театральным любителем, ибо одно то, что спектакль происходил в цирке на арене, а не на сцене, что он был лишен декорационной иллюзионности — огорчало меня и заставляло меня, несмотря на всевозможные утехи, предпочитать цирковому спектаклю театральный. Менее же всего мне нравились в цирке те сложные пантомимы, которыми, при участии лошадей и других животных, иногда завершались цирковые программы.
Казалось бы, меня должна была восхитить история с краснокожими индейцами или та восточная феерия, которая кончалась гибелью лютого насильника хана, свергаемого его соперником — прекраснейшим принцем из «Тысячи и одной ночи». Запомнилось, как страшно в белом свете прожектора сверкнул в предсмертной агонии глаз у злодея, как грузно он свалился с коня на землю, какое ликование изобразили девы, освобожденные витязем из плена. Но вот все это происходило слишком близко, как бы на ладони, да и то, что вокруг оставались все те же ряды одетой в шубы и пальто публики, частью которой были и мы, что тут же, «на носу», на ярко освещенной эстраде играл оркестр, что разные похищения, преследования и бегства происходили поперек арены, что всякие горы и скалы устанавливались в антракте на глазах у всех, а не за занавесом, который в театре скрывал всю таинственность «кухни», — все это вместе взятое портило удовольствие и вселяло во мне какую-то странную неловкость. Да и музыку цирка я ненавидел за ее грубую шумливость.
Все же я должен с благодарностью помянуть здесь и о некоторых радостях, испытанных в цирке. К ним принадлежали выезды и выводы дрессированных лошадей, в которых главным образом отличались члены семьи Чинизелли (Чипионе, Гаэтано и прелестная, как мне казалось, их сестра в костюме амазонки). Нравились мне те балерины, которые на плавном скаку прекраснейших снежно-белых коней плясали по плоскому тамбуру, служившему седлом, и прыгали в серсо, затянутое бумагой. Бывали и действительно удивительные номера, вроде того акробата, который вылетал из пушки, с тем чтобы схватиться на лету за трапецию, или вроде той краснокожей индианки, которая, держась зубами за бежавшее по канату колесико, перелетала с одного конца цирка до другого. У этой акробатки были длинные черные развевавшиеся волосы, а когда красавица достигала предельного места, она ловко вскакивала на пунцовый бархатный постамент и на весь театр пронзительно гикала, что и придавало ее выступлению особую пикантность «дикарки». Обожал я выходы музыкальных клоунов, дрессированных собак и обезьян; больше же всего я однажды насладился сеансом чревовещателя, который с изумительной ловкостью манипулировал целой группой ужасно смешных больших кукол, создавая иллюзию, что это они говорят, а не он. Сохранились у меня в памяти и другие цирковые воспоминания и из них некоторые восходят до дней моего раннего детства, но все же цирк — не моя область, и поэтому я предпочитаю теперь сразу перейти к настоящему театру, к тому, что мне пришлось по душе и по вкусу во всех смыслах.
ГЛАВА 3 Театр
В первый раз меня свели в театр, когда мне было лет пять. Вероятно, это вышло случайно, — получена была от театрального начальства ложа на дневное представление, и вот те из нашей семьи, кто пожелали воспользоваться ею, потащили с собой меня — крошку, хотя то, что предстояло увидеть и услышать, вовсе не было рассчитано на детские вкусы. В Мариинском театре, до которого от нашего дома было рукой подать и где обыкновенно тогда давались русские оперы и драмы, на этот раз давался концерт какого-то странствующего дамского оркестра, и мне пришлось вынести тогда длинную серию увертюр, попурри, вальсов и чуть ли не целую симфонию. Однако, хоть это и было скучновато, я все же был так заинтересован всем тем новым, что меня окружало, начиная от впустившего нас в ложу ливрейного капельдинера и кончая чудесным занавесом, о котором дальше я скажу несколько слов, что я вынес это испытание с честью и, кажется, ни разу не вздремнул и не попросился домой.
Когда занавес поднялся, то на сцене оказалась целая гора белых, пышных по тогдашней моде платьев, из массы которых торчали инструменты, среди которых мое особенное любопытство привлекли страшные, похожие на жуков контрабасы и роскошные «золотые» арфы. Во время же антракта перед декорацией, изображавшей парк с высокими кипарисами, два клоуна тешили публику своими шутками. Всего важнее для меня было то, что я был, наконец, в театре. Я знакомился с самой атмосферой театра, с общим его видом. С жадностью разглядывал я во всех подробностях своеобразное, сверкающее огнями и позолотой великолепие этого раскрывающегося передо мной, над и подо мной простора. Было как-то особенно жутко и сладостно ощущать себя в нем, в этой круглой зале в пять этажей с рядами каких-то стойл-коробочек в каждом из них. Над голубыми портьерами царских лож толстые белые амуры держали золотые короны и гербы с орлами, а с круглого потолка, на котором были изображены пляшущие девы, светила большущая, горевшая бесчисленными! огнями люстра. Таинственной казалась мне та черная дыра, из которой она свешивалась и куда, по рассказам папы, ее снова после представления убирали для чистки и зажигания.
О театральной люстре у нас хранится смешной рассказ про то, как папа дал билет в театр одному из своих подрядчиков — простому крестьянину и как он от всего спектакля, кроме люстры, на которую без перерыва три часа глядел, так ничего и не увидал. Другому подрядчику папа дал билет на спектакль «Ревизор». На следующий день он его спрашивает: «Ну что, Прохорыч, как тебе понравилось представление?» — «Покорно благодарим, очень понравилось, да только уж больно долго пришлось дожидаться». — «Почему, разве не началось, как полагается, в семь часов?» — «Никак нет, Николай Леонтьевич, без малого в полночь начали». — «А что же было до этого?» — «Да так, все что-то господа приходили, уходили, да промеж себя разговаривали, я их и не слушал — не мое, дескать, дело»… Оказывается, вся пьеса «Ревизор» прошла для первобытного Прохорыча как «разговор промеж господ», а оценил он только род движущейся картины, которыми в те времена (с незапамятных времен) кончались русские драматические спектакли. Занавес после заключительного акта еще раз подымался, и в свете бенгальских огней на сцене с полдюжины балерин в сверкающих мишурой платьях — медленно проплывали кругом, сидя в лодочках, изгибая стан и сводя калачиком руки над головой. Это был обычай, специально учрежденный для простолюдинов и не имевший никакого отношения к предшествующей пьесе. Такой «апофеоз» в обиходе носил название «Волшебной карусели». Публика этим зрелищем пренебрегала и до него покидала театр.
Поразил меня тогда и запах театра. Тогда театры освещались еще газом, и характерным запахом для них была та смесь всяких людских испарений, над которыми доминировал именно газовый дух. Долгое время и после того, как было введено электричество, остатки этого запаха, казалось, наполняли коридоры и залы казенных театров, а теперь запах газа неминуемо вызывает во мне с особой остротой воспоминание о театрах моего детства и юности.
Что касается помянутого занавеса Мариинского театра, то когда мы вошли в ложу, он был спущен и едва освещен рампой, но перед тем, чтобы его поднять, его ярко осветили, и тогда он предстал во всей своей красе. Впрочем, я не только тогда оценил этот замечательный занавес Мариинского театра, но и позже я всегда любовался им — до самого того момента, когда его заменили новым и очень безвкусным. Нежность к тогдашнему занавесу Мариинского театра разделяли со мной, как я впоследствии узнал, и Бакст, и Сомов, с уважением отзывался о нем и мой отец. Изображен был на этом занавесе в голубоватой гармонии полукруглый храм со статуей Аполлона Бельведерского посредине. Роскошная писаная рама, увитая розами и поддерживаемая амурами, окружала эту картину, а сверху же и по бокам свешивались малиновые бархатные драпировки. Автором этого шедевра, если я не ошибаюсь, называли парижского художника Обе.
Как не вспомнить тут же и о других театральных sipario — о занавесах в Большом театре, в Михайловском, в Большом театре в Москве (последний был мне знаком по раскрашенной литографии в папиной коллекции). Главный занавес в петербургском Большом театре (работы знаменитого Роллера) изображал греческий пейзаж с двумя храмами по сторонам и с колоссальными статуями богов перед ними. Все это было очень красиво, но особенно я любил разглядывать фигуры детей, которые оживляли эту картину. Слева мальчик возжигал курения на треножнике, справа — другой мальчик дразнил девочку, придерживая перед лицом маску сатира. О втором, антрактовом занавесе в том же Большом театре (он только на момент показывался, когда вызывали артистов) я уже упоминал, когда говорил о Царскосельском дворце. Занавес же в Михайловском театре (с ним я познакомился позже, когда стал посещать французскую комедию) представлял для нас некоторый семейный интерес. Изображено было коронование бюста Мольера во время торжественного заседания французской Академии в XVIII веке. Это была историческая картина исполинских размеров. На первом же плане весьма многолюдной композиции среди великосветских дам в широких робронах эпохи Людовика XV художник Дузи изобразил нашу бабушку Ксению Ивановну, тогда еще молодую красавицу, и ее подругу — жену Ф. А. Бруни. Наконец, московский занавес в рамке псевдорусского стиля представлял встречу у стен Кремля царя Михаила Федоровича, иначе говоря, — заключительный акт оперы «Жизнь за царя».
Получив во время своего первого посещения театра представление о зрительном зале, насытившись зрелищем люстры и занавеса, я во время следующего своего театрального выезда мог уже все внимание сосредоточить на сцене и на том, что на ней происходит. А происходило в этом моем втором спектакле нечто совершенно удивительное — англичанин Филеас Фогг в сопровождении своего лакея совершал в 80 дней путешествие вокруг земного шара. Понимал я тогда по-французски мало, но сюжет в общих чертах рассказали большие, и я мог следить за всеми перипетиями.
Давался этот спектакль в том, впоследствии сломанном деревянном театре, который стоял в двух шагах от Александрийского. В нем давались французские оперетки, и знаменитая Жюдик сообщала антрепризе особенный блеск. В нашей семье опереткой особенно увлекался брат Коля, готовившийся тогда в офицеры. Как мог совмещать Николай ученье в строгом военно-педагогическом учреждении с частыми посещениями театра, да еще такого, в который едва ли вообще пускали беспрепятственно кадетов, этого я сейчас не смогу объяснить. Но самый факт увлечения Колей спектаклями опереток и Жюдик не подлежит сомнению, ибо мне даже запомнились те нотации, которые ему приходилось выслушивать от папы и мамы. Остается предположить, что кадеты ходили в оперетту инкогнито, переодевшись в штатское, прячась от начальства в каких-либо ложах, взятых компанией. Запомнилось мне и то, как Коля делился с товарищами (Ниловым и Хрулевым) своими восторгами, а к тому же подобные похождения вполне соответствовали отчаянному характеру брата. Иногда приключения эти имели своим завершением отсиживание в карцере, если не на гауптвахте.
Возвращаюсь к моему первому спектаклю в настоящем театре, к «Путешествию вокруг света». Меня не столько заинтересовал тогда сам кругленький, плотненький, с небольшими бачками Филеас Фогг, заключивший пари, что успеет в данный срок объехать всю планету, сколько юркий, веселый, расторопный его камердинер Паспарту, который неизменно выручал своего господина каждый раз, когда тот попадал в затруднительное положение. А попадал Филеас в затруднительное положение на каждом шагу. Спектакль состоял из двенадцати, если не из пятнадцати картин, и ни в одной из них не обходилось без какой-либо ужасающей авантюры, а в некоторых их было и по две. Не успеют Фогг и Паспарту отрезвиться от опиума в бомбейской курильне (через огромные окна которой можно было следить за сутолокой восточного города), как они, рискуя жизнью, уже спасают прекрасную индуску Ауду, вдову раджи, обреченную на смерть через сожжение на костре. В следующей же картине спасенная Ауда чуть не становится жертвой змей, наползающих на нее отовсюду. Только что путешественники спаслись от краснокожих, напавших среди зимнего снежного пейзажа на поезд, шедший из Сан-Франциско в Нью-Йорк, как они уже едва не тонут среди Атлантического океана. Это было особенно эффектно: судно раскалывалось на две половины и погружалось среди вздымавшихся мутно-зеленых волн. Кончалось, однако, все благополучно — к отменному торжеству главного героя. Снова мы видели залу того лондонского клуба, в котором произошло заключение пари и где под многочисленными шарообразными лампами восседали за чтением газет всякие джентльмены во фраках. Часовые стрелки над дверьми приближались к роковому моменту, и уже члены клуба спешили поздравить того, кого они считали выигравшим, — как при самом бое полуночи двери растворились и спокойной походкой как ни в чем не бывало вошел Филеас Фогг, нашедший свое вознаграждение за все претерпенное как в огромном количестве фунтов стерлингов, так и в посрамлении тех, кто дерзал сомневаться в его успехе.
Вся машинная часть этого спектакля не только поразила в те дни мою ребяческую голову, но она вызывала и всеобщее одобрение. Особенно восхищались все сценой со змеями, с жуткой плавностью сползавших с пальм и со стен пещеры. Столь же эффектны были метавший столбы искр локомотив, въезжавший на сцену, покрытую снегом, и большущий, прыгавший по волнам пароход. В одинаковой степени меня волновали не только самые эффекты, но и все, что я узнавал о том, «как это сделано». Особенно было интересно узнать, что волнение моря, казавшегося совершенно настоящим, было произведено посредством холста, который вздымался руками находившихся под ним людей…
Я уже упоминал, что «Фауст» был любимой оперой моего брата Альбера; правильнее было бы сказать, что эта была единственная опера, которою увлекался наиболее музыкально одаренный из братьев Бенуа. Любил Альбер и воспроизводить на рояле особенно восхищавшие его места из «Фауста», причем он, вероятно, предавался тем своим личным воспоминаниям, которые с особенной ясностью будили в нем сладкие любовные звуки Гуно. Иногда я, зачарованный, присаживался рядом, и тогда милый Альбертюс снабжал свою игру отрывистыми комментариями, помогавшими мне вообразить все, что должна была изображать музыка. До озноба, до мурашек, до волос дыбом, не видав еще спектакля, я переживал все перипетии оперы. Еще ничего не понимая в старости, я вполне сочувствовал бессильным терзаниям старца-ученого и до слез умилялся, когда он прислушивался к пасхальному пению, доносившемуся с улицы. Вслед за сим я знал, что должен появиться черт и т. д. Поэтому легко можно себе представить, что со мной сделалось, когда все это я увидал в 1876 году на сцене Большого театра!
Маргариту пела архизнаменитая Нильсон, и из всех тогдашних исполнителей только ее имя мне и запомнилось; оно было у всех на устах. Маргарита с ее длинными белокурыми косами, в сереньком платье показалась мне привлекательной, но от исполнения ею роли мне запомнилось лишь то, как она мечется перед Мефистофелем на ступенях церкви и как в последнем акте, в тюрьме, падает с глухим стуком. Сказочно прекрасным показался мне Фауст, когда он, помолодевший, предстал в костюме из черно-синего бархата с огромными белыми буфами и в круглой шляпе с белым страусовым пером. И все же еще больше пленил меня черт — Мефистофель, к которому я даже испытал род нежности, тогда же, впрочем, осознанной как нечто запретное. Его красная, тонкая фигурка с красным перышком на крошечной красной шапочке напоминала некоторые из моих сновидений того особенно сладостно-жуткого характера, которыми иногда Морфей балует любимых детей. Когда среди тьмы, окутывавшей весь мрачный кабинет Фауста, в лучах красного света поднялся из пола этот остроносый красный господин, то я обрадовался ему, как хорошему знакомому и даже на радостях вскрикнул на весь театр. Мефистофель, подобно приятелю Арлекину, обладал всякими магическими возможностями: захотел — и стена кабинета растаяла, и Фауст при звуках райской мелодии увидал Маргариту, как она у себя дома сидит за прялкой; захотел Мефистофель — и из бочки Бахуса полилось вино; захотел — и вино вспыхнуло пламенем. Все же мне не стало жалко моего любимца, когда вслед за этим последним чудом черта окружили студенты с поднятыми крестообразными шпагами, а он, как червяк, закорчился на земле. У детей это всегда так: и самое любимое они не прочь помучить или же они, со странной смесью жалости и упоенья, будут глядеть, как другие мучают и терзают. А тут я сознавал, что мученье вполне заслуженно.
В дальнейшем развитии оперы черт действительно проявляет всю свою злую природу. Как гадко, что он убивает доброго, честного брата Маргариты! И почему же он так злобно издевается над хорошеньким Зибелем, который только что принес для Маргариты огромный букет цветов? Не он ли также все устроил так, чтобы бедная Маргарита попала, наконец, в тюрьму? Вот почему, когда под самый конец я увидал Мефистофеля лежащим в скрюченной позе под копьем Ангела, — я решил, что это ему поделом. За секунду перед тем вся грандиозная каменная стена тюрьмы куда-то провалилась, и вместо нее раскрылся вид на большой, видимый сверху город. Над черепичными крышами, над шпилями церквей медленно подымалась теперь к небесам странная, вся завешанная тюлем группа, напоминавшая мне несколько тот вид, который получали люстры, когда их на лето завешивали чехлами. Именно то, что тут ничего нельзя было разобрать, особенно мне понравилось. В этом медленном вознесении чего-то бесформенного, что должно было означать душу Маргариты, была удивительная жуть. Торжественные аккорды апофеозной музыки казались мне поистине небесными и вызывали в душе такое же молитвенное чувство, как то, что должен был испытывать в это время вставший на колено Фауст. Из всей музыки «Фауста» мне ярче всего запомнился именно этот торжественный мажорный гимн, да еще, как это ни странно, комический хор стариков.
Несколько месяцев спустя я удостоился в первый раз попасть в балет. Так как судьба мне готовила сыграть известную роль как раз в этой отрасли театрального искусства и даже сыграть ее в международном масштабе, то мои первые впечатления от балета могут даже представить и несколько больший интерес. Я и на этот раз как бы помешался. Но помешался я не столько от танцев (как и в опере я не столько пришел в восторг от пения), сколько от всего представления в целом и главное, — особенно от фантасмагории, получившейся от соединения яркости декораций и костюмов с красотой движений и с музыкой. Напротив, самые танцевальные эволюции, особенно кордебалета, показались мне надоедливыми. С другой стороны, именно то, что в балете не говорили и не пели, а только молчаливо под музыку действовали, — это, видимо, отвечало какому-то моему коренному вкусу. Ведь этот же безотчетный вкус заставил меня отдать предпочтение немой пантомиме в балагане Огарева перед «говорящей» арлекинадой у Берга.
Впрочем, я считаю лишним распространяться здесь на эту тему, которой целиком посвящены мои специально балетные воспоминания. Ограничусь лишь тем, что я, сидя в 1876 году в ложе первого яруса со своими кузинами и впиваясь глазами в то, что происходило на сцене, где шел балет «Баядерка», пережил тогда минуты, принадлежащие к самым счастливым в моей жизни, мало того, к минутам, имевшим в себе «нечто вещее», точно предчувствие в будущем таких же, если не еще больших, радостей. Четырнадцати лет я сделался заправским балетоманом, но и до того я успел увидать почти все шедшие на императорской сцене балеты. Все они были пышно поставленными многоактными спектаклями и исполнены романтической поэзии. Водили меня сначала в балет приблизительно два раза в году — на Рождество и на Пасху, а потом и гораздо чаще. Таким образом, передо мной прошли и страшная история про «Дочь снегов», в которой мореплавателя, пренебрегшего любовью сказочной принцессы, пожирают белые медведи, и «Бабочку», начинавшуюся с веселого оживления всяких овощей и кончавшуюся апофеозом с павлином во всю сцену, и очень эффектно поставленный балет «Пигмалион» (кн. Трубецкого), в котором скульптор влюбляется в созданную им статую и в котором по золотой лестнице, занимавшей всю ширину сцены, сновали сверкающие драгоценностями негры. Скорее я был разочарован балетом «Дон Кихот», в котором герой Сервантеса сражался с мельницами, колол марионеток странствующего театра и был, наконец, повержен таинственным, закованным в серебро рыцарем луны… Некоторые балеты я видал по два, по три раза, и все — с неостывающим интересом. Это случилось, например, с «Роксаной», поставленной в 1878 году в ознаменование увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах. Но я к этому балету еще вернусь в связи с моими воспоминаниями о русско-турецкой войне.
Совершенно особняком стояли балеты комические и полукомические, вроде «Фризака-Цирюльника» и «Марко Бомбы». К комическим же принадлежал отчасти и самый популярный из русских балетов «Конек-горбунок», сюжет которого был заимствован из сказки, обработанной Ершовым. Здесь главная роль принадлежала не какому-либо принцу, а простому мужичку, да вдобавок заведомому простофиле-дураку. Однако самое изумительное счастье выдавалось именно ему. Изловив волшебного конька, он превращал его в своего послушного слугу, но только, при невозможности ввести в число исполнителей настоящую лошадь, авторы балета прибегли к компромиссу. В первой картине Иванушка-дурачок действительно схватывает бежавшего среди полей картонного конька, во второй картине он даже взлетает в облако, сидя на нем задом наперед, но уже дальше зрители видели не горбатенькую лошадку, а какого-то скрюченного человечка, одетого в странный костюм и непрестанно слегка подпрыгивающего. И что же, мы, дети, верили, что это тот же, только что виденный жеребенок, и что именно в таком виде Конек-горбунок обладает чрезвычайной силой волшебства. Хлестнет Дурак кнутиком, и уже «гений конька» тут как тут, прыгает и прыгает вокруг своего повелителя, вопрошая, что ему нужно. Благодаря Коньку Иванушка попадает во дворец к самому хану — необычайно противному и сластолюбивому старику, благодаря Коньку он отправляется в некое сказочное царство, в котором бьет фонтан до самого неба и прелестные особы танцуют знаменитый вальс, благодаря Коньку Иван-Дурак спускается в поисках за обручальным кольцом для Царь-девицы на дно морское и, наконец, благодаря помощи Конька Дураку удается перехитрить хана, обернувшись после окунания в кипящий котел, красавцем-царевичем, тогда как хан, последовав его примеру, в том же котле сваривается и гибнет.
Балет кончался апофеозом. В глубине сцены появлялся новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих население Российского государства и пришедших поклониться Дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки, и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды. Не понимаю только, как такое дерзкое вольнодумство могло быть пропущено строгой тогдашней цензурой, да еще на подмостках императорского театра! Очевидно, блюстители верноподданничества проглядели то, что в этом может крыться непристойность и даже неблагонадежность! А детям было, разумеется, все равно — благо, гадкий старый хан погиб в котле, а полюбившийся им (в исполнении Стуколкина) Иванушка получил в жены волшебную девушку и оказался на троне.
В дефиле народностей, населяющих Россию, выступала неоспоримо самая красивая из всех тогдашних танцовщиц — дочь балетмейстера, заведомая пожирательница сердец Мария Мариусовна Петипа. Уже в «Роксане» в 1878 году она — совсем еще тогда юная, произвела на меня, восьмилетнего, некоторое впечатление, ну а тут, будучи мальчиком тринадцати лет, я и впрямь в нее влюбился, — особенно после того, как она, лихо станцевав малороссийский танец, в уста громко, на весь театр, целовалась со своим партнером Лукьяновым. Необычайный конец малороссийского танца вызывал всегда бурный энтузиазм и требование повторения. Маруся Петипа стала с этого момента и в течение нескольких месяцев предметом моего обожания.
Моя влюбленность в Петипа достигла своей предельной степени, когда я увидал ее в «Коппелии» танцующей мазурку и чардаш. Но тут же должен прибавить, что длинноногая, ленивая, в сущности, вовсе не талантливая Мария Мариусовна была плохой танцовщицей. В смысле техники она уступала последним кордебалетным «у воды», она даже на носки вставала с трудом и охотно переходила с них на «полупальцы». Движения у нее были угловатые, а ее стану недоставало гибкости. В силу этого отец-балетмейстер и давал ей танцевать одни только характерные плясы, где она могла в безудержном вихре проявить весь свой sex appeal. Или же ей поручались роли принцесс, королев и фей, требовавшие одних только прогулок пешком да кое-каких жестов. В том же «Коньке», в третьей картине, во дворце хана, Петипа изображала «любимую альмею»; протанцевав с грехом пополам какой-то пустячный танец, она затем принималась метаться по сцене, довольно бездарно изображая муки ревности, вызванные тем, что хан предпочитает ей черноокую русскую девушку — ту самую Царь-девицу, которую ему добыл Иванушка… При всей моей влюбленности в Марусю, недостатки ее не были от меня сокрыты, мало того, именно эти недостатки я ощущал как-то особенно остро, ибо страдал от несовершенства моей пассии.
Только что упомянутый балет «Коппелия» сыграл в моем художественном развитии значительную роль. Одновременно с этим увлечением «Коппелией» я до безумия увлекся музыкой «Кармен», как раз в те же годы (1883–1884) поставленной, точнее, возобновленной; однако первое появление «Кармен» в Петербурге, за десять лет до того, прошло совершенно незамеченным. Но мое отношение к «Коппелии» было иного порядка, нежели мое отношение к гениальному произведению Бизе. Тут было несравненно меньше страстности патетического начала, зато «Коппелия» насыщена какой-то чарующей нежностью, какой-то сладостью без привкуса приторности. И не потому этот балет стал моим любимым, что в первом действии я не сводил глаз с Маруси Петипа, отплясывавшей чардаш и мазурку, и не потому еще, что исполнительница главной роли (Сванильды) — хрупкая, тоненькая, хорошенькая Никитина — подкупала не столько танцами (она была скорее слаба на ногах), сколько своей чуть болезненной грацией, а потому, что музыка Делиба с ее окутывающей лаской проникала все мое существо. Это начиналось с первых же нот увертюры, переносившей меня в чудесный мир сладостных грез. Я бы даже сказал, что те минуты возбуждения, которые я испытывал (и мой сосед по креслу, Володя Кинд, не меньше, чем я) во время беснования Маруси Петипа, скорее портили дело, нарушая нечто бесконечно более ценное — то самое, что, по мере своего роста и утверждения, становилось моим основным художественным убеждением. Благодаря «Коппелии» пробудилась моя личная эстетика, образовался мой вкус, начала слагаться для меня какая-то мера вещей, которая с тех пор созревала и пополнялась в течение всей жизни, по существу оставаясь тем же самым. Я вообще человек постоянных привязанностей, — но тут было нечто большее, тут я нашел себя (дальнейшими этапами этого самонахождения я считаю увлечение Вагнером, Римским, Мусоргским, Чайковским). И я был безгранично счастлив этой находке…
Теперь такое признание может показаться странным, а иные сочтут это и чем-то недостойным. Балет Делиба до такой степени повсеместно истрепали и испошлили, что о нем даже чуть неловко говорить серьезно. Необходимо даже иметь для того известную долю храбрости. Эту храбрость я и черпаю все из той же силы воздействия, которую испытал тринадцати-четырнадцатилетним мальчиком. Надо прибавить, что тогда соединились особенно счастливые условия для такой оценки «Коппелии». Начиная с оркестра, который под управлением тончайшего музыканта Р. Дриго, боготворившего Делиба, передавал всю кружевную тонкость партитуры, — все в тогдашнем петербургском исполнении «Коппелии» было идеальным. До чего просто и убедительно разыгрывалась нехитрая, но занимательная интрига, до чего блистательно были поставлены бравурные пляски мазурки и чардаша и упоительный финальный галоп. Как выгодно для различных артистов были придуманы их сольные номера, среди коих непревзойденными остаются сцены оживления куклы и ее шаловливые танцы. Впрочем, должен тут же сознаться, что как раз на родине «Коппелии» — в Париже я (гораздо позже) увидал мой любимый балет в неузнаваемом и искаженном виде, тогда как у нас он до конца существования императорских театров сохранил верность стилю той постановки, которую я сподобился увидать в свои отроческие годы. Очевидно, эта постановка была построена на столь прочной основе, что поколебать не удалось и в течение полувека дальнейшего ее появления на русской сцене. Менялись исполнители, менялись дирижеры, но по-прежнему оркестр зажигал не только артистов на сцене, но и зрителей. По-прежнему в начале второго действия создавалось очаровательно шутливо-мистическое настроение, по-прежнему в сцене опьянения и наследники Гердта в роли Франца и наследники Стуколкина в роли Коппелиуса были убедительны, по-прежнему все третье действие было полно подлинного настроения праздника…
Кстати, об этом третьем действии. В Париже одно время его перестали давать, и это из какого-то ложно понятого пиетета к памяти Делиба. Считается, что здесь мы имеем сотрудничество двух авторов — француза Делиба и немца Минкуса, причем трудно определить, что именно принадлежит первому, а что второму. Такой пиетет неуместен. Правда, третье действие не более как дивертисмент, какой-то придаток к главному (тогда как пьеса кончается с момента бегства Сванильды из кабинета восковых фигур), и все же этот придаток необходим для полноты впечатления. Кто бы ни был автор, но и «Марш колокола», и «Галоп», и «Танцы часов», и «Молитва» — настоящие музыкальные перлы. Что же касается «Крестьянской свадьбы», то это уже неоспоримо Делиб, и в его чудесном красочном творении едва ли найдется что-либо равное этому шедевру! И до чего же мягко, гладко, грациозно, игриво и серьезно исполнял этот скользящий танец бесподобный в своем роде танцор Литавкин! Вот когда оживал во всей своей свежести и грации XVIII век, вот что лучше, нежели и самые изощренные слова, помогло мне познать самую суть этого очаровательного, столь нелепо охаянного времени, являющегося на самом деле одним из кульминационных пунктов всей истории культуры…
И еще два слова о «профанации». Если Гуно обвинять в профанации Гете (о, глупость неблагодарной толпы, в которую входит и вся клика якобы передового снобизма), то и Делиба обвиняют в известной профанации Гофмана. Я ли не поклонник последнего? Ведь и он — столь жуткий, столь близкий, столь насквозь поэтичный Эрнст Теодор Амадеус — является моим кумиром и художественным путеводителем. Вот еще кому я обязан созданием своей «меры вещей». Но именно благодаря этой самой мере я не могу согласиться с тем, что Делиб повинен в какой-либо профанации, когда он передал на свой лад сюжет сказки «Песочный человек». Правда, у Гофмана царит великий серьез, это очень серьезно задумано, тогда как у Делиба все носит характер потешной шутки. Однако я убежден, что, если бы Гофман услыхал музыку Делиба, он первый пришел бы в безоговорочный восторг. Получилось во всяком случае, не уродливое искажение, а нечто самодовлеющее в своей убедительной прелести.
Считая, что я уже достаточно пространно рассказал о всем моем увлечении балетом в отдельной книге (вышла в английском переводе в 1941 году под заглавием «Reminiscences of the Russian Ballet»), я не стану в этих своих общих мемуарах особенно распространяться на эту тему. Однако ряд балетных впечатлений, полученных на заре жизни, был слишком значителен для формации моей личности и моего творчества, и обойти их здесь молчанием я не могу.
В том же году, когда я «открыл» «Коппелию» и когда получал на каждом спектакле этого балета непередаваемую радость, я познакомился и с «Жизелью». Этот балет, ставший последние годы во всем мире одним из самых излюбленных, был в те годы в загоне, его давали редко, а наши балерины избегали брать на себя главную роль. Я же увидал «Жизель» случайно на каком-то утреннике 1885 года. Танцевала не Вазем, не Соколова, не Никитина, а не очень любимая публикой костлявая, несколько угловатая, некрасивая и слишком большая Горшенкова, впрочем, считавшаяся хорошей техничкой. Зал был наполовину пуст, и, вероятно, спектакль этот был дан «на затычку», — чтобы утешить малопленительную и лишь «уважаемую» балетоманами танцовщицу. Декорации ветхие, выцветшие, костюмы сборные. Да и я сам забрел в театр один, без Володи, не из любопытства, а так — от нечего делать. И однако, этот спектакль оказался одним из самых значительных и произвел на меня впечатление прямо ошеломляющее. Оно было настолько сильно, что я с того же дня сделался каким-то пропагандистом «Жизели». В последующие времена я в разговоре с директорами театров — с Волконским и с Теляковским — настаивал на ее возобновлении, причем с момента, когда стала выдвигаться юная Анна Павлова, моей мечтой было увидать ее в этой роли. Наконец, я добился от Дягилева, чтобы во второй же сезон наших балетных спектаклей в Париже была включена «Жизель» (в моих декорациях и костюмах) и именно с Павловой. На самом деле получилось не совсем так. «Жизель» мы дали, но Павлова в последний момент подвела, отказалась, соблазненная каким-то более выгодным предложением, и ее заменила Карсавина. Но от этого ни мы, ни все исполнение балета нисколько не потеряли. Успех выдался «Жизели» с Карсавиной решительный, и именно с этого триумфа это очаровательное произведение французской романтики, совершенно было позабытое на родине, делается чем-то почти модным, и его включают в репертуар всевозможных предприятии, и самые знаменитые балерины считают за честь в нем выступать.
Я не утерпел перед соблазном забежать далеко вперед и упомянуть о дальнейшей судьбе «Жизели», но, разумеется, в тот день, когда мне выдалось счастье увидать этот балет впервые, я, тогда еще безбородый юнец, не мог себе вообразить все, что должно было произойти. И на сей раз я не увлекся артисткой, исполнявшей роль Жизели, а именно самой «Жизелью», всей печальной историей героини. Исключительная прелесть этого балета заключается именно в истории совершенно неправдоподобной и все же с полной убедительностью переданной в необычайно сжатой форме «милым Тео», ставшим с тех пор одним из моих идеалов, а в одном случае и прямым вдохновителем: сюжет моего «Павильона Армиды» навеян одной фантастической повестью Теофиля Готье. Впрочем, не следует умалять и значение музыки Адана. Она не принадлежит к первоклассным шедеврам, она не может идти в сравнение с музыкой Делиба (или Чайковского), но два-три номера до того удачны и милы, это такие находки, что именно они в значительной мере способствуют какому-то исключительному воздействию балета на зрителей. Особенно это касается знаменитого аллегро-луре, в котором при первом его появлении столько любовной нежности, так передано любовное счастье и которое при репризе (в сцене сумасшествия) вызывает почти невыносимо щемящее чувство. Пожалуй, не найти чего-либо, что так бы заражало настроением, как эта, как будто простенькая и все же единственная в своем роде мелодийка… В описываемый период я уже совершенно отвык от слез; тем не менее мелодия аллегро-луре (равно как и некоторые вальсы Шуберта в обработке Листа) неизменно вызывали во мне известное «щипание в носу», и я должен был удерживаться, чтобы не разрыдаться.
Следующее мое театральное балетное увлечение уже совершенно выпадает из периода детства, но я не могу не коснуться здесь и его в связи с предыдущим. Оно является увенчанием того внутреннего процесса, какого-то вкусового созревания, которое началось с «Коппелии» и «Жизели» (в этом процессе оказала немалое воздействие и итальянская опера) и привело к образованию самых основ моего художественного понимания. И это театральное увлечение было вызвано балетом, но на сей раз я увлекся не каким-либо произведением (как это было с «Коппелией» и «Жизелью»), а произвела на меня глубочайшее впечатление исполнительница, артистка. То была Вирджиния Цукки, появившаяся в Петербурге летом 1885 года. Мне только что минуло тогда пятнадцать лет, но во многих отношениях я себя чувствовал старше и был несравненно развитее большинства своих сверстников. Посему и мое увлечение Цукки нельзя отнести к каким-либо детским ошибкам.
Повторяю, я не хочу здесь возвращаться к тому, что изложено в моих специально балетных воспоминаниях. Ограничусь напоминанием нескольких фактов. Впервые я вижу Цукки в конце июня или в начале июля в оперетке «Путешествие на луну» в загородном театре антрепризы Лентовского «Кинь грусть». В этих выступлениях итальянская балерина появлялась в небольшом и довольно скромном танце, не имевшем отношения к сюжету оперетки. Ее еще не знает широкая публика, и она танцует при пустующем зрительном зале. Я сразу подпадаю под шарм совершенно новой ее манеры, покидаю театр с ощущением чада в голове и затем предпринимаю раз пять то же длинное путешествие на Острова, только чтобы в течение трех-четырех минут любоваться, как под музыку популярного, но довольно пошленького вальса «Только для природы» Вирджиния, точно подгоняемая каким-то дуновением зефира, пятясь мельчайшими шажками, скользит по полу сцены. В этом танце была самая подлинная поэзия, публика не могла оставаться равнодушной и требовала еще и еще повторений.
В середине июля я уезжаю на полтора месяца гостить в имение в Харьковскую губернию и по возвращении застаю уже совершенно иную картину, совершенно иное настроение. Теперь о Цукки говорит весь город, а вовсе не одни только балетоманы. Места в тот же недавно пустовавший театр «Кинь грусть» берутся с бою, и без помощи барышников туда не попасть. Этот фантастический взрыв успеха артистка завоевала выступлением в отрывках балета «Брама» — и особенно она потрясла зрителей в сцене, которая ей давала возможность показать всю силу своего темперамента, всю бесподобную убедительность ее мимики. Мое начавшееся увлечение вступает в новый фазис, и я начинаю безумствовать. Когда же становится известно, что Цукки после своего выступления перед царской семьей в Красном Селе ангажирована с осени в наш Большой театр, то я готовлюсь к этому счастью с каким-то особенным возбуждением. Мой друг Володя вполне разделяет мою лихорадку, и мы являемся в театр на первое выступление Цукки на императорской сцене, как на великий праздник, готовые и к тому, чтобы, в случае надобности, вступить в борьбу против той кабалы националистически настроенных балетоманов, которые якобы поклялись устроить скандал заморской звезде. Но никакого скандала не получилось; видимо, кабала поджала хвост перед тем энтузиазмом, который Цукки возбудила, как только выступила в виде оживленной мумии дочери фараона. Весь спектакль прошел затем при сплошных бешеных овациях, аплодисментах и криках, а временами слышался резкий голос великого князя Владимира, доносившийся из нижней царской ложи (где обыкновенно сидели августейшие), голос, произносивший на весь театр слова: «Браво, Цукки».
И действительно, то, что увидал тогда Петербург, было нечто совершенно новое. Куда девалась известная академическая чопорность, считавшаяся одним из главных достоинств русской балетной школы? Не только Цукки воплощала собой жизнь девушки, полной страсти, любви и нежности, но все вокруг нее были заражены эманациями ее гениальности. Гердт был прямо неузнаваем. Он вдруг утратил всякий намек на привитую ему казенную выправку, он был совершенно заодно со своей новой партнершей. «Дочь фараона» — этот громоздкий, тяжеловесный, бесконечно длинный и уже тогда успевший стать старомодным балет выбрала себе для бенефиса Евгения Соколова, но она внезапно заболела, и вот только что прибывшую из-за границы Цукки заставили, чтобы спасти положение, в одну неделю разучить роль Аспичии, в сущности, мало для нее подходящую. И произошло следующее: когда после нескольких недель выздоровевшая Соколова в свою очередь предстала перед публикой в той же роли, то это показалось до того пресно, тускло, что даже самые ее верные поклонники не могли скрыть своего разочарования. Правда, Соколова провела свою роль с большим благородством, более приличествующим царевне, но что это значило после волнующей жизненности Цукки?
Вся сила искусства Цукки заключалась именно в том, что это была сама жизнь, она не исполняла какой-либо порученной ей роли, а вся превращалась в данное действующее лицо. Сам Мариус Петипа, сначала споривший с поступившей под его начало новой артисткой, постепенно подпал под ее шарм; вернее, будучи сам подлинным художником, он оценил по-должному то, что было в Цукки самого главного, что горело в ней подлинным священным огнем.
И тогда раздавались голоса критиков, иногда и очень злобные. Если память мне не изменяет — это С. А. Андреевскому принадлежит стихотворение, имевшее большой успех среди балетоманов старой школы, начинавшееся со строк: «Все Цукки да Цукки, знакомые штуки»… и в заключение прославлявшее имена вполне классических танцовщиц — «священные тени Лимидо, Дельэры». Вообще критики ставили в вину Цукки самую необузданность, с которой выражались ее чувства, и то, что в этом было нечто чересчур человечное, следовательно, вульгарное. Раздавались и критики чисто технического порядка: сожалели, что она танцовщица приземленная, что в ней «мало баллона», что она недостаточно высоко подымается над полом сцены. Но можно ли вообще говорить о таких недочетах, когда налицо главное, и это главное есть жизнь. Бывают художники, перед глазами которых как бы отверсты небеса, и они беседуют непосредственно с ангелами и богами. Это чудо чудесное, и человечество вправе видеть в них представителей какого-то высшего начала. Таковы Сандро, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Тинторетто… Но иные художники остаются на земле, они лишены полета, и однако они действуют на нашу душу с не меньшей силой, а в общем они даже ближе к нам, более доступны, более родственны.
К таким земным, почвенным и все же пропитанным поэтичностью явлениям принадлежала и Цукки. Это не была сильфида (и едва ли она была бы хороша во втором действии «Жизели», когда бы ей пришлось изображать бесплотную виллис), но там, где требовалось присутствие на сцене олицетворения женщины и всего чисто женского обаяния, там Вирджиния была незаменима и являла предельную убедительность. Невозможно было не верить, что она искренне переживала те чувства, которые она выражала и не только мимикой своего отнюдь не красивого и, однако, сколь значительного и милого лица, но и всеми движениями своего тела — то порывистыми, то бурными, то мягкими и нежными до предельной степени. И опять-таки этот ее удивительный дар говорить без слов выражался не только в драматических сценах, но и в любом танце. Я помню, например, тот, не столь уже замечательно поставленный и чуть нелепый танец, который она исполняла во втором акте «Дочери фараона» на празднике, устроенном ее царственным отцом в честь прибывшего в качестве жениха Нумидийского царя. В афише этот номер значился под загадочными словами «Танец восточной теорбы». И вот даже в этом курьезном, чуть угловатом танце Цукки была умилительна и трогательно прекрасна. Я знаю людей, которые плакали, буквально проливали слезы на спектаклях Цукки и вовсе не потому, что данная драматическая ситуация в балете становилась уже очень щемящей, а потому, что это было так хорошо! И хорошо это было потому, что было исполнено жизни, что здесь налицо было то искусство, в котором уже не видишь и тени искусственности. Настоящее чудо!
ГЛАВА 4 Кушелевка
Должно быть, желание быть поближе к своей старшей дочери, ожидавшей рождения второго ребенка, а также необходимость для папы часто бывать на постройке колокольни при церкви на Католическом кладбище (на Выборгской стороне) побудили моих родителей летом 1877 года поселиться на Кушелевке. Здесь уже второй год жила сестра Камишенька со своим Матом и с первенцем Джомми. Кушелевкой называлась дача под Петербургом графов Кушелевых-Безбородко, расположенная, не доезжая до Охты, по набережной Невы. Рядом по Неве стояли и другие роскошные и менее роскошные дачи, среди которых особенно выделилась в дни революции 1917 года дача Дурново с ее торжественной колоннадой, приютившая одну из главных штаб-квартир торжествующего пролетариата. Недалеко от нее сохранилась и другая барская дача изящной классической архитектуры, служившая резиденцией директора чугунолитейного завода. Однако ни этот домик, ни дача Дурново не могли идти в сравнение с Кушелевкой.
В 50-х годах XIX века пышный и расточительный граф Кушелев мог еще, не рискуя ударить в грязь лицом, дать во дворце своего предка, знаменитого канцлера, пристанище самому Александру Дюма-отцу, и в эти годы на Кушелевке протекала роскошная, полная барских прихотей жизнь. Но с тех пор под боком у парка выросла на Охте английская бумагопрядильная фабрика, и одно ее красное здание, с трубой, выбрасывающей клубы черного дыма, и с ее непрестанным шумом, совершенно изменило характер всей округи. Кроме того, пробудившаяся страсть к наживе посредством продажи земельных участков толкнула и наследника графов Кушелевых, графа Мусина-Пушкина, расстаться с некоторой частью своей усадьбы, и как раз в 1875 году было построено на одном из таких участков (в двух шагах от дворца) другое, не менее грандиозное, нежели бумагопрядильная фабрика, здание — Славянский пивоваренный завод, тоже с трубой, с дымом и со своими своеобразными шумами.
Склонностью графа Мусина-Пушкина реализировать свои земли воспользовался и мой дядя Сезар Кавос — человек и сам по себе предприимчивый, а тут еще подпавший под влияние нового члена нашей семьи, мужа моей сестры Камиллы М. Я. Эдвардса, уговорившего дядю вложить некоторый капитал в канатную фабрику. Под это предприятие и был дядей приобретен еще один значительный кусок парка, и в 1876 году было там заложено первое здание завода, выросшего затем в течение нескольких лет в целый фабричный поселок.
Обе фабрики, пивоваренная и бумагопрядильная, расположенные на берегу Невы, теснили с двух боков усадьбу, созданную для досугов екатерининского вельможи; тем не менее в 1877 году и дворец, построенный Кваренги, и гранитная пристань, спускавшаяся монументальными лестницами до самой Невы, а также и многие постройки, разбросанные по парку, были еще в целости. Несколько комнат во дворце снимали в первое время после замужества Эдвардсы, и я помню ту пустую, отделанную под гладкий мрамор залу, в которой под огромной люстрой в полной диспропорции ежился их маленький круглый обеденный стол. Вход к сестре был из сада, но не через дверь, а через окно, к которому приходилось подыматься по чугунной, пристроенной к фасаду лестничке, тогда как из сеней дворца не было хода в их выкроенную из парадных апартаментов квартиру. Эдвардсы прожили там лишь год с небольшим, а затем переехали в домик, стоявший неподалеку в парке, и, наконец, поселились в специально построенном доме уже в непосредственном соседстве с канатным заводом.
При прежних хозяевах в самом парке, немного в стороне от дворца, было выстроено несколько дач, частью служивших помещением для гостей, частью сдававшихся внаем. Самый милый из этих домиков, украшенный балконом на четырех колоннах и стоявший довольно близко от входных ворот, сняли мои родители, отделив половину его недавно тогда женившемуся брату Альберу. На других же кушелевских дачах проживали приятель М. Я. Эдвардса — шотландец Нетерсоль с женой и двумя малолетними дочерьми, милейшее немецкое семейство Лудвигов и еще какие-то господа, не нарушавшие общей мирной гармонии, царствовавшей между дачниками. Единственно, что в тот первый наш кушелевский год вносило некоторый диссонанс, — это то, что самая крупная из дач была сдана под общежитие пришлых издалека (не охтенских) рабочих, занятых на начавшем уже свою деятельность канатном заводе, но и этот люд вел себя тихо и скромно. Их даже никогда не было видно в нашей части парка; они рано уходили на работу, когда еще все спали, возвращались в полдень часа на два для обеда и отдыха и снова приходили вечером на ночевку, причем путь их через парк лежал в стороне от нашего обиталища. Никаких скандалов и пьяных дел мне не запомнилось.
На Кушелевке мы жили в 1877, 1878 годах и затем еще в 1882 году, и вот эти три лета дали мне очень много. Разумеется, я тогда не мог вполне сознавать то, чему я был свидетелем, а именно, что на моих глазах происходило разложение остатков славного прошлого; но когда папочка бранил меркантильность графа Мусина-Пушкина, когда он с горечью вспоминал, какой Кушелевка была в дни его молодости, когда Лудвиги рассказывали про те празднества, которых они сами «совсем еще недавно» были свидетелями, когда другие старожилы сообщали подробности о том, какие в парке стояли статуи и вазы и как чисто содержали каналы, по которым скользили золоченые гондолы, то все это вызывало во мне смутную печаль, а то, что доживало свой век на прежних местах, пробуждало во мне род тревожного предчувствия, как бы и это все не погибло. Оно и погибло, но уже значительно позже.
За год до того, как мы поселились на Кушелевке, и как раз когда строился Славянский завод, строителем которого был мой двоюродный брат Жюль Бенуа, я в первый раз посетил Кушелевку, и в это первое мое посещение меня больше всего поразила Руина. Это была одна из тех затей, в которых, в предчувствии романтических веяний, уже в XVIII веке, выразилась мечта о средневековье. Руина эта, построенная в дни Екатерины знаменитым Кваренги (изображение ее имеется в увраже, посвященном его творению), должна была представлять развалины замка, с уцелевшей круглой башней. О Кваренги я тогда не имел никакого понятия, о средневековье — весьма смутное и скорее сказочное, зато, как многие дети, был легко возбуждаем всем, что просто носило отпечаток таинственности. Не возьми меня тогда папа за руку, я бы ни за что не решился пройти мимо этих поверженных на землю грандиозных колонн и карнизов и взобраться по заплесневелым валким ступеням нескончаемой, как мне показалось, винтовой лестницы. Но с папой страх исчезал, а вид, открывавшийся с верхней площадки Руины, мне очень понравился. По ту сторону Невы, отражаясь в ней, сияли главы Смольного монастыря, на первом плане возвышалось внушительное здание Безбородкинского дворца, по другую сторону — сливался с далекими лесами парк, в котором белели павильоны и статуи. Там же, где готовилось сооружение пивоваренного завода, почва была вся разрыта для фундамента, лежали груды мусора, балки, доски, кирпичи. Естественно, что когда мы в 1877 году поселились на Кушелевке, я первым долгом попросился на Руину, но оказалось, что Руины больше нет; ее пришлось снести под какие-то сараи для пивных бочек, и мне кажется, что именно тогда я в первый раз понял (не зная самого слова) ужас художественных вандализмов. Я даже возненавидел своего кузена, по распоряжению которого совершился этот чудовищный поступок, погубивший то самое, что в памяти у меня осталось как чудесный сон.
Наше поколение, заставшее еще массу пережитков прекрасной старины и оказавшееся в то же время свидетелем начавшейся систематической гибели этой старины под натиском новых жизненных условий (и теорий), не могло не воспитать во мне какую-то особую горечь при виде совершавшегося процесса, находившегося в связи со все большим измельчанием жизни. Все на свете подчинено закону гибели и смены. Все старое, отжившее и хотя бы распрекраснейшее должно в какой-то момент уступить место новому, вызванному жизненными потребностями и хотя бы уродливому. Но видеть, как распространяется такая гангрена и особенно присутствовать при том моменте, когда гангрена только еще чего-либо коснулась, когда обреченное тело в целом кажется еще здоровым и прекрасным, — видеть это доставляет ни с чем не сравнимое огорчение. Подобные ощущения чего-то бесконечно печального и жалкого, испытанные мной в детстве, оставили глубокий след на всю жизнь. Они, несомненно, предопределили мой исторический сентиментализм, а косвенно мои «кушелевские настроения» сыграли свою роль в образовании того культа прошлого, которому в начале XX века со мной во главе отдавалась значительная группа художественных деятелей, ставящих себе целью убережение исторических и художественных ценностей. От моей Кушелевки к созданию «Художественных сокровищ России», к работе в редакциях «Мира искусства» и «Старых годов», наконец, к образованию «Общества охраны памятников» — лежит прямой путь.
Кушелевский парк, называвшийся также Безбородкинской дачей, занимал неправильный четырехугольник, тянувшийся одной стороной по Неве и уходивший в глубину, пожалуй, на целую версту. Почти посреди набережной стоял (а может быть, уцелел и до сих пор) летний дворец канцлера князя Александра Андреевича Безбородко, состоявший из массивного трехэтажного корпуса с фронтоном и двумя круглыми башенками по бокам. От этого корпуса шли полукруглые галереи, упиравшиеся в два флигеля, выходившие на самую набережную. От одного флигеля к другому тянулась ограда, состоящая из ряда сидящих львов, через пасти которых была продета тяжелая железная цепь. Двое ворот закрывали вход в передний палисадник, усаженный кустами сирени. По другую сторону набережной улицы, ровно против середины дворца, была расположена Гранитная терраса с железными решетками и гранитными же сфинксами. По бокам террасы, по склону берега, спускались к нижней площадке две, тоже каменные лестницы, а под террасой был род сводчатого погреба (какие мы видим на композициях Гюбера Робера), служивший в 70-х годах жилищем для рыбаков. От этого грота к воде во всю ширину пристани шли опять каменные ступени.
В сад Безбородкинский дворец выходил террасой с перильцами кованого железа. Широкая липовая аллея, подходившая к самому садовому фасаду, была уставлена по обе стороны мраморными бюстами римских императоров; она доходила до моста, украшенного опять-таки львами, а конец этой аллеи упирался (с 1877 года) в деревянный забор, отделявший участок завода «Нева» от остального парка. Слева от дворца, в саду под деревьями возвышалась грациозная беседка, так называемый Кофейный дом, похожий на Турецкий павильон в Царском Селе. Внутри этот дом был расписан по желтому фону птицами и арабесками, но уже в 1877 году он служил складом всякой рухляди и, глядя через щель в запертой двери, можно было различить внутри груды ломаных скульптур вперемежку со скамьями, столами, частями решеток и с садовыми инструментами. Еще более влево от дворца стояла до 1876 года на довольно открытом месте помянутая Руина, назначение которой было служить бельведером, а рядом находился построенный в стиле английской готики дом управляющего, в котором в наше время варил свой портер и джин-джербир помянутый мистер Нетерсоль. Около готического дома возвышалась простая триумфальная арка, через которую, как гласило предание, не раз въезжала на праздники, дававшиеся графом Безбородко, сама матушка Екатерина Великая. Вправо от дворца парк был замкнут со стороны набережной глухим дощатым забором с каменными столбами. Ближайшие к Охте ворота в нем и вели к дачному поселку, в котором жили и мы. Почти у самых ворот, рядом с небольшой двухэтажной желтой дачей сохранился гранитный пьедестал, на котором когда-то стояла ваза, каменная крышка которой все еще валялась тут же в траве; другая прекрасная ваза полированного гранита уцелела недалеко от завода моего зятя. Кубический домик с купольным прикрытием (типичный для Кваренги), рядом с нашей дачей, служил жилищем полуглухому дворнику Сысою и его сварливой старухе; но когда-то эта сторожка была баней-купальней, и сам Александр Дюма в ней парился.
Запущенная дорожка вела от ворот в глубину парка, изобиловавшего деревьями всевозможных пород. Столетние дубы, березы, липы, ели стояли то сплоченными рощами, то образовывали центр небольших полянок. Дорожка приводила к деревянному китайскому мостику, от китайского убора которого оставались лишь жалкие обломки. Однажды хрупкие перила этого мостика, на которые неосторожно облокотился кто-то из наших гостей, подломились, и он едва не сломал себе шею, упав в неглубокие воды канала. С тех пор ветхие узорчатые перила были заменены новыми, простыми, но прочными, да и весь мостик переделан на простейший лад.
За мостом возвышалась горка, обязательная в каждом парке, она вся заросла кустами волчьих ягод, которых я, несмотря на их ядовитость, безнаказанно съедал целые гроздья, поражая всех своим бесстрашием. Еще через несколько шагов за изгибом канала открывался вид на главную диковину Кушелевского парка — на Кваренгиевскую ротонду, пожалуй, слишком колоссальную по месту, но являвшую собой образцовый памятник классической архитектуры. Ротонда состояла из невысокого гранитного основания и из восьми величественных колонн с пышными коринфскими капителями, поддерживавшими плоский купол, богато разукрашенный внутри лепными кессонами. Колонны были белые, крыша зеленая. Еще в 60-х годах эта монументальная беседка служила сенью для памятника Екатерины II в образе Кибелы, но в мое время статуи уже там не было, и говорили, будто ее граф Кушелев подарил государю. Не та ли это статуя, что стояла в царскосельском Гроте? Сама же ротонда Кваренги простояла, несмотря на отсутствие каких-либо ремонтов, в полной целости до 90-х годов, и только тогда она была продана на слом за грошовую сумму моей кузиной Соней Кавос, которой по наследству от отца принадлежала эта часть парка. Она же лет через пятнадцать нанесла последний удар Кушелевке, продав свою землю по участкам, на которых вскоре выросли самые ординарные дома и домишки. Лишь кое-где уцелевшие среди них деревья и полузасохшие пруды продолжали напоминать о том, что когда-то здесь была расположена одна из самых великолепных барских усадеб.
Влево от ротонды был расположен славившийся когда-то, но постепенно совершенно запущенный фруктовый сад, от которого уцелели лишь несколько кустов одичавшей малины и крыжовника; далее, за главной аллеей у моста со львами открывался вид на первый большой пруд, в водах которого отражались два соединенных одной общей мраморной лестницей павильона. Эти постройки, стоящие уже на территории, принадлежавшей Славянскому заводу, напоминали петергофские Озерки.
Первый пруд соединялся посредством пролива со вторым, находившимся в полном владении моего зятя и славившимся своими белыми и розовыми водяными лилиями. Здесь местами на берегах можно было различить остатки гранитных пристаней с терракотовыми скульптурами и здесь же стояла Ферма — большая, выкрашенная в красный цвет постройка с круглой башней, похожая на Ферму в Царском Селе. Рядом с ней по разбитым мраморным чашам и по уступам из пористого камня стекала ржавая вода, проведенная по прямому канальчику от железного источника деревни Полюстрово. Деревня эта тянулась вглубь приблизительно на версту по обеим сторонам помянутого канальчика, воды которого становились все краснее и краснее по мере приближения их к своему источнику. У самого же источника канал расширялся в виде ковша, на берегу которого вытянулось длинное, выкрашенное в темно-красный цвет здание «Заведения минеральных вод», пользовавшегося значительной славой в 40-х и 50-х годах, но влачившего в наше время самое жалкое существование. В запущенном саду этого Заведения оставался от прежнего блеска один лишь киоск для музыки и какие-то покривившиеся бараки для лавочек, но уже в наши дни музыка никогда здесь не играла, а лавочки стояли заколоченными, из чего явствовало, что вера в целебность «железной воды» была поколеблена. Соответственно с этим дачи в Полюстрово, когда-то населенные довольно зажиточными людьми, теперь снимались исключительно мелким людом. Прямо за деревней Полюстрово начинался лес, настоящий лес, куда мы ходили собирать чернику и грибы и в котором, говорили, водились волки и лисицы. С другой стороны Полюстрова открывался далекий простор полей и огородов, а вдали, у самой линии горизонта едва блистали купола церкви на Пороховых заводах.
Эта относительная близость с Пороховыми сообщала Кушелевке в моем представлении особенную «тревожную прелесть». Лудвиги рассказывали, что в день большого взрыва, произошедшего за несколько лет до нашего поселения, все окна дач Безбородкинского дворца, Полюстрова и по всей Охте были выбиты, а земля дрогнула, точно от землетрясения. Проверить такое редкостное ощущение мне не пришлось, но вид Пороховых доставлял пищу моей фантазии. С одной стороны, я боялся, чтобы снова не произошло такого же взрыва, с другой, мне, хотелось что-либо в этом роде пережить. Ведь ребенок уверен, что никакая катастрофа его коснуться не может. Во всяком случае, такая уверенность жила в детях тогда, ну а теперь, пожалуй, и у детей подобный оптимизм поколеблен.
Отчетливо запомнился мне самый момент нашего водворения в Кушелевке в 1877 году. Мы переехали очень рано, вероятно, в начале мая, когда деревья стояли еще голые, а трава только начинала зеленеть, оправляясь от зимней летаргии; однако уже масса нежных белых подснежников и других лиловеньких цветочков пробивалась и пестрела по буро-зеленому фону. Здесь, в тот самый вечер я увидал недалеко от нашей дачи старенького господина, собиравшего букетики именно этих простеньких цветков — для своих, как это он нам поведал, внучат. Старичок тщательно завертывал поникшие цветики и слабенькие стебельки в свой клетчатый платок, и эта картина имела в себе что-то ужасно печальное. Да и самый день выдался серый, унылый, воздух был холодный, а местами все еще лежал снег. Шумевший вокруг парк казался пустым и неприветливым.
Остался у меня в памяти и первый вечер, проведенный на новом месте. Снятые с только что прибывших возов ящики загромождали пустую дачу. Сено и солома, которыми они были набиты для предохранения посуды от ломки, лежали ворохами на полу, а тарелки, блюда, миски, стаканы, кастрюли стояли с осиротелым видом группами и рядами прямо на полу или на подоконниках и на стульях. На лицах у мамы и у прислуг было то выражение отчаяния, которое у них всегда бывало в этих случаях. Слышались слова: «Один голубой соусник разбит», «Боже мой, забыли кофейную мельницу», «Все ли салфетки?», «Цела ли хрустальная сахарница?» Мамочка с напускной строгостью, а Степанида и Ольга ласково взывали, чтобы я посидел спокойно, перестал разрывать солому и оставил бы в покое разные ломкие предметы. Я же, как назло, любил переезды именно из-за того состояния кочевого развала, которой при этом получался, и я не в силах был совладать с совершенно особенным возбуждением. Начинало темнеть, а я все еще продолжал шмыгать между ящиками и чемоданами или же глазел в три высоких, лишенных занавесок, окна на большой, общий для нескольких дач двор, куда меня из-за стужи не пускали, но который меня поэтому особенно манил. Больше всего меня поразили стаи ворон, с неистовым криком кружившихся вокруг макушек деревьев, отчетливо, всеми своими еще голыми веточками выделявшихся на блеклой заре.
А рано утром меня разбудил странный шум водопада. Это заработала бумагопрядильная фабрика, стоявшая тут же, за забором, через улицу. Из открытых во всех этажах ее окон вырывались трескотня и сверление сотен прядильных станков, и вот это на известном расстоянии и сливалось в могучий гул, не лишенный даже какой-то приятности и похожий на шум водопада. Впрочем, к нему быстро привыкали, и даже настолько, что иногда казалось, что фабрика перестала работать и молчит, тогда как ее жужжание и грохот продолжались с утра до вечера с неугомонным неистовством.
С первого же утра началось для меня исследование окружающей местности. В те времена доставляло мне особое наслаждение, но и ныне я испытываю обостренное любопытство каждый раз, когда оказываюсь среди чего-то, до того невиданного. День был ясный и теплый. Хоть на деревьях еще не было листьев, хоть клумбы нашего собственного садика были еще без цветов, хоть были будни, а не воскресенье (иначе фабрика бы не гудела), хоть в доме все еще шла возня по уборке и мне некуда было приткнуться — мне казалось, что над Кушелевкой веет праздничное настроение.
Исследование началось с ближайшего — с самой дачи. Не особенно внушительная снаружи, внутри она оказалась довольно просторной и объемистой. Такому впечатлению способствовал зал, занимавший всю середину дома и выходивший окнами в одну сторону на двор, в другую на передний садовый балкон. Вся правая от зала анфилада из четырех комнат предназначалась под семью брата Альбера и стояла пока пустою, в левой анфиладе я выбрал себе третью комнату, перед ней была спальня папы и мамы, за ней — комната моей бонны, первая же из залы комната была устроена под папочкин кабинет.
Напротив этого кабинета и тоже с выходом в зал помещалась чертежная брата, и вскоре там закипела работа его помощников — двух братьев Домбровских, необычайно добродушного Карла (которому, мне кажется, я обязан своими польскими симпатиями) и Владислава, ставшего впоследствии видным архитектором у себя на родине, в Польше. Красивое матовое лицо Карлуши с острою подстриженной бородкою и великолепными усами, всегда улыбавшееся, всегда ласковое, а также вся его аккуратненько и чистенько одетая, довольно плотная фигура, живет в моей памяти с полной отчетливостью именно на фоне окон нашей кушелевской дачи, в которые через деревья кое-где сквозили стены Красной фабрики. Я точно слышу и мягкую картавую речь Карлуши, его изящный польский акцент. «Меня нисколько не тревожит этот шум, — была его первая фраза после проведенной ночи, — я под него спал прекрасно, мне казалось, точно я на Иматре».
Кухня помещалась в отдельной избе, соединенной с господской половиной крытым переходом, по валким доскам которого (вся дача была очень древняя и, вероятно, десятки лет не реставрировалась) я поминутно бегал, так как из этого перехода я попадал и в небольшой дворик, отделенный сквозным трельяжем от настоящего сада. Это огороженное, замкнутое со всех сторон место я выпросил себе, и оно стало особенно милым с момента, когда выросшие бобы совершенно закрыли зеленый переплет трельяжа и стало здесь, «как в комнате». Мне этот дворик сразу так понравился, что я чуть ли не в первый же день стал устраивать в нем свой собственный сад, принялся проводить годные для лилипутов дорожки, обкладывать их камушками, рыть канавы и круглые бассейны — причем, к огорчению бонны, самым жестоким образом пачкался. Увы, первый же дождь размыл мои труды, после чего уже заправский садовник посадил там резеду и душистый горошек, что и придало моему садику прелестный вид и чудесный аромат.
Это замкнутое уютнейшее место стало моей обычной резиденцией, так как и в дождь там можно было укрыться под навесом кухонного перехода. Здесь, за низеньким своим столиком, я рисовал, разглядывал книжки с картинками, здесь же в исключительных случаях я поил шоколадом девочек Нетерсоль и маленьких дочерей какого-то фабричного управляющего. Иногда в садике разбивалась палатка, для чего, как я уже рассказывал, ставилась метла, на нее накидывался старый плед, концы которого привязывались к четырем колышкам. Мама не очень поощряла эту последнюю забаву, ибо, забираясь в палатку со своими гостями, я уже уходил из-под надзора старших. Однако в те годы всякие опасения, как бы Шуренька не вздумал «делать глупости с этими девочками», были напрасными. Да и подруги мои были такие тихие, скромные, робкие. Мне стоило больших трудов хоть немного развеселить их. Шоколад и другие лакомства они вкушали с фасоном, и все спешили уйти, не поддаваясь соблазну разглядывать картинки или сыграть партию в лото.
Вообще же страсть к палатке была во мне до того сильна, что в дождливые дни я ее устраивал в полутемной зале. Если щетку я ставил прямо, то получался скорее большой зонт и слишком все было открыто, но если ее наклонить, а плед привязать к положенным набок стульям, то выходило нечто, подобное жилью бедуина, и все это представлялось верхом укромности. Как становилось тепло и даже жарко в этом убежище, несмотря на то, что через открытую на балкон дверь проникал сырой воздух и видно было, как лили дождевые потоки! Совершенно не страшна была гроза, когда чувствовал над собой не только крышу дома, но еще и мою собственную крышу, образованную пледом. Однажды, впрочем, когда уже очень в этом обиталище кочевника стемнело, я чуть было не наделал пожара, вздумав — для придачи уюта — зажечь в нем взятую с рояля свечу. Услыхав запах горелой шерсти, мама вбежала в ужасе, но все обошлось благополучно, и лишь большая дыра в пледе осталась напоминанием о том, что большие называли «Шуриной шалостью».
Вселенье через несколько дней после нас Альбера с семьей очень оживило наше житье-бытье. В то же время оно сразу лишило его тишины. Сам Альбер, настоящий природный «душа общества», не мог долго оставаться в покое, но так как из Кушелевки трудно было предпринимать пикники (проектировавшийся пикник в Шлиссельбург на пароходе так и не состоялся), то эта его способность выражалась здесь во всяких домашних увеселениях. Как раз дни рождения отца, именины мамы, Камиши и жены Альбера представляли ему желанные предлоги для фестивалей, иллюминаций и фейерверков. Особенно мне осталось памятным празднество 22 июля (именины Марии Карловны), когда наш затейник вздумал усовершенствовать традиционную иллюминацию тем, что бесчисленные фонари он изготовил домашним способом из пестрого ситца. Часть молодежи (откуда только он ее набрал!) пилила и рубила деревянные дощечки, служившие донышком для фонарей, другая сшивала самую материю, третья (я в том числе) сверлила дыры для свечей. Надлежало, кроме того, приколачивать материю гвоздями к дощечкам, приделать проволочные подвески и обтачивать слишком толстые стеариновые свечи. Возни было много, всякого добра испорчено без счета, а эффект не оправдал этих усилий и затрат. Он получился настолько тусклый и неказистый, что пришлось все же прибегнуть к традиционным бумажным фонарям, благо у нас всегда бралась их на дачу целая большая корзина.
Не надо при этом думать, что Альбер был каким-то тунеядцем и бил баклуши. Он тогда вел уже вполне самостоятельные постройки и, кроме того, по службе в «Страховом обществе» постоянно должен был отправляться на пожары или на погорелые места в разные концы города, а то и предпринимать далекие поездки по провинции для составления оценок или для проверки погибшего имущества. Надо при этом заметить, что зрелище пожаров доставляло ему столько же удовольствия, сколько иллюминации и фейерверки. С жадностью слушал и я его возбужденные рассказы о них, и особенное впечатление производили на меня по памяти набрасываемые им изображения этих бедствий. С этого же лета 1877 года он с удвоенным рвением стал заниматься этюдами с натуры, что постепенно и создало ему большое имя в художественном мире и благодаря чему он впоследствии зарабатывал немало денег.
Особенно излюбленным местом для его живописных этюдов была невская тоня, находившаяся как раз недалеко от ворот парка. Под тоней подразумевается рыболовное предприятие артельного характера. Наша тоня состояла из деревянной, утвержденной на сваях пристани, на которой помещался ворот (кабестан) для наматывания невода и деревянная лачужка, служившая жилищем для рыбаков. О тоне я говорю подробнее дальше. Сидя на помосте тони, можно было любоваться удивительными видами: прямо насупротив высились церкви и часовни Смольного монастыря, слева по берегу было расположено предместье Охта с ее церковью и с громадными старинными верфями; вправо виднелись далекие маковки и шпили петербургских церквей и водонапорная башня. Особенную живописность придавали пейзажу пестро расписанные дровяные барки, коими были заставлены оба берега реки или которые плыли гуськом, привязанные к буксиру.
Сколько раз Альбер возвращался к этим действительно бесподобным мотивам. Вообще он не знал усталости. Если вечер выдавался ясный, с теми удивительными небесами, какие только и можно видеть в Петербурге, да еще в Венеции, — то он, едва вернувшись со службы часов около шести, наскоро закусив и забрав свои художественные принадлежности, летел со всех ног на тоню. И то художественное возбуждение, которое им тогда овладевало, способствовало успеху. Это лето было одним из важнейших в его развитии, и кушелевские акварели Альбера Бенуа, сделанные с редкой уверенностью и простотой в порыве энтузиазма, я лично предпочитаю всему остальному в его творении. В них еще нет и намека на те влияния, которым он подвергся в позднейшее время, когда он сделался любимцем публики и российской знаменитостью. Останься Альбер таким, каким он был в те ранние годы, он приобрел бы со временем европейское имя. Таких художников, каким он обещал быть, немного и на Западе.
(Куда девались эти ранние этюды Альбера? Большинство их было раздарено им, а то и растеряно. И все же масса оставалась еще в его папках, но была распродана в тяжелые годы революции, особенно на той сепаратной его выставке, которая был устроена в Доме искусства. Как я ни умолял тогда Альбера не прельщаться обесцененными деньгами, — ведь инфляционные миллионы не стоили на самом деле десятков прежних рублей! — он не в состоянии был удержаться от соблазна эти миллионы получить и тут же превращать их в несколько фунтов картошки и муки.)
Надо прибавить, что подвижность Альбера не была беспокойной для других, назойливой, шумливой. Правда, он тащил с собой всякого, кто ему попадался по дороге, вследствие чего ему приходилось затем работать в окружении довольно густой группы, что ничуть ему не мешало, но те, кто имел достаточный характер, чтобы противостоять этому урагану, оставались на месте, да и сам этот ураган уносился куда-то далеко от дома. Иным образом нарушала спокойствие и тишину нашего обиталища молодая жена Альбера. На следующее же утро после их приезда был доставлен на Кушелевку большущий рояль Шредера, и не успел он несколько отстояться, как уже Мария Карловна принялась на нем играть гаммы и этюды и разучивать разные труднейшие пьесы. Эта ученая и учебная музыка наполняла в течение шести часов в день наше кушелевское уединение. Что в сравнении с этим ближайшим громом представлял собой отдаленный водопадный рокот Красной фабрики! Игра профессиональной пианистки была в то время чем-то совсем иным, нежели на слух подобранные марши и контрдансы папы или робкая игра по нотам мамочки, или даже блестящие импровизации того же Альбера. Тут каждая нота выстукивалась с редкой отчетливостью, а вереницы их кружились по гулким полупустым комнатам и градом выливались в сад. Даже уходя подальше в парк, я продолжал слышать рулады, пассажи, трели и арпеджио Марии Карловны. Меня особенно раздражало то, что и вещи, которые мне нравились, например, рапсодия Листа или вальс Рубинштейна, Мария Карловна расчленяла, то и дело обрывая на полу-фразе и возвращаясь по нескольку раз к тому же не дававшемуся ей пассажу. Музыка эта мешала слушать чтение моей бонны или же вести какой-либо связный разговор.
Уже тогда проявлялось мое довольно неудобное свойство: любая музыка, будь то даже простая гамма или «Чижик», неминуемо вызывает во мне состояние специфической рассеянности и какую-то неспособность думать о чем-либо другом. Позже я уразумел, что вся эта шумливая работа необходима для настоящего музыканта, иначе ему не одолеть трудности пианистического мастерства. Слушая ту же Марию Карловну, я впоследствии наслаждался даже тогда, когда она двадцать раз подряд подносила одну и ту же скачущую или бисером рассыпающуюся фразу или когда нарастала какая-то «подготовка», так и остававшаяся недосказанной. Но семилетний мальчик, ничего еще в музыке не смысливший и при этом все же очень отзывчивый на музыку, просто страдал от игры своей золовки. Какое я ни питал отвращение к прогулкам как к таковым, к тем прогулкам, которые «надлежало делать для здоровья» и которые заключались в бесцельном шаганье под присмотром бонны, я все же соглашался гулять, только бы уйти из дому и не слушать эти катаракты звуков.
А тут еще между мной и Машей возникли и настоящие нелады, о чем я уже рассказал в главе о музыке.
Полной неудачей окончились в то же лето и мои уроки верховой езды. За них принялся брат Коля, только что тогда вышедший в офицеры, обзаведшийся прелестной гнедой лошадью и задумавший научить своего маленького брата тому искусству, которым он уже владел в совершенстве. Коля был тогда совершенным юнцом, ничем иным, кроме как воинским делом и фронтовой выправкой, не интересовавшимся. По натуре добрый, но с грубыми профессиональными замашками, он относился ко мне немного как сержант к отданному ему на муштру рекруту. Естественно, что балованный, чуть даже изнеженный «недотрога и капризуля» Шурка боялся Коли, и настолько даже, что прятался от него и подымал крик из-за каждой его ласки, выражавшейся, впрочем, не иначе, как в щипке или в легком дергании за уши.
Тем не менее, когда Коля, приехавший с лошадью погостить к родителям на Кушелевку (ему был предоставлен папин кабинет), спросил маму, не следует ли мне поучиться верховой езде, а мама, вообще мечтавшая усовершенствовать мое весьма недостаточное физическое воспитание, обратилась ко мне с вопросом, не хочу ли я воспользоваться уроками брата, то я согласился с радостью. Мне показалось, что это будет очень эффектно, когда я, как генерал, буду скакать на лошади.
Но до скачек у нас не дошло. Уроки Коли длились еще меньше, нежели уроки Марии Карловны. Не желая считаться с моим характером (и возрастом), он сразу взял в отношении меня ту манеру, которая у них была в ходу в полковом манеже, где новички, как мешки, падали с лошади. Посадив меня без седла на свою кобылу, всунув мне в руки поводья, он распустил, как берейтор, корду, встал в центре, хлопнул бичом, и лошадь пошла, описывая широкий круг. И сразу, к своему ужасу, я почувствовал, что соскальзываю с ее гладких боков. Не успел Коля подбежать, чтобы меня подхватить, как я уже лежал на траве, а мамочка, тревожно следившая с балкона за этим упражнением, мчалась на помощь. Удивительно то, что я тогда не заплакал, сам встал на ноги, встряхнулся и опять, запасшись мужеством, заявил, что готов продолжать с условием, однако, чтобы мне дали седло. Но это не входило в программу кавалерийского воспитания Николая, он насильно меня схватил, посадил на лошадь, причем довольно грубо отогнал мамочку, и снова распустил корду. Тут мои запасы мужества иссякли сразу. Вцепившись в гриву и прильнув к шее лошади, я стал вопить какие-то угрозы по адресу моего тирана и все настойчивее требовать, чтобы меня опустили на землю. Коля собирался пересилить то, что он считал капризом, но мама строго приказала ему снять меня с лошади. И какое же я испытал отрадное чувство, когда оказался в ее объятиях и ее рука стала гладить меня по голове! Разумеется, после этого о продолжении уроков верховой езды не могло быть и речи, и с того самого злополучного дня я и не пробовал взобраться на спину благороднейшего из животных, хотя в течение жизни представлялось немало соблазнов, а братья, сестры и отец — все были очень приличными наездниками… На Колю я долгое время дулся и избегал с ним встречаться.
Католическое кладбище, к церкви которого папочка в этом году начал пристройку колокольни, лежало верстах в двух или трех от Кушелевки — ближе к Финляндскому вокзалу. Самая церковь очень простая, но изящная, была построена отцом в 50-х годах в романском стиле. Нижний этаж был на сводах, и там, в западном углу, был наш фамильный склеп, где под плитами уже лежали умершая в младенчестве сестра Луиза и брат Иша. Уже поэтому семья наша была особенно связана с этой церковью, но, кроме того, она теперь сделалась приходской церковью поселившихся на Выборгской стороне Эдвардсов, и мой зять, ревностный католик Матью, не пропускал ни одного воскресенья, чтобы не побывать, иногда со всей семьей, на мессе. Прежний фасад без колокольни, надо сознаться, был и цельнее и гармоничнее; такою, кажется, церковь и была задумана папой. Но теперь, благодаря нашедшимся средствам и в удовлетворение гонора польской колонии, пожелавшей, чтобы церковь более выделялась среди окружающей местности, решено было пристроить колокольню и, по проекту папочки, главный вход в церковь должен был помещаться в ней. Кажется, в 1877 году работы по возведению колокольни еще не начинались, и фундамент был положен лишь весной 1878 года, но, во всяком случае, папа был занят проектом и часто ездил на кладбище, чтобы совещаться с местным священником-ксендзом Францискевичем. Ксендз приходил к нам часто на дачу, и все это вместе взятое придало нашему кушелевскому пребыванию какой-то оттенок клерикальности.
У меня вообще был род благочестивой нежности к духовным лицам, но иных — особенно среди поляков-доминиканцев св. Екатерины — я как-то побаивался, тем более что и папочка их иногда деликатно поругивал за притворство и лукавство (в качестве синдика св. Екатерины он был с ними в постоянном общении). Но вот патера Францискевича я полюбил всем сердцем, да и он как будто платил мне тем же. К сожалению, дружба наша продолжалась недолго: власти сочли этого безобидного и милого человека, вследствие его популярности, опасным, и его отправили в какую-то дальнюю сибирскую епархию. Случилось, впрочем, это позже, тогда как в течение всего времени постройки колокольни (1878–1879 годы) патер Францискевич был неотлучно в Петербурге, проживая вместе со старухой-матерью в деревянном, покрашенном в черный цвет доме, стоявшем у ворот сейчас же у кладбищенской ограды.
Повторяю, я очень привязался к этому доброму патеру, но и папочка, бывший вообще очень чутким в оценке людей, считал его за исключительно чистого и благородного человека. Однако нельзя сказать, чтобы внешне патер сразу располагал к себе, — особенно тех, кто был склонен вообще скептически относиться к католическим духовным лицам. В своей внешности это был настоящий и притом комический тип иезуита, — настолько даже комический, что я, малыш, решался, при всем своем обожании Францискевича, имитировать его повадки, а мои родители, вообще такие дерзости не поощрявшие, в данном случае благодушно над моими имитациями потешались. Добрейшая мамочка даже смеялась до слез, вспоминая со мной те потешные гримасы, с которыми Францискевич отказывался от всякого угощения, и все же затем сдавался и тогда проявлял неожиданный аппетит, — вероятно, дома бедняге жилось не слишком сладко. Но и манеру говорить патера я довольно метко перенимал, особенно его специфические французские и русские выражения. У нас в доме никто по-польски не понимал, и ему приходилось прибегать к этим иностранным для него наречиям, которыми он владел далеко не в совершенстве. Все это было в высшей степени курьезно, и все это могло бы вполне пригодиться для актера, играющего роль Дона Базилио в «Севильском цирюльнике», причем на сцене манеры Францискевича могли бы показаться утрированным шаржем.
Самое курьезное в патере Францискевиче была его походка и, в частности, его манера входить в комнату. Другие знакомые патеры имели скорее благородную и даже величественную манеру являться к своим прихожанам; их осанка выражала, что они в качестве божьих представителей делают честь простым смертным, и лишь для христианского декорума, протянув руку для поцелуя, они придавали лицу легкий оттенок смирения. Напротив, появляясь в дверях, патер Францискевич сразу перегибался два, три раза в разные стороны, причем руки его подымались в уровень с головой и, открывая ладони наружу, совершали движения, означавшие что-то вроде «не достоин», «слишком много чести», «прошу простить мою смелость». Если бы еще он был человек пожилой, то все эти ужимки имели бы другой характер, но патеру Францискевичу было немного за тридцать лет, лицо у него было молодое, тщательно всегда выбритое и лишь чуть сизое у щек (что вместе с его бледностью как-то подчеркивало его аскетический вид). Роста же он был выше среднего, очень худой, длинный-длинный и казался еще более длинным и тощим из-за своей тесно облегающей черной рясы.
И вот этот «тип иезуита из комической оперы» был на самом деле самый бескорыстный, самый благородный, самый отзывчивый человек и доброты прямо ангельской. Впрочем, и во внешнем облике эта серафичность Францискевича светилась и убеждала. Особенно же он озарялся, когда служил мессу, что он делал без всяких гримас, необычайно просто, внушительно и как-то даже строго. Видимо, он весь на эти моменты исполнялся глубочайшего религиозного чувства и совершал обряд не как привычную формальность, а воспламеняясь каждый раз живым экстатическим чувством. А затем надо было видеть, как патер Францискевич разговаривал с бедняками, чуть не плача в ответ на их жалобы, как он извинялся, когда не мог помочь им в желательной мере. На пособия беднякам уходили почти все его доходы, и сколько бы он их ни получал (получал же он не так уже мало, ибо «с мертвецов доход верный»), он сразу раздавал большую часть, и тогда, как говорили, он нередко целыми днями голодал.
Особенно ярко я помню патера Францискевича именно на Кушелевке, шествующего своей странной, раскачивающейся походкой по аллее к нашей даче. Когда он шагал, его точно швырял ветер, он точно боролся с ним, а крылатое длинное его пальто развевалось во все стороны, хотя бы стояла тихая погода. И вот едва заметит он «сына высокопочитаемого господина профессора», занятого ловлей лягушек в траве или какой-либо пачкотней на дорожках сада, как сейчас же на ходу он начнет производить весь свой ритуал приветствия, изгибаясь и подымая ладони вверх. Это очень затрудняло исполнение моего ответного ритуала, ибо приходилось на лету завладеть его рукой и приложиться к ней. При этом он приговаривал что-то необычайно ласковое и приветливое, но, к сожалению, непонятное, ибо это было по-польски. Заметив мамочку, он повторял с новым усердием ту же церемонию, произнося на каком-то французском жаргоне выспреннее приветствие, и, наконец, перед папочкой с ним приключался настоящий танец св. Вита. Однако как только начиналась между ним и папой деловая беседа, то патер становился непринужденным и очень серьезным. Францискевича папа никогда за глаза не критиковал ни за коварство, ни за интриганство, ни за особенно ненавистное ему «маклачество». Францискевич к тому же был человек образованный, хорошо знал как богословную, так и светскую литературу и даже проявлял кое-какие знания по истории искусства, что в те времена было большой редкостью. Весьма возможно, что именно эти его исключительные достоинства помогли завистникам изготовить на него какой-то донос, приведший к удалению его из столицы в далекое захолустье.
С постройкой колокольни у меня связано еще одно воспоминание — о помощнике папы, архитекторе Бикарюкове, тогда при нем состоявшем. Никого в жизни, мне кажется, не стало мне так жаль, как однажды именно этого молодого, тощего, белокурого человека с жиденькой бороденкой клином. И возможно, что и отца побудила жалость взять его к себе на службу, так как едва ли Бикарюков успел себя засвидетельствовать какими-либо выдающимися способностями и знаниями. Надо при этом заметить, что при необычайной спорости отцовской работы, при его умении со всем поспеть вовремя, при его любви все делать собственными руками, роль помощника сводилась к минимуму, к чисто техническому черченью, да к наблюдению за подрядчиками и за рабочими, а это мог делать всякий. Впоследствии из Бикарюкова вышел достойный техник; отец его определил к себе в городскую управу, и там он служил многие годы, а в конце концов даже удостоился какого-то академического звания. Обострилась же моя жалость к Бикарюкову в один памятный вечер на Кушелевке. Вечер был августовский, темный и довольно ненастный. Вся наша семья сидела за чаем; две свечи тускло освещали скатерть, наш древний самовар и какие-то закуски, вся же остальная огромная комната, служившая и столовой, и залой, тонула во мраке. И вот на какой-то вопрос папы Бикарюков стал рассказывать о своем прошлом, и рассказ этот сразу приковал наше внимание. Рассказывал Бикарюков, какую он в детстве испытал чудовищную нужду, о чем я, балованный маменькин сын, не имел до того времени ни малейшего представления. Рассказ этот так затянулся, что стало слишком поздно нашему гостю возвращаться в Петербург, и пришлось его уложить на черном клеенчатом диване, чем он был безмерно растроган и о чем постоянно вспоминал даже по прошествии многих лет.
Я слушал эту быль как увлекательную, но и мучительно жуткую сказку. Слушая ровный монотонный голос рассказчика, я в то же время глядел, как бабочка, обжегшая себе крылья о пламя свечи, медленно сгорала, утопая в растопленном стеарине у самого фитиля. Помочь бабочке было невозможно, и я с жалостью и с омерзением следил за тем, как ее крошечное тельце обугливалось. Вообще слезливых историй я терпеть не мог и потому не переносил русских детских книг и журналов, которые были почти всегда полны ими. Но слушая такую подлинную быль из уст самого страдавшего, я весь застыл, и мрачные картины одни за другими западали в душу, врезывались навсегда в память. Из отдельных эпизодов меня особенно поразило то, что Бикарюков, живя в каком-то провинциальном городе, принужден был для своего питания рыться в помойных ямах, и он бывал счастлив, когда ему удавалось раскопать в них какие-либо отбросы: кожуру от огурцов, селедочные головы, раковые скорлупы! Особенно меня поразила последняя подробность. Раковые скорлупы было очень приятно выуживать в биске, когда они были наполнены превкусным фаршем, но раковая скорлупа, найденная в грязи, полутухлая — это было нечто совсем иное, при одной мысли о чем начинало тошнить.
Еще более глубокое чувство жалости я в то же кушелевское лето почувствовал в отношении другого человека, и это чувство было осложнено тем подобием дружбы, которая возникла между мной, семилетним мальчиком, и этим двадцатилетним молодым человеком. Его фамилии я не запомнил, да и не уверен, знал ли я ее когда-либо. Не только я, но и все наши домашние звали его просто мосье Станислас. Под этим же именем он живет и в моей памяти. Откуда он взялся, какая злая судьба его закинула в русскую столицу, как он попал на Охту, кто были его родители, — этого я не узнал никогда. Мосье Станислас как будто избегал вообще подобных тем. Но возможно, что он был сыном какого-либо пострадавшего во время польского восстания 1863 года «мятежника». Несомненно, он принадлежал к хорошему обществу, что доказывали и его манеры и его говор. Да и владел он языками немецким и английским, а по-французски говорил так, как говорят только люди, приученные к тому с детства. Мамочка это его знание французского языка пожелала использовать и предложила ему быть чем-то вроде моего гувернера. (Возможно, что мосье Станислас был ей рекомендован патером Францискевичем.) Но быть настоящим наставником ему не позволяла его хилость и хворость, почему все и свелось к отдельным урокам, да и уроки получались довольно бестолковые. Хорошо говорить по-французски я с ним не выучился, зато эти собеседования с ним принесли мне иную пользу — я бы сказал «душевного порядка».
Мосье Станислас представлял собой истинно поэтичную фигуру — вроде тех мучеников, которые на картинах болонцев умирают под мечом палача, млея от восторга при виде раскрывающихся небес. Длинный, до жути тощий, мертвенно-бледный, с темными, слегка кудрявыми волосами, он производил впечатление выходца с того света. Одет он был почти как нищий (это не особенно тогда шокировало, так как студенты бывали часто похожи на бродяг), и свою единственную рубашку он стирал собственноручно. Однажды я его застал как раз за этой работой, и тогда же был поражен невероятной худобой его оголенного тела.
В чем именно заключались наши собеседования-уроки, я не помню, но, во всяком случае, мне на них не было скучно (вообще я ненавидел всякие уроки летом), и в целом воспоминание о мосье Станисласе сохранилось у меня во всех смыслах пленительное. Первые такие уроки происходили у нас на даче, но однажды он не явился, и тогда мама меня послала с бонной узнать, почему он не пришел. Жил же он в мезонине той самой большой дачи, низ которой был предоставлен под общежитие — ночлежку рабочих. Чтобы попасть на лестницу к мосье Станисласу, надлежало пройти через единственную открытую дверь этого помещения, остававшегося во время дня пустым. Поднявшись в его низкую комнату, я увидал его лежащим на низкой железной кровати, головой к полукруглому окну, опускавшемуся к самому полу. На одеяле и на полу рядом валялось несколько книг, но, видно, больной не в силах был читать, а пребывал в состоянии полной прострации с лихорадочно горящими глазами, с руками, вытянутыми вдоль тела. В те времена еще не знали, что чахотка заразительна, но, кроме того, мать моя вообще относилась к заразам довольно скептически, а потому мне вслед и за первым визитом, обнаружившим всю тяжесть недуга моего учителя, позволили посещать его ежедневно и даже без бонны, благо та дача, в которой он жил, стояла всего в нескольких шагах от нашей, и мама была уверена, что я не заблужусь по дороге.
Хочется думать, что эти мои посещения не были в тягость бедному мосье Станисласу. Несомненно, наши симпатии с первого же дня оказались взаимными. По натуре он был один из тех взрослых, которые обладают чудесным даром сохранения детскости и для которых общество детей, особенно развитых и интересных (к которым без лишней скромности я могу причислить и себя), иногда даже приятнее общества людей одного с ними возраста. Почти всегда я заставал мосье Станисласа лежащим на своей убогой кровати, но уже в слове «войдите», которое он произносил в ответ на мой стук, звучала радость, а очутившись в комнате, я сразу видел довольную улыбку на его посинелых губах, обыкновенно сложенных в горькую усмешку. В дни, когда недуг меньше его мучил, он даже вставал и принимался ходить по скрипучим половицам своего чердака, я же неизменно усаживался на дырявое серое одеяло и готов был сидеть так часами, забрасывая его вопросами самого разнообразного характера. У меня их накоплялась масса, и иногда брало такое нетерпение услыхать ответы, что я задавал все новые и новые, часто не вполне дослушав его объяснение.
Часть беседы вертелась вокруг божественных и философских тем. Меня тогда особенно волновали мысли о загробной жизни, о привидениях, о вечности, о звездном пространстве, о бесконечности. Иногда же мы переходили на естествознание (кажется, мосье Станислас был студентом-естественником, но не мог продолжать занятий в университете из-за безденежья и болезни). Тогда он с увлечением рассказывал про насекомых, жизнь которых была его специальностью и которых он собирал и хранил в изготовленных им же коробках. Несколько таких коробок под стеклом висели по рваным, но тщательно подклеенным обоям. Эти коробки, несколько десятков книг и ветхий чемодан — это было все, чем он владел, а необходимой мебелью его снабдил Матвей Яковлевич, который и устроил мосье Станисласа наверху этой, снятой для рабочих дачи. Иногда, впрочем, мосье Станислас вспоминал и о взятых им на себя педагогических обязанностях, и тогда бралась французская грамматика Марго, но эта серьезная и скучная книга обладала почему-то свойством нас обоих веселить, и над той или иной фразой мы оба до слез хохотали, причем смех мосье Станисласа неизменно переходил в раздирающий кашель, сопровождавшийся усиленным кровохарканьем.
К концу лета привязанность моя к мосье Станисласу дошла до чего-то восторженного. Ко мне, совершенно чужому мальчику, он относился как брат или как во всем равный со мной приятель. Бывали дни, когда мосье Станислас вдруг как-то оживал, молодел и тогда он мог говорить необычайно умно и красноречиво целыми часами. Если же, напротив, ему становилось слишком худо, то он просил меня уйти, но делал это с таким тактом, с такой трогательной вежливостью, что я хоть и огорчался, однако подчинялся беспрекословно. В дождливые дни я бежал к нему, накинув свой дождевик (ребенком я вообще любил бегать по дождю), и в такие дни наши беседы приобретали особую уютность. Слышно было, как ровно барабанит дождь по железной крыше, снизу доносилась перебранка между сторожихой и каким-нибудь застрявшим рабочим, через поливаемое водой стекло глядела посеревшая листва. А я тем временем с другом блуждал по Индии, любовался скачущими по лианам обезьянами, охотился на львов, слонов и тигров, слушал сказочника на базаре. У Матвея Яковлевича была недурная библиотека и целый ряд иллюстрированных изданий; их он охотно предоставлял мосье Станисласу, и мы без конца могли разглядывать иллюстрации, частью красочные, Джильберта к Шекспиру или таблицы большой английской энциклопедии. И про все мосье Станислас мог рассказать что-либо захватывающее, если же ему попадался сюжет совершенно незнакомый, то он тут же, без подготовки, переводил мне соответствующий текст.
С ним же, с милым незабвенным мосье Станисласом, я сподобился посетить первый раз в жизни кабинет восковых фигур. «Гофманский тип» свел меня в этот гофманский мир, который для меня обладал в то время великой притягательной силой. Впрочем, человек-кукла и вообще сыграл во всей моей психологии известную роль, что отразилось и в моем творчестве. Достаточно, если я напомню, что сюжет «Петрушки» есть далекий отголосок всяких дум и настроений, возникавших «вокруг автоматов».
Попали мы в этот кабинет с мосье Станисласом потому, что в его обязанности гувернера входило также совершать со мной прогулки. Случилось же это во вторую половину лета, когда он себя чувствовал лучше и несколько окрепшим. Может быть, он просто у нас подкормился, тогда как до того буквально голодал. Кроме названного довольно далекого путешествия, мы успели совершить и несколько других экскурсий. Ходили мы к железному источнику в конце Полюстрова, в лес, тянувшийся за деревней, к церкви на Большой Охте; иногда мы переезжали на ялике к Смольному. Чувствуя прилив сил (чувство это было обманчиво), он сам с охотой шел, куда я его тащил, а в тех случаях, когда эти прогулки происходили на приволье, то попутно он собирал бабочек и растения. И в кабинет музея восковых фигур потащил его я. Меня уже давно заинтриговывал тот деревянный балаганчик, что стоял в тени деревьев в Петровском парке за крепостью. Неоднократно я с родителями проезжал мимо него, совершая путешествие из города на Кушелевку (Литейного моста еще не существовало, — он как раз строился и надо было ехать кружным путем), и с первого же раза я в высшей степени заинтересовался этим домиком, снаружи которого под навесом стояло несколько фигур как будто живых и все же недвижных. Но как я ни убеждал папу и маму остановиться и посмотреть поближе, что это такое, они моим мольбам не внимали. Заветное мое желание наконец исполнилось лишь благодаря уступчивости доброго мосье Станисласа.
Музей восковых фигур помещался в длинной одноэтажной деревянной постройке, в которую попадали через помянутое крыльцо, под навесом его и стояли жуткого вида застывшие господа и дамы. Впрочем, одна из этих дам показалась мне вовсе и не жуткой. Она была сделана тщательнее других и хранилась под стеклянным колпаком. Пленница, замкнутая в прозрачную тюрьму, была одета в ярко-малиновый корсаж и в розовую, блиставшую серебром юбку. Подбоченясь одной рукой, а другую держа на отлете, закинув голову, она балансировала шпагой, рукоятка которой покоилась у нее на носу, тогда как на острие стоял стакан, наполненный вином. Когда красавицу заводили, то она начинала мягко перегибаться в стане, движение свободной руки выражало поиски равновесия, а стакан на острие качался, но не падал и вино не проливалось.
Замечательная была в этом паноптикуме и кассирша, заседавшая под афишей заграничного производства и с иностранными надписями между двух ужасающих уродов, из которых один должен был изображать Эдуарда, принца Уэльского, а другой — какого-то знаменитого бандита. Эта кассирша была та же самая Юлия Пастрана, которую я видел на Балаганах в зверинце. Но, разумеется, то была не настоящая, не знаменитая бородачиха, к тому времени, пожалуй, уже сошедшая в могилу, а какая-то другая молодая особа женского пола, обладавшая окладистой черной бородой. Эта борода служила ей источником заработка и славы. Я был обрадован встретить старую знакомую на новом месте. На сей раз доморощенная Юлия Пастрана была в костюме, похожем на тот, что облекал красавицу со шпагой, и восседала она не просто на стуле, а на расшитом золотом бархатном тамбуре, между выдачей билетов занималась вышиванием. Неживой жизнью живущая прелестная эквилибристка и несомненно живая, даже любезно разговаривавшая Юлия Пастрана подготовили меня к тому, чтобы внутри музея получить уже совершенно исключительные впечатления, но увы, за таким обещающим предисловием наступило разочарование. Повел нас по музею совершенно пьяный директор, за которым Юлия Пастрана послала какого-то мальчишку.
Директор понес на ломаном франко-немецком языке чудовищную ерунду. Только два автомата среди сотни других внутри балагана все же произвели на меня известное впечатление, — то был лежащий в поеденном молью сюртуке со звездой на груди мертвенно-желтый Наполеон и спящая длинноволосая девушка, сильное декольте которой плавно поднималось и опускалось, создавая полную иллюзию натуры. Забавен был еще фокусник, у которого из-под двух стаканов появлялся то один предмет, то другой, а то и ровно ничего, и тогда он отрицательно мотал головой. Совершенно же безобразны и жалки были ряд сцен, как например жандармы, накрывающие засевших в кабаке бандитов, или какой-то семейный скандал с битой посудой на полу и со стулом, застрявшим на голове хозяина дома, и т. д. Наконец, целая зала была посвящена войне. Как раз в этом году началась русско-турецкая война, и хозяин музея поспешил представить у себя нечто вполне актуальное. Но даже от моего детского глаза не ускользнуло, что тут был собран старый полуистлевший сброд, к тому же расставленный по четырем стенам в самом диком беспорядке. Вероятно, это были какие-то остатки пластической картины, созданной четверть века назад в годы Крымской кампании, причем и создано-то это было с явным пристрастием к тогдашним нашим врагам, к туркам и французам. Мосье Станислас обратил на это внимание директора и спросил, почему все русские повержены на землю, а турки с оружием в руках, а некоторые на конях имели вид победителей (за турок шли зуавы, благо и их головы покрыты феской). На это директор пробурчал какую-то грубость (дурное расположение его объяснялось тем, что, кроме нас двух, в музее никого не было), после чего мы поспешили удалиться. Сидя затем на империале конки, которая медленно плелась по Петербургской и по Выборгской сторонам, мы делились со Станисласом впечатлениями, и оба старались уверить друг друга, что виденное нами все же очень интересно.
Увы, одному из нас двух было суждено самому через несколько месяцев после посещения паноптикума стать такой же бездвижной фигурой, как те, которыми мы любовались. Кое-как протянув зиму, мой милый друг скончался от чахотки следующей весной. С осени Матвей Яковлевич, спасая его от холода, поселил мосье Станисласа в конторе фабрики и поручил ему ведение каких-то книг, но несчастный юноша слабел с каждым днем и вскоре окончательно слег в постель. Последнее наше свидание произошло в этой конторе, в которой временно было оставлено только что полученное из Лондона пианино. Мосье Станислас по случаю моего прихода пожелал встать, но он еле держался на ногах и поминутно должен был ложиться на диван. Наконец он все же пересилил себя, сел за инструмент и попробовал играть. Пальцы у него были совершенно тонкие и, что меня особенно поразило, прозрачные. Проиграв не без блеска тактов двадцать какого-то полонеза, он опустил руки и, тяжело дыша, оставался сидеть на стуле, поглядывая на меня с той улыбкой, которая была мне так знакома и в которой, мне казалось, что-то было вроде мольбы о помощи. Умер он, по рассказам моего зятя, в полном сознании, «как святой», приобщившись из рук патера Францискевича святых тайн. Точно озаренный каким-то светом, он отчетливо произнес несколько раз: «Как это прекрасно!»
Мне хочется спасти от забвения еще небольшую группку людей, воспоминание о которых во мне нераздельно сплетено с воспоминанием о Кушелевке. А хочется мне это сделать не потому, что эти люди были бы сами по себе замечательны и отличны от миллионов подобных им, а потому, что они являлись в моем представлении как бы частью обстановки кушелевского парка, они как бы получили отблеск присущей ему поэзии. Я их и видел только на Кушелевке — в той низенькой даче, недалеко от нашей, которая стояла, точно прячась, несколько в стороне. Дворовый фасад этого домика был закрыт кустами бузины и волчьей ягоды, и его было даже трудно разыскать, парадным же крылечком он выходил в другую сторону, на небольшой, собственный сад, окруженный с трех сторон высокими деревьями парка. Такое расположение придавало обиталищу Лудвигов таинственный характер. Из наших, например, окон видна была только красная крыша их дачи, с других же сторон вообще ничего не было видно, пока не подходили вплотную к их калитке. За ней открывался весь очаровательный уют домика. Балкон перед дачей был обтянут парусиной с красной каймой, и у столбов балкона и на клумбах сада росли, распространяя дивные ароматы и горя всеми красками, чудесные цветы. Дорожки были тщательно выполоты и посыпаны красным кирпичом, а кусты кротегуса, служившие изгородью, так разрослись, что через них не было возможности пробраться.
Эту-то дачу с незапамятных времен снимала одна старосветская немецкая семья по фамилии Лудвиг. Папа Лудвиг был седобородый почтенный старец, служивший в конторе где-то на Невском; его подруга жизни была маленькой, кругленькой, сморщенной, вечно хлопотавшей старушкой; прочую семью составляли жившие с ними три сына: Костя, Федя и Саша и две дочери: Катя и Аня. Папа Лудвиг рано утром уезжал в город на службу в сопровождении старшего сына, которому было уже далеко за тридцать и который был занят в том же деле, как и отец. Длинные темно-русые бакенбарды придавали Косте важный вид, несмотря на то, что он косил на один глаз и частенько бывал пьян. Как сейчас вижу эту пару, шествующую каждый с портфелем под мышкой, в высоких котелках и в темных старомодных сюртуках от ворот парка в направлении к своей даче. Там их ожидали удобные шлафроки и сытный немецкий обед — какая-нибудь бирзуппе и жаркое со сладким компотом. Из двух барышень Катя, неказистая стареющая дева, была существом необычайной доброты сердечной. Она меня особенно баловала, да и я ее хотя и мучил всякими прихотями, но по-настоящему любил. Аня же, или Нюта, считалась в семье хорошенькой, и это наглядно подтверждалось тем, что у нее был жених, — но, к сожалению, жених этот был одной из самых курьезных и безобразных фигур, когда-либо мне встречавшихся. Горбатый, с рыжей эспаньолкой, он одевался с претензией на большую франтоватость, носил яркие галстуки, пестрые жилеты, светло-серые в клетку штаны раструбом, а на его красном носике вечно было надето съезжавшее набок золотое пенсне на длинной цепочке. Свадьба Ани и Виктора должна была состояться лишь тогда, когда положение будущего супруга стало бы вполне обеспеченным, но это не мешало безумно влюбленной парочке ежеминутно лобызаться. Мое присутствие ничуть их не смущало; напротив, Виктор в перерыве между двумя поцелуями, лукаво мне подмигивал, не то извиняясь, не то желая выразить свой восторг. Аня же грозила пальчиком и молила, чтобы я их не выдал. Но это только подстрекало меня, и я самым бессовестным образом тут же спешил к мамаше Лудвиг и доносил ей о том, что видел. На это старушка, продолжая свою стряпню, только кивала головой и молвила: «Пусть их, они же помолвлены».
Благоволил я, кроме Кати, и к двум братьям Лудвигам — к длинному, белобрысому Феде, готовившемуся стать пастором, и к Саше, которому было всего четырнадцать лет и с которым я поэтому чувствовал себя как с равным. Федя Лудвиг был очень остроумен и обладал ценным для настоящего смешителя даром, — когда другие покатывались от хохота, он продолжал хранить невозмутимый вид. Надев длинную черную рясу и взяв в руки какую-либо книжку, он иногда принимался нам говорить проповедь, и тут уже наш смех доходил до судорог… Это было довольно странно со стороны человека, предназначавшего себя духовному сану, но эти комические проповеди были совершенно безобидного характера — и только подчеркивали все то, что в обязательной осанке и в жестах пастора бывает напыщенного и карикатурного. Увы, ранняя смерть, последовавшая лет пять спустя, не дала Феде Лудвигу проявить себя на том поприще, к которому он готовился, да, признаться, я и не могу себе вообразить, как бы он себя держал на кафедре или на настоящих свадьбах, крестинах или похоронах.
Мой тезка Саша Лудвиг помог мне в течение 1878 года забыть об утрате, понесенной весной того же года в лице мосье Станисласа. Во многом Саша напоминал мне доброго брата Ишу: Саша был необычайно уютный юноша. Ко всему, за что он брался, он подходил с какой-то внимательной серьезностью, и этим он более всего отличался от балагура Феди, бывшего лет на пять старше его. Глядя на любое из занятий Саши, будь то какая-либо домашняя починка, или же возня с посадкой цветов, или, наконец, приготовление к фамильному празднику, я как-то застывал в наслаждении, — до того все у него выходило споро, складно и быстро. В то время он был еще учеником реальной гимназии, но никогда в форме я его не видел, а носил он всегда полотняную, чистенькую полосатую блузу, когда же он уходил за покупками на Охту, то вместо форменной фуражки напяливал цветную жокейскую шапочку с козырьком, и тогда он мне казался удивительно хорошеньким. В далеком будущем Саша готовился стать инженером-пиротехником, и уже в те годы его приготовление к такой карьере сказывалось в том, что он по печатному руководству изготовлял всякие домашние огневые зрелища, за что я был готов его причислить к сонму магов и волшебников. Часами я слушал его тихим говорком передававшийся рассказ о том, какие фейерверки он видел и какие он мечтает сделать, когда превзойдет свою науку. И все эти рассказы приобретали особенную прелесть благодаря тем опасностям, с которыми связаны занятия с огнем и со взрывчатыми веществами. Раза три в год Саша показывал свое искусство на деле. Покупалась селитра, сера, порох, все это дозировалось на роговых весах, все это замешивалось прелестной роговой ложечкой и набивалось в специальные картонные трубки, которые затем аккуратнейшим образом заклеивались цветными бумажками. Если во время такого производства кто-либо появлялся в комнате с зажженной папиросой, то Саша, не теряя обычного спокойствия, предупреждал об опасности, мною же овладевала паника, и я бесцеремонно выталкивал неосторожного посетителя с его куревом. А затем по случаю чьих-либо именин устраивались среди кустов садика потешные огни; листья деревьев озарялись всевозможными красками, причудливые тени скользили неожиданными, иногда смешными силуэтами, знакомые фигуры становились чудовищами; били и шипели огненные фонтаны, вертелись солнца, взлетали римские свечи и ракеты…
Превзошел же себя Саша Лудвиг устройством «морского» фейерверка. Его он готовил несколько недель и для обработки главного сюрприза даже заперся в своей комнатке, и тогда мне ничего не оставалось, как торчать перед этой дверью и через нее задавать Саше разные докучливые вопросы. Впрочем, я сносил эту разлуку с Сашей мужественно, так как верил, что буду вполне вознагражден за свое терпение. И действительно, я был вознагражден! В назначенный день Саша вышел из комнаты с прекрасным трехмачтовым корабликом в руках, и весь этот фрегат был убран, как елка, крошечными пиротехническими препаратами, а вдоль бортов корабля торчали маленькие медные пушки. Настоящий корабль из страны лилипутов! Оставалось ждать вечера и прибытия гостей. Когда же все собрались, в том числе и явившаяся за мной бонна: «Шуренька, пора спать!» — то корабль был осторожно положен на воду канала, протекавшего у сада Лудвигов, и с берега зажжена пороховая нитка (известная мне уже по балам, ибо не иначе, как посредством пороховой нитки зажигались свечи в люстре и в бра). Все сошло было на славу. Нитка подожгла другие такие же нитки, коими были уснащены мачты, и вдруг весь корабль осветился на разные лады бенгальскими огнями, а его пушки одна за другой стали палить. Только, видно, одна из них была заряжена слишком сильным зарядом. Раздался оглушительный взрыв, кораблик покачнулся и стал тонуть — насилу вытащили. После того в продолжение многих дней обсуждались причины катастрофы. Саша был сконфужен, но его утешали, уверяя, что так получилось еще интереснее, ибо произошел «совсем такой» взрыв, как тот, что в те дни погубил турецкий монитор на Дунае. Этот взрыв турецкого монитора был представлен в большом виде и на пруду парка, так как в тот год при Славянском заводе образован был увеселительный сад под названием «Тиволи», и там происходили гулянья. Мы с противоположного берега пруда целых два часа ждали, как взорвется то сколоченное и выпиленное из досок чудище, что стояло на воде и должно было изображать турецкое военное судно, но в конце концов было объявлено, что фейерверк отсырел и отложен. Пришлось, не солоно хлебавши, плестись по черному парку домой.
С Сашей же и с Катей совершались обыкновенно наши прогулки по каналам в лодочке, принадлежавшей Лудвигам и прицепленной у пристани близ их дачи. К сожалению, в позднейшие годы вода в кушелевских каналах, благодаря каким-то непорядкам при спуске ее в Неву, сильно обмелела, и эти путешествия сопровождались всякими мученьями. Иногда даже лодка застревала совершенно, и тогда приходилось вылезать на берег и тащить ее на бечевке. Однако в блаженном 1878 году воды в каналах было еще достаточно, пруды были свободны от водорослей, и гребцы могли то развивать предельную скорость, то оставлять свое судно и скользить по инерции. Знакомый во всех подробностях парк с его затеями, видимый таким образом снизу и как бы из-под земли, казался новым. Лишь то, что стояло у самого берега, виднелось сполна, все же остальное как бы пряталось и украдкой выглядывало из засады. Вдруг на повороте начинали белеть и расти колонны Ротонды, казавшейся снизу еще более величественной, или после очень узкого места с листвой, нависавшей над водой, открывался вид на широкий пруд с двумя его павильонами и мраморным между ними спуском. Так как эти павильоны стояли на территории Славянского завода и к ним не разрешалось причаливать, то они казались особенно заманчивыми.
С этими прогулками по каналам Кушелевки у меня связано воспоминание об одном приключении слегка романтического оттенка. В лето 1878 года Кушелевский дворец был предоставлен в качестве летней резиденции какому-то институту. Если мы в своей лодочке оказывались у моста, через который шла главная аллея от дворца, в часы рекреации или под вечер по окончании занятий, то на мосту и вблизи по берегам мы заставали нескольких прелестных институточек — прелестных уже потому, что все они были одеты в те грациозные старомодные платья с открытым воротом и с голыми руками, в которые казенных затворниц одели еще при Николае Павловиче. Цвет этого форменного костюма был светло-синий, и поверх него надевался белый передник, а иногда белая пелеринка. Уже издалека синие фигурки виднелись на Львином мосту; одни стояли, опершись о перила или облокотившись на чугунных львов, другие гуляли по мосту, а еще некоторые — все парами — сидели на траве по откосам берега. Вот они завидели нашу лодочку, гуляющие остановились, те, что сидели на траве, вскочили и побежали на мост, и все сплоченной, нарастающей группой нас встречают, но встречают в молчании, лишь весело улыбаясь и делая робкие жесты приветствия. На момент, когда мы подплываем под мост, эта прелестная картина исчезает, но тотчас же в новой группировке она снова предстает перед нами с обратной стороны; опять улыбки, на сей раз грустные, и жесты, выражающие печаль. Через час мы плыли обратно. Если в это время институтки были еще у моста, то вся эта сцена возобновлялась.
Через несколько таких встреч обе стороны стали смелее. Сидящие в лодке стали произносить фразы вроде «какая чудная погода» или задавать вопросы: «не желаете ли прокатиться?», «завтра будете здесь?» и т. д. На что следовали еле слышные ответы. Если с нами были сестры Саши, то институтки решали с ними перемолвиться и другими фразами, и в этих случаях лодка наша застревала на несколько минут.
Эту-то прелестную идиллию, чуть ли не каждодневно повторявшуюся, мы сами, по собственной вине, нарушили. Вздумали мы с Сашей поднести нашим тайным знакомкам букет, и для этого букета были опустошены, несмотря на робкие протесты фрау Лудвиг, многие клумбы и гряды ее садика. Подъезжая с этим ворохом цветов к мосту, и я и Саша были донельзя возбуждены, точно спешили на какое-то запретное свидание (о любовных свиданиях я понаслышке уже имел некоторое представление и очень даже этим интересовался). Оказавшись же у самого моста, я, улучив момент, когда лодочка остановилась, с неожиданным для себя проворством выскочил с букетом на берег и стал карабкаться вверх. Взобравшись же к львам, красный как рак и немея от смущения, я положил наш дар к башмачкам голубеньких красавиц. Девиц так тронул рыцарский поступок мальчишки, что они гурьбой набросились на меня и стали тискать, теребить и притом, забыв всякую осторожность, они громко защебетали. Другие, постарше и похитрее, воспользовались этим моментом, чтобы вступить в диалог с Сашей, который, встав в лодке и зацепившись багром за мост, подавал каждой руку. В этих занятиях и в этом шуме мы и прозевали сигналы тех девиц, которые, исполняя роль передовых часовых, следили за тем, не идет ли из дворца классная наставница. Внезапно веселые разговоры замерли, лица вытянулись, а когда я обернулся, то увидал одетую во все коричневое фигуру пожилой и очень строгой дамы. От ужаса я прилип к земле и не знал, что мне делать. Дама же, не проронив ни слова, взяла меня за руку и отвела к берегу, по которому я, до слез посрамленный, сполз к лодке. Отъезжая от моста, мы еще видели, как к первой классной даме подошли еще две, как они долго разглядывали букет, ища, вероятно, какую-нибудь записочку, а затем они, преисполненные достоинства, удалились со всей гурьбой воспитанниц в сторону дворца. И с тех пор институточкам было запрещено доходить до рокового места, и мы их уже не видали. В следующие же лета дворец под институт не сдавался, самый же мост был разрушен после того, как вся часть парка за ним была приобретена моим зятем.
Одной из самых замечательных достопримечательностей Кушелевки был тот вид, что открывался на Неву. Но вид этот был загорожен высоким глухим забором, и потому папа решил пристроить к забору род балкона, откуда, оказавшись на высоте четырех аршин от земли, можно было свободно любоваться широкой панорамой. Пребывание на этом бельведере было столь же заманчивым, как и плавание по каналам, и мне случалось на нем проводить целые дни — одному или в обществе мамы, бонны, а в 1878 году и той девочки Вари, о которой речь впереди. Так как то, что творилось на бельведере, было видно от самой нашей дачи, то, пока я находился на нем, ближайшего присмотра за мной не требовалось. Когда мне надоедало глядеть на простор Невы или на то, что творилось под ногами на мощеной набережной улице, то я обращался к принесенной с собой книжке или рисовал всякую приходившую в голову чепуху.
Любил этот бельведер и брат Миша, готовившийся тогда стать моряком и гостивший иногда на Кушелевке вместе со своими товарищами — долговязым бароном Клюпфелем и болезненно-близоруким Виноградовым. Последний был еще замечателен тем, что, несмотря на семнадцать лет, обладал густой черной бородой. Все трое считали себя настоящими морскими волками, а так как в традиции морских волков входит и пьянство, то и эти милые, благовоспитанные юноши, выпив за завтраком втроем бутылки две пива, изображали затем из себя совершенно охмелевших людей. Они горланили песни вроде «Друзья, подагрой изнуренный…» и этим обращали на себя внимание прохожих. Они же грызли, как истые матросы, семечки, сплевывая шелуху на улицу. Я не узнавал нашего скромного Мишу и в то же время потешался безгранично. Впрочем, юноши не всегда безобразничали на бельведере, а иногда они забирали с собой туда охапку учебников, зубрили по ним и производили друг другу пробные экзамены. Кажется, все трое тогда провалились на приемном испытании в Морском училище — и немудрено, так как все трое не отличались особым прилежанием; год же спустя они были приняты во флот, а в 1880 году наш Мишенька и Виноградов отбыли на клипере «Пластун» в кругосветное плаванье, о чем я уже рассказал.
Центром той панорамы, которая развертывалась с нашей призаборной вышки, служил Смольный монастырь, стоявший на берегу Невы насупротив нас. Это одно из самых прекрасных и поэтичных сооружений на всем пространстве государства Российского! Гордо и благолепно подымается над всем прочим колоссальная масса главного пятиглавого собора, и, точно дьяконы, совершающие торжественную литургию, обступают в значительном от собора расстоянии четыре совершенно одинаковые церкви; вокруг же всего этого божьего селения тянется высокая стена, прерывающаяся в известном ритме разнородными затейливыми башенками. Все вместе производит во всякое время и в любую погоду сказочное впечатление, но сказочность эта приобретает особенно волнующий характер, когда в ясные летние вечера все эти здания начинают таять в алых лучах заходящего солнца, а многочисленные их купола и шпили загораются золотом крестов и теми лепными гирляндами, коими убрала голубые луковицы церквей роскошная фантазия Растрелли! Мне кажется, именно на Смольном я понял прелесть архитектуры в пейзаже и, еще не осознав своей какой-то связи с прошлым Петербурга, уже напитывался, глядя на эту единственную картину, ее дивной красотой.
Если перевести взор от Смольного влево, то открывался вид на Большую Охту с ее церковью, вокруг которой толпились деревянные домишки с их зелеными и красными крышами; дальше зияли чернотой отверстия старинных верфей для постройки судов, а из-за загиба Невы мерещились в затуманенной дали башни Александро-Невской лавры и очень оригинальная церковь, построенная в русском стиле приятелем отца — архитектором Щуруповым. Если же обратить взор вправо, то на противоположном берегу вслед за заборами и амбарами дровяных складов (Громовской биржи) виднелся Таврический дворец с его плоским куполом, а рядом темно-красным силуэтом возвышалась недавно построенная водонапорная башня; совсем вдали сиял золотом сферический купол Исаакия и высилась масса разных колоколен. Папа любил мне все эти здания называть, и, штудируя Петербург с кушелевского бельведера, я выучился названиям многих его достопримечательностей и запомнил их типичные очертания.
Все это было неподвижное, далекое, каменное, ближе же к нам и во всю ширину панорамы лежала пребывавшая в непрестанном движении река. Лишь очень редко, в моменты полного безветрия, наступало затишье. И тогда в водах Невы отражались здания противоположного берега. Но даже в такие дни голубая гладь то и дело нарушалась кипевшей на ней жизнью. То, дымя трубой, плыл черный, переполненный до отказа шлиссельбургский пароход, то суетливо несся крошечный пароходик финляндского общества, то буксир тащил за собой вереницу барок. Кроме того, сотни цветисто раскрашенных яликов беспрерывно сновали во всех направлениях или же уплывали далеко вверх по реке большие рыбацкие лодки, закидывавшие невода.
Движение по Набережной улице вдоль забора Кушелевки было в обыкновенные дни не Бог весть каким интересным и уже, во всяком случае, не отличалось нарядностью — слишком сказывалась близость рабочего пригорода. Редко-редко проедет какой-либо собственный экипаж, принадлежащий иностранцу-фабриканту или одному из помещиков-дачников, имевших свои усадьбы дальше за Охтой. Обыкновенно же мимо нас тянулись бесконечные вереницы возов с разными товарами или просто крестьянские телеги, отправлявшиеся из деревень в Петербург и обратно. Пеший люд состоял из всякого рода мастеровых и рабочих, да еще из охтенских молочниц, которые шли по утрам целыми взводами с коромыслами, на концах которых побрякивали жестяные кружки с молоком, и с корзинами масла и творога за спиной.
То были или подлинные чухонки или русские бабы и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подделаться под чухонок, дабы заслужить большее доверие покупателей — ведь особенно славилось именно чухонское масло. «Ливки», «метана», «ворог», «яйца вежие» — звонко выкликаемые чухонками — вызывали представление о чем-то чрезвычайно доброкачественном и заманчивом. Нередко обыденное шествие нарушалось каким-либо скандалом, и я должен покаяться, что как раз до такого зрелища, сидя в абсолютной недосягаемости и в полной безопасности, я был большой охотник. Бывало даже обидно, когда начавшаяся потеха какой-либо драки или озлобленной перебранки слишком скоро прекращалась благодаря прибытию городового или дворника. Оба они непрерывно дежурили у наших ворот. Эти блюстители порядка составляли род клуба. Членами его, кроме того, были и разные полупочтенные соседи, между прочим, хозяин той лавочки-ларька, которая помещалась у спуска к тоне, как раз насупротив ворот парка.
Этот лавочник всячески занимал мое воображение. Во-первых, меня пленяли те коробья и банки с лакомствами, что стояли рядами у него на полочках и до которых я, балованный господский мальчик, был все же большой охотник (то были черные сладкие бобы-стручки, мятные и другие пряники, орехи, паточные леденцы). Во-вторых, меня интриговало то, что по окончании торгового дня хозяин ларька не уходил куда-то домой на ночлег (дома-то у него, вероятно, и не было), а укладывался калачиком, как собака в конуру, в нижний ящик своей незатейливой лавочки… Городовой и дворник уже потому благоволили к этому тихому и смиренному мужику, что он не скупился на угощение; в жаркие дни можно было любоваться, как то и дело он потчевал своих друзей квасом, кислыми щами или даже бутылочкой ланинской фруктовой воды, которая, несмотря на всякие наветы людей, недоверчиво относящихся к национальной промышленности, была все же очень вкусная и действительно напоминала то грушу, то ананас, то малину или смородину…
Но был день к концу лета, когда наша набережная приобретала совершенно особый характер, — и вот в этот день, сидя на своем бельведере в обществе всех наших домашних, я себя чувствовал, как царь на параде. Этим днем было 15 августа — иначе говоря, праздник Успения богородицы, ознаменованный грандиозным крестным ходом, обходившим всю Охту и часть Выборгской стороны. С самого утра чувствовалось на нашей набережной приподнятое настроение. Толпы по-праздничному разодетых мужчин, женщин и детей, рабочих, мастеровых, рыбаков, матросов, солдат, мелких чиновников, купцов и купчих — спешили все в одном направлении из города, кто на Охту, а кто и еще дальше на Пороховые. Часам к 11-ти трезвон колоколов усиливался, и в то же время его начинал заглушать гул приближающегося людского потока. И вот из-за поворота главной охтенской улицы показывался самый крестный ход. Я ждал этот момент со смешанным чувством: в него входил и праздничный подъем, но в него входило и подобие некоторого ужаса. Почему-то медленное продвижение процессии под заунывное пение священнослужителей, певчих и толпы вызывало ощущение чего-то грозного, чего-то даже для меня лично опасного. Не будучи православным, относясь, по неведению, к православию с некоторым предубеждением (в чем меня укрепляли мои бонны, не иначе, как с оттенком презрения говорившие про русскую церковь), я не испытывал чувства благоговения, а вместо него возникал странный щемящий ужас — мне начинало казаться, что эти приближающиеся, колыхающиеся, склоняющиеся и снова выпрямляющиеся хоругви ведут род грозного наступления, что вот-вот они надвинутся на меня, и мне тогда несдобровать. Однако в момент, когда крестное шествие было уже под самым нашим балконом, страх исчезал, священные знамена, не причинив вреда, медленно проплывали мимо, и в ту же минуту внимание всех стоявших на бельведере было поглощено чем-то совершенно уже необычайным.
Многие набожные люди норовили пройти или даже проползти по земле под громадную, блиставшую золотом и драгоценными каменьями икону Божьей матери, несомую на плечах обливающимися потом и явно изнемогающими под ношей богомольцами. И тут же происходили иногда сцены, совершенно средневекового характера. В толпе раздавался вопль, и к иконе проталкивались дюжие мужики, таща за собою бьющуюся в корчах и неистово визжащую женщину-кликушу. Несмотря на сопротивление, ее валили на мостовую и держали распластанной во прахе, дабы икона, проносимая над ней, могла оказать свое чудотворное действие. И действительно, бесноватая вставала затем успокоенная, без чужой помощи, а все вокруг, да и наши прислуги на бельведере, пораженные явным чудом, усиленно крестились. По пути следования крестного хода такие сцены повторялись несколько раз…
Раза два-три в моем рассказе я уже упоминал о тоне, т. е. о том примитивном рыболовном предприятии, которое находилось в непосредственном соседстве с кушелевским парком. Эта тоня была столь любопытной достопримечательностью тех мест, а в моей памяти она занимает до сих пор такое значительное место, что я должен о ней рассказать подробнее.
До тони было от нас всего несколько шагов. Стоило выйти за ворота парка, перейти Набережную улицу и спуститься по деревянной лесенке с довольно крутого берега, как человек уже оказывался на пропахшем рыбой помосте тони. Когда в воскресные дни к нам или к Эдвардсам приезжали гости, то полагалось часа за три до обеда всем отправляться на тоню, и тогда Матвей Яковлевич, питавший настоящую страсть ко всякого рода азартным играм, «заказывал тоню» в надежде сделать чудесный улов. Иной раз в сетях оказывались и сиги, и судаки, не считая всяких ершей, окуней, корюшки и салакушки, а в особо счастливые дни попадались и лососи. Но бывало (и это случалось чаще), что невод возвращался пустым или с одной только мелочью, и тогда Матвей Яковлевич терял свои три рубля и уходил с берега благодушно-раздосадованный, причем мама, хитренько улыбаясь, говорила ему: «Я это знала, вот почему и приняла меры: утром еще купила чудесную рыбу к обеду».
Для нас, детей, долгое ожидание возвращения невода было томительным, и мы предпочитали этот час заполнять тем, что, сойдя с плота на береговой песок, немилосердно моча свои сапожки и новые костюмчики, входили по колено в воду, набирая в ведерки всяких колюшек и другой крошечной рыбешки. Бывало, идущий в середине реки пароход всколыхнет воду, и волны, докатясь до берега, обдадут нас с ног до головы. При этом девочки неистово визжали и поднимали свои юбочки. Но вода у берега была нагретая, и никаких простуд вследствие этих рыболовных авантюр мы не испытывали. Кроме рыбок, можно было собирать на берегу и мелкие ракушки, а то и красноватую сосновую кору, из которой папа умел вырезать прелестные лодочки и кораблики. Особенным счастьем почиталось найти на берегу корабельный блок или какую-нибудь длинную жердь. Занятно было вдоль берега добраться до гранитной пристани перед безбородкинским дворцом и поглядеть, как рыбаки, не участвовавшие в тоне, варят на костре уху, которую они тут же хлебали, чинно усевшись кружком и черпая деревянными ложками из общего котла.
Вот рыбаки, вертящие ворот, потные, с коротким гиканьем, наматывают последние круги тянущего улов каната, и по тому, что это дается с усилием, ясно, что сети отяжелели от попавшей в них рыбы. Матвей Яковлевич сияет, а у других на лицах написано самое напряженное внимание, точно решается чья-то судьба. На воде появляются поплавки, поддерживающие сети, рыбаки схватывают концы невода и с трудом втаскивают содержимое на помост. Мату не приходится повторять то, что за последний час он твердил своей теще: «Вы увидите, мама, вы увидите!» — и все мы видим чудо чудесное: в сетях, изгибаясь и хлопая хвостом, бьется двадцатифунтовая лососка! Все копошащееся, сверкающее серебром население и сам царь этого обреченного народа вывалены на дощатый пол, и в течение нескольких минут идет разборка и укладка одних сортов в жбаны с водой и умерщвление других. Но Матвей Яковлевич получил свою добычу, он собственноручно ее прикончил камнем по голове и, держа ее за жабры, роется другой рукой в кармане жилета, где у него лежит серебряная монета. Еще раз потешил он свою душу очень удавшейся тоней, а к тому же получил такой гостинец к столу, каких мы давно не видывали. Рыба будет сварена, снесена в погреб на лед, и к обеду она поспеет, пахнущая свежестью, обложенная цветным гарниром, с петрушкой и укропом в разинутой пасти, в качестве главного лакомого блюда праздничного пира.
Не могу не упомянуть еще об одном случае, в котором Мату досталась роль главного действующего лица и который взволновал нашу тогдашнюю колонию. Это была большая драматическая сцена во вкусе тех, что теперь часто видишь на экране. В воскресенье, несмотря на запрет, в парк проникало через разные лазейки немало постороннего люда, и вот однажды где-то в кустах фабричный парень выхватил у гулявшей девицы кошелек и пустился бежать к выходу. На вопли ограбленной подняли тревогу, и несколько человек погнались за вором, в свою очередь оглашая воздух криками: «Держи, лови!» Все это разбудило в Матвее Яковлевиче его спортивно-рыцарские, искони английские чувства, и, хоть в это время он был занят с прочими нашими гостями игрой в бочи, он бросил игру и тоже помчался за вором. Но тогда как другие преследователи и сам воришка бежали без всякого искусства, Мат сразу показал, что он знает, как это надо делать, и сразу стало ясно, что победа останется за ним. Громадная его фигура не выражала ни малейшей поспешности. Ноги сгибались и отпихивались методично; казалось даже, что он недостаточно скоро бежит, и, однако, расстояние между вором и им все сокращалось и сокращалось. Бежал Матвей Яковлевич восхитительно, ровным шагом и до странности — при своем росте и тяжелом сложении — легко. Когда же он оказался в полуаршине от вора, то его рука протянулась к бежавшему и легла ему на плечо, точно он захотел по-дружески его похлопать. Но вор под этой могучей дланью только ахнул и осел. Мат, вздернув его вверх, как перышко, понес, держа за шиворот свою жертву, — ни дать ни взять как лосося. Тут же прибежавшие с набережной городовой и дворник схватили жулика под мышки и потащили в участок.
Не всегда Нева была такой, какой она была в дни чудесных уловов, — сверкающая, отливающая голубоватым атласом, ровно и торжественно несущая свои ясные воды в сторону моря. Бывали дни, когда мы ее видывали хмурой, темно-серой, ощетинившейся под порывами ветра, покрытой барашками. И, пожалуй, такой мне она нравилась еще более. В такие тревожные дни получались иногда к вечеру самые удивительные эффекты, особенно если солнце перед тем, как скрыться за горизонт, прорежет заволакивавшие тучи и вдруг обдаст все ярко-оранжевым светом. Краски становились резкими, и все в целом приобретало какой-то патетический характер. Охтенские постройки и Смольный горели, как жар, на фоне темных, свинцовых туч, а Нева чернела глубокой синевой. В такие-то особенно заманчивые для художника вечера Альбер мчался на свое излюбленное место у тони и с лихорадочной поспешностью, едва усевшись на треножник, наносил все на бумагу. Обыкновенно спокойный во время работы, он в такие дни обнаруживал чрезвычайное волнение — нельзя же было сплоховать там, где сама природа на кратчайший момент давала ему такие исключительные, такие возбуждающие темы!
В один из таких бурных дней я чуть не погиб вместе с братом Михаилом. Способов добраться из города на Кушелевку было несколько: простейший — на извозчике, но это было дорого, а у нас в почете была экономия, два же других способа заключались в пользовании конкой. К сожалению, та конка, что подходила к самому Кушелевскому парку, тащилась с удручающей медлительностью, так что на сравнительно короткий путь от Финляндского вокзала до нас уходил целый час — час, во время которого приходилось дышать смраднейшим воздухом, терпеть раздражающее дребезжание стекол и душераздирающий лязг колес; приходилось и застревать по десяти и по пятнадцати минут на разъездах. Другая же конка, отходившая от Михайловской площади, доезжала всего только до Смольного, и оттуда приходилось переправляться через Неву на ялике. Последний путь был уже потому приятнее, что новые, только что из Германии полученные вагоны на этом маршруте были чистенькие и даже отличались известным изяществом, — так, над каждым окном было вставлено по живописной картинке, и разглядывание этих пейзажиков и натюрмортиков развлекало меня во время пути, длившегося около получаса. Если же я ехал с папой, то мы взбирались с ним на империал, и тут открывались довольно интересные виды. Особенно я любил переезд через Фонтанку с видом на Инженерный замок, а также проезд мимо церкви св. Симеония и тот вид, который открывался на готическую Евангелическую больницу и на возвышавшуюся над прудом круглую Греческую церковь. А затем было так занятно очутиться под стеной Смольного монастыря, миновать его курьезные башенки и за последним поворотом увидать Неву.
В тот день, чуть было не ставший для нас роковым, мы с Мишей, которому я был поручен мамой, доехали до монастыря благополучно, но на сей раз, завернув за монастырскую стену, мы увидали перед собой картину совершенно неожиданную и до чрезвычайности грозную. Вода Невы, буро-сизая, взбаламученная, косматая, вся в белых гребнях, металась, как в горячке. Даже тяжеловесные барки с дровами, стоявшие тремя рядами у берегов, покачивались и ударялись друг о друга, а ялики пристани прыгали в какой-то дикой пляске. То была настоящая буря, силы которой мы не чувствовали, пока ехали городскими улицами. Никто из перевозчиков не соглашался переправить нас в такую погоду, но Миша счел, что ему, как моряку и будущему воину, не подобает сдаваться даже перед стихией и, когда его словесные убеждения не помогли, то он вынул из кошелька зеленую трешку. При виде такого богатства один молодой парень все же согласился доставить нас на Охту. Не успел я опомниться, как братец мой, схватив меня в охапку, прыгнул в качающийся ялик, и мы отчалили.
Пока мы плыли в переулке между барками и под их защитой, опасность, которой мы себя подвергали, не была вполне ощущаемой, но не успели мы выехать за последнюю барку, как нашу лодку сразу подбросило так, что дух захватило, и весь ужас положения предстал перед нами. От дальнейшего я запомнил только то, что фигура сидевшего перед нами лодочника то взлетала высоко, то, когда мы скатывались с гребня волны, оказывалась под нами. Яростные массы разбивались о нос и окатывали нас как из ушата. Миша, взявший ковш, спешно выкачивал воду из лодки, я же сидел ни жив ни мертв, судорожно вцепившись в борт и в скамью. Шапка у яличника слетела, лицо его выражало ужас. Величайшего напряжения стоило ему пересекать под прямым углом каждую надвигавшуюся волну, тогда как боковой удар неминуемо должен был опрокинуть наш утлый челн… Лодку крутило и бросало. Наконец ослабевший яличник взмолился, чтобы Миша взял одно из двух весел и сел перед ним. Не понимаю, как во время этой пересадки нас не опрокинуло! Но, видно, у Миши было настоящее призвание к морскому делу, да и к тому же он обладал редкой силой и большим хладнокровием. Сразу с момента, когда он взялся за весла, продвижение ялика стало более заметным, и, наконец, через четверть часа или двадцать минут мы снова оказались в противоположном коридоре, между дровяными барками, — и были спасены. Миша, отличавшийся вообще абсолютной правдивостью и никогда не лгавший, потребовал, однако, на сей раз, чтобы я помог ему скрыть от мамы нашу авантюру. Мы и явились на дачу хотя и промокшие, но с видом как ни в чем не бывало, уверяя, что это дождь промочил нас по дороге.
Полным контрастом к этой бурно романтической сцене является в моей памяти другой переезд тоже через Неву, но в обратном направлении, т. е. с Охты к Смольному. На сей раз в ялике сидел я с отцом, и происходило это в конце последнего из наших кушелевских пребываний (осенью 1882 года). Дожили мы тогда на даче до начала сентября. Стояла отменная погода, и было так тепло, что даже вечерний чай подавали все еще на балконе, причем зажигались свечи, защищенные особыми стеклянными колпаками. Но как ни прекрасна была погода, а все же каникулы кончались, и мне надлежало возвращаться в гимназию, а раз Шуреньку нужно было водворять в городскую жизнь, то как же было оставаться на даче его родителям? Приехали телеги, застучали своими сапогами перевозчики, и от них по опустелым комнатам пошел тот крепких дух — смесь пота и дегтя, который считается отменно русским. Ящики, корзины, стулья, столы, комоды — все это, постояв еще немного на дорожке сада у колес возов, стало погружаться на них с удивительной сноровкой.
Мамочка, Ольга Ивановна и кухарка были ужасно озабочены, считали, что все не так кладется, что в одном из ящиков что-то внутри звякнуло, что поцарапали крышку рояля, что вот-вот отломаются ножки у двух кресел, но Степанидушка не скрывала своей радости, ибо кончалась ее разлука с другом сердца — дворником Василием. Наконец первый воз с кухаркой, восседавшей на поперек поставленном на воз диване, тронулся, а за ним гуськом потащились другие, и весь караван исчез за воротами. Попрощались и мы с Эдвардсами, посидели все по неизменному обычаю на подоконниках (стулья уже уехали), перекрестились, промолвили «в добрый час» и пошли к заказанному экипажу. Но тут папа, у которого иногда бывали такие фантазии, вдруг предложил отправить с мамою мою гувернантку фрейлейн Штрамм, Степаниду и Ольгу, нам же двоим, мне и ему, ехать отдельно, кружным путем через Неву, а от Смольного до дому — на извозчике. Мамочка попробовала протестовать: «Зачем это осложнение? Ведь всем было бы место в ландо!» — но, видя, что и мне уж очень захотелось последовать папиной причуде, она сдалась, и мы расстались. Карета застучала по мостовой в сторону Петербурга, а мы с папой уже шествуем к мосту, отделяющему Кушелевку от Охты, а там и по улицам пригорода до дальнего перевоза, который приходился против самой охтенской колокольни.
Идя по корявому, убогому, низенькому посаду, папа рассказывает все, что тут происходило в дни его детства, как именно здесь на лед выходили Охта и Пески на кулачные бои, какие богатейшие купцы живали в этих самых разваливающихся деревянных домиках, из которых иные были выкрашены в два цвета, дабы ясно было, кому после раздела наследства досталась та или другая половина. Но всего больше меня поразил рассказ о том, как тут, на Малой Охте, спускались в дни Александра I корабли. И, вероятно, именно это воспоминание побудило папу предложить яличнику, вместо того, чтобы прямо пересечь Неву, взять немного вверх по течению, дабы под самыми этими древними, все еще стоявшими верфями и проехать.
Уже сильно темнело, тишина стояла невозмутимая, полные воды реки текли плавно. Смольный монастырь потух и стоял призрачной блеклой массой на зеленеющем небе. В осеннем лиловатом полусумраке громады тех двух сараев-доков, из которых когда-то, при трубных звуках и пушечной пальбе, выкатывали и бухались на воду широкобокие корветы и фрегаты с их позлащенными кормами, казались еще огромнее. Но дни их торжества миновали давным-давно, а сами они, обреченные на слом, лишь чудом продолжали доживать свой век. Черной пустотой зияли их непомерные внутренности, крыши их были испещрены дырами, покосились и повисли, но ряды колонн и другие части архитектурного убранства фасада на Неву все еще свидетельствовали, что зодчие александровских времен знавали толк в величественных формах архитектуры. И по-прежнему все еще царил над всем исполин Посейдон, резанный самим Мартосом из казанского дуба, так удобно примостившийся как раз в промежутке между двух крытых скатов верфей…
Незабываемое впечатление! Видя мое восхищение, папа попросил лодочника подплыть еще ближе, почти к самому дощатому спуску, шедшему от этих гигантских зал в воду. Снизу, в ракурсе, бог морей с разметанной ветром бородой, с дланью, протянутой над стихией, казался, несмотря на поломанный трезубец, особенно грозным. В ветхих зданиях что-то потрескивало, что-то с глухим стуком обваливалось. А на противоположном берегу засветились огни газовых фонарей, и где-то в монастыре или в Александро-Невской лавре колокола звонили к вечерне…
С 1882 года родители уже не живали на Кушелевке, но все же мы там бывали нередко то всей семьей, то я с мамой, а то я один. Не раз (и даже зимой) мне случалось ночевать и гостить у сестры Камиши в течение нескольких дней. Притягательной силой являлось самое приволье, царившее на Кушелевке, и разнообразие тех прогулок, которые мы могли делать по парку и в его окрестностях. Кроме того, на Кушелевке я имел целых две группы товарищей по играм: своих племянников и племянниц — Эдвардсов и Лансере.
Что Эдвардсы жили на Кушелевке, было вполне понятно. Матвею Яковлевичу было необходимо находиться в непосредственной близости от своей фабрики, но на Кушелевку переселился из соображений здоровья и мой другой зять — Евгений Александрович Лансере. Для него и была перестроена та самая дача, в которой раньше помещалась ночлежка рабочих, а в мезонине прожил свое последнее лето мосье Станислас. У Эдвардсов в товарищи игр мне годились Джомми и Эля, у Лансере — Женя и Коля. Маленькие Эдвардсы были скорее «дикие», ибо росли почти без присмотра; тихенькие же и несколько хрупкие «лансерята» были предметом непрестанной заботливости со стороны своих родителей и со стороны бонн. Однако как те, так и другие, подпадали под мое влияние (вернее, поступали в мое распоряжение) и становились совершенно другими. Каждому я давал подходящую роль, втягивал и тихих и шумливых в одну какую-либо игру, вроде казаков-разбойников или палочки-воровочки. С Эдвардсами и не требовалось непременно оставаться дома или «при доме». Я уводил их далеко в парк, катался с ними часами на лодке, бродил с ними по всей фабрике. К тому же у маленьких Эдвардсов была целая банда товарищей и товарок, детей соседних фабрикантов, а то и рабочих. В такой компании игры и прогулки, естественно, принимали буйный разгульный стиль. Совершались экспедиции к наиболее запущенным дебрям парка, а главное, прогулки в лодке приобретали зачастую очень рискованный характер. Совершенно даже удивительно, как мы так и не оказались на вязком дне прудов!
Творилось и немало безобразий, ломки всяких вещей, происходили охоты на кошек (которых я, однако, обожал), искали птичьи гнезда, дразнили собак, индюков и гусей. Но сколько во всем этом было упоительного возбуждения! Какими красными и потными, с какими волчьими аппетитами мы возвращались, заслышав свисток фабрики или колокол дачи, звавшие к завтраку или к обеду. Я тогда пристрастился к английским «специальностям» вкусного Камишенькиного стола, а на семейных обедах на Кушелевке наедался до отвала так, что еле мог встать из-за стола… Все было не только вкусно, но как-то по особенному сочно. Таких ростбифов, таких индеек и гусей, таких паштетов я никогда уже с тех пор не едал! Многое, что происходило в моей жизни, я считаю за особенное счастье, за настоящую привилегию судьбы, и вот среди этих привилегий я должен одно из первых мест уделить тому, что, не покидая родного города, благодаря Эдвардсам, я не только познакомился с бытом «доброй старой Англии», но и лично как-то приобщился к нему. Кушелевка в той части, которая была подвластна Матвею Яковлевичу, на том большом отрезе парка, на котором стояла фабрика и его личная усадьба, являлась подлинным куском Англии, чудом, перенесенным на русскую территорию. Говорю же я, что должен быть благодарен такому дару судьбы, ибо ничего не знаю более привлекательного, более уютно-семейного, нежели именно этот милый диккенсовский быт! И то, что рыжий Матвей Яковлевич, являвший всем своим обликом характерный тип исконного бритта, что этот чистокровный кельт был женат на русской итальянке (или русской француженке), нисколько не портило сути дела, ибо Камиша быстро сроднилась с жизненными идеалами своего супруга и сама превратилась в настоящую англичанку. Но не в чопорную, педантичную хранительницу приличий, а именно в ту образцовую деревенскую хозяйку, каких немало встречается и в английских романах, и в английской действительности.
О, нет, чопорности в домашнем быту на Кушелевке не было! Царила скорее полная непринужденность. Но при этом какое беспредельное сердечное гостеприимство, как широко и просто текла жизнь в семье Мата и Камиши! Стоило зимним вечером въехать с Полюстровского шоссе в широко раскрытые деревянные ворота и увидать двухэтажный их дом со всеми освещенными окнами, чтобы почувствовать себя в очаровательном, совершенно особенном и ни на что другое в Петербурге не похожем царстве. Благодаря обилию смолы, требовавшейся для канатов, даже пахло здесь совсем по-особенному не только на фабрике, но и в комнатах и во дворе. Этот запах был специфически морским, мореходным, а следовательно, английским.
Самая фабрика Матвея Яковлевича носила на себе типично английский отпечаток. Она, правда, вовсе не походила на огромные казарменного вида дома с высокими дымящимися трубами, с настоящим адом шумных машин. Это была расползшаяся во все стороны, низенькая, всюду в один этаж, постройка, точнее, целый городок деревянных построек. Дымила она мало, и стоило войти в ее пределы, как вас обдавал тот же запах смолы, смешанный со своеобразным запахом пакли и веревок. Фабрика «Нева» шумела, но шумела мягко, «простодушно», с частыми передышками. Рабочие не исчислялись тысячами, и едва ли общее число их переходило за сотню, считая при этом и женщин, и малолетних. Словом, это была скорее очень домашняя и вовсе не страшная фабрика, а рабочие на ней отнюдь не являли вида забитых и озлобленных от изнурительного труда рабов. Жаль было только тех трех или четырех баб, которые целыми днями ходили в вертящихся деревянных колесах, наматывавших нити, но даже они проделывали эту работу с бодрым видом. Нередко для забавы и я входил в эти колеса и принимался в подмогу ни с места не подвигающейся женщине ступать по широким плоским лопастям, это было даже превесело. На фабрике царил образцовый порядок, но он достигался не суровыми дисциплинарными мерами, а какой-то любовной патриархальностью.
Прогулка по фабрике была одной из самых занимательных. Интересно было зайти в амбар, где горами были навалены запасы уже скрученных и намотанных веревок. Интересно было взобраться на самую верхушку такой плотно сложенной горы и там удобно устроиться на чудесно пахнущих мотках. Интересно было взвеситься на огромных весах, глухо и смачно ударявших о дощатый пол, когда на них клали страшные пудовые и пятипудовые гири; интересно было зайти в главную топку, где неустанно и методично вертелось огромное маховое колесо, а почерневшие от угля кочегары то и дело подбрасывали уголь в пылающую печь. Интересно было изучать, как все устроено и пригнано; интересно, но и жутковато было подходить к стремительно бегущим ремням и к бешено крутящимся колесам (одним таким колесом и оторвало нашему милому Султану его пышный хвост). Но наибольший соблазн представляла собой тянувшаяся сажен на полтораста или двести деревянная галерея, казавшаяся еще более длинной потому, что она была и узкая и низкая. Она была так длинна, что когда в конце ее на светлом квадратике открытой двери появлялась фигура взрослого человека, то с другого конца она казалась крошечной мошкой.
Во всю длину этой галереи шла железная дорога, иначе говоря, были проложены рельсы, и по этим рельсам ходила особая, из Англии выписанная машина, в задке которой были размещены разного калибра крюки. Когда механизм был пущен в ход, то крюки начинали стремительно вертеться, свертывая несколько ниток в одну толстую веревку, несколько толстых веревок в один канат, несколько канатов в неимоверной толщины кабель. Для того, чтоб эта работа могла производиться, машине с крюками надлежало все более и более удаляться от своего начала и ползти к помянутой светящейся точке на другом конце галереи. Путь этот совершался медленно и деловито, со сверлящим, уши раздирающим шумом. Зато когда он бывал пройден, а свитые, готовые канаты сняты с успокоившихся крюков, то машина по тем же рельсам возвращалась к исходному месту, и это она проделывала со стремительностью, точно лошадь, почуявшая конюшню. Одним из больших кушелевских удовольствий была именно эта поездка на возвращающейся машине. Рабочих, приставленных к ней, мы знали всех хорошо, это были наши друзья, и им самим было приятно прокатить родственников хозяина — благо, от этого машине никакого вреда не причинялось. И какой же гордостью наполнялось сердце, когда я на своем собственном локомотиве катил по этому длиннейшему туннелю. Что только не успеешь себе вообразить во время этого, не более двух минут длившегося путешествия! Казалось, что я лечу в поезде по всем знакомым мне и манившим меня странам, по Северной Америке, по Италии, по Франции, по Англии… Бывало, что я раз пять в день проделывал эту поездку. Я терпеливо шел шагом за плетущейся, работающей машиной с тем, чтобы, сев на нее, когда она освобождалась, вихрем мчаться обратно.
Чудесно было на Кушелевке летом, но сила ее прелести не убавлялась и зимой. Напротив. Что за дивные волшебные лунные ночи запомнились мне в этом старинном парке, когда голубоватые тени оголенных деревьев ложились на сверкающий белизной снег или когда все покрыто кружевным инеем и стоит в завороженной неподвижности. Как весело было на лыжах, коих у Эдвардсов было много пар, забираться в такие дебри, куда за нами не могли поспевать старшие! Как очаровательно праздновались у Камиши святки, когда после обеда зажигалась елка, вносился пунш, и Матвей Яковлевич, слегка навеселе, принимался с изумительной при его росте легкостью, скрестив руки на груди, танцевать джигу!
Но ничто не может сравниться с тем наслаждением, которое я и вся молодежь испытывали на Кушелевке от катанья с горы. Деревянный, довольно высокий остов горы строился на самом берегу ближайшего к дому Эдвардсов пруда, но скат шел уже по льду и тянулся сажень на тридцать, если не больше. Ко дню, когда ожидались гости, скат расчищался от снега, причем образовывались по сторонам два довольно высоких вала, лед же, тщательно подметенный, блистал, как зеркало. Особенно фантастический характер приобретало катанье при луне или даже в полной тьме. Снег продолжал белеть и в звездную ночь, дорожка льда резко чернела, и лишь конец ее терялся во мгле. Салазок у Матвея Яковлевича было сколько угодно — на всех хватало, но были любители съезжать и без санок — на рогоже или просто на собственном заду. Самое веселое было слетать одним сразу вслед за другими; тогда внизу непременно получалась «каша», сани налетали друг на друга, все валились в кучу, и только слышался визг, кокетливые жалобы барышень и дикий хохот юношей (в такие вечера на Кушелевке собиралась масса молодежи). Один раз, впрочем, я больно, почти до обморока треснулся головой о глыбу льда, лежавшую на краю вала, а какой-то знакомый Эдвардсов даже сломал или вывихнул себе руку.
Но шалости и безобразия являлись в конце, тогда как первый час катания проходил скорее чинно, наподобие спортивного состязания. На салазки надлежало сесть так, чтобы ими удобно было править, и чем дальше санки заезжали по дорожке, тем это было более лестно. Уже и в те времена, не знавшие организованного зимнего спорта, встречались смельчаки, поражавшие других тем, что они съезжали с горы стоя на коньках, а иные виртуозы начинали спуск спиной и лишь по дороге повертывались лицом к цели. Я таких фокусов не пробовал. С меня было достаточно, если я всех напугаю тем, что направлю санки на вал, взлечу на него и перекувыркнусь на снежном поле. До помянутого удара об лед я считал это абсолютно безопасным, эффект же получался чрезвычайный. Снег на валу разлетался фонтаном, залепляя глаза и уши, проникая за воротник и за валенки; санки, кружась, летели к черту, а я изображал из себя убитого, оставаясь лежать распластанным, пока ко мне не подоспевали на помощь. Тут полагалось вскочить как ни в чем не бывало, и игра начиналась сначала. Длились эти удовольствия часами и кончались тогда уже, когда от усталости остро заломит плечо и оказываешься весь в поту и мокрым от проникшего до тела снега. Но в доме у Камиши так жарко пылал камин, что и переодеваться не стоило. Пожаришься в течение нескольких минут у самого огня, так что пар пойдет столбом, и уже просушился весь насквозь. И тут же у камина непременно застанешь Мата, сидящего с газетой в руках в покойном кресле (спинка которого была вышита руками самой Камишеньки), а по сторонам его чинно восседающих псов и кошек. Кстати сказать, ни собаки, ни кошки на Кушелевке не отличались породистостью, это были даже очень неказистые представители животного пролетариата, Бог знает как и при каких обстоятельствах нашедшие себе приют у добрейшей моей сестры, но, с другой стороны, это были преданнейшие, уютнейшие и умнейшие твари, почти полноправные члены всего кушелевского клана.
ГЛАВА 5 Первая школа
В 1877 году я уже был довольно большой и довольно смышленый мальчик, но, странное дело, я все еще не умел ни читать, ни писать. И не ощущал особенной нужды в этом. В книгах у нас, как в моей личной, так и в большой папиной библиотеке, недостатка не было, и я значительную часть времени проводил с ними, причем, однако, не тексты меня интересовали, а картинки. Когда же являлось желание что-либо разузнать о том, что изображено и о чем тут напечатано, то я всегда находил кого-либо, кто бы прочел мне это, будь то мама или бонна. Да и папа с величайшей готовностью отрывался от любой работы, чтобы удовлетворить мою любознательность. Кроме того, мама читала мне на сон грядущий, а иногда и ночью, когда меня томила бессонница. Некрасивую печальную бонну Марианну я полюбил именно за то, что и она всегда охотно читала мне, а по-немецки я уже в это время разумел в достаточной степени, чтобы понимать все то (не особенно замысловатое), что стояло во всяких рассказиках какого-либо «Листка для приятного времяпрепровождения», в журнале «Маленькие люди» или в пересказах для детей Священного Писания.
Вообще об этой Марианне у меня сохранились наилучшие воспоминания, хотя пробыла она у нас не больше года. Мне все нравилось в ней: и чуть понурая фигура этой еще совсем юной девицы, и ее какой-то уютный запах, и ее тихая манера говорить, ее несомненная доброта, ее кротость. Но, любя Марианну, я, разумеется, и эксплуатировал ее бессовестным образом. Я же оказался виновником того, что она покинула наш дом. У Марианны была старшая сестра, которую она очень любила и к которой мы нередко заходили во время наших прогулок. Жила эта Амалия в очень маленькой квартирке где-то на Мойке. Меня в этих случаях усаживали в первой комнате, служившей и гостиной и столовой, сами же сестры уходили в соседнюю спальню и, заперев за собой дверь, без умолку о чем-то шептались. Марианна мне наказывала, чтобы я молчал об этих посещениях, да и несколько таинственный характер их и без того как бы подсказывал, что говорить о них дома не следует. Но вот Марианна что-то уже очень зачастила с этими визитами, и мне они сделались порядочно скучноватыми. Что мне было делать в крошечной комнатушке, с окнами, выходившими на самый безотрадный темный двор?
Раза два-три сестры давали мне в компаньоны не то сына Амалии, не то ее племянника, косоглазого мальчика лет пяти. Этот Эрик Швальбе пробовал меня занимать разговорами или показыванием своих, очень неказистых, игрушек. В общем, он скорее надоедал мне, нежели развлекал меня, и я был рад, когда его не было дома. Скука таких одиночных или полуодиночных заключений побудила меня, наконец, выболтать маме про наши визиты. Марианне был сделан допрос, бедняжка стала что-то путать, а тут как-то стороной выяснилось, что Амалия принадлежит к девицам, предпочитающим «обеспеченную независимость тяжелой службе у чужих людей» (и кто только мог прельститься такой физиономией?). Все это привело к тому, что, хотя мама в общем была довольна Марианной, хотя она знала, что я к ней привязался, однако она все же решила, что оставаться ей при мне не годится: «Бог знает чему Шуренька мог бы наглядеться и научиться в таком обществе». Тут только я понял, что я наделал, и горю моему не было пределов. Последнее впечатление о Марианне у меня сохранилось такое: она сидит в детской за столом под висячей лампой и тихо плачет, положив голову на скрещенные руки. Я попробовал ее приласкать, но она тихо отвела мою руку, поцеловала меня и сквозь рыдания промолвила: «Ах, сердечко, что ты наделал!»
Вскоре после этого мамочка решила, что мне пора начать серьезно учиться и что дальнейшее пребывание в тесной домашней атмосфере может оказаться вредным. Она надеялась, что самое общение с другими детьми сгладит шероховатости моего характера, в то же время, толкаемый соревнованием, я приобрету и первые основы грамоты. Все знакомые мои сверстники и даже ребята на год или два моложе умели читать и писать, а я — что за срам! — ни того, ни другого не знал! Кое-какие попытки были сделаны, чтобы меня познакомить с азбукой. Так, еще четырех лет я получил коробку кубиков-складушек, в которых буквы и слоги (французские) были расположены вокруг центральной картинки. Одну из них я очень оценил и запомнил навсегда. Изображала она траншею, всю уставленную корзинами с землей, ящиками со снарядами и тому подобными военными предметами; посреди же траншеи группа солдат с кепи на головах и в пунцовых штанах грелась вокруг пылавшего костра, тогда как по ночному небу дугами летели и разрывались ракеты. Другие картинки были в таком же роде, выбирали для меня именно такие сюжеты, желая угодить моим тогдашним милитаристским вкусам. Однако, если картинки я эти и складывал с охотой, то буквы вокруг них меня только раздражали, и если я из них и запомнил некоторые, то потому только, что я знал, что, сложив их, получается наша фамилия. И все же я никак не мог сообразить, почему буква «М» и буква «А» могут, поставленные рядом, создать звук «ма»? Когда же Ольга Ивановна, которая была грамотная, попробовала мне объяснить русскую азбуку, называя буквы по-старинному — «аз», «буки», «веди», «глагол», то это меня уже окончательно спутало.
Наконец, осенью 1876 года подходящая школа как будто была найдена. Правда, этот пансион фрейлейн Герке находился далеко от нашего дома — на Большой Конюшенной, но мама все же остановила свой выбор на нем, так как в хорошую погоду это была бы для меня только хорошая прогулка, а в плохую можно брать извозчика. Вот и потащили меня к этой фрейлейн Герке, которая жила в третьем этаже, в доме лютеранской церкви, в квартире, обставленной (как мне помнится) на типично немецкий лад. Сама фрейлейн мне понравилась. У нее было мятое, старообразное, остроносое лицо, но доброта светилась из ее серых глаз, и встретила она меня с милой лаской. Понравились мне и дети, которые все были моложе меня и среди которых я, почти семилетний, чувствовал себя великаном. Без протестов и особенных страхов я расстался с приведшей меня мамочкой, и весь первый день прошел в интересных играх, в течение же следующих недель я постепенно и совсем свыкся с чужой обстановкой. Но недолго было мне суждено оставаться в этом пансионе. Глупейший случай положил тому конец.
Прыгая на одной ноге в какой-то игре по гладко натертому полу, я поскользнулся и со всего размаху шлепнулся прямо на нос. Было очень больно, но еще болезненнее я ощутил свой позор, а когда я увидел потоки льющейся из носу крови, то мне чуть не сделалось дурно. Впрочем, не обошлось тут и без известного наигрыша. Я смутно чувствовал, что чем ужаснее будут мои страдания и жалобы, тем позорность моего падения будет менее значительна, а потому я не только плакал, пока мне мыли и бинтовали нос, положив на него компресс, но я продолжал плакать и стенать на всем пути до дому, куда меня и отвезла одна из воспитательниц пансиона. Дома я уже вовсе не страдал, однако устроил целый спектакль, чем совершенно переполошил бедную мамочку. Я даже сам потребовал, чтобы меня уложили в постель, как настоящего раненого! К вечеру все прошло, а на следующее утро я вполне мог бы отправиться в пансион, но тут я решительно запротестовал, мне казалось невыносимым, чтобы я, опозоренный, снова предстал перед всеми этими дамами и перед моими товарищами-малышами! По слабости сердечной, мамочка, несмотря на заплаченный триместр, сдалась, и я уже больше фрейлейн Герке не видал.
И как раз тогда мама узнала о существовании другого воспитательного заведения в очень близком расстоянии от нашего дома и к тому же горячо рекомендованного какими-то знакомыми. Помещалось это заведение на Малой Мастерской, напротив той католической церкви св. Станислава, куда мы с папой ходили по воскресеньям. Киндергартен госпожи Вертер занимал весь второй (верхний) этаж углового особняка, при котором был обширный и тенистый сад. Вход был с Малой Мастерской, широкая, барского вида лестница вела к классам, к квартире директорши и к длинному рекреационному залу, все пять окон которого выходили на улицу. Просторные классы имели благодаря своим выбеленным стенам опрятный вид; в них было много воздуха и света — не то, что оклеенные бурыми и грязно-желтыми обоями комнаты фрейлейн Герке с их темными занавесками у окон. Киндергартен обслуживался целым штатом воспитательниц и учительниц, а в систему воспитания входили и уроки рисования, гимнастики и танцев. Меня сразу подкупило то, что на стенах висели большие, отпечатанные в красках картины, из которых одна изображала жизнь города, другая — жизнь деревни (разумеется немецкой), третья — железную дорогу и т. д. Несколько картин поменьше изображали сцены из Библии. Еще интереснее были те коробки под стеклом, которые тоже висели по стенам и в которых к картону были прикреплены разные миниатюрные предметы — в одной все, что относится к производству хлеба, начиная с плуга, кончая приоткрытыми мешками, которые содержали разные зерна и крупы; в другой все, что требуется в столярном деле: тут среди разных орудий производства — пил, стамесок и т. д. — можно было любоваться крошечным, точно для лилипутов сделанным верстаком, а на верстаке лежал рубанок с дощечкой, с которой инструмент уже как бы соскреб малюсенькие стружки.
Над всем витал дух Фребеля. Вообще же о Фребеле и его системе было тогда среди мамаш и воспитателей столько разговоров, что и детям имя знаменитого реформатора-педагога было знакомо. Слово «фребеличка» являлось вроде диплома полной и доброкачественной подготовленности для детского воспитания. Под фребеличкой подразумевались особы, самоотверженно отдавшиеся этому делу согласно новейшим данным науки. В моем же представлении это были очень милые, очень скромно, но опрятно одетые девицы, на редкость ласковые, но всегда некрасивые и немного… скучные. Контрастом к ним (в моем же представлении) являлись курсистки-нигилистки, о которых тогда тоже было много разговору, — девицы необычайно решительные, нелепые, со стриженными, взлохмаченными волосами, далеко не опрятные, с вечной папироской во рту, с шляпой набекрень и непременно сопровождаемые студентами (тоже нигилистами).
Поступив в детский сад на Малой Мастерской, я попал в самое царство Фребеля и фребеличек. Меня пленили слова «детский сад» или «киндергартен», как было тогда даже по-русски принято называть такие школы для младшего возраста, однако я был несколько разочарован, когда оказалось, что хотя сад (и даже довольно обширный и тенистый) при доме имеется, но воспитанников детского сада в него не пускают. Только тогда, когда уже водворилась весенняя теплынь и деревья стали распускаться, хозяин дома разрешал детям иногда в нем играть. Не понравилась мне с первого знакомства и директриса Евгения Аристовна Вертер, тетя Женя, как нужно было ее величать. Она даже показалась мне довольно страшной. Это была внушительного роста дама, тучная, с совершенно круглым лицом и двойным подбородком, с золотым пенсне на выпученных строгих глазах и с золотой цепочкой, свешивавшейся по очень выпуклому бюсту к довольно объемистой талии. Одета она была всегда во все черное, с небольшим кружевным воротничком. Особенную же грозность придавало этой, на самом деле сердечной, старой деве то, что она ходила на костылях; одно глухое постукивание по полу костылей, одно ее передвижение тяжелыми взмахами наводило на всех детей, а на меня в особенности, трепет. Другие тети больше располагали к себе; особенно я привязался к толстенькой, сутулой, всегда одетой в серое тете Наташе, и чувство известного поклонения стало у меня намечаться к тете Саше — хорошенькой юной блондиночке, но последняя вскоре вышла замуж и покинула киндергартен. По этому поводу был даже устроен шоколад.
Вообще я привык к школе довольно скоро, но должен сознаться, что самый фребелизм не всегда был мне по нутру. Поступив в приготовительный класс, где только урывками и исключительно в форме игры обучали детей грамоте, я должен был подчиняться всем тем приемам, которые были объединены задачей «занять детей посредством приятных и одновременно полезных упражнений». Некоторые из этих упражнений, вроде, например, нанизывания на нитки пестрого бисера или плетения узоров из цветных бумажных полосок или еще лепки из глины, занимали меня и даже доставляли известное удовольствие. Напротив, всякое вышивание или рисование по клеточкам, и все, что имело целью развивать наблюдение, сосредоточивать внимание и сметливость, я ненавидел. Все это чередовалось с шуточными уроками грамоты и с настоящими играми. Но и в играх дети не были предоставлены себе; нам не давали просто побегать в пятнашки, в горелки, в жмурки, а каждая игра обязательно должна была иметь какой-то смысл. Одни игры должны были будить чувство природы, другие знакомили нас с географией, с историей и т. п. Все это было очень мило и даже, если хотите, трогательно, но это и раздражало какой-то своей фальшью. Я лично остро ощущал эту фальшь, и она меня бесила. Дома я нередко жаловался маме и даже вышучивал ту или иную игру, но мамочка была уверена в целесообразности всех этих педагогических новшеств (она даже получала какой-то специальный педагогический журнал), журила меня и пыталась убедить в разумности и полезности всего того, что мне казалось глупым.
Из таких «природных игр» запомнилась мне одна с особой отчетливостью, но это вследствие чего-то, совершенно в программе непредвиденного. Дело в том, что лично моя персона внесла в нее нечто такое, что в чрезмерной степени подчеркнуло натуральность. Детям надлежало представить лес с его обитателями. Мальчики и девочки повзрослее изображали деревья и для этого должны были шевелить поднятыми над головами пальцами рук (что выражало трепетание макушек под действием ветерка), малыши же представляли заинек, лягушечек, а уже совсем крошки сидели на полу в качестве цветочков, земляники и грибков. Вот среди этой-то поэтичной игры и в самый разгар прыгания лягушечек и посвистывания птичек, у корней дерева, которое олицетворял я, — вдруг потек настоящий ручеек! Случился же этот грех потому, что я, в силу своей непоборимой стеснительности, не решился своевременно попроситься выйти — ведь при этом пришлось бы подвергнуться позору расстегивания штанов руками тетушек, так как я сам этого сделать еще не умел! И какой же тут получился конфуз и скандал! Какой безудержный и безжалостный смех раздался вокруг, какой переполох среди воспитательниц. Как грозно застучали костыли примчавшейся откуда-то директрисы, как все засуетилось, стараясь освободить меня от намокших штанишек и удалить следы моей нечистоплотности. И нельзя мне было после того без штанов оставаться среди других детей. Две тети схватили меня, горько плачущего от стыда, и понесли в самую святая святых — в личные комнаты Евгении Аристовны, в ее спальню, и там уложили на диван, закрыв одеялом. Тут я должен был пролежать, пока мне не принесли сухую смену из дому и тут, лежа в одиночестве, я пережил часа полтора очень горьких размышлений. Уже то было ужасно, что я, самый большой в классе, так осрамился, но к этому прибавился страх, как бы меня за это не оставили дома, вместо того чтобы поехать на большой бал к дяде Сезару, что было мне обещано, что я себе выпросил и о чем мечтал много дней…
К этому балу шли приготовления не только у самого дяденьки, но и у нас. Сочинялись и шились костюмы для каких-то выступлений, а домашние наши художники — Альбер и Люля — рисовали пастелью на саженных листах бумаги какие-то уборы. Особенно мне запала в душу вырезанная фигура в натуральный рост ливрейного лакея, жестом и любезной улыбкой приглашавшего войти. Меня манило увидать на месте эффект этого зрительного обмана. То-то будет потеха, когда гости станут принимать этого бумажного человека за настоящего! Но и кроме того, на балу у дяди Сезара обещали быть всякие диковины: фокусники, рассказчики, пожалуй, и Петрушка. Бал этот был полудетским, так как моим кузинам Инне и Маше было всего десять или двенадцать лет…
Теперь же, оскандалившись, я рисковал ничего от всего этого великолепия не увидать! Лежа раздетый на диване тети Жени, точно всеми забытый, я предавался горестным мыслям. Пролежал я так, вероятно, не более двух часов, но мне они показались вечностью, тем более, что вскоре наступили ранние зимние сумерки и комната, оставленная без лампы, освещалась лишь мерцающим отблеском топящейся печи.
Едва можно было различить одноногий столик, на котором покоилась толстая Библия с золотым обрезом, справа на шкафике белела фарфоровая фигура Христа, простиравшего руки. Она как бы благословляла целое полчище семейных фотографий. Но мне казалось, что все исполнено укоризной по моему адресу, по адресу того гадкого, большого семилетнего мальчика, который не умеет себя вести и которого поэтому никак нельзя взять на торжество, готовившееся у его дяденьки.
К счастью, опасения мои оказались напрасными. Меня не оставили дома, а нарядили в парадный бархатный костюм с шелковым бантом у кружевного воротника и повезли на Кирочную. Мамочка только слегка попрекнула за то, что я не попросился. Таким образом, я увидел и ливрейного лакея, прилаженного к стене на парадной, и тот изящный салончик, который был устроен в комнате, обыкновенно служившей секретарской, на сей же раз превращенной в палатку розового атласа. Вместо конторской мебели в ней стояли золоченые стулья и столики, а у окна, блистая серебром и хрусталем, манил фруктами и конфетами буфет, за которым хозяйничали два наемных лакея с предлинными бакенбардами. Да и все было до неузнаваемости нарядно и светло. Кузины были такие хорошенькие в своих кружевных платьях с цветными лентами в волосах. У старшей же кузины Сони платье было длинное, декольте, с живыми цветами у корсажа и на голове. Получил я удовольствие и от изумительных фокусов знаменитого Рюля, и от смешных рассказов Горбунова, и от стихов про фонариков-судариков, произнесенных с удивительным мастерством тем высоким господином с лысиной, который на каждом вечере у дяди Сезара или у Зарудных по общему требованию угощал с неизменным успехом общество этими и другими комическими стихами. Пробыл я на балу, вероятно, до полуночи, и на следующее утро мне дали выспаться, в киндергартен я не пошел, когда же на третий день я явился на место моего позора, то все как будто о нем забыли…
Увы, осенью того же 1877 года я в том же киндергартене познал первые серьезные угрызения совести, познал, что за провинность следует кара, причем самым тяжелым при этом является именно ощущение стыда. В программу передовой педагогики входило, между прочим, и своего рода отечествоведение, а в основу его рекомендовалось ознакомление детей с их ближайшим топографическим окружением. Так, однажды была дана задача нарисовать план нашего класса и всей школы. Другой раз на плане Петербурга нам было показано, где мы живем, по каким улицам ходим.
Все это встречало во мне живой отклик, причем, пожалуй, не обходилось без известного атавизма, так как я, как сын и внук архитекторов, впитал в себя какое-то представление о соотношении между вертикальными фасадами с горизонтальными плоскостями. Но вот на этих же самых интересных уроках мы дошли до ознакомления с Невой; тетя Женя пыталась выяснить, откуда и куда текут воды нашей величественной реки и какими притоками она питается. Для того же, чтобы мы получили уже окончательное наглядное о том понятие, было решено всем классом совершить прогулку к Зимнему дворцу и там, посредством бросания деревяшек, проследить, как вода из Зимней канавки течет в Неву и в какую затем сторону эти же деревяшки поплывут дальше. В сущности, это было довольно занятно, но беда в том, что для этого понадобилось использовать воскресенье, а это мне представилось прямо убийственным, так как я чрезвычайно ценил день отдыха от школы — и вовсе не потому, что я был ленив и предавался ничегонеделанию, а потому, что только в воскресные дни я имел в своем распоряжении целый день и мог весь отдаться своим любимым занятиям: рисованию, вырезыванию, игре в театр и т. д. Поэтому экскурсия тети Жени пришлась мне в высшей степени не по вкусу, и я как-то сразу решил, что я в ней участия не приму, а останусь дома. Помнится мне, что я даже подговорил своего нового друга и сверстника Осю Трахтенберга тоже остаться, вместо того чтобы отправиться вместе со всем пансионом на Неву.
Но как было сделать так, чтобы мамочка об этом не узнала? Тут меня и попутал лукавый совершить нечто весьма предосудительное. Сначала я прибегнул было к заступничеству мамы, но она на сей раз не пожелала потакать моим капризам и наотрез отказалась послать Евгении Аристовне извинительную записку. И тогда я такую записку написал сам! Всего лишь несколько месяцев, как я одолел грамоту и был далеко не тверд в ней, и, однако, грамота уже пригодилась, чтобы от имени мамы написать госпоже Вертер письмо! В нем сообщалось, что я заболел и потому к назначенному часу явиться не могу. Затем, улучив момент, когда мама отправилась в свой обычный утренний обход Литовского рынка, я вызвал через Степаниду дворника Василия, дал ему этот лоскуток бумаги и приказал ему (от имени мамы) снести его в мою школу. Совершив это ужасное преступление, я тогда никаких угрызений совести не чувствовал и был совершенно спокоен, уверенный в том, что моя стратегия приведет к желанным последствиям. Каково же было мое недоумение, когда вернувшийся Василий передал маме какое-то письмо от директрисы и когда мама, прочитав его, взглянула на меня с совершенно не свойственным ей выражением! После завтрака она оделась и куда-то вышла, вернувшись через час, не только, по обыкновению, не поцеловала меня, но когда я стал к ней ластиться, она, приняв строгий вид, отогнала меня. В воздухе запахло грозой, и таковая на следующее утро разразилась.
Гроза выразилась в беседе с глаза на глаз с тетей Женей. Эти двадцать минут беседы всколыхнули все мое нутро; только тут я понял, что я наделал! Воспоминание же об этой беседе принадлежит к самому мучительному в моем детском прошлом. Приведенный бонной в киндергартен, я уже было собирался последовать из рекреационного зала вслед за товарищами в наш класс, когда Евгения Аристовна остановила меня и пригласила идти за ней. Мы тут же где-то и устроились в пустом классе: я на школьной парте, она же, сложив костыли, грузно опустилась на стул и все время не отводила от меня полный упрека взор. С минуту, а может быть и больше тянулась немая, но тем более тяжелая пауза. Тут же, до того еще, что она произнесла одно слово, я залился горючими слезами. Слезы эти не были похожи на мой обычный капризный рев. Никаких усилий, никаких гримас на сей раз не пришлось делать, никакой комедии я не ломал, но внутри меня точно прорвалась какая-то запруда, и оттуда с неудержимой силой потекли ручьи и ручьи. Убедившись, что грешник ступил на путь раскаяния, тетя Женя с тихой и даже как бы любовной строгостью стала увещевать меня, держа все время в руках мою злополучную бумажонку. Она вопрошала меня: понимаю ли я, что совершил, знаю ли я, что совершил подлог, знаю ли, что это пре-ступ-ле-ние, и даже такое преступление, за которое ссылают в Сибирь и т. д. Должен тут же сказать, что это стращание Сибирью подействовало на меня куда менее сильно, нежели простое сознание собственного греха и то чувство стыда, которое буквально раздирало мое сердце. Пожалуй, даже, чем дальше развивала тетя Женя эту тему, тем менее я ощущал пользу от этого, тем яснее во мне пробивалось чувство, похожее на досаду, — зачем она все это говорит, ведь я и без того уже все понял! Она же, видимо, наслаждалась взятой на себя ролью. Конец беседы оживил первое чувство. Этот конец был посвящен Богу, и вот тут я снова стал вполне понимать ее; мне стало понятно, что если я кого-либо особенно обидел, так это своего ангела-хранителя, а следовательно, и самого Боженьку, от которого ничего не скроешь, который знает все!
Вообще я в это время уже молился. Лет до пяти я только бормотал какие-то имитации молитв на квази-французском языке, кончая словом «ainsisil», что должно было означать ainsi-soit-il (да будет так). Это сопровождалось (уже на русском языке) молитвой за папу, маму, братьев, сестер и еще кого-либо по случайному выбору. Но затем я выучился произносить в точности слова «Отче наш» (опять-таки по-французски, что являлось как бы неким подтверждением нашего происхождения), и я каждое слово отделял от другого, стараясь вникнуть в их смысл. Это было в то же время и первое усвоение целых фраз по-французски, тогда как вообще я по-французски еще не говорил. Вслед за «Отче наш» я произносил свои личные обращения к Господу, в которых, между прочим, просил его и о том, чтобы он помог мне быть добрым и хорошим мальчиком и специально о том, чтобы, помня свой главный порок, я не лгал. В «поминании» же случались варианты. Если я бывал кем-нибудь обижен, то это лицо пропускалось в наказание. Особенно часто это бывало с нашими прислугами и с очередной бонной или гувернанткой. Но, разумеется, такой опале родители и братья с сестрами не подвергались никогда.
Многие основные вопросы религиозного порядка понятны детскому разумению, мало того, они представляются ребенку как бы совершенно естественными. Едва ли правы те, кто указывают при этом на известный атавизм или на исторические навыки. Если последние и существуют, то со многими из них человек расстается с легкостью. Но трудно в нем уничтожить непосредственный интерес к вопросам бытия и его ощущение потусторонности. Церковь, церковная атмосфера, чувство богобоязни и богопочитания и — что еще важнее — потребность в богопочитании, обращение к высшему началу и какое-то «желание благочестия» — все это представляется людям, вытравившим в себе в угоду материалистической доктрины подобные внутренние движения, искусственно парализовавшим или охолостившим душу (они и самое бытие души отрицают), все это представляется им чем-то недоступным для детского сознания и вообще для существа, еще не тронутого культурой. На самом же деле ничего так скоро не усваивается детьми, хотя бы выросшими в безбожной среде, как именно отношение к Богу и самый принцип благочестия.
Но и противоположные идеи доступны детям — и среди них идея греха, не только как ослушание каких-то наказов, но как что-то нехорошее по существу. Представление же о грехе пробуждает и то, что мы называем совестью. Я, по крайней мере, в те ранние детские годы гораздо чаще, чем впоследствии, задумывался над такими, казалось бы, вовсе не детскими проблемами, как загробная жизнь, как царствие небесное, как божий суд, как смерть и бессмертие, как спасение души. Иногда, лежа в кроватке и уткнув нос в подушку, что создавало какое-то подобие отрешенности от всего окружающего, я без усилий вызывал в себе чувство известного экстаза или, точнее, я чувствовал приближение такового и заранее радовался тому, что я его удостоюсь. В такие поистине блаженные минуты я совершал своего рода полеты в то, что принято называть небесными сферами, как бы приближаясь к самым воротам рая. Замирая от священного ужаса, я сосредоточивал свою мысль на представлении о Вечности и о Бесконечности. Тогда и ад стал представляться мне уже в ином виде, нежели тогда, когда я, совершенным малышом, разглядывал картинки Страшного Суда, приколотые к стене в кухне. В реальном существовании ада я не сомневался, но самые слуги сатаны мне не представлялись непременно в виде рогатых и хвостатых чудовищ, а представлялись в виде злых, но, пожалуй, красивых и даже пленительных ангелов.
Вот в связи с представлением о каких-то верховных силах, добрых и злых, у меня сформировалось тогда нечто вроде культа ангела-хранителя, что является наиболее человечной стороной всякого верования. Ангел-хранитель — это те же пенаты, те же лары, те же примитивные тотемы дикарей, те же феи и те же гении-покровители. В одно и то же время это и советники нашей совести и посредники между нами и Богом. Господь Бог все знает, все видит, он вездесущ и всемогущ, но, тем не менее, при нем состоят и более однородные с ним, нежели мы, смертные, — мириады неизменно ему преданных сил небесных — неисчислимые полчища ангелов. Их-то он и приставляет в качестве каких-то опекунов и руководителей к отдельным человеческим существам. В существование такого специально пекущегося обо мне, за мной следящего, меня охраняющего более высокого разряда лица (не понятия, а именно лица), я верил так же твердо, как и в Бога и в сына его Христа.
Тайну этого, самого близкого ко мне существа мне иногда мучительно хотелось разгадать. Я прямо изнывал, что не могу своего ангела-хранителя увидать, с ним заговорить. Проснувшись утром, я прикидывался спящим в надежде, что авось я захвачу тот момент, когда ангел «исчезает с глаз». Иногда я обращался к нему со страстной молитвой, чтобы он мне открылся, предстал передо мной. Часто я вел с ним мысленные беседы, причем вопросы я задавал шепотом, а ответы слушал где-то глубоко в себе. Я непоколебимо верил, что при «отлете души от тела» или при рождении человека ангел сразу оказывается тут же; в одном случае он берет душу в свои руки и несет куда-то, в другом он вкладывает ее в тело. Таких ангелов с душами в руках в виде младенцев я видел на картинках и в скульптурах (два фарфоровых медальона с известными барельефами Торвальдсена висели над моей кроваткой), но как раз такие изображения я вовсе не принимал за подлинные, к ним я относился как к неким символам, к иносказаниям.
В то же время я не допускал мысли, что такие бесплотные силы вообще не существуют. Я имел и известное «конкретное представление» о природе ангелов. Ничего еще не ведая о различиях пола, я знал, что ангел не мужчина и не женщина и все же нечто, подобное человеку. В том, что за спиной у него крылья, я не был уверен, но окрыленность его мне нравилась, и я огорчился бы очень, если бы меня стали уверять, что у ангелов крыльев нет. Не мог я себе представить ангела нагим — однако вот ангелочки, вроде тех, что представлены у ног Сикстинской мадонны выглядывающими из-за какого-то парапета, те могут быть голенькими. Ангелочки, херувимчики, почти что амуры — вообще особый разряд небожителей, они милейшие и нежно мною любимые, но наверняка не им поручается попечение о нас. Что же касается до тех одежд, в которые художники облачают ангелов, — то я чувствовал, что это «только так», нечто приблизительное и условное… Особенную нежность я, кстати сказать, питал к тем исполинским и действительно прекрасным полунагим юношам, которые восседали и балансировали на карнизах по сторонам боковых алтарей в нашей прекрасной церкви св. Екатерины на Невском…
Что же касается до самого Господа Бога, то его наружность я рисовал себе не иначе, как в виде почтенного, несколько печального старца с длинной бородой (и уже его я никак не мог бы вообразить не одетым). Впрочем, меня не смущало то, что иногда я видел Бога изображенным в виде одного только «всевидящего» ока, заключенного в треугольник. Менее всего в те годы останавливалась мысль на Христе, если не считать, что я радовался его рождению на елку и его воскресению на Пасху. Картин, изображающих страдания Христа, я видел множество, не говоря уже о распятиях, которые встречались на каждом шагу (в спальне моих родителей висело большое скульптурное распятие), но эти изображения почему-то не доходили до моего сердца. Марианна пыталась мне читать отрывки из Евангелия, но насколько я любил библейские истории, настолько эти истории Нового Завета мне казались скучноватыми, — я не понимал самой сути их.
Очень значительная перемена в моем отношении ко всему божественному произошла благодаря тому же киндергартену. Мой подлог всколыхнул неведомые мне до той поры духовные ощущения. Библейские же рассказы, из которых состояли субботние уроки тети Жени, осветили новым светом уже известные мне истории, случившиеся давным-давно в далекой святой земле. Я теперь безусловно стал верить в избранность божьего народа, в благо божьих путей, всего божьего порядка, а также в конечное торжество божьего начала над всяким злом. Но неясным оставалось то, что Господь должен был пожертвовать своим сыном и что избранный им же народ этого сына божьего не признал и даже, несмотря на совершенные чудеса, казнил его. И как же так «избранный народ» лишился затем божьего покровительства? В то же время я недоумевал, как этих же самых евреев, распявших Христа, все же терпят среди нас, христиан, а святой землей владеют турки и басурманы? Это были смущающие вопросы, но любое объяснение, всегда как-то наспех даваемое в таких случаях старшими, удовлетворяло меня, ибо я все равно был уверен в том, что все это точно и верно, доказано и признано всеми.
Урок Священного Писания Евгении Аристовны каждый раз неизменно оканчивался особой церемонией. Ее рассказы не захватывали большого периода, а довольствовалась она отдельными эпизодами — историей грехопадения и изгнания из рая, историей Каина и Авеля, историей потопа и т. д. Их хватало на целый урок. Рассказывать же она была мастерица. В драматические моменты ей удавалось заразить своим возбуждением весь класс. Передавая что-либо чувствительное или прелестное (скажем, описание рая или ликование Ноя после выхода из ковчега при виде обновленной, прощенной земли), она вся как-то млела, а в глазах показывались слезы. При этом она импровизировала целые диалоги и подолгу останавливалась на таких подробностях, о которых нет и помину в текстах. И вот, когда тема данного урока была исчерпана, то вызывались двое из маленьких слушателей (этот вызов служил известной наградой за поведение), и они отправлялись в ее спальню для того, чтобы оттуда принести Библию.
Это была не простая обыкновенная книга Ветхого и Нового Завета, это был толстенный и внушительный фолиант с золотым обрезом, с золотыми гвоздями на черном переплете. Библия эта всегда покоилась в отдельном круглом одноногом столике, крытом вязаной салфеткой и стоявшем перед диваном. Книга была довольно тяжелая, а нам она казалась прямо огромной и пудового веса — до того она была наполнена святостью. Надлежало ее нести вдвоем, взяв ее с двух сторон, нести бережно, отнюдь не торопясь, дабы, не дай Бог, не уронить ее. Когда же книга была передана в руки тети Жени, то она, не выпуская ее, вплотную придвигалась на костылях к нашим партам и клала ее на ближайшую. Затем с торжественной медлительностью она открывала ту страницу, в которую была вложена расшитая закладка, и тут показывалась картина, изображавшая как раз только что описанное событие. К этому моменту всем было разрешено сойти со своих мест и приблизиться; получался даже некоторый беспорядок, кое-кто взбирался на скамьи, чтобы лучше через головы товарищей все разглядеть. Я же испытывал в эти минуты дрожь восторга. Уж очень мне нравились эти большие во всю страницу картины. То не были какие-нибудь обыкновенные, а принадлежали они немецкому художнику Шнорру, и рисовали они сцены Священной Истории с удивительной уверенностью, ясностью и убедительностью. Они были полны благородной красоты, на которую так отзывчива детская душа. Мне все это казалось не менее прекрасным, нежели композиции обожаемого Рафаэля! Вернувшись домой, все еще под впечатлением виденного, я спешил поделиться им с папой, и папа с большим одобрением отзывался о Шнорре, с которым он, кажется, и лично был знаком в Риме. Это меня трогало чрезвычайно, мой же восторг, видимо, умилял папочку. Вот почему, когда в качестве пожелания на Рождество я заявил, что хотел бы иметь Библию Шнорра, то папа вовсе тому не удивился, не сказал, что этот довольно дорогой подарок не для моих лет, а сразу согласился. Библию Шнорра, приобретенную в магазине Криха, я, к неописуемой моей радости, и увидал на столе под елкой вечером 24 декабря 1878 года. Моя Библия была точно такая, как Библия Е. А. Вертер, и даже переплет с золотыми гвоздями был такой же. Чудесную книгу я мог теперь разглядывать, когда мне вздумается, и разглядывал я ее целыми часами. Большой драгоценностью я продолжал ее считать и впоследствии, и вот почему я поднес ее обожаемой девушке, которую избрал себе в подруги жизни. В свою очередь, Библия Шнорра красовалась среди приданого моей Ати, и она же по сей день находится с нами, взятая с собой в эмиграцию среди вещей, особенно для нас ценных.
Прибавлю еще, что именно восторг от рисунков Шнорра, от чудесной гармонии, коей исполнены эти несложные, но местами полные драматизма композиции, восторг от всего их духа, действительно святая искренность этого памятника искусства много значили в выработке моих эстетических запросов и убеждений. В частности, я через Шнорра подошел к немецким романтикам — к Швинду и Людвигу Рихтеру, а также и к прерафаэлитам и к нашему Александру Иванову. Благодаря Шнорру я получил некоторое мерило, которое и до сих пор вовсе не утратило своего значения, несмотря на все то пестрое и частью весьма смущающее, чем постепенно загромоздилась моя художественная память и самая моя «художественная совесть».
Как во всякой образцовой школе, так и в киндергартене госпожи Вертер преподавались еще два предмета: уроки рисования и уроки танцев. Рисованию учил художник Лемох, танцам — известный балетный артист Стуколкин. Однако как преподаватели ни тот, ни другой никуда не годились, и, во всяком случае, я от их уроков не почерпнул ровно никакой пользы. Лемох был тихим, скромным господином, он говорил еле слышным голосом и позволял нам на своих довольно редких уроках шалить и баловаться сколько нам угодно. И одет он был как-то тускло во все серенькое, однако не без изысканности, бородка же у него была жиденькая. Мне нравился, впрочем, грустный взор Лемоха, да и вся его ласковость. Значительный ореол сообщало Лемоху то, что он был участником передвижных выставок, и особенно, что он давал уроки детям наследника цесаревича (в том числе и старшему его сыну, будущему императору Николаю II).
Бестолковым учителем был и милейший Стуколкин. Возможно, что в Театральном училище, где жили прочно установившаяся система и весьма почтенные традиции, где он должен был подчиняться раз установленной программе, его уроки приносили пользу: возможно, что и как преподаватель салонных танцев Стуколкин умел показать, как надо танцевать кадриль, вальс, польку и мазурку. Но в киндергартене он занимался не этим, а час, посвященный уроку, целиком уходил на то, что мы, расставленные в шашечном порядке, без конца шаркали то одной ногой, то другой, и это под гнусавые, убийственно печальные звуки скрипочки, на которой пиликал всюду сопровождавший его унылый господин в очень поношенном сюртуке. Сам же Стуколкин был с утра одет с иголочки во фрак, а некрасивое, на клоунское похожее его лицо было гладко выбрито. Когда он замечал, что наше шарканье теряет и последнюю степень энергии, он делал перерыв, и этого мы ждали с особым интересом, так как тогда он устраивал нам род спектакля. Корча самые уморительные рожи, он показывал, как не нужно танцевать, и в этой гротескной имитации он доходил до виртуозности. Смеялись до упаду не только мы, малыши, но и заходившие в зал разные тети с самой Евгенией Аристовной во главе. Оставался печально-равнодушным один только музыкант, которому, видно, давно успели надоесть эти обезьяньи штучки своего патрона. (Мне вспоминается аналогичный случай «преподавательского смехотворчества». Такие же взрывы неудержимого хохота вызывал в казенной гимназии, куда я поступил в 1880 году, наш учитель чистописания господин Шнель. Казалось бы, что может быть скучнее, нежели уроки ныне все более пренебрегаемого художества каллиграфии, однако Шнель обладал, несомненно, настоящим даром карикатуриста, и этот дар проявлялся не в каких-либо шаржах на людей, а в гениально карикатурных претворениях букв. Шнель рисовал их на доске в громадную величину. Делал он это с похвальной целью присрамить нерадевших или неумелых и показать, как надо рисовать. Нарисует он какое-либо уморительное Б или Щ и тут же рядом изобразит с изумительным совершенством те же Б или Щ уже в идеальном преображении — просто неописуемыми красавицами. Увы, и его уроки остались для меня лично совершенно бесплодными. Корявый почерк выработался у меня очень рано, и таким же корявым он и остался.)
Что касается до прочего преподавания в киндергартене, то оно было отлично поставлено, и я быстро выучился читать и писать; так называемая фонетическая система сразу объясняла мне, в чем дело и почему буквы сливаются. Да и в арифметике, и в каких-то началах географии киндергартен сумел сделать из меня усердного, добросовестного и понятливого ученика. Скажу больше — все, чему я тогда научился, создало основу, которую не удалось затем расшатать ни дилетантски поставленными домашними уроками, ни безобразной казенщиной гимназии. Даже и до сих пор то малое, что я знаю твердо, это то, чему я выучился во время своего пребывания с осени 1876 года до весны 1878 года в школе госпожи Вертер.
В этой же школе я испытал впервые сладость первого публичного успеха. Это произошло на каком-то чествовании тети Жени — в день ее рождения или именин. Был подан на всю школу шоколад, были налажены какие-то танцы и игры, а затем кому-то пришло в голову устроить что-то театральное. Детвору младших классов посадили в зале рядами перед дверью в коридор, а в этих дверях поочередно стали появляться мои товарищи и товарки. Одни лопотали какие-то стишки, другие пели песенки. Все это показалось мне ужасно скучным, и меня стал разбирать какой-то особый задор. Ужасно захотелось что-либо представить удивительное. Что именно, я сам не знал до момента, когда поднялся занавес, точнее, когда отворились двери из коридора в залу, но в этот момент меня осенило вдохновение, и, побеждая обычную робость, я начал действовать. Что именно я изображал, я не сумел бы и тогда объяснить. Публика увидала меня сидящим за низеньким (по моему же требованию поставленным) столом, погруженным в какое-то занятие. Я с азартом рылся в книгах, что-то быстро записывал и часто изо всех сил хлопал по столу, корча вдохновенные рожи. Кончалась же эта немая сцена тем, что я влез со стула на стол, на столе изобразил припадок безумного гнева, а затем со всего размаха грохнулся на пол, причем постарался это сделать, как заправский актер — так, чтобы не было больно. Зала огласилась неистовыми аплодисментами, я же, счастливый, выходил на вызовы и раскланивался, раскланивался. Курьезно, что этот идиотский мой дебют запечатлелся во мне на всю жизнь. Запечатлелся не один только тогдашний успех, но и то не совсем приятное чувство, которое, несмотря на успех, во мне тогда же пробудилось. Я понял, что мой успех не заслужен, что я бессмысленно что-то наерундил, и это послужило мне навсегда уроком: я тщательно с тех пор старался от всякого подобного бессмысленного гаерства воздерживаться, но не могу утверждать, чтобы это мне всегда удавалось.
ГЛАВА 6 Русско-турецкая война
Приближение войны стало чувствоваться задолго до ее объявления, и хотя я пребывал в том блаженном состоянии, когда газет еще не читают и политическими убеждениями не обладают, однако все же и на мне общие настроения отразились довольно ярко. Но та русско-турецкая война носила особый, я бы сказал несколько семейный характер — такой, по крайней мере, она представлялась всем тем, кто почувствовал, что семья русских людей вдруг может пополниться присоединением к ней братьев славян или, как их с чисто родственной фамильярностью называли, — «братушек». Все разговоры в обществе, где бы и когда бы они ни велись, вертелись вокруг сербов, болгар и черногорцев. В них главным образом видели несчастных мучеников, стенавших под игом турок, а также изумительных героев, готовых жертвовать всем, чтобы завоевать свободу и независимость. Особенное впечатление на меня производили рассказы про те пытки, которым подвергали кровожадные башибузуки жителей подвластных Порте стран. На страницах иллюстрированных журналов печатались картинки на эту же тему, а на выставках появлялись картины иной раз значительных размеров, в которых художники старались выразить свое негодование или свой патриотический восторг.
Одну из этих картин я особенно запомнил, и это потому, что рассказывали, будто «сам наш добрый государь», увидав ее, расплакался. Изображала она (описываю по памяти, по своей детской памяти) двух жутких разбойников в чалмах, которые держат под руки полураздетую женщину, казавшуюся мне пьяной. На земле лежала другая полураздетая женщина с закрытыми глазами. Называлась картина, если не ошибаюсь, «Турецкие зверства», и принадлежала она кисти наиболее прославленного в те годы художника — Константина Маковского. Увидав ее в Академии, я скорее был разочарован этой, на мой вкус, слишком пестрой в красках картиной. Еще не побывав на выставке, слушая разговоры старших, я готовился увидать нечто чудовищно страшное (что в детские годы служит величайшей приманкой), а тут как раз самих зверств я и не приметил. Женщина на полу была просто мертвой, а что должно было произойти с девушкой, которую схватили злодеи, об этом я в те дни не мог догадаться.
Весной 1877 года война была объявлена, и с этого момента можно было видеть полки за полками и длиннейшие обозы, отправляющиеся на вокзалы, на городских же площадях происходили смотры и учения. Приехали к нам прощаться отправлявшиеся на фронт наши родственники, все три брата артиллеристы Шульманы, кузен Николай Михайлович Бенуа и кузен Миша Андерсин, явились и разные знакомые, явился в белой блузе-рубахе и в белом кепи с подвешенным на затылке платком, с биноклем на черном ремне Зозо Россоловский, отряженный газетой в качестве военного корреспондента. Его и без того выпученные глаза теперь таращились от энтузиазма и преданности славянскому делу прямо ужасающим образом (недаром он был родственником Аксаковых). За семейными обедами разговоры на политические темы приобретали обостренный характер и зачастую обрывались «тяжелыми молчками», а в воздухе повисала угроза общей размолвки.
Я не узнавал своего зятя Женю Лансере, обычно столь тихого, угрюмого. Он, не стесняясь присутствием Мата Эдвардса, с яростью нападал на англичан, видя всюду их козни и провокации, а позже, в период Берлинского конгресса, от Жени особенно доставалось лорду Биконсфильду. Именно тогда его фанатическое поклонение «святой Руси» обнаружилось с особой силой, не встречая в других настоящего сочувствия. Моментами Женя начинал даже до того вызывающе вести себя, что терпеливая, покорная его жена, сестра моя Катя, принуждена была его урезонивать и призывать к сдержанности.
Появилась и масса песенок, куплетов, а в сатирических журналах только и рисовались в смешном виде турки, англичане, иногда и австрийцы. Цель их была возбудить народный гнев и презрение к врагу и его сообщникам. Даже мальчишки в школах и гимназиях, не говоря уже о кадетиках, все заделались бравыми, на всякое геройство готовыми вояками. Меня же это только смущало. Почему-то мне казалось, что все ломают какую-то комедию и стараются друг друга обмануть. Директриса нашего киндергартена, еще до объявления войны, пыталась вызвать в нас коллективное слезоточение и добилась-таки, что девочки и мальчики рыдали перед принесенной ею лубочной картиной, на которой были изображены злодейства турок. Но, к собственному удивлению, мне тогда не удалось выдавить из себя ни одной слезинки, а чтобы скрыть от других такую свою непростительную черствость, я закрыл лицо платком и вздрагиванием и аханием старался передать то, чего не испытывал. Позже, к весне и ранней осенью, нас заставляли в киндергартене часами щипать корпию. Это было не только очень скучно, но и опять-таки раздражало меня ощущением фальши. Работа у меня к тому же не клеилась, и как только тетя Наташа поворачивала спину, я клал порученные мне тряпки обратно в общую кучу. Впрочем, моментами мне удавалось вообразить те зияющие раны, на которые лягут эти нащипанные нами волокна, и тогда, движимый состраданием, я снова принимался за работу.
Детям война представлялась не иначе, как победоносной. Так, например, мы совершенно не ощущали опасных и трагических перипетий, связанных с осадой Плевны. Правда, это происходило летом, когда игры на воздухе не позволяли сосредоточиваться на чем-либо таком. Зато и я, и все мои маленькие товарищи были потрясены взрывом турецкого монитора на Дунае, но этому особенно способствовали на сей раз эффектные отпечатанные в красках картинки, изображавшие это событие в виде какого-то извержения вулкана, с несколько притом комической нотой: разве не смешно было видеть, как в столбе пламени и в кроваво-красных облаках дыма барахтаются фигурки турок? Мне при этом было лестно узнать, что автором этого извержения был тот самый Дубасов, который год назад спас нашего Колю от гибели в морской пучине. Когда приходило известие о гибели какого-либо знакомого, то это казалось чем-то совершенно исключительным и никакой угрозы для других не представляющим. Я убежден, что так же, как дети, относилось и большинство взрослых; так вообще относятся люди к самому ужасному из бедствий. Происходит же это нелепое и преступное отношение от недостатка воображения. В своем месте я говорю о том, какое потрясающее впечатление произвели на русское (и на все европейское) общество картины Верещагина, в которых художник представил и подчеркнул нелепость и преступность войны, но именно таких картин никто из бывших на войне тогда не рисовал и не описывал, а те, кто приезжали с фронта (приезжал на побывку и загорелый, как арап, Зозо), те все считали своим долгом выставлять виденное ими в одном и том же ура-патриотическом освещении и в каких-то ликующих красках.
С войной у меня связано и одно довольно яркое театральное впечатление. Я уже выше говорил о балете «Роксана — краса Черногории», теперь же нужно еще раз вернуться к нему. Премьера состоялась не то в конце 1877-го, не то в начале 1878 года, и на первом представлении мы присутствовали, сидя большой детской компанией в двух смежных ложах в Большом театре. Спектакль имел определенно патриотический характер; он начался с национального гимна и завершился им же, причем публика заставляла оркестр повторять «Боже, царя храни» несколько раз. Подробности сюжета «Роксаны» стерлись в моей памяти, но отдельные эпизоды сохранились. Особенно меня поразил тот момент, когда во втором действии бравый черногорец, любящий красавицу Роксану, вступает в рукопашный бой со свирепым башибузуком, не то похитившим, не то собирающимся похитить любимую ими обоими девушку. Происходило это ночью на деревенском, лишенном перил мосту, перекинутом через сверкавший в лунном свете водопад; оба соперника встретились на нем, и черногорец после нескольких схваток сбрасывает огромного турка в стремительный поток… В конце балета происходило чествование воссоединившихся любовников, и среди всяких других плясок, в которых считалось, что балетмейстер в точности воспроизвел подлинные танцы южных славян, выделился детский марш, исполненный воспитанниками театрального училища. Бодрая, веселая музыка этого марша приобрела сразу тогда исключительную популярность, и его можно было слышать еще десятки лет спустя во всех увеселительных садах и на детских и других балах. И я запомнил марш из «Роксаны» целиком; и помню его до сих пор от начала до конца. С этого же спектакля мне знакомо и имя Петипа, так как внимание взрослых, сидевших в нашей ложе, было обращено на красоту дочери знаменитого балетмейстера, только что тогда начавшей выступать. О ней было даже больше разговоров, нежели о главной танцовщице, не очень казистой Евгении Соколовой.
Другое театральное воспоминание военного времени относится к балаганам. В эту зиму (1878 года) балаганы, в которых продолжали идти арлекинады и другие безобидные истории, пустовали, зато исключительным успехом пользовался театр Малафеева, где вместо его специальности — инсценировок народных сказок (довольно грубых и безвкусных) на сей раз поставлены были на Масленицу и на Пасху по драматической пьесе с сюжетами, отражающими только что происходившие события. Я не любил такие представления, но меня потащили кузины Храбро-Василевские, и кое-что из этих спектаклей я если и не оценил, то запомнил. Действие начиналось с идиллического изображения болгарского деревенского быта. В тесном семейном кругу шли приготовления к бракосочетанию дочери дома с молодым горцем. Но идиллии тут же наступал конец с момента появления все тех же злодеев — башибузуков. Древнего дедушку на глазах у всех убивали, отца, главу семейства, привязанного к столбу, подвергали пытке за то, что он отказывался указать место, в котором засели русские, а связанную девушку злодеи собирались увезти с собой. Но, к счастью, очень миловидная, переодетая мальчиком, девочка успела предупредить русский отряд, и помощь поспевала вовремя. Башибузуки тут же были застрелены, болгарин отвязан от столба, невеста и жених освобождены и воссоединены, а над трупом дедушки все склонились в молитвенном умилении. В это время хата превращалась в апофеоз, изображавший в центре спасительницу Россию.
Другая пьеса почти целиком состояла из военных действий. Генералы, и среди них чуть ли не сам Гурко, допрашивали турецкого шпиона, а во второй картине на фоне эффектной декорации, изображавшей снежные вершины Балкан, в течение добрых пяти минут проходили войска «белого царя» — все те же сорок человек солдат и все та же единственная пушка, запряженная двумя клячами. Солдаты и пушка скрывались в левой кулисе и тотчас снова появлялись из правой. В другой сцене было представлено сражение — пожалуй, самое взятие Плевны, если не Карса. Но это было не столько зрелище, сколько «слушаще». От выстрелов и взрывов подымался такой шум, что и после того звенело в ушах, а происходившее на сцене почти скрывалось за клубами дыма. Эти выстрелы были слышны и снаружи, на площади, и, несомненно, они оказывали притягательное действие; густая толпа ожидала очереди, несмотря на мороз; и приходилось ей ждать очень долго. Не могу сказать, чтоб и эти Марсовы потехи оказывали какое-либо возвышающее действие на меня. Видно, я в то время уже перестал быть милитаристом. Если по-прежнему я и любовался формами, парадами и смотрами, если любил расставлять своих оловянных солдатиков, то уже ненавидел дело войны как таковое.
Отражением русско-турецкой войны явились еще выставки картин Верещагина и те панорамы, которые были показаны петербургской публике и которые изображали «Взятие Плевны» и «Взятие Карса».
Выше я уже упомянул о том впечатлении, которое произвели на меня картины Верещагина, но здесь необходимо к ним вернуться: уж слишком они взволновали тогда общественное мнение, слишком много толков и споров они возбудили. Наиболее нашумевшая из этих выставок — а именно та, на которой были представлены последние военные события, — давно закрылась, а на наших семейных обедах дядя Костя и дядя Сезар все еще схватывались по поводу произведений Верещагина с дядей Мишей, с Женей Лансере, с Зозо Россоловским и с почтеннейшим синьором Бианки. И как схватывались! Но только партийной дисциплины в этих схватках не было, вследствие чего получалась дикая путаница. Те же лица, кто восторгались живописью Верещагина, готовы были его обвинить чуть ли не в государственной измене, а те, кто хвалили Верещагина за его правдивость, возмущались «шарлатанизмом» художника. Этот шарлатанизм они усматривали как в том, с каким искусством художник умел рекламировать свое творчество, так и в том, как эти выставки были устроены и освещены. Окна залы того частного дома (где-то на Фотанке), в которой была устроена наиболее нашумевшая из них, были закрыты щитами, а в получившемся мраке самые картины ярко освещались электрическим (только что тогда изобретенным) светом; вследствие этого солнечные эффекты казались ослепительными и предельно иллюзорными.
Как я уже упомянул, споры о Верещагине были до того возбуждающими, что даже мамочка, вообще выставок не посещавшая, решила отправиться посмотреть собственными глазами, что это такое. И несмотря на то, что ее предупреждали, что там невообразимая давка, она все же взяла меня с собой. Ее, болезненно боявшуюся толпы, не оттолкнуло и то, что пришлось ждать очереди снаружи у подъезда; внутри же в полутемноте топталось несметное количество народу, но, раз попав за дверь, идти на попятный было поздно, и мы, толкаемые со всех сторон и не раз рискуя быть раздавленными, обошли-таки выставку, расположенную в нескольких залах. Почему-то у нас особенно спорили о картине «Si jeune et deja decore» («Такой молодой, a уже награжденный»), так по-французски и озаглавленной, которая изображала юного франтоватого свитского офицерика, увешенного орденами. Я эту картину сразу и стал искать, но власти уже успели ее удалить с выставки, увидав в ней какие-то дерзостные намеки на каких-то салонных военных, которые умели делать карьеру на общем несчастье. Зато я увидал «Панихиду на поле битвы», и эта картина меня поразила до глубины души. Странное дело, оказала она на меня одновременно и отпугивающее, и притягивающее впечатление. Некоторых очень нервных детей притягивает все, что пахнет смертью, и как раз я в те времена отличался в сильной степени этой странной необъяснимой чертой. Поэтому я и остолбенел, увидав это поле, на котором до самого горизонта вместо травы или вспаханной земли виднеются серо-желтые обнаженные, точно кем-то посеянные людские тела! Фигуры смиренно и покорно кадящего батюшки в черной рясе и стоящего за ним навытяжку солдата только усиливают впечатление безнадежного молчания и пустынности, а унылое серое небо лежит тяжелым покровом над всей этой сценой.
Сейчас Верещагин почти забыт, и как раз я был одним из первых, кто еще в 90-х годах восстал против его абсолютной славы — ведь в те времена за границами России из русских художников только его и признавали, в России же многие почитали Верещагина за какого-то мага живописи, до которого всем западным новаторам как до неба. Это была одна из вечно повторяющихся ошибок общественного вкуса, и я был прав, когда именно восстал против всего того, что в живописи Верещагина было жесткого, подчас даже любительского и просто безвкусного. Теперь же, мне думается, пора снова переменить такое отношение к мастеру и заняться некоторой реабилитацией его. Верещагин не только возбуждал скандалы смелостью своих тем, но в нем была и та сила убеждения, та воля к творчеству, та острота наблюдения и яркость вымысла, которые, если и не создают еще живописца как такового, то, во всяком случае, являются отличительными чертами подлинного художника. Иные истинно жизненные памятники своего времени, созданные художником, бывают куда ценнее чисто эстетических удач.
К таким памятникам эпохи следовало бы причислить и помянутые панорамы «Плевны» и «Карса», которые были не без мастерства написаны на основании добросовестно собранных документов французским художником Фелипото и выставлены напоказ публике одна после другой в специально сооруженном круглом здании на набережной Екатерининского канала недалеко от Казанского моста. К сожалению, однако, панорама, как бы она хорошо ни была написана, не может служить памятником уже по той простой причине, что срок ее существования всегда краток. Панорама требует целого сооружения и представляет собой нечто чересчур объемистое и громоздкое. Почти все панорамы (а на них была большая мода в конце XIX века) и оказались по прошествии немногих лет уничтоженными (особенно я жалею о гибели превосходной панорамы древнего Рима (в дни Константина Великого), созданной профессором А. Вагнером и бывшей многие годы одной из приманок Берлина. Она, кажется, сгорела. Сгорела, если не ошибаюсь, и превосходная панорама Пигльхейна, изображавшая Голгофу), — или, что равносильно уничтожению, полотна, на которых они написаны, свернуты и сложены в какие-либо склады. Между тем, какой громадный интерес представляло бы такое иллюзорное изображение действительности, если бы оно дошло до нас, скажем, от времени Людовика XIV или королевы Елизаветы. Да уж и сейчас было бы не безынтересно увидать панораму, написанную Невилем и Детайлем (фрагмент ее в Версальском музее) или те же панорамы русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов, о которых я вспоминаю. Все это произведения, не удостаивающиеся попадать в «Историю искусств», — но это не мешало им производить в свое время своеобразное и очень сильное впечатление.
Что касается меня, то я, склонный вообще ко всякому проявлению иллюзорности, способен был простаивать часами на платформе, составляющей центр панорамы, и тешить свой глаз разглядыванием того, что расстилалось не только передо мной, но и вокруг меня. Нравилось мне чрезвычайно и то, что весь передний план панорамы был совсем как настоящий. Он состоял из пластических деталей: земляных укреплений, кустов, лафетов, пушек, разбросанного оружия, а где-то из-за угла выделялся даже «настоящий» труп турка.
Необходимо помянуть здесь и об эпилоге военной эпопеи русско-турецкой кампании. Я говорю о той торжественной встрече, которая была устроена возвращающимся с фронта войскам, что происходила у Московской заставы и чему прекрасной декорацией послужили грандиозные триумфальные ворота, сооруженные (по проекту Стасова) еще в 1830 году. Городское управление столицы обставило это торжество особым блеском, соорудив у подножия черных дорических колонн ворот эстраду для представителей города, ложи для приглашенных и ступенчатый амфитеатр для публики. Все это было драпировано цветными тканями и украшено гирляндами цветов и лавров. Многосаженные национальные флаги — русские, сербские и болгарские — свешивались с целого леса мачт и плавно развевались по ветру. Гремели полковые оркестры, а публика почти несмолкаемо кричала «ура» — еще до того, как появились первые эшелоны «наших бравых героев». Я с родителями сидел в одной из лож, предоставленных членам Городской управы, и рядом с нами стояли большие корзины, до самого верха заваленные лавровыми венками. Эти венки надлежало бросать в проходящие войска, и такая игра пришлась мне, восьмилетнему мальчугану, особенно по вкусу. К концу я навострился попадать венками на самые штыки проходящих под нами солдат, а брату Мише удалось даже так ловко бросить три венка в проезжавшего во главе своей артиллерийской части кузена Колю Шульмана, что два из них увенчали его, а третий Коля словил на лету своей шашкой. Именно благодаря этой удаче и тому, что героем здесь оказался близкий человек, картина эта запечатлелась во мне с несмываемой отчетливостью. Так и вижу счастливую физиономию Шульмана и его широкий жест признательности в нашу сторону. Но не так счастливо кончилась война для другого моего кузена — для Николая Михайловича Бенуа. Раненный осколком в голову, он лишился рассудка и так до конца своих дней и остался калекой.
ГЛАВА 7 Андре Потлет
Осенью 1878 года в моем лично-домашнем быту произошла довольно значительная перемена. Мамочка находила, что я не делаю достаточных успехов во французском языке на уроках слишком добродушного мосье Анри и очень недалекой мадемуазель Леклерк, стародавних педагогов нашей семьи, — и решила прибегнуть к способу, который был ей рекомендован какими-то знакомыми: выписать из Франции мальчика одних со мной лет. Среди публикаций, печатавшихся в «Journal de St. Petersbourg» одна показалась ей вполне подходящей. В ней предлагала свои услуги дама (пожилая), вдова военного, которая готова была поступить в качестве гувернантки (в хороший дом) с условием, чтобы при ней остался сын. Это как раз соответствовало тому, о чем мечтала мамочка. Даму звали мадам Потлет, а сына Андре. После обмена письмами настал период ожидания приезда этого моего нового друга. В том же, что он сразу станет мне самым закадычным другом, я не сомневался: ведь он ехал из Парижа, казавшегося мне каким-то благодатным местом! Я и играть, и рисовать, и читать бросил, до того все мои помыслы были направлены к этой встрече. Всюду я писал своими детскими каракулями карандашом имя «Андре». Одно из таких начертаний (на сей раз чернилами) можно было видеть еще долгое время спустя, к огорчению мамы, на прелестной цветной скатерти, привезенной дядей Сезаром со всемирной выставки.
Наконец большой день настал. На вокзал за мадам Потлет была послана карета, а часов около шести вечера новоприбывшие водворились у нас. Им была отведена Красная (моя будущая) комната, и парижская дама, видимо, осталась довольна ею, после того как были исполнены разные, не слишком затруднительные ее пожелания, касавшиеся переставления мебели и прибавления нескольких предметов на умывальном столе. Попросила также мадам Потлет, чтобы были удалены некоторые картины, на месте которых она сразу повесила свои фамильные фотографии и среди них большой овальный портрет бравого офицера с усами и с эспаньолкой a la Napoleon III. Я был несколько смущен, заметив, что Андре на вершок выше меня ростом (он был на полгода старше меня); что же касается до его мамаши, то это была плотненькая дамочка с правильными, но совсем неинтересными чертами лица.
Первые дни все шло как по маслу. Мадам Потлет была донельзя предупредительна и любезна. Андре ласков с тем легким оттенком покровительственного тона, который дети постарше берут в отношении детей хотя бы всего на год их моложе. В общем же Андре мне скорее понравился. У него были веселые хитренькие глазки, смешной вздернутый носик, вел он себя скромно и тихо, с моими игрушками играл осторожно, ничего из них не ломая. Правда, однажды он мне предложил подраться, но, поняв, что мне это совсем не по вкусу, он не настаивал.
Однако уже через неделю на мамочкином лице, на котором я умел читать ее затаенные настроения, появилось то особое выражение душевного страдания, которое показывало, что она чем-то серьезно озабочена. И выяснилось, что француженка оказалась особой довольно капризной, привередливой и даже порядком несносной. По всякому поводу она обращалась к маме с разными претензиями, с прислугой говорила резко повелительным тоном, явно выражая свое презрение к этим «варварам», а раза три она повздорила и с моей немецкой бонной Софи.
Да и столь желанный Андре обнаруживал с каждым днем черты малоприятные. Моим любимым занятием, т. е. рисованием, он, видимо, совершенно не интересовался, он пренебрегал и моим театриком и моими немецкими книгами, а французские он пробежал в один миг с таким видом, что все это он уже знает давным-давно. Еще большее фиаско потерпели мои любимые книги из папиной библиотеки, и даже «Душинька» Толстого, и даже «Виольдамур»! Он и глядеть на них не захотел, зато в свою очередь вздумал меня поразить принесенными из своей комнаты двумя альбомами с иллюстрациями в красках, представлявшими события французской революции и империи. За это самовольное распоряжение предметами, почитавшимися госпожой Потлет величайшими драгоценностями, ему была устроена распеканция, альбомы отобраны, а когда и мать и сын ушли к себе, то послышались и громкие пощечины. Хуже всего было то, что Андре не оставлял меня в покое. Приняв всерьез свое назначение служить мне каким-то ментором с обязательной практикой французского разговора, он все время торчал передо мной и болтал, болтал без умолку, а когда я отвечал, то беспрестанно делал мне замечания, быть может и дельные, но ужасно меня раздражавшие. Я стал остерегаться, как бы он не проник в мой интимный мир, не помешал бы мне жить, как мне хочется.
Кроме того, в этом типичном французском мальчике было что-то определенно чуждое, что меня раздражало. Раздражал его смех — и главным образом причины, этот смех вызывавшие, раздражало его непрерывное хвастовство, раздражала даже его ловкость, увертливость и гибкость. Совершенно же невыносимыми мне казались его ежеминутные каламбуры и двусмысленности. До его приезда я сам себя считал французом, но теперь несравненно более отчетливо, нежели от контакта с мосье Раулем, с мосье Гастоном, с мосье Анри и с мадам Леклерк, я стал понимать, что французские люди — нечто совершенно иное, нежели персонажи в Книжках «Bibliothèque rose». «Типичного французика» я отчетливо почувствовал уже тогда, когда он предложил мне подраться и особенно когда стал мне показывать свои альбомы с картинками французской революции (вперемежку со сценами казней в них были изображены одни только битвы и победоносные триумфы), сопровождая это полными боевого пафоса комментариями.
Первый кризис наступил приблизительно через месяц после поселения Потлетов у нас. Между нами двумя произошла ссора из-за какой-то сломанной игрушки, от перебранки мы перешли к кулачкам и, наконец, дело дошло до столь желанной Андре драки. Правда, дрался он осторожно, но тем большую обиду я почувствовал, когда оказался под ним. Оставалось только прибегнуть к военной хитрости: я стал неистово вопить, а затем прикинулся мертвым. Бедный Андре при виде этого так испугался, что побежал, крича во всю глотку: «Шура умер, я убил Шуру!»
Ну и вышла же из этого история! До этого случая мадам Потлет держала себя в отношении сына приличным образом и лишь иногда за обедом, скорчив презлую физиономию, она подымала над ним руку, грозя, что наградит его подзатыльником, а тут, вслед за криками Андре, я услыхал совершенно странный визг, а когда я, оживший покойник, подбежал к двери Красной комнаты, то увидал и совершенно возмутительное зрелище! Мамаша колотила сына кулаками куда попало, а затем, схватив Андре за волосы, стала его бить головой об стену. Этого я не в силах был вынести; я бросился на мадам Потлет, стал тузить ее изо всех сил, а когда она схватила меня за шиворот, то даже укусил ее в противную пухлую руку… Чем кончилась эта схватка, я не помню, но когда вернулась мамочка, я ей рассказал все, что произошло, и выражение страдания обозначилось на ее добром лице еще отчетливее.
С этого дня подобные расправы с Андре сделались явлением обыкновенным, но только для производства их мадам Потлет запиралась в своей комнате на ключ, и вопли Андре слышались оттуда приглушенными. Несколько раз вслед за такими сценами происходили между мамой и мадам Потлет объяснения, но напрасно мамочка просила строгую и вспыльчивую даму применять другие способы воспитательного воздействия, она не унималась, и уже редкий день стал проходить без того, чтобы не раздавались крики и тот ужасный стук головой об стену. Не понимаю, как выдержала черепная коробка Андре, не понимаю и того, как он после таких истязаний мог сразу начинать резвиться и играть.
Постепенно положение все более обострялось, а кроме того, мадам Потлет как учительница не оказалась на высоте. Она не обладала никаким даром преподавания. Снова появился на сцену учебник Марго, но я уже не смеялся над его глупыми фразами, а она заставляла их заучивать наизусть; когда же я неточно их передавал (я был склонен по-своему их варьировать), то, не решаясь прибегать к пощечинам и к подзатыльникам, она все же делала мне незаслуженные строгие выговоры. Придиралась она и к моему произношению, требуя, чтобы я картавил или глотал «эры» на парижский манер, чтобы я соблюдал оттенки разных «е», между тем у нас в доме на все эти тонкости не обращали внимания и считали все же, что говорим мы все безукоризненно, «как французы». Правда, у старшей сестры папы, тети Жанетты, и у старшего брата, дяди Аулу, выговор был несколько иной, какой-то более шлифованный и деликатный, но это казалось просто их индивидуальной особенностью, а не какой-то их большей близостью к настоящему языку наших дедов.
В конце концов пришлось отказать мадам Потлет; ей дали нужный срок для подыскания другого места, ей заплатили выговоренную по условию неустойку, и три месяца после въезда Потлеты от нас выкатились. Все обошлось по-хорошему, без скандала, но последние расчеты со вдовой «командана» были произведены в подчеркнуто официальной обстановке, в зале; мадам Потлет была уже в шляпе и в тальме, Андре сидел на кончике стула и держал в руках свою шотландскую шапочку. Уходя, он подал мне левую руку, так как правой он поддерживал портрет своего усатого папаши. Красная комната опустела (туда вскоре въехал Мишенька), а я вернулся к своим играм и занятиям — с облегченным сердцем. Это происходило в конце января или в начале февраля 1879 года.
Совершенно случайно встретился я с Андре через двадцать лет на даче в Финляндии. Несмотря на побои и мучительства, из него вышел совершенно нормальный, очень почтительный к памяти матери, типично французский господин — рядовой француз. Он обрадовался нашей встрече и заговорил о возобновлении нашей дружбы. Однако первый же проведенный с ним вечер заставил меня принять меры, чтобы таковые не повторялись. Добродушный, веселый и любезный, он все же показался мне каким-то олицетворением вульгарности и пошлости. При этом окончательно обнаружилось, несмотря на то, что теперь Андре говорил по-русски не хуже меня, его типично французское нутро, его склонность к болтливости, к очень дешевому остроумию, к каламбурам, к безвкусному балагурству. В те два часа, что длился его визит, он совершенно затормошил меня и шуточками, и все той же прежней своей подвижностью, поминутным вскакиванием с места и бесцеремонным разгуливанием по комнате. Но особенно меня оттолкнули его рассказы про какие-то удачные аферы, его хвастанье хитроумными, финансовыми комбинациями, его склонность к сутяжничеству: «И тогда я сказал моему адвокату», «Он понял, с кем имел дело». Эти и подобные фразы так и сыпались, а мне становилось все скучнее и скучнее. На этом наше знакомство и прекратилось.
ГЛАВА 8 Выставка Александра I. Цареубийство 1 марта
Большое удовольствие зрелищного порядка я получил среди зимы 1877–1878 года на выставке, посвященной царствованию Александра I. Выставка была устроена Городской думой в ознаменование столетия со дня рождения Благословенного, под наблюдением моего отца, в Манеже конногвардейского полка и представляла собой два ряда специально для данного случая написанных картин очень большого формата, поставленных лицом к окнам. Ввиду того, что темнота в эту пору года наступает чуть ли не в два часа, то над каждой картиной было прилажено освещение газовыми рожками, спрятанными за черные щиты. Общее впечатление от этих ярко освещенных, пестро расцвеченных картин и от масс обрамлявшей декоративной зелени, получалось праздничное и в то же время чуть похоронное. Что же касается самих картин (если я не ошибаюсь, тут были работы Шарлеманя, Горавского и В. П. Верещагина), то они оставляли желать многого. Папа не скрывал своего огорчения от неудовлетворительности работ тех художников, к которым он особенно благоволил, я же не был столь требователен, и вся эта иллюминация все эти персонажи, написанные в натуральную величину и одетые в костюмы времени, до того мне нравились, что я не желал портить себе удовольствие замечаниями о дефектах, которые, однако, даже мне бросались в глаза. Картины были писаны наспех клеевыми красками людьми, никогда до того к такому формату не обращавшимися, и этим, главным образом, объясняется помянутая неудача.
Особенно меня подкупало, что всюду на этих картинах фигурировал знакомый мне не менее, нежели образ Петра I, образ того, кого я хорошо изучил по разным портретам в папином собрании. А в том, что он прозвище Благословенного заслужил, я нисколько тогда не сомневался. Ведь это он с Божьей помощью прогнал французов, ведь это он прославился своим благочестием, ведь это он погладил по голове папу, когда тот, будучи совсем малышом, встретился как-то с ним в саду Павловского дворца, и ведь это он был изображен в виде древнего витязя на медных медалях графа Толстого, разглядывание которых доставляло мне огромное наслаждение. В честь него же поставлена колоссальная Александровская колонна, увенчанная ангелом, держащим крест! Наконец, он был сыном как-то особенно меня пленившего Павла и его жены, которая была восприемницей от купели моего отца. Да и самая наружность Александра Павловича, его круглое лицо с небольшим носиком, с еле заметными белокурыми баками на щеках, с ясными глазами и ласковой улыбкой на устах, вся его чуть склоненная фигура, наконец, тот костюм, в котором его представляли, — с громадной треуголкой и в высоких блистательных ботфортах — казались мне донельзя близкими и милыми, почти что родными. Такого государя я бы не боялся…
И вот на каждой из этих картин юбилейной выставки был изображен то какой-либо героический, то какой-либо благородный его поступок. Среди последних особенное впечатление произвела на меня сцена, на которой государь, сошедши с коляски, устремляется к лежащему на земле совершенно нагому мужику с намерением его поднять и оказать ему помощь. Глубоко тронула меня и та картина, на которой была изображена смерть Благословенного. Простую его кровать, в самой простой, вовсе не дворцовой комнате, обступают несколько предающихся горю военных и штатских и среди них выделяется фигура милой Елизаветы Алексеевны, представлявшейся мне просто каким-то ангелом.
Но я потому еще так запомнил эту выставку, что в дни, пока она устраивалась, я несколько раз бывал на ней — все благодаря баловству моего отца. Я видел, как выставка зреет, как устанавливаются деревянные устои и самые щиты с картинами. Интересно было видеть, как некоторые художники еще что-то на месте добавляли, подмазывали и исправляли. Не обошлось тут и без ублажения моего тщеславия. Три раза выдалось мне счастье проехаться по выставке в высоком придворном шарабане, запряженном цугом в четыре лошади с жокеями на них. Правда, шарабан не был парадным и таким нарядным, как тот, в котором сидели члены царской семьи (или сам государь) в Петергофе. Это был служебный шарабан, специально служивший для таких репетиций; да и жокеи не были в парадной форме, а одеты были в дежурные темные сюртуки, однако не всякому простому смертному может выдаться случай прокатиться на царский манер a la Daumont, да еще в закрытом помещении, в колоссальной зале Манежа, пол которого усыпан песком. Немудрено, что, посаженный отцом в экипаж, я как-то весь взбух от чванства и уже окончательно на несколько минут поверил, что я высокопоставленное лицо, когда некоторые рабочие и какие-то господа, проникшие в помещение выставки до ее открытия, столбенея при виде этого экипажа с мальчиком в нем, вытягивались в струнку и снимали шапки. Произошла эта странная церемония ввиду того, что на следующий день должно было состояться открытие выставки и на нее ожидали «царей». Вот для того, чтобы приучить лошадей к необычайной обстановке и к эволюциям в закрытом и затемненном помещении, и была устроена эта пробная прогулка.
Вообще семья наша отличалась совершенной лояльностью. Правда, папа несколько критически относился как раз к царствующему государю. Он чувствовал себя обиженным, ибо именно со вступлением на престол Александра II кончилась блестящая эра его художественного творчества. Правда, друг нашего дома писатель Дмитрий Васильевич Григорович прямо глумился над государем, называл его «бодрилой» и уморительно имитировал его басок и картавость. Правда, и среди нашей молодежи стали появляться люди, не питавшие благоговейного отношения к самому принципу монархии. Но и такие проявления фрондирования были у нас весьма благодушного характера и не носили в себе оттенка действительного возмущения. Немудрено поэтому, что к тому рокоту революции, который все громче и настойчивее стал доноситься до нашего патриархального дома, отношение было не только отрицательное, но даже полное известного омерзения. Что же касается, в частности, мамочки, то она была глубоко этим встревожена и месяцами не выходила из какого-то состояния перепуга. То и дело замечала она на улицах каких-то подозрительных личностей, а таковых в те времена и впрямь встречалось немало. Особенно пугали ее студенты, не носившие больше форменной одежды любившие во всей своей наружности выражать независимость, а то близость к народу. Многие и действительно происходили из низов, из среды, только тогда начинавшей стремиться к просвещению.
Типичными чертами такого студенческого образа была широкополая мятая шляпа, длинные неопрятные волосы, всклокоченная нечесаная борода, иногда красная рубаха под сюртуком и непременно плед, положенный поверх изношенного пальто, а то и прямо на сюртук. Нередко лицо студента было украшено очками, и часто эти очки были темными. Именно такие фигуры с темными очками казались мамочке особенно жуткими, она в них видела несомненных крамольников и была уверена, что по карманам у них разложены бомбы. Под пару студентам были курсистки — явление для того времени новое и носившее довольно вызывающий характер. Для типичной курсистки полагалась маленькая шапочка, кое-как напяленная, неряшливо под нее запрятанные, непременно остриженные волосы, папироска во рту, иногда тоже плед, сравнительно короткая юбка, а главное, — специфически вызывающий вид, который должен был выражать торжество принципа женской эмансипации. В нашем семейном быту не было ни таких студентов, ни типичных курсисток, но мы их видали на улице в большом количестве. К тому же под студентов и курсисток гримировалась и вообще вся «передовая» молодежь, а быть не передовым считалось позорным… Это была мода дня!
Можно себе вообразить, какой ужас обуял наш лояльный дом, когда началась та серия террористических актов, которыми омрачился конец царствования царя-освободителя. Положим, уже были случаи покушения на русского государя и раньше — но все же с парижского покушения в 1867 году прошло много лет и воспоминание о нем успело как-то сгладиться. Нигилисты теперь больше стреляли в разных градоначальников, министров, губернаторов, а не в священную особу самого государя… Александр II продолжал совершать свою ежедневную прогулку пешком по Дворцовой площади и по набережной до Летнего сада без всякой видимой охраны, и лишь на очень большом расстоянии от него шли агенты тайной полиции. И вот как раз в одну из таких прогулок царь чуть было не стал жертвой покушения террориста.
Год назад Вера Засулич стреляла в Трепова, и этот факт крепко засел мне в память потому, что Трепова я знал; он приезжал однажды по какому-то делу к папе, и его я часто видел мчавшимся на дрожках с пристяжной, причем сам градоначальник стоял в экипаже, придерживаясь за сиденье кучера и бросая во все стороны грозные взгляды. Последний раз я встретил страшного генерала на соседнем мосту через Крюков канал, и это произошло, вероятно, не более как за неделю до того, что он был ранен и чуть не погиб. Тем не менее большого впечатления это покушение на меня не произвело, — а что большие о нем (и в особенности позже, во время суда над Верой Засулич) много и страстно говорили, то это было именно «делом больших», и меня оно не касалось.
Иное дело покушение на царя. Что этот человек, стоявший выше всех на свете, вынужден был удирать, как перепелка, как заяц от выстрелов какого-то студентишки, представилось мне беспредельно чудовищным! Картина убегающего большими зигзагами императора преследовала меня; я даже нечто подобное увидал раза два в кошмаре. Помню, какой взрыв негодования вызвало вообще это покушение. Помню еще более обострившийся азарт споров за семейными обедами. Помню, как консерватор и дипломат дядя Костя требовал беспощадной расправы, а дядя Миша (уже скомпрометировавший себя в глазах папы тем, что он стоял за Веру Засулич) пробовал объяснить поступки нигилистов. Помню совершенно выкатившиеся во время спора глаза Зозо Россоловского, который и тут нашел случай во всем обвинить Бисмарка и англичан. Особенно же меня удивили намеки тети Лизы Раевской на какую-то Божью кару, перешедшие год спустя, когда государь женился на княгине Юрьевской, в определенное пророчество, что ему не миновать наказанья! Но не эти споры и суждения производили во мне какую-то пертурбацию и даже не самый факт, что «бедного царя хотели убить», а что вот помазанник Божий при всех, среди бела дня, у самого своего дворца с «охотничьей хитростью улепетывает» от какого-то мальчишки — вот это казалось мне верхом безобразия!
Покушение Соловьева 14 апреля 1879 года открывает в моем детстве целый период, завершившийся только года три-четыре спустя… Все эти годы представляются мне подернутыми каким-то сумраком. Немало всяких радостей и увеселений досталось мне и за этот период, да и лично я вовсе не стал из-за этого менее жизнерадостным, веселым и непосредственным; политические события отнюдь не затрагивали моего благополучия и благополучия всего нашего дома. И все же все как-то потускнело и омрачилось. Этому омрачению способствовало и то, что с этого времени государь Александр II стал появляться на улицах Петербурга не иначе, как мчась во всю прыть в закрытой блиндированной (как говорили) карете, окруженной эскортом казаков. Рассказов об этой проносящейся карьером карете было очень много, да и мне самому случалось ее видеть не раз. Однако я и боялся этих встреч: а вдруг тут-то и бросят бомбу, а осколок попадет в меня! Одна из этих встреч произошла у самого памятника Николаю I у Синего моста; карета, окруженная казаками, пересекала площадь с Вознесенской на Морскую. И может быть, потому именно эта картина запечатлелась с такой отчетливостью в моей памяти, что я, не вполне отдавая себе отчет, все же как-то особенно ощутил контраст между гордой осанкой Николая Павловича, невозмутимо сидящего на своем вздымающемся коне, и видом его сына, уподобившегося преступнику, которого как бы влекут куда-то под охраной.
Вслед за покушением Соловьева произошло еще несколько террористических актов, среди коих особенно грозное впечатление произвел взрыв в Зимнем дворце, погубивший почти всех солдат, находившихся в это время в помещении гауптвахты под той временной столовой, в которой должен был состояться обед в честь ожидавшегося из-за границы принца Баттенбергского. На сей раз царь и прочие члены царской фамилии избегли гибели только вследствие случайного запоздания поезда, на котором прибыл принц. Но то, что при этом стало известно о порядках, точнее, беспорядках в самой резиденции государя в Зимнем дворце, превосходило все, что можно было себе вообразить. По городу ходила масса слухов, — и два из них особенно поразили мое детское воображение. Рассказывали, что чья-то невидимая рука клала ежедневно на стол государя письмо с угрозой близкой казни. Очевидно, в Зимнем дворце было столько переходов, коридоров, тайников, что уследить за всем тем, что происходило в этом колоссальном лабиринте, не было никакой возможности. И вот хоть и буффонным, но все же угрожающим доказательством этого чудовищного беспорядка послужило то, что при ревизии дворца после взрыва, где-то на чердаке была обнаружена корова, приведенная туда каким-то служащим, нуждавшимся в свежем молоке для своего ребенка!
В атмосфере нараставшего ужаса и какой-то непонятной беспомощности всего гигантского охранного аппарата подошел день чествования двадцатипятилетия царствования Александра II. Всеми как-то чувствовалось, что царю сейчас не до того (большие толки возбуждал и ставший известным всему русскому обществу роман царя с княжной Долгорукой), и тем не менее приготовления к чествованию шли, и мне как раз этот период с особенной ясностью запомнился потому, что у нас в квартире готовился, под ближайшим наблюдением папы, тот роскошный подарок, который Городская дума собиралась поднести государю. Подарок этот состоял из большого ящика драгоценного дерева, украшенного серебряными орнаментами и цветной эмалью. Ящик этот покоился на особом, превосходно резанном подстолье (как ящик, так и стол были исполнены по рисункам моего брата Леонтия), в ящике же покоилось двадцать пять больших листов, на которых акварелью были изображены как наиболее значительные события, происшедшие в Петербурге за время царствования Александра II, так и наиболее значительные здания в нем, за этот период сооруженные.
В течение нескольких недель у нас только и было разговоров об этом подарке. У папы в кабинете собиралась особая комиссия, к папе за советами являлись один за другим художники, получившие заказы. Совершенно естественно, что несколько сюжетов были поручены двум сыновьям папы, уже успевшим к тому времени приобрести известность в качестве превосходных мастеров акварели. Каждый из них и справился с порученной ему задачей наилучшим образом. Кроме того, Леонтию была поручена и орнаментальная обработка всех листов. В изготовлении картин принимал участие и целый ряд других мастеров акварельной живописи: сам Луиджи Премацци, фигурист Адольф Шарлемань, пейзажист Вилье де Лиль-Адан, архитекторы Китнер, Шрётер, Лыткин и др.
Можно себе вообразить то возбуждение, то любопытство, те радости, которые меня охватывали, когда постепенное созревание этого монументального подарка стало происходить на моих глазах. Одна за другой акварели появлялись у нас, обсуждались во всех подробностях и присовокуплялись к предыдущим. Кое-какие замеченные неточности в подробностях приходилось исправлять — и наименее значительные производились тут же, в папиной чертежной, при мне. Я мог любоваться, с каким уверенным мастерством это производилось, как смывался целый дом или роща деревьев и как на месте получившегося грязноватого пятна уже через четверть часа вырастал новый дом или открытое место вместо сада. Некоторые картины вызывали общий восторг, и наибольший успех заслужила картина во весь лист, на которой Вилье де Лиль-Адан (в сотрудничестве с Шарлеманем?) изобразил площадь Зимнего дворца — в день объявления манифеста об освобождении крестьян.
В первый раз я тогда увидал как бы воплощенным самый дух Петербурга. Но и в другом смысле я испытал при виде этой акварели своего рода откровение. Все другие работы (за исключением только еще акварелей Альбера) казались робкими, чуть любительскими или по архитектурному засушенными, этого момента я ощутил, почти что понял и разницу между манерой «архитектурной» и «живописной». Восхищен я был и самим роскошным ящиком и столом. Оба предмета, составлявшие одно целое, были сначала поставлены к нам, и я мог их трогать, любоваться вблизи тонкостью чеканки, богатством эмали; приятно было гладить идеально резанное и отполированное дерево. Зато как я был огорчен, когда в 1917 году, после разгрома Зимнего дворца, я нашел это же юбилейное подношение Городской думы в комнате рядом с той, которая когда-то служила кабинетом Александру II, в полуразрушенном состоянии, с разбитым стеклом витрины, прикрывающей ящик-альбом с полусодранной и испорченной крышкой, тогда как акварели лежали разбросанными и запачканными по всей комнате.
Самое торжество двадцатипятилетия прошло без особой помпы. Горела обязательная иллюминация по улицам столицы: по краям тротуаров, распространяя чад, пылали плошки, домовладельцы обязаны были вывинчивать обыкновенные фонари и вставлять вместо них фигурные рожки в виде звезд, которые и были вечером зажжены, а на казенных и городских зданиях были устроены более сложные светящиеся украшения в виде императорских вензелей под короной и т. п. Но все это было слишком известно и повторялось по всякому поводу… Свою долю печали сообщало лояльной части населения тяжелое, не подававшее надежд на выздоровление состояние здоровья императрицы Марии Александровны. Рассказывали, что специально для нее в Зимнем дворце устроена особенная герметически закрывавшаяся камера для ингаляции, и мне это представлялось ужасно жутким, что супруга самодержца должна часами сидеть в своего рода темнице и дышать особенным, для нее специально приготовленным воздухом.
Бедная царица! Она не была популярна, но теперь нечто вроде популярности ее окружило благодаря тому, что измена державного супруга стала известна уже во всех слоях общества, о ней говорили всюду: и во дворцах, и в буржуазных домах, и в людских, и в трактирах. Тут-то тетя Лиза и перешла с критического тона на угрожающий и пророческий: «Только бы старик не вздумал жениться!» Обсуждался и вопрос о том, какова эта княжна Долгорукая, действительно ли она такая красавица? Действительно ли она совсем «забрала» государя? В художественных магазинах можно было теперь купить ее фотографии, и одну такую приобрела мама. И вот царица умирает (10 мая); погребение происходит согласно раз принятому церемониалу, но без какой-либо особой торжественности, в которой выразилось бы горе овдовевшего супруга, а уже через месяц по городу начинает ползти слух, что княжне дарован титул княгини Юрьевской, что государь собирается узаконить детей, от нее рожденных, и, наконец, что он уже с ней и обвенчался. Казалось совершенно невозможным, чтобы наш добрый и сердечный государь мог совершить такой поступок; чтобы хотя бы из простого приличия он, не дождавшись положенного конца годичного траура, назвал кого-либо своей супругой! Бог знает, что это готовило в будущем! Уже не собирался ли он короновать «эту княжну Долгорукую, свою любовницу»? Негодование тети Лизы приняло патетический характер. В это лето мы не переехали на дачу, и тетя Лиза не прерывала своих еженедельных посещений, оттого мне особенно и запомнился этот ее гнев, сопровождавшийся совершенно убежденными пророчествами: Бог-де непременно накажет его за такое попрание божеских и людских законов!
И, увы, пророчества эти сбылись всего через несколько месяцев. Самая катастрофа 1 (по новому стилю 13-го) марта 1881 года связана у меня опять-таки с домашним воспоминанием. У папы в это время было рожистое воспаление ноги, и мой кузен (бывший на сорок лет старше меня) доктор Леонтий Л. Бенуа (а по-домашнему просто Люля-доктор) был как раз занят бинтованием больного места, когда раздался звонок на парадной и, опережая Степаниду, бежавшую по длинному коридору, я, находясь в соседней зале, открыл входную дверь. Передо мной стоял полицейский, сразу поразивший меня своим перепуганным видом. Быстро, комкая слова, он отрывистыми фразами произнес следующее: «У вас доктор Бенуа? Его вызывают в часть! Царя только что убили! Ранен оберполицмейстер! У него тридцать четыре раны! Бомба оторвала ноги государю…»
Какой это был ужас! Со мной чуть не сделалось дурно, но в то же время обуяло странное подобие восторга, которое люди, и особенно дети, испытывают, когда они узнают нечто чудовищное и особенно когда им надлежит передать это другим. Уже в спальню папы я вошел с настроением вестника смерти, и к доктору я обратился с чем-то вроде приказа: «Надо тебе сейчас ехать в часть, государя убили, у полицмейстера тридцать четыре раны!..»
Никто не хотел верить. Столько уже раз Бог спасал государя, наверное, и на сей раз обойдется. Правда, в Казанскую часть прибыла, по словам того же полицейского, карета государя в совершенно разбитом виде, но из этого еще не следовало, что государь убит или тяжело ранен. Постепенно, однако, стали прибывать вести из других источников. Ужасное известие подтверждалось: государю действительно почти оторвало обе ноги, но его все же еще живым довезли до дворца, довезли в открытых санях, так как полуразрушенной каретой, из которой он вышел после первой бомбы, нельзя было пользоваться. Дважды врачи пробовали вернуть кровообращение, и царь еще успел что-то вымолвить. При чьей-то помощи он даже смог осенить себя крестным знамением, но после этого впал в беспамятство, а через несколько минут его не стало. Известно еще было, что на площади Зимнего дворца со всего города стекается народ и что когда императорский штандарт над главными воротами спустился, то все бросились на колени, и площадь огласилась рыданиями.
На месте преступления я побывал с мамой дня через два. Однако к самому месту, т. е. к перилам набережной Екатерининского канала, нельзя было подойти из-за толпы. Издали было видно, что на том месте, где взорвалась вторая, убившая государя бомба, выросла целая гора венков и цветов, а вокруг этой горы стояли часовые и никого не пропускали. Запомнилось, как брат Леонтий приехал с эскизом временной деревянной часовни на месте покушения и как папа делал свои замечания насчет этого рисунка, а брат наносил тут же поправки. Еще через день окончательный проект был готов, а дней через десять выросла на месте покушения и сама часовня, скромная, но изящная, построенная из непокрашенного дерева и увенчанная золоченой луковицей. Внутри часовни перила набережной, панель тротуара и мостовая, обагренные кровью государя, оставались нетронутыми, и их можно было видеть, подойдя к двери. Все нараставшая гора цветов теперь была расположена вокруг часовни, и тут же стоял стол для пожертвований на постройку храма на месте убиения царя-мученика — иначе убитого государя не называли. Рассказывали, что уже собраны баснословные суммы. Все рассказы носили тогда одинаковый характер — ужас перед совершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до того нигилисты были почти в моде. Наступил период усиленных арестов, доносов, слежек, обысков, всего, что на жаргоне революции называется реакцией и контрреволюцией. Мне лично делалось невыносимо больно, когда я себе представлял, какие муки должен был испытать государь, пока он не впал в беспамятство, и как-то особенно кошмарным представлялось то, что врачи «насильно пытались ему вернуть кровообращение!» Ужасно было жаль и кучера и казаков, которые были убиты взрывом, и особенно того мальчика-разносчика, который случайно тут же проходил со своей корзиной и также был убит. О самом же происшествии ходило несколько версий, но все сходились на том, что государь мог еще спастись, если бы после первого взрыва он, выйдя нетронутым из разрушенной кареты, не оставался бы на месте взрыва и не пожелал сам удостовериться, не пострадал ли кто из сопровождающих.
Позже Григорович рассказал еще одну подробность о последнем моменте катастрофы. Государь, выйдя из кареты, встал у перил набережной и прислонился к ним. В это время двое полицейских схватили человека, которого они считали за бросившего бомбу. Александр II окликнул их и приказал подвести человека к себе. «Оставьте его, — обратился он к полицейским. — Это ты бросил бомбу? — спросил он и укоризненно прибавил (сильно картавя): Хог’ош, хог’ош!» В эту секунду подведенный выхватил из-за пазухи снаряд и бросил его под самые ноги царя. Произошел взрыв, убивший бросившего снаряд террориста наповал, государю же оторвало обе ноги, изранив все тело. Несколько осколков попало ему и в лицо. Следы этих ран были заметны тогда, когда положенные в гроб останки были выставлены народу. Сотни тысяч прошли в немом ужасе, преклоняя колена перед обставленным свечами гробом и прикладываясь к образку, который был положен в сложенные руки покойного. «В Бозе почивший», — поминали теперь официальные реляции того, в честь которого только что пели гимн: «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на страх врагам». Фотографии с лежавшего в гробу, одетого в форму государя, до пояса закрытого покровом (жутко было подумать, что там, где должны быть ноги, были лишь какие-то клочки), висели затем годами в папином кабинете и у Ольги Ивановны в ее каморке. Ольга Ивановна, Степанида и прочие наши домочадцы ходили в Зимний дворец прощаться с государем, и на это у них ушла целая ночь.
Погребение состоялось ровно через неделю после убийства — в воскресенье 8 марта. Удивительно, как в такой короткий срок церемониальная часть, застигнутая врасплох, со всем справилась! Похороны должны были быть обставлены со всей торжественностью, подобающей при предании земле первого лица огромного государства Российского, а тут еще этот трагический конец и всенародная печаль. Папа получил приглашение на несколько мест в Академию художеств; из ее окон открывается вид на Николаевский мост, через который должны были везти кружным путем убитого государя в Петропавловский собор. Шествие должно было затем следовать по 1-й линии через Тучков мост (Биржевого моста тогда еще не существовало, а другие мосты были разведены). Правда, окна в канцелярии Академии из-за холода оставались закрытыми, но через большие и хорошо по этому случаю вымытые стекла все было видно отчетливо, как на ладони. День выдался пасмурный, но сравнительно мягкий, с наклонностью к оттепели, так что лед на Неве получил тот серый оттенок, который предвещал его скорое вскрытие. За невозможностью перебраться на Васильевский остров по Николаевскому мосту, занятому шпалерами войск, нам пришлось пересекать реку по льду, по тому санному пути, который шел от Английской набережной — наискось к Николаевской набережной. Эта дорога, за последние дни очень изъезженная, представляла собой непрерывную цепь ухабов, и четырехместные сани до того швыряло по ним вверх и вниз, что меня даже затошнило. Приехали мы задолго до начала церемонии, и целых два часа пришлось томиться, сидя на одном месте в тесноте среди незнакомых или малознакомых людей, причем меня стал томить и голод, едва утоленный откуда-то появившимися бутербродами.
Наконец, раздались далекие, глухие выстрелы пушек, послышался погребальный гул колоколов (вторые зимние рамы окон были вынуты, и некоторые звуки с улицы доходили до нас довольно явственно), появились и первые эшелоны процессии, поскакали на конях в разные стороны церемониймейстеры и ординарцы. Увы, тут-то, после столь долгого ожидания, сразу началось мое разочарование. Многие из составных частей были каждая в своем роде интересны, но, вместо того, чтобы им непрерывно следовать одна за другой (в стройном порядке), как это я видел изображенным в «Illustration» или в «Illustrated London News», они путались, наталкивались одна на другую и отходили в замешательстве в сторону. Некоторые группы надолго застревали перед нами. Особенно надоела группа цеховых корпораций со своими знаменами, носившими каждое какое-либо символическое изображение — сапог для сапожников, ножницы для портных и т. п. При своем появлении эта курьезная компания меня забавила, но когда эти знамена целую четверть часа, если не более, продолжали мозолить глаза, закрывая то, что творилось за ними, то я чуть было не стал плакать от досады.
Разочаровался я и в том, что ожидал с наибольшим трепетом, а именно в «рыцарях». По церемониалу, установленному еще Петром I, погребальное шествие высокопоставленных лиц (а тем паче государя) должно было, на манер того, что происходило в других европейских государствах, включать в себя и геральдическое олицетворение Жизни и Смерти. Жизнь была представлена закованным в золотую броню рыцарем, верхом на покрытом золотой парчой коне. Смерть же олицетворял рыцарь в черных доспехах, следовавший пешком. Эти рыцари, наконец, и появились, но золотого как-то оттиснули другие группы, так что я его заметил только тогда, когда он уже готов был исчезнуть из моего поля зрения, а черный рыцарь с опущенным забралом шел такой ковыляющей походкой, его так качало во все стороны, он так волочил ноги, что можно было заподозрить его в крайней степени нетрезвости. Потом рассказывали, что, дойдя до крепости, этот несчастный пеший «рыцарь смерти» свалился в беспамятстве, а по другим сведениям он даже тут же умер, — несмотря на то, что для этой роли нашелся какой-то доброволец мясник с Сенной, знаменитый своей атлетической силой. Видимо, и сам Геркулес не смог бы одолеть весь этот бесконечный путь в пять, по крайней мере, верст, пешком, местами по скользкому снегу, коченея от холода, неся на своем теле пуда два железа и стали. Ведь его доспехи не были бутафорскими, то были подлинные исторические латы XVI века, выданные на этот случай из императорского царскосельского арсенала…
Наконец-то, после многосотенной толпы духовенства в черных ризах появилась и печальная колесница с гробом. В этой части процессии все отличалось примерным порядком и торжественностью. Цугом запряженных лошадей (в четыре или шесть пар) в траурных попонах вели под уздцы конюхи в своих эффектных мрачных ливреях. Тут же шли еще более эффектные в своих касках со спадающим черным плюмажем скороходы. Четыре края высокого балдахина были уставлены рядами рыцарских шлемов с колыхающимися перьями. Шнуры держали важнейшие, облаченные в золотом шитые мундиры сановники. Гроб, покрытый золотой парчой, стоял на высоком помосте. Непосредственно за колесницей шествовали (на конях ли, пешком ли, я, странное дело, не запомнил) вместе с новым государем великие князья, а также иностранные короли и герцоги, прибывшие отдать последний долг усопшему. Это было особенно внушительно. Но Александр III поразил меня своей тучностью, которую только подчеркивала форма прусского образца с каской на голове. Взрослые зрители подле меня обменивались своими впечатлениями. Они отметили утомленный вид нового государя; эта усталость, эта понурость были вполне понятными после всего того, что им было пережито и что еще его ожидало. Шествие замыкалось траурными каретами, в которых сидели дамы — с новой нашей царицей во главе. Длинный ряд этих карет все еще тянулся под окнами Академии, когда меня потащили домой.
По дороге к выходу и пока меня закутывали в зале Академического совета я (именно тогда и несмотря на усталость) был поражен чудесными портретами, сплошной массой покрывавшими обширную комнату. В первый раз я оценил портретную живопись как таковую (и без того родственного чувства, с которым я оценивал наши домашние портреты). Тут были сгруппированы портреты Левицкого, Щукина, Боровиковского, Яковлева, Кипренского, Брюллова и других больших мастеров русской школы.
И еще с трагической кончиной моего первого императора у меня связано воспоминание о бесчисленных и утомительных панихидах в гимназической церкви. Но это имело и свою хорошую сторону, так как панихиды освобождали учеников от уроков на весь остаток дня. Неизменно директор после окончания панихиды говорил: «Все могут идти по домам». А это ли не было радостью? Своего рода маленькие каникулы!..
ГЛАВА 9 Домашнее воспитание
В предыдущей главе я упоминал, что в 1881 году я уже учился в гимназии. Действительно, меня в такое казенное учебное заведение определили осенью 1880 года Однако прежде, чем продолжать в хронологическом порядке, нужно рассказать про то, что происходило со мной в 1879-м и в начале 1880 года.
В киндергартене тети Жени я оставался два с половиной года и за это время научился многому существенному: читать и писать по-русски и по-немецки, а также первым правилам арифметики. Там же я познакомился с главнейшими эпизодами священной истории. Я охотно пробыл бы еще один год (полагавшийся для лучшего усвоения пройденного) в этом заведении, о котором у меня сохранились лучшие воспоминания, но наш детский сад вздумал переменить местожительство и переехал в очень далекий квартал. Поэтому родители решили, что я его покину и что дальнейшее совершенствование в науках будет на первых порах происходить домашним способом, а там наступит и пора поступления в казенную гимназию. Папа готов был сделать это не откладывая, но мама считала, что рано: она знала, как трудно далась гимназия моим старшим братьям и как им был противен самый гимназический быт.
Мое домашнее обучение было налажено следующим образом. Уроки французского и английского языков происходили у нас на дому, уроки же русского, немецкого, а также арифметики и географии — сообща с моими сверстниками и друзьями маленькими Брюнами, у них. Это было удобно уже потому, что Брюны жили на нашей же Никольской улице — в громадном доме барона Фитингофа, у Поцелуева моста. Соединенными усилиями наших двух мамаш был выработан план и приглашены учительницы. Как звали учительницу русского и арифметики, я забыл. Учительницей же немецкого была фрейлейн Зубург. Моей первой учительницей английского языка была mademoiselle Будаго и, наконец, французский язык преподавала мне все та же мадемуазель Леклерк, которую я знал чуть ли не с колыбели.
Что я не запомнил имени первой из упомянутых особ, можно скорее всего объяснить тем, что и оба Брюна, и я возненавидели эту довольно миловидную блондинку. Она сразу оказалась не обладающей даром подойти к нашей душе; она раздражала нас своими ироническими словечками и замечаниями. Все это мы окрестили тогда словом «пошлость», и с этого самого времени понятие о пошлости, осуждение ее и омерзение к ней стали нам всем чем-то весьма привычным. Мы даже упражнялись в том, что делили всевозможные явления, предметы, факты, знакомых людей, рассказы, слышанные или читанные, на пошлые и непошлые, причем все характерно русское мы (без малейшего поощрения со стороны взрослых) почему-то были склонны относить к разряду пошлости. Я затрудняюсь указать, откуда вообще взялось это слово у нас и как оно могло так пропитать наши детские умы, но самый факт его появления именно в эти годы (когда мне и старшему из Брюнов было всего около десяти лет) остается фактом. Возникновение же такого, в сущности необычайного и изощренного понятия в столь ранние годы, может служить доказательством какой-то его прирожденности, инстинктивности. Но да не подумают при этом, что все наши оценки отличались проницательностью и справедливостью, что наш этот вкус всегда был безупречен. Мы были еще совершенные мальчишки, во многом просто нелепые, подверженные всяким случайностям и капризам.
Совершенным контрастом русской учительницы была фрейлейн Зубург. Девица она была очень некрасивая и, как нам казалось, пожилая (хотя ей едва ли было много за тридцать лет); она была высокого роста, Держалась прямо, и осанка у нее была гордая. С первого взгляда она производила впечатление неприступности, но тем приятнее оказывалась ее настоящая сущность. Фрейлейн Зубург была сама доброта и уютность, а величественность ее была напускная, прикрывавшая, вероятно, природную застенчивость. Ее юмор (она любила шутить) был нам по вкусу; пошлости мы в ней не усматривали, а потому и уроки ее мы любили и относились к ним если не с похвальным усердием, то все же без того внутреннего сопротивления, с которым мы относились к ее русской коллеге. Благодаря фрейлейн Зубург немецкий язык, на котором я уже свободно изъяснялся, стал теперь моим любимым; я писал на нем свободно и правильно, и — что особенно удивительно — более каллиграфически, нежели на других языках, включая сюда и родной русский.
Что же касается до моей первой англичанки Будаго, то, должен сознаться, она была одной из моих жертв. Выше я уже упоминал про то сложное чувство, смешанное из жалости и постоянного раздражения, которое во мне возбуждал мой безногий учитель музыки Мазуркевич. Подобное чувство я испытывал и в отношении мадемуазель Будаго, очень еще молодой девушки с довольно миловидным, кругловатым, типично армянским лицом; больше всего меня раздражало в ней абсолютное отсутствие юмора. Она была печальна до глубины своего существа, и, несомненно, что она имела веские причины быть таковой. Была она дочерью когда-то богатых, но разорившихся родителей, а теперь ей пришлось бороться с нуждой. Она должна была уроками кормить не только себя, но и других членов семьи, в том числе своего совершенно расслабленного брата Николая. Но мало ли я знал людей и нуждающихся, и страдающих, однако сохранявших бодрость духа и даже какую-то жизнерадостность. У бедной же мадемуазель Будаго ее унылость была как будто чем-то прирожденным или даже расовым — ведь обладал же аналогичной чертой и один из самых моих близких друзей князь В. Н. Аргутинский; эту свою органическую печаль он выражал уже тогда, когда еще не ведал тех грустных испытаний, которые ему впоследствии доставило эмигрантское существование.
Мне теперь трудно во всех подробностях вспомнить, каким именно образом я мучил бедную Будаго, но что я ее мучил, это я запомнил вместе с теми угрызениями совести, которые тогда же испытывал. Несколько раз она даже отказывалась от уроков, и только убеждения мамы заставляли ее продолжать их. Мучил я ее, впрочем, без злого умысла, а просто потому, что ненавидел эти уроки и мне было убийственно на них скучно. Поневоле, вместо того, чтобы относиться внимательно к тому, что толковала учительница, или к тому, что стояло в книжке, я заинтересовывался всякой всячиной, никакого отношения к делу не имеющей. Я вскакивал и подбегал к окну или тащил из шкафа свои любимые книжки и показывал в них понравившиеся мне или смешившие меня картинки, рассчитывая развеселить моего унылого профессора. Или же я принимался тут же рядом на бумаге что-либо рисовать, а то и вырезывать. Особенно же раздражало мадемуазель Будаго то, что я поминутно всматривался в выпуклые голубоватые стекла очков, прикрывавшие ее воспаленные глаза. Это у меня сделалось чем-то вроде тика. Чем больше она сердилась на меня за это всматривание, тем сильнее становилось искушение еще и еще заглянуть в них, и, несомненно, это каждый раз вызывало в ней болезненное раздражение.
Наша обоюдная пытка продолжалась сезона два (1879/80, 1880/81), но затем бедную Будаго сменила мисс Эванс, и вот эта милая старушка, являя полный контраст с моей первой «не-английской англичанкой», пришлась мне по вкусу. Жизнь не побаловала и мисс Эванс. В Россию она попала случайно, лет сорок до того потерпев кораблекрушение где-то у берегов Дании и лишившись тогда всего своего имущества (как это произошло, я теперь не совсем помню, но рассказ об этой катастрофе был одним из ее любимых номеров). Через Данию попала она в Германию, оттуда в Россию, и с тех пор жила, зарабатывая свой хлеб уроками… О том же, чтобы найти себе мужа и семейное счастье, бедняжке нечего было и думать: мисс Эванс была исключительно уродлива, и по отзыву лиц, знавших ее раньше, выглядела она так и в годы сравнительно еще молодые; теперь же ей было больше семидесяти. Ростом мисс Эванс была крошечная, совершенно сгорбленная, тощая-претощая, с каким-то смешным чепчиком на почти лысой голове, с двумя черными бородавками на щеках, с крючковатым носом и костлявыми, как у ведьмы, пальцами. Да и вся она походила на тех колдуний и злых фей, которых рисовали Доре и Берталь. Она не ходила, а как-то катилась, ни на минуту не выпуская из рук ридикюля и шурша своей шелковой, старинного покроя юбкой.
И все же приветливость не покидала ветхую, больную и обиженную судьбой, но милую, милейшую мисс Эванс. Эта жутковатая с виду старушенция, эта «ведьма» была всегда в наилучшем настроении и полна юмора. Юмор же ее был очень хорошего, чисто английского тона. Любимым ее писателем был, само собой разумеется, Диккенс, а среди произведений его любимой книгой «Записки Пиквикского клуба». С чтения этой классической юмористики и начались наши уроки, затем мы прочли и многое другое того же автора. В чтении проходила вторая половина урока, тогда как первая была посвящена премудростям грамматики, а также истории Англии, которую мисс Эванс знала назубок, благодаря чему и я кое-что в этом предмете усвоил с детства довольно прочно.
В основе преподавания истории Англии у мисс Эванс лежали чисто монархические принципы, мало того, — часто католические принципы. В своем убежденнейшем приверженстве к католической церкви она сходилась с моим зятем Эдвардсом, и, вероятно, поэтому-то он ее нам и рекомендовал. Оценка же разных английских государей мисс Эванс зависела от того, в какой степени они сохранили свою верность к наместнику Христа, восседающему на римском престоле. Поэтому особенной ненавистью мисс Эванс пользовался король Генрих VIII и королева Елизавета, и, наоборот, превыше всех ставились разведенная супруга Генриха Екатерина Арагонская и дочь их Мария. Сколько раз я ни наводил добрую мисс Эванс на эту тему, она каждый раз с одинаковой страстностью возмущалась тем, что королеву Марию прозвали «кровавой» (The Bloody Магу), тогда как в ее представлении это была самая добродетельная и самая благородная из монархинь Англии. Впрочем, дух справедливости, живший в мисс Эванс, заставлял ее отдавать должное и Елизавете, но это делалось с явным насилием над собой и со всевозможными оговорками. И уж, разумеется, не казнь (католички!) Марии Стюарт могла нарушить ту антипатию, которую она чувствовала к «королеве Шекспира»… Твердо верила мисс Эванс в то, что и Карл I, и Карл II, — первый перед самой казнью, второй на смертном одре, — вернулись в лоно католической церкви, а уж о Якове II она иначе не говорила, как о святом, глубоко скорбя о том, что не его потомству дано править Англией…
Вот до чего курьезна была моя мисс Эванс! Но раз я заговорил о ней, то скажу тут и о том, до чего живописно и необычно она кончила свою жизнь… Это случилось несколько лет после того, что она перестала давать мне уроки (вероятно, в 1888-м или в 1889 году). Можно думать, что очи такой фанатичной католички сомкнет кто-либо из наших доминиканцев св. Екатерины, на самом же деле вышло иначе. Чувствуя приближение смерти, старушка вызвала к себе моего зятя Матвея Яковлевича, а когда он очутился перед ней и спросил, какова ее последняя воля, он услыхал самый неожиданный ответ: «Мне хочется устриц и немножко шампанского…» Матвей Яковлевич тотчас же помчался к Смурову, купил дюжину остендских и бутылку клико и с этим вернулся к умирающей. И что же, мисс Эванс съела устрицы, запила их бокалом пенистого вина и, получив такое исполнение, быть может, очень старого желания, она мирно отдала Богу душу, которая, наверное, сразу была водворена в рай, где эта душа, надо думать, смогла засвидетельствовать свои верноподданнические чувства и Марии («Некровавой»), и светящемуся всеми добродетелями Якову II.
И моя третья англичанка, о которой я уже рассказал в главе о дяде Сезаре, мисс Кэв, не блистала красотой и также была не первой молодости. И она была ярой католичкой, но в ней не было ничего фантастического, чего-либо напоминавшего ведьм и колдуний. Это была степенная, но ласковая, бодрая, с едва ощутимым налетом меланхолии дама. Вспомнив о муже, она вынимала платочек и прикладывала его к глазам, хотя с момента кончины мистера Кэва прошло немало лет. Свой же педагогический дар она доказывала тем, что дети (в том числе и я) страстно к ней привязывались. Когда она после смерти дяди Сезара решила покинуть моих кузин, не будучи в силах дольше терпеть неприязнь старушки ключницы, возникла целая драма. Плакали мои кузины, плакала миссис Кэв, очень расстроился и я. Миссис Кэв к тому же навсегда покидала Петербург, решив, что лучшего употребления своих небольших сбережений нельзя придумать, как обратить их на то, чтобы поселиться в Лурде, где бы она могла всецело посвятить себя культу Пречистой Девы. Несколько лет еще продолжалась наша переписка (для меня это была хорошая практика английского языка, что, однако, не помешало мне затем совершенно разучиться на нем изъясняться), но затем эта переписка прекратилась и, к стыду своему, я не знаю, как и когда кончилось земное существование миссис Кэв.
ГЛАВА 10 Брюны
Мальчики Брюны, в квартире родителей которых происходили наши общие уроки, были моими первыми близкими друзьями. Настоящая фамилия Брюнов звучала гораздо сложнее и эффектнее; они были сыновьями Анатолия Егоровича Brun de Saint-Hippolyte и его супруги, сестры моего зятя — Елеоноры Александровны Лансере. Благодаря этому свойству, а также благодаря тому, что мы были почти сверстниками (Валя Брюн был на полгода моложе меня, Лева — года на два) и, наконец, благодаря тому, что они были «русскими французами», между нами установилось тесное единение, которое наши родители всячески поощряли. Мы были одного поля ягоды.
И все же дом Брюнов сильно отличался от нашего. В нем совсем не было искусства, ни малейшего намека не художественную атмосферу. Анатолий Егорович был инженером (кажется, путейцем) и решительно никакого интереса к чему-либо, что выходило за пределы его профессии, не проявлял. Его отношение к музыке выражалось только в том, что иногда он в течение минут пяти играл род бойкого, состоявшего из аккордов аккомпанемента, под который мы пробовали танцевать. Однако нельзя сказать, чтобы эта музыка быль особенно вдохновляющей и, если я, избалованный домашними виртуозами Альбером и Нетинькой, все же что-то отплясывал под аккорды Анатолия Егоровича, то это отчасти из вежливости, а отчасти потому, что мне было как-то жаль этого милого, добрейшего и столь скудно одаренного человека. Я сердечно любил его; мне нравилась его наружность, в которой пленял контраст между его резкими крупными чертами, говорившими чуть ли не о какой-то героической мужественности, и добрым, мягким взором серых глаз. Под необычайно выдающимся и круто согнутым носом стлалась густая, но уже почти седая борода; этот бурбонистый нос и эта дикая борода досталась ему, вероятно, от каких-то далеких воинственных предков. Сам же он был кроткий, покладистый человек, ни во что в собственном доме не вмешивавшийся, нежно любивший детей, но как-то сконфуженно их сторонившийся, а главное, беспрекословно во всем повиновавшийся своей супруге Елеоноре Александровне.
Напротив, эта тетя Леля была, как почти все члены семьи Лансере, особой до крайности нервной, раздражительной и властной. С совершенно болезненным самолюбием относилась она к своему, не Бог весть какому хитрому хозяйству и с не меньшей ревностью отдавалась она своим материнским обязанностям. Почти за каждым завтраком и за каждым обедом (я нередко оставался у них к столу) происходили сцены между ней и мужем; точнее, она устраивала бедному Анатолию Егоровичу жестокие распеканции за то, что он то или другое из блюд недостаточно, по ее мнению, оценивал. С гневным наскоком она требовала от него объяснения, почему он не доел супа, почему не попросил вторично жаркого. Меня эти сцены особенно озадачивали, так как ничего подобного в нашем доме не бывало и не могло быть. Да и детям от матери попадало по всякому пустяку, чаще всего совершенно зря. Мальчики были, в общем, безупречно благонравны, точно сошедшие со страниц добродетельных рассказов; они усердно готовили уроки и тихо занимались своими играми. Но мне и их удавалось растормошить; начиналась дикая беготня по комнатам, а наши игры в индейцев приобретали подчас весьма буйный характер. Происходили же эти безобразия в отсутствие Елеоноры Александровны и тогда, когда для присмотра за нами оставалась одна лишь древняя старушка-няня, которую мы все трое очень любили, но с которой абсолютно не считались.
Одним из оснований моей дружбы с Брюнами было то, что мы жили очень близко друг от друга, — на двух концах той же недлинной улицы — мы у собора Николы Морского, они у Поцелуева моста. Ходу от нас до них было, даже детской походкой, не более семи минут, а самая прогулка была интересной: надлежало перейти Театральную площадь, что всегда доставляло мне удовольствие из-за двух украшавших эту площадь театральных зданий. Интересно бывало идти от Брюнов зимним вечером, когда уже начинались спектакли: кареты и сани подъезжали к колоннам Большого театра, в круглых просторных грелках, стоявших среди площади, пылали костры, вокруг которых толпились кучера, а в окнах обоих театров виднелись зажженные люстры, освещавшие фойе. Все это придавало площади праздничный вид. Сам я тогда бывал в театре два-три раза в году, не более, моих же друзей никогда в театр не водили, и им приходилось довольствоваться моими (сильно приукрашенными) рассказами.
Квартира Брюнов находилась на самом верхнем этаже громадного дома барона Фитингофа. В подъезде встречал толстенный круглолицый, необычайно почтительный швейцар, которому я на Новый год вручал полученный от мамы на этот предмет целковый, и этот обычай до такой степени укоренился, что и тогда, когда я перестал бывать у Брюнов — я все же 1 января входил в подъезд и вручал тому же швейцару положенный на-чай, после чего он провожал меня с низкими поклонами до улицы. Лестница к Брюнам была необычайная. В широком, пустом пространстве пролета могли бы уместиться в каждом этаже по зале, а все вместе производило впечатление довольно жуткого колодца. Эта лестница запомнилась мне еще потому, что однажды старушка-нянюшка застала Леву Брюна, которому тогда было не более шести лет, сидящим над этой притягивающей бездной, на перилах у двери их квартиры. «Еще минута, и он слетел бы вниз». Нянька, увидав эту картину, от испуга онемела. Однако осторожно подкралась и сняла Леву с перил — после чего сама лишилась чувств.
А какая это была чудесная нянюшка! Она воспитывала еще отца Анатолия Егоровича (сына французского эмигранта, застрявшего в России), но и тогда она уже была не первой молодости; теперь же ей было за девяносто лет. Она хорошо помнила «нашествие двунадесяти языков», иначе говоря, Отечественную войну 1812 года, но, к сожалению, как мы ни старались выведать у нее какие-либо подробности об этой героической эпохе, она, кроме самых общих фраз, в ответ ничего не сообщала. «Что вы ко мне пристаете? Ну была война и все тут». — «А самого Наполеона, нянюшка, ты видала?» — «Видела». — «Какой же он был?» — «Да такой невзрачный, маленький, по московским улицам верхом ехал». — «А пожар Москвы помнишь?» — «Нет, не помню, а только, что она сгорела, это верно». После такого ответа оставалось посмеяться над старушкой, а она, ворча, удалялась к себе в каморку у кухни. Вообще же она была добрейшая — позволяла с собой делать что угодно. Так, иногда мы сажали ее в наш индейский вигвам и заставляли изображать какую-нибудь мать или сестру Ункаса и Чингачгука.
Каковы были наши игры в самые первые годы дружбы, я не помню, но после того, что и я и Брюны принялись за Купера, мы и сами превратились в индейцев, что было в ту эпоху явлением среди мальчиков почти повальным. В течение суровой петербургской зимы мы были естественно существами комнатными, однако эти нам во всех подробностях знакомые комнаты теряли свой реальный характер и превращались, по повелению фантазии, то в непроходимые девственные леса, то в безграничные пампасы или в скалистую горную местность с пропастями, потоками и озерами. Реквизитов у нас тоже было сначала немного, но постепенно их накопился целый арсенал — томагавки, копья, головные уборы из перьев, мокасины и т. д. При этом мы владели и довольно обильным специальным словарем и тем особенным жаргоном, который так убедительно выражает и благородство делаваров и гнусность гуронов, который вообще в «Зверобое» и в «Следопыте» создает самую атмосферу этих романов. Моментами наше наваждение доходило чуть ли не до галлюцинации. Неважные гравюрки на стали в книжках вольфовского издания Купера (по одной на роман), изображения дикарей в разных изданиях «Робинзона» (что это были другие дикари, нежели те, о которых речь шла у Купера, не имело значения), а иногда и картинки в заграничных детских журналах или в «Magazin Pittoresque» давали нам достаточное представление о костюмах и нравах коренных обитателей Северной Америки. Кроме того, я живо помнил тех краснокожих, которых я сам видел нападавшими на поезд Филеаса Фогга в одной из сцен феерии «80 дней вокруг света».
О сценарии и распределении ролей наших коллективных иллюзионных действий мы заботились по очереди. То это я решал, что Валя будет Зверобоем, я Чингачгуком, а Лева Ункасом (врагами бывали в тех случаях стулья и разные другие предметы), то вчерашние выразители всяческого благородства брали на себя роль лукавых предателей и гнусных интриганов. Пройдя коридор и обе детские, мы вступали в столовую, и это означало, что мы, миновав страшные опасности, очутились в блокгаузе, в сравнительной безопасности; совершив путь в обратном направлении и попав в залу, мы оказывались среди бесконечного простора прерий, а большая оттоманка под зеркалом между окнами являлась одинокой неприступной скалой. Тропические растения в горшках заменяли джунгли, из которых того и гляди выбежит медведь, а приложив ухо к паркету, мы явственно слышали приближающийся топот тысяч бизонов. В таком случае надлежало оставаться распластанными на земле, и тогда стада страшных рогатых животных с диким мычаньем проносились над нашими головами. Но особенную иллюзию создавала постройка вигвама, происходившая по хорошо знакомому рецепту. Брался плед, под него устанавливали половую щетку, концы пледа привязывали за бахрому к четырем опрокинутым стульям. Получалась идеальная палатка, в которую мы в качестве немого и только охающего статиста усаживали няньку, принуждая ее вертеть суповой ложкой в котле — котлом же служила шляпная картонка. Но долго засиживаться за курением трубки мира в палатке не полагалось. Насторожившись, как раз услышишь грозный шум: это приближается на своих мустангах вражеское племя или, может быть, близится в нашем направлении лесной пожар, и надо бежать без оглядки.
Как-то раз, вероятно из желания смягчить наши воинственные нравы и отвлечь нас от постоянного снимания скальпов, нам дали прочесть «Хижину дяди Тома» — эту самую трогательную из трогательнейших повестей. Однако результат получился совсем неожиданный. Мы, правда, серьезно огорчились судьбой, постигшей доброго старого негра, но в то же время мы особенно оценили неограниченную власть плантаторов, и это увлечение тотчас нашло себе отражение в наших играх. На время индейцы были забыты, заменил же их новый мир самых жестоких негодяев и самых беспомощных жертв. Лева почему-то с особенной готовностью брал на себя роль беглого раба, укрывавшегося в тростниках и в зарослях, а я с Валей с упоением играли роли его преследователей. В известный момент мы находили убежище несчастного, нападали на него, связывали (делали вид, что связываем) и вели на казнь. Лева так входил в роль, что скрежетал зубами, шипел, у губ от сознания собственного бессилия образовывалась пена. Мы же бывали обуреваемы настоящим восторгом садизма (разумеется, о Саде мы ничего не знали) и, не будь вовремя подоспевшей тети Лели или одной из старших сестер Анатолия Егоровича, мы смогли бы в разгаре игры учинить и настоящую беду, наказывая беглеца. Пленного щипали калеными щипцами, его пронизывали пиками, ему, несмотря на страшное сопротивление, вырезали язык, ему выкалывали глаза! Когда же большие, заметив, что детки в играх перешли всякие границы благонравия, усаживали нас для успокоения за рисование, то и при этом занятии мы продолжали предаваться тому же садизму, причем появлялись в рисунках не одни рабы, но и рабыни. Не имея еще никакого понятия об эротике, мы доходили до крайнего возбуждения, изображая страшно бородатых людей в сапожищах и в широкополых шляпах, которые режут, колют и всячески терзают бедных негров. Это безобразие продолжалось несколько месяцев, пока, наконец, Елеонора Александровна не осознала вполне, что происходит нечто вовсе не соответствовавшее педагогическим идеалам. С того дня такие игры были строго запрещены, мало того, тетя Леля навестила мою маму специально по этому поводу и рассказала ей о наших ужасных радениях.
Тогда эту игру заменила другая — театральная. Я уже сказал, что мальчиков Брюнов никогда не водили в театр, — родители их никогда не позволяли себе такой роскоши. Но тем более моих друзей интересовало узнать и увидать, что творится на сцене. Иногда я их угощал кукольными спектаклями на моих детских театриках, но куда интереснее показалось самим сделаться актерами и играть. За фабулами недалеко было ходить — они имелись в обилии в том альбоме карикатур Буша из «Munchener Bilderbogen», которого в каждой из наших семей было по экземпляру. Эти смехотворные рассказики в картинках были совсем коротенькие, и укладывались почти все на одну страницу, но мы их разукрашивали подробностями, и наш спектакль затягивался на добрый час. Особенным успехом пользовалась история про двух воров, забирающихся в дом, а также история «Похищение из сераля». Для последней пьесы требовались тряпки для тюрбанов и для чадры, покрывающей лицо прелестной Зулеймы. Я приносил из дому огромный маскарадный нос для палача, а игрушечная скрипка вполне заменяла гитару для того красавца-трубадура, который и похищал красавицу из гарема. Частью немецкий текст Буша оставался нетронутым, но он служил лишь как некое вступление для каждой сцены, тогда как дальнейшие диалоги импровизировались уже нами. Зрителями служила, если это происходило у Брюнов, та же старуха-нянька, а позже немецкая гувернантка фрейлейн Зельма Августовна. То, что последняя носила почти то же имя, как наша героиня Зулейма, и то, что она была миловидной крошечной блондиночкой, придавало особую пикантность нашему представлению. Если представление происходило у меня, то тут в царскую ложу мы усаживали мою бонну, а если в это время гостили у нас маленькие племянники, то и они удостаивались такой чести. И боже мой, в какое я впадал бешенство, если мои зрители говорили, что им скучно, или если они (какой скандал!) просто покидали зрительный зал.
Особенно запомнились мне такие наши спектакли в имении Брюнов Глазове под Лугой, куда они уезжали на лето и где я гостил по нескольку недель два раза. Усадьба состояла из поместительного, но совершенно простого деревянного домика — комнат в десять, к которому вела аллея старых берез и за которым спускался к реке большой, частью плодовый сад. На косогоре, по другую сторону реки, была расположена деревня, состоявшая из низких, темных, крытых соломой изб — типичная картина для севера России. Ясные дни мы, разумеется, проводили на воздухе, в прогулках, но когда лил дождь (а лил он часто, превращая и двор перед мызой, и сад в непролазное месиво), то приходилось или оставаться на крытом балконе или же, когда становилось уже слишком неуютно, в комнатах. Тут эти импровизированные домашние спектакли и служили нам самым приятным и интересным препровождением времени. Стекла окон поливаются как из ушата, в печках трещат сырые дрова, а мы себе гуляем в волшебных садах багдадского калифа, греемся на мраморных плитах залитой солнцем террасы или же плывем по морю при луне с похищенной красавицей.
В Глазово я был доставляем либо сестрой Катей, либо самим Анатолием Егоровичем. Меня до того манило деревенское приволье, что и разлука с мамой не казалась столь страшной. Три часа поездом, небольшая остановка в пыльной, убогой, безалаберно разбросанной Луге и затем двухчасовая тряска на тарантасе по песчаным ухабам. То были мои первые далекие выезды, и я с ненасытным интересом разглядывал все новые для моего глаза предметы, попадавшиеся по дороге. В совершенный восторг я пришел как-то от тех лесистых холмов, мимо которых лежал наш путь. Солнце, стоявшее ровно за ними, обрисовывало их контуры светлой каймой, книзу же масса зелени была подернута синеватой дымкой. Тут я, кажется, в первый раз понял, что такое красота природы, о чем я часто слышал, но что до того времени оставалось для меня чем-то не вполне осознанным…
Вообще эти пребывания в Глазове сыграли как раз в моем художественном развитии некоторую роль. Там от скуки во время дождя мной был нарисован первый пейзаж с натуры: забор, яблони, а на первом плане идущая с коромыслом Маша-скотница, довольно смазливая баба, про которую мы сложили глупейшую песенку. Там же на прогулках по песчаным дорогам через сосновые рощи, спускаясь в дикие заросли оврага («здесь и медведи водятся», — говорил лесничий), или во время лежания на траве у речки, пока Валя и Лева занимались ужением, я вкушал всю прелесть деревенской поэзии. И именно то, что я проводил в этой «простейшей красоте» целые дни, что я успевал вдоволь и поскучать в ней, что я ее видел при разном освещении, то под ясной лазурью, то под свинцовыми грозовыми тучами, что я успевал иногда и промокнуть и снова высохнуть, это все «ввело меня в природу».
Имя Пана в те времена я еще не знал, но самое существование его я как бы чуял. Как раз в Глазове я испытал и характерный панический страх. Совсем недалеко от дома открывалась на несколько верст по лесу широкая просека, как-то неравномерно проведенная. Справа и слева, точно театральные кулисы, вступали или отступали лесные массивы. Стоило здесь хотя бы негромко что-либо крикнуть, как с поразительной отчетливостью раздавалось эхо и не один раз, а три, четыре, если же крикнуть во всю силу, то и раз десять. Однажды нам втроем вздумалось громко захохотать и вдруг в ответ раскатился настоящий адский хохот. Казалось, что хохочет сам лес, хохочут все находящиеся в нем лешие, о которых с ужасом и с убеждением рассказывала нянька, и нам стало так жутко, что мы опрометью бросились бежать домой и такого опыта больше не повторяли.
Хоть в Глазове на приволье мы иногда и играли в довольно буйные игры, изображая тех же краснокожих, однако мы, будучи, в общем, довольно благонравными мальчиками, никогда не дрались и вообще физических насилий избегали. Представляя самые жестокие схватки, пленения, казни, мы не делали друг другу больно, разделяя в этом обычай щенят, львят и других животных, отлично также знающих, что такое игра, что значит «ломать комедию». Тем более остается странным случай, происшедший как-то летом 1880 года, когда приехал гостить к Брюнам их дальний родственник, юноша лет четырнадцати, на голову выше самого высокого из нас троих. В общем, несмотря на разные шалости и всяческие кривляния, мы были скорее смирными, довольно благовоспитанными ребятами. Валя и Лева, те даже никогда не капризничали, да и не посмели бы, отчасти опасаясь не столько довольно крутых выговоров их матери, сколько самого факта огорчения родителей. Этот же новоприбывший Алеша был «настоящий мальчишка» — охотник до буйных игр и даже до драки. Вот он и затеял как-то на глазовском дворе игру в городки. Долгое время все шло дружно и весело; разделившись на два лагеря, мы с увлечением разрушали поочередно вражеские крепости. Но вот от слишком большой горячности я угодил брошенной палкой в самую голову Алеши! Будь пострадавшим кто-либо из нас, все кончилось бы жалобами, перебранкой, слезами, но Алеша пришел в ярость, и, перелетев громадными шагами через двор, дал мне со всего маху пощечину.
Сначала я совершенно опешил! О том, чтобы вступить в бой с таким великаном, не могло быть и речи, и в моем распоряжении оставались только мои обычные «решительные средства». Я не просто заплакал, а завопил как зарезанный, а затем умчался в свою комнату, заперся в ней на ключ, и оттуда на весь дом понеслись пронзительные крики-требования, чтобы мне немедленно был подан экипаж, что я уезжаю, что своего обидчика убью и т. д. Трагедия эта длилась довольно долго, но затем я устал сам, и, сознавая, что в достаточной мере всех наказал, я лег на постель и заснул. Несколько раз сама Елеонора Александровна подходила к двери, стучала и звала меня, но я представлялся мертвым и упорно молчал. Однако, когда через щели двери до меня донесся запах свежеиспеченных к чаю хлебцев «тамбовок», то я не утерпел перед соблазном, отпер дверь и направился в столовую. Алеша стоял у стола смущенный и, увидев меня, первый подошел и с чувством произнес: «Прости меня, Шура». Я же, почувствовав прилив великодушия, молча пожал ему руку и трижды с ним облобызался. На следующее утро Алеша покинул Глазово, и с тех пор мы никогда с ним более не встречались.
В долгие дождливые вечера мы с Валей и Левой вели всякие умные беседы, иногда даже не лишенные философского оттенка. Особенно склонен был к ним Лева (этому философу было в то время лет восемь), который никак не мог успокоиться, размышляя на темы о бесконечности, о вечности, о боге, о загробной жизни. Что за последним мыслимым пределом мира все же должно открыться новое, «хотя бы пустое пространство», а что, быть может, в этой пляшущей в солнечном луче соринке могут быть целые солнечные системы и такая же Земля, как наша, а в ней такой же Лева, а на Леве опять такие же соринки — эти мысли наполняли его ужасом. Вообще в Леве было больше, чем в его брате, поэтического и даже художественного начала. Так, он, младший из нас трех, лучше рисовал животных и особенно ловко их вырезывал из бумаги, не прибегая к предварительному очерку. Небольшой квадратик бумаги под ударом ножниц превращался в целую группу зверей, расположенных в разных направлениях и соединенных между собой маленькими перемычками. Сколько надо было иметь сообразительности, какой заранее установленный в голове план работы, чтобы такой фокус мог удаться! И каждая такая зверушка, имевшая в длину не более двух сантиметров, — будь то лев, хорек или слон, — была снабжена всеми характерными чертами, причем это не были ребяческие бесформенные схемы, а силуэты, точно скалькированные с картинок зоологического атласа. Мне всегда казалось, что из Левы мог бы выйти совершенно замечательный художник, но едва ли это пришлось бы по вкусу его родителям. Такая карьера не соответствовала всему жанру брюновского дома, лишенного всякой художественности, и Леву не только в этом направлении никто не поощрял, но, напротив, его направили по совершенно другой дороге. В конце концов из него вышел образцовый агроном, и последний раз я встретил этого милейшего, добрейшего человека после перерыва по крайней мере в двадцать лет в имении графа А. Орлова-Давыдова Отраде, где он и состоял кем-то вроде эксперта при экономии графа. (В 1947 г. получено из России известие, что Лева Брюн скончался.)
Валя был совсем не похож на брата, и эта контрастность с годами обострилась в чрезвычайной степени. Насколько Лева был прямым, открытым и простым, настолько Валя, не будучи ни фальшивым, ни каверзным, был все же извилистым и туманным. В Леве несомненно доминировало мужественное начало, в Вале — женственное. Жизненная же судьба Вали получила трагический исход. Он был превосходным учеником гимназии и, кажется, окончил ее с золотой медалью; он необычайно серьезно отнесся (не чета мне и моим позднейшим друзьям) к изучению законоведения в университете. Поступив затем в министерство юстиции, он быстро стал подниматься по бюрократической лестнице, и ему еще не было пятидесяти лет, когда он был назначен директором департамента полиции, а в будущем ему сулили и министерский портфель. В это время я его уже не встречал, и, вероятно, вот почему в моем воображении представление о моем Вале — хрупком, нежном, необычайно похожем на мать мальчике, — никак не вяжется с образом какого-то сурового инквизитора, каким, говорят, он себя и зарекомендовал. Во всяком случае в революционных кругах у него была такая репутация, и он это отлично знал, а потому, когда произошел переворот 1917 года, — Валентин Анатольевич счел более для себя осторожным исчезнуть с петербургского горизонта и куда-то спрятаться. Увы, год спустя он был выдан большевикам своими же близкими, и когда власти явились его арестовать, то мой бедный друг детства, запершись у себя в комнате, повесился! Произошло это где-то в провинции, кажется, в Нижнем Новгороде.
У Вали и Левы были еще два брата, Боря и Леша, но они в моих воспоминаниях не имеют места, особенно последний, появившийся на свет тогда уже, когда наша дружба, пережив свой подъем, начала слабеть и тускнеть. Что сделалось с Лешей, я вообще не знаю, ибо с конца 80-х годов я его уже больше не видел. Что же касается Бориса Анатольевича, то он рос прехорошеньким мальчиком, и из него вышел необычайно милый и приятный, живо мне напоминавший Анатолия Егоровича человек. При большевиках ему удалось всей семьей натурализоваться французскими гражданами и вернуться на родину предков. Во Франции он снова принял графский титул, почему-то его родителями не употреблявшийся. Скончался Боря Брюн уже во время немецкой оккупации где-то на юге Франции.
ГЛАВА 11 Казенная гимназия
Я поступил в гимназию со значительным запозданием. Весной 1880 года мне уже минуло десять лет; осенью того же года я поступил в приготовительный класс. Вследствие этого я и окончить гимназию должен был бы не восемнадцати лет, как нормально полагалось, а девятнадцати. На самом деле я ее окончил двадцати — но это вследствие того, что я два года просидел в седьмом классе, о чем будет рассказано в своем месте.
Почему это так случилось, я не знаю, но я подозреваю, что тут действовала мамочкина забота о том, чтобы я не переутомлялся. На самом деле я был готов для первого класса; поступив же в приготовительный, я имел значительное преимущество перед моими товарищами: я уже почти все знал, чему нас учили, и мог без труда занять положение одного из лучших учеников. Зато страдало самолюбие в другом смысле. Мне казалось, что я «совершенно большой», а приходилось сидеть на одних скамьях с «малышами». Впрочем, когда я осмотрелся, то оказалось, что среди моих одноклассников имеются и мальчики, вполне достойные моего внимания, а иные, пожалуй, были даже более развиты, нежели я. Среди них я выделил того, кто оказался моим соседом по парте (пюпитры-парты были двуместные, и ученики сидели парами, между рядами таких парных парт оставались проходы), — Володю Николаева, который, к общему недоумению, среди года превратился в Володю Потапова; вероятно, тут произошло запоздалое узаконение отцом.
Володя был некрасивый мальчик. У него был сильно вздернутый и постоянно красневший нос и пухлые бесформенные губы; зеленые глазки сильно косили. Он вечно беспокойно озирался, а когда его вызывали к кафедре, то Володя, не переставая, одергивал свою блузу. Он был всего на три месяца моложе меня, но ростом едва достигал моего плеча. По разным признакам было видно, что он сын родителей очень незажиточных. Сначала он меня дразнил и высмеивал (впрочем, без злобы), но потом мы сошлись на коллекционерской почве, так как оба оказались страстными собирателями: он — перьев, я — марок. Позже (еще в том же году) у нас оказались и другие более возвышенные общие интересы, ибо и он очень увлекался Купером, Жюль Верном. При этом в нем уже сказывалось известное критическое отношение, тогда как мы — и я, и Брюны — брали наших любимых авторов безоговорочно; наши симпатии и антипатии скорее касались самих героев, а не того, хорошо ли их изобразил автор. (С момента, когда я в 1885 году покинул гимназию «Человеколюбивого общества», я потерял Потапова из виду, но позже, уже в университетское время, узнал, что он погиб где-то на Волге, куда был отправлен в командировку в качестве студента-медика и где свирепствовала холера. Погиб он, однако, не от холеры, а потому что в очень жаркий день по ошибке выпил залпом стакан раствора сулемы, приняв его за воду! Такой конец как-то соответствовал всей личности этого усердного, азартного, вечно спешившего, вечно разгоряченного человека.)
Меня определили в гимназию императорского «Человеколюбивого общества». Выбор мамой этого заведения объяснялся двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что оно было горячо рекомендовано ее подругой Терезой Бентковской (Тереза Федоровна Бентковская была дочерью знаменитого художника Ф. А. Бруни), двое сыновей которой в нем уже учились, во-вторых же, — гимназия эта находилась на очень близком расстоянии от нашего дома. Однако мне она с первого же дня не понравилась, и эту антипатию я сохранил в течение всех пяти лет, в ней проведенных. Суммируя свои впечатления, я думаю, что она особенно претила моему вкусу, что в ней был какой-то специфический — «слишком русский» — дух. Позже, когда я в литературе и в театре, в изображениях Гоголя, Островского, Щедрина познакомился с тем, что представляла собой типично русская жизнь, типичные русские чиновники, типичный быт мещанский, то я во всем этом узнавал именно дух и, так сказать, тон моей первой гимназии. С другой стороны, мне кажется, что в какое бы казенное заведение меня ни определили, — я бы там страдал не менее, и как раз не от каких-либо особенностей данного учреждения, а от всей казенщины вообще, к которой я уже тогда чувствовал непреодолимое отвращение.
С другой стороны, ничего особенно плохого я о своей гимназии «Человеколюбивого общества» рассказать не могу. Отношение учителей было скорее гуманное, классы если и не отличались чистотой, то были просторны и светлы. Правда, по всей гимназии стоял какой-то довольно-таки тошнотворный кисловатый дух, но происходило это от того, что половина нижнего этажа была занята столовой, в которой кормились жившие на полном пансионе ученики-интерны, казенный же обед не отличался изысканностью и, кроме гречневой каши и кислых щей с мясом, ничего не полагалось. Выпекаемый в гимназии хлеб, разумеется, был черный, но, странное дело, выпечка хлеба в казармах давала восхитительный и аппетитный аромат (этим ароматом я буквально упивался, проходя по Благовещенской улице, на которую выходили пекарни Флотских казарм), а вот выпечка хлеба в нашей гимназии порождала этот самый отвратительный кислый дух. На этот хлеб жаловались пансионеры, будто он ложится камнем на желудок. Впрочем, вообще кормили их довольно голодно, и поэтому немудрено, что, возвращаясь со своего полуденного обеда в классы, они принимались клянчить у богатых товарищей, чтобы они с ними поделились своими домашними бутербродами и пирожками со вкусной начинкой. Свои бутерброды, над которыми каждое утро трудилась мамочка, я отдавал без всякого сожаления; во-первых, я знал, что, когда вернусь домой (около трех часов пополудни), то найду там оставленный для меня настоящий завтрак с кофием, с пирожными, а затем, я брезгал всем, что приходило в соприкосновение с чем-либо гимназическим — и даже брезгал своими руками, которые пачкались чернилами, от засаленных столов, больше же всего — от пожатия десятков нечистоплотных и потных рук. Моя брезгливость доходила до того, что придя домой, я не только основательно мылся, но даже менял форменную одежду на домашнюю, только бы не слышать тошнотворный гимназический запах, которым все на мне было пропитано.
Форма нашей гимназии была двух родов. Парадная, которую в самой гимназии никто не носил, — она была общая по покрою и цвету с формой всех других классических гимназий, т. е. синяя куртка с серебряным шитьем на вороте и с серебряными пуговицами. Эта форма в других гимназиях не имела характера исключительно парадного, ее ученики носили всегда. Классная же одежда в нашей гимназии была более своеобразна: она состояла из черной блузы, обшитой по вороту лиловой тесьмой, спускающейся наискось к кушаку. На пряжке же кушака из белого металла стояли буквы Г.И.Ч.О., и эти же буквы занимали середину того серебряного ажурного значка, между двух дубовых ветвей, которыми была украшена фуражка. Я еще застал в 1880 году фуражку французского образца, т. е. кепи со слегка накрененным к переду донышком и с плоским кожаным козырьком, но в первые же годы царствования Александра III ее заменила фуражка круглая с козырьком полукруглым. Парадную форму сшили мне только к свадьбе брата Михаила в 1884 году; шитье на ней было отменного качества, а подкладка белая шелковая. При всей моей ненависти к ношению формы, этим своим шикарным мундиром я гордился и охотно щеголял в нем в театре.
Юпитером среди педагогического Олимпа был директор Голицынский — тучный, пожилой человек с круглой, как шар, головой, с глазами, прикрытыми очками, вечно съезжавшими с его носа. Под носом торчали белые усы, а щеки подпирались бритым двойным подбородком. Он ходил всегда несколько понурый, с руками, заложенными за спину. Для придачи пущей важности Голицынский взглядывал на учеников поверх очков, и это действительно придавало ему грозный инквизиторский вид. Ученики его побаивались, на самом же деле Голицынский был скорее добряком, и все его грозное величие было напускным. Я отчетливо запомнил и двух классных наставников, из которых одного — маленького, черномазого, с густой, плохо чесаной бородой Василия Васильевича Щеглова — я нежно полюбил с первого же дня за его ко мне ласку, а другого — Николая Петровича, длинного, болезненного, вялого с испитым лицом и тоскливым взором — все почему-то презирали. Далее шли учителя математики Цейдлер, Фицтум фон Экштедт и Карпов, русского языка Орлов, латинского и греческого Евгенов, Томасов, позже Мичатек, «француз» Бокильон, «немец» Шульц, каллиграф Шнэ (или Шнель) и, наконец, учитель закона Божьего — отец Палисадов, который был священником принадлежавшей гимназии церкви, соединенной с ней крытым переходом.
Назвал я всех учителей вместе, но, разумеется, преподавали они в разное время и в разных классах. Так, преподавание латинского языка начиналось только с первого класса, и я, в приготовительном, целый год ему не учился; греческий же начинался еще позже — с третьего или с четвертого класса. Из математиков первый по порядку стал нам преподавать добрейший долговязый и близорукий Цейдлер, обладатель самой длинной во всем Петербурге (и притом рыжей) бороды. Он преподавал начальную арифметику, был вообще снисходителен к ученикам, ко мне же в особенности — вероятно, в силу того, что он был братом близкого приятеля моего брата Леонтия (архитектора Владимира Цейдлера). Ходил гимназический Цейдлер враскачку, причем борода его развевалась как флаг. Его через год заменил корректнейший, даже элегантнейший Фицтум фон Экштедт, про которого ходила молва, что он настоящий граф. Его мы не любили за сухость и аристократическую надменность. Ко мне Фицтум относился с оттенком известной светскости, которой отличалось его обращение и с другими представителями «приличного общества» в нашем классе — с Жоржем Бруни, с графом Костей Литке, с братьями Княжевичами. Был и он огненно рыжий, но подбородок по-английски брит, щеки же его были украшены бачками-котлетками. Мне Фицтум скорее нравился, потому что в нем не было ничего типично русского, грубоватого. Это был джентльмен. Зато без симпатии относился я к его коллеге Николаю Афанасьевичу Карпову, грубому, заносчивому, придирчивому человеку. Этот Карпов, однако, впоследствии обнаружил значительные административные таланты, и это он с успехом сменил Голицынского на посту директора гимназии.
Не знаю почему, отсутствием всякой симпатии среди гимназистов пользовался учитель русского языка Орлов. Имени и отчества его я не запомнил, вероятно, потому, что они ничего характерного в себе не имели, но прозвище, данное учениками, — Скула — ему подходило вполне, и я его запомнил. Он действительно иначе не говорил, как улыбаясь слащавой приятнейшей улыбкой во весь обложенный седой бородой рот; это выражение не сходило у него и тогда, когда он ставил двойки, единица и нули или когда он просил кого-либо из учеников встать лицом к стене. Такое несоответствие между приятностью улыбки и причиняемыми Орловым неприятностями и создало ему репутацию человека фальшивого и лицемерного. Надо отдать Орлову справедливость, что он не выделял и своего сына, учившегося вместе с нами. Не раз получал вообще прескверно учившийся Володя Орлов по русскому языку единицы и нули, не раз, в назидание прочим, папаша-педагог заставлял его в течение четверти часа любоваться уныло загрязненной стеной… Меня несколько обижало то, что Орлов никак меня не выделял; даже тогда, когда я считал, что я ему ответил на пятерку, он, ставя четверку, ничем мои успехи не поощрял.
Латинский язык мне сначала не давался — несмотря на то, что мне, знавшему французский, было сравнительно легко заучивать слова и строить фразы. Не давался же он мне по вине учителя-чеха. С виду учитель мне скорее нравился, так как я находил в нем какое-то сходство с Шекспиром, а лицо Шекспира, благодаря комбинации оголенного лба и заостренной бородки, мне казалось необычайно красивым. Но на этом сходство господина Евгенова с автором «Гамлета» и «Бури» кончалось. Был же он если и не злой, то бестолковый и в педагогическом смысле недаровитый человек. Он вечно суетился, часто гневался, а когда гневался, то терял самообладание, и его и без того дефектное произношение русского языка становилось комичным. При основательных, вероятно, знаниях, он часто путался, сбивался и в этих случаях обрушивался на учеников. Но мы были уверены, что Евгенов в душе добряк, а потому, когда он собрался вернуться к себе на родину в Прагу, и в честь него было устроено прощальное сборище в актовом зале, то не только он сам, произнеся свою последнюю речь, прослезился, но и все ученики были тронуты, многие даже всплакнули.
Лишившись Евгенова, мы, однако, оказались в выигрыше, ибо его заменил Николай Николаевич Томасов — единственный из учителей гимназии, которого я не только полюбил, но к которому и исполнился глубокого уважения. Между тем, это был совсем молодой человек, необычайно тощий, некрасивый, сдержанный, державшийся с той суховатой корректностью, которую вообще дети не очень любят. Привлекало же меня к Томасову не только его болезненный, несколько чахоточный вид (напоминавший мне незабвенного мосье Станисласа) и не только его сходство с Гоголем, что особенно сказывалось в его остром носе и в его жидких белокурых усиках, но то, что он необычайно быстро помог мне (и многим из моих товарищей) преодолеть трудности латыни и тем самым как бы приотворил двери, вводившие в понимание классиков. Этому усвоению латыни посредством форсированного чтения способствовал и мой домашний репетитор В. А. Соловьев, о котором я уже упоминал выше. Впрочем, Соловьев действовал скорее каким-то, я бы сказал, внушением. Он заставлял меня читать Цезаря и Овидия, как читают роман, без словаря, бегло, стараясь вникнуть в смысл фразы по контексту, а также по сходству латинского с другими мне знакомыми языками. Уже через две недели такого форсированного натаскивания я действительно читал названных авторов, причем сам Соловьев ограничивался одними краткими пояснениям. Я очень жалею, что впоследствии так и не собрался познакомиться с литературными работами Соловьева, подписывавшегося «Андреевич», и, если я не ошибаюсь, принимавшего деятельное участие (он чуть ли не состоял редактором?) в редактировании одного из значительных толстых прогрессивных журналов («Русского богатства»). Если он и в отношении своих читателей действовал с такой же энергией и насилием, как когда-то в отношении меня, то для меня становится понятным тот авторитет, которым он пользовался в известном кругу. Однажды мне по делу пришлось посетить его в редакции, но он с трудом вспомнил про нашу давнишнюю кратковременную дружбу, а от его заразительной веселости не осталось и следа. Он мне показался типичным представителем серьезной и передовой журналистики, которая, в общем, была мне далеко не по нутру.
Увы, Томасова сменил в четвертом классе снова чех. На них у нас тогда был большой спрос: они всегда соединяли солидную немецкую ученость с довольно быстрым усвоением родственного для всех славян русского языка. Эта смена оказалась для многих, к для меня в особенности, роковой. Он преподавал латынь и греческий, но преподавал так скверно, с таким отсутствием всякой чуткости к психологии учеников, он был так свиреп и так глуп, что не только я не постиг благодаря Мичатеку греческого языка, но забыл и возненавидел латинский. Такой педагог, как он и многие ему подобные, были причиной того, что гимназисты в те времена ненавидели и тогдашнего министра народного просвещения графа Дмитрия Николаевича Толстого, в котором все видели главного виновника своих страданий. У Мичатека все сводилось к тупому зазубриванию, причем никаких отступлений от того, что стояло в книжке, он не допускал. Томасов, напротив, как бы даже поощрял нас на фантазирования — пользуясь ими, чтобы разъяснять особенности и самую прелесть латыни. Очень скоро мои отметки в журнале по древним языкам стали пестреть единицами и нулями. Мама и папа недоумевали, откуда такая странная перемена в моих успехах, а от других родителей на Мичатека поступали даже жалобы директору, но это не помогало. Злющий чех внедрился, как крепко засевший клещ, причем безнадежная глупость его не допускала мысли, что он ошибается, что взятый им курс неправилен. При этом Мичатек был необычайно уродлив, и физиономия его могла бы отлично служить моделью для какого-либо кошмарного монстра. Косой, с кривым ртом, с отвратительной, хлопьями росшей грязно-серой бородой, с нескладными движениями рук и ног, он напоминал каких-то жутких нищих.
Хуже всего было то, что мои неуспехи по классическим языкам обескураживали меня вообще, деморализовали меня. Мое школьное нерадение дошло, наконец, до того, что я (вместе с несколькими другими, мальчиками) не был допущен до весенних экзаменов. Не желая, чтобы я прогулял целый год, родители решили тогда взять меня из гимназии «Человеколюбивого общества». Именно в этом Мичатек и оказался роковым: не будь его, я, вероятно, до конца курса учения не покинул бы казенной гимназии, не поступил бы в частную гимназию Мая, не подружился бы с Философовым, с Сомовым, с Нувелем, далее не произошла бы моя встреча с кузеном Философова — Дягилевым и т. д. и т. д.
Вернусь к моим учителям из гимназии «Человеколюбивого общества».
Французскому языку обучал нас мосье Бокильон. Совершенно естественно, что я, уже свободно говоривший по-французски, здесь оказался вне конкурса. Даже другие мальчики «приличных семейств» — оба Княжевича, Бруни и граф К. Литке, — не могли в этом со мной тягаться. Кроме балла «5», я других отметок на уроках французского языка не получал. Но, пожалуй, если бы я и не был силен во французском, то и тогда мосье Бокильон относился бы ко мне с особым благоволением. Ведь кроме своей педагогической деятельности, он был поставщиком французских и вообще иностранных вин, и в качестве такового каждый год являлся к нам для получения очередного заказа. В те времена (до конца 80-х годов) не принято было пить русское вино и тем паче угощать им гостей; напротив, и у нас, и у многих наших знакомых вино выписывалось бочками из Франции и разливалось по бутылкам на дому. Что касается мосье Бокильона, то он вполне оправдывал оказываемое доверие. Выдержанное у нас в бутылках красное вино «Сент-эмилион» приобретало с годами изумительный букет, а попивая «Фин-шампань» отдаленных годов, знатоки щелкали языком и, держа рюмку на свет, любовались янтарно-золотой влагой. Доставлял нам мосье Бокильон и превосходную мадеру.
Заодно расскажу здесь и про самую процедуру разливки вина. Происходила она у нас в папиной чертежной, и на эти дни эта комната освобождалась от всей лишней мебели, а вместо нее устанавливались три или четыре бочки, из которых одна, с красным вином, была чрезвычайных размеров. Сюда же вносилось и все нужное для предстоящей операций: корзины с порожними бутылками, большой ушат воды, в котором мокли пробки, и т. п. Священнодействие начиналось с утра. Человек, отряженный соседним винным погребом Фейка, являлся со своей хитрой машиной для закупорки и с краном. Со вставления его в бочку и начинался обряд. Момент, когда образовывалась дырка в бочке, а из нее, как кровь из чудовища, дугой начинала бить красная струя — был особенно волнующим. Разливщик, все жесты которого отличались уверенностью, сразу останавливал кровотечение вставлением крана, после чего дальнейшее шло с надлежащей методой, и на это было очень весело смотреть. Быстро-быстро влага поднималась в подставленную под кран бутылку, одна наполненная бутылка сменялась пустой, и все устанавливались на полу вокруг оператора. Почти от каждой бутылки разливщик сбрасывал толику вина в специальный сосуд, этот сосуд шел затем на кухню. Самым же интересным была закупорка посредством принесенного инструмента. Полные бутылки вставлялись в особое стойло, к горлышку прилаживалась пробка, оператор нажимал рычаг, и трах — пробка уже прочно сидела в стеклянном кольце. После этого оставалось надеть поверх пробки блестящую разноцветную капсюльку мягкой жести и наклеить на бутылку одну из тех этикеток, которые лежали в прилаженной к бочке коробке. Наш «Сент-эмилион» украшался в былое время эффектной овальной картинкой, изображавшей золотого льва на красном фоне, но впоследствии мода на такие украшения прошла, и этикетки стали простыми, белыми, с каллиграфически написанным названием. Поданные в особо торжественные дни, такие бутылки со львом вызывали всегда восторг дяди Миши Кавоса и моего брата Леонтия: ведь эта этикетка означала, что вину по крайней мере десять, а то и больше лет… Под вечер, после того, как все вино было разлито, являлся сам мосье Бокильон и, попробовав от каждого вина по рюмочке, с авторитетом произносил: «Отлично!» — после чего оставалось разместить бутылки по разным, специально для того устроенным в стенах квартиры и в погребе помещениям.
С разливом вина у меня связаны и два личных, довольно позорных воспоминания. Именно дважды во время этих разливов я испытал опьянение до полного одурения. Пользуясь тем, что бонна и мама оставили меня в чертежной любоваться работой разливщика, я стал подставлять ему, после наполнения каждой бутылки, свою игрушечную рюмку с тем, чтобы излишек попадал не в специальную посуду, а, в мою рюмку, и хоть это и замедляло работу, однако разливщик благодушно потворствовал мне. Рюмочка была крошечная, с наперсток, однако, выпивая одну за другой, я стал пьянеть, а на двадцатой или тридцатой рюмке мною уже овладевало то чудесное чувство потусторонности, для получения которого люди часто и предаются культу Бахуса. Увы, за этим чувством следовало другое — весьма неприятное: все начинало быстро вертеться вокруг, а сам я оказался уже лежащим на полу.
Первое такое опьянение, происшедшее осенью 1881 года, прошло сравнительно благополучно: меня вырвало, и я сейчас же пришел в себя, но второе имело более тяжелые последствия. Я пролежал несколько дней в постели, и одна мысль о вине ввергала меня после того в мучительные повторные приступы тошноты… Из этого можно заключить, что я вообще не рожден быть пьяницей, что просто моя натура не выдерживает. Эти два случая меня отвратили от вина — однако не настолько, чтобы я сделался каким-то адептом полной запретности. Вино — вещь чудесная и поистине божественная, но надо знать меру в пользовании им. Сейчас я спрашиваю себя, как могли старшие допустить, чтоб уже раз случившееся могло повториться? Вероятно, во второй раз, забыв о первом предостережении, я хитростью проник в разливочную и напился умышленно, просто из озорства, тогда как в первый раз я напился нечаянно. Любопытно еще в этот раз и то, что, уже лежа почти в беспамятстве на полу, я стал во все горло выкрикивать всякие бранные и самые неприличные слова, которым я только что научился у гимназических товарищей. Воображаю, какой получился конфуз! В полутумане я еще видел, как хихикает Степанида, как гувернантка фрейлейн Штрамм делает вид, что она ничего не понимает, и как мамочка, подавляя смех, пытается сделать строгое лицо и остановить отвратительное словоизвержение. Сейчас же вслед за последним проблеском сознания я погрузился в мрак небытия и снова вернулся к жизни только тогда, когда с забинтованной головой и с омерзительным вкусом во рту лежал у себя на постели. Этот второй урок, в котором косвенно повинен учитель французского языка мосье Бокильон, был и последним.
Как это ни странно, но с персоной гимназического учителя немецкого языка у меня тоже связано воспоминание домашнего характера. Шульц был русский немец и едва ли не лучше говорил по-русски, чем по-немецки, но физиономия и вся повадка были у него тевтонские, и его манеры и обычаи еще более соответствовали классическому представлению о грубом, нахальном и лукавом германце… У меня к немцам вообще, несмотря на все политические события, сохранилось и по сей день самое симпатичное отношение: я очень хорошо чувствую все то, что есть чарующего в немецкой натуре, хотя бы к этому чарующему часто бывает примешана доля неискоренимой грубости. Но этого немца Шульца, его широкую рожу, окаймленную густой рыжей бородой, его ярко-красные волосы, ежиком торчавшие на голове, его неестественно бодрый тон, его вечную бодрость я ненавидел, несмотря на то, что и у него (вполне естественно) я тоже получал одни пятерки. Впрочем, и мои товарищи терпеть не могли Шульца за склонность к ябедничанию, за пресмыкательство перед начальством, за шпионство, назойливые придирки и т. п. И вот этого самого Шульца я получил себе совершенно неожиданно в менторы.
Случилось же это ранней весной 1884 года, когда мне было около четырнадцати лет. Это тогда со мной приключился в классе один из первых моих любовных кризисов. Девочка, в которую я был тогда влюблен и которая сначала как будто отвечала моим чувствам, затем переценила свое отношение ко мне и всячески стала выказывать полное ко мне равнодушие. Все это было нечто очень детское и довольно-таки нелепое, переживал я свое несчастье с настоящими страданиями. К тому же как раз тогда зачитывался романами Дюма и, кроме того, только что совершенно сошел с ума от прочтения «Призраков» Тургенева. Мои любовные терзания сопровождались подобием галлюцинаций, я пробовал вызывать духов, которые должны были явиться мне на помощь, и, разумеется, некоторая доля подлинности во всем этом тонула в целом море самовнушения и самообмана.
Дело дошло до того, что несколько раз у меня, при мысли об измене той, к которой тянулось все мое существо, делались припадки отчаяния. Ни с того ни с сего я заливался слезами, и мне казалось, что вот-вот я умру от горя. Один из таких приступов и случился как раз на уроке Шульца. Вызванный отвечать урок, я вдруг разрыдался и повалился на пол как бы в беспамятстве. «Немец» переполошился ужасно; при помощи других мальчиков он постарался меня привести в чувство (до настоящего обморока было далеко), затем вызвался сам отвести меня домой. Дома меня уложили в постель и обложили компрессами, отчего я размяк еще более и окончательно поверил, что болен любовью безнадежно и что мой конец близок. В естественной тревоге мамочка обратилась к Шульцу за советом, а он сразу ухватился за представившуюся оказию и уверил ее, что вся беда в том, что я не имею достаточно моциона, что я не делаю гимнастики и что я совсем не гуляю. Тут же Шульц предложил свои услуги, чтобы именно посредством моциона вывести меня из моего состояния, а мама с радостью за это предложение ухватилась. Настоящую же причину моих (наполовину воображаемых) страданий я при этом тщательно скрывал.
Но не так-то легко было преодолеть мою ненависть ко всяким бессмысленным, бесцельным упражнениям. Из гимнастики сразу ничего не вышло: я чувствовал к ней определенное отвращение, и весь проектировавшийся моцион свелся к прогулкам. Три раза в неделю Шульц за приличное вознаграждение являлся к нам и я с ним отправлялся гулять пешком по улицам. Сначала мне это даже нравилось, ибо я показывал Шульцу достопримечательности Петербурга (благодаря папе я уже начинал их знать и любить, а к тому же у меня вообще сильно сказывался уже тогда какой-то инстинкт пропаганды), однако, не встречая в Шульце настоящего отзвука, я вскоре охладел к этому бесплодному путеводительству. Иногда я заставлял Шульца войти в какую-либо церковь или в музей, но он уже через две минуты обнаруживал непреодолимую скуку, к тому же его честную немецкую натуру, видимо, начинали мучить угрызения совести. Ведь ему платили деньги за то, чтобы я с ним маршировал, дыша свежим воздухом, а не для того, чтобы топтаться в закрытых помещениях. А тут случился еще и такой глупейший казус — я его завел в открывшийся где-то на Невском проспекте паноптикум, в котором целое отделение было посвящено ужасающим по натуральности пластическим картинам разных венерических болезней! Шульц, по своему тупоумию, не сразу разобрал, в чем дело, и я успел осмотреть половину этих ужасающих экспонатов, когда он спохватился и в ужасе бежал из столь пагубного места. Зато какое удовольствие я испытал, рассказывая об этом случае дома, при всех, за обедом. Мамочка сочла нужным объясниться с моим ментором, он же сдуру впал в амбицию. Прогулки после этого прекратились, а к тому же казалось, что они уже успели принести всю ожидавшуюся от них пользу. Никто из взрослых не догадывался, что перемена в моем настроении и прекращение моих кризисов произошли вследствие того, что между мной и предметом моего обожания снова водворились полный лад и согласие и что из несчастнейшего человека я снова превратился в счастливейшего.
Наиболее живописной фигурой из всего учительского персонала в гимназии был, несомненно, отец Палисадов, с которым читатель уже познакомился в моем рассказе о том воздействии, которое проповедь этого батюшки имела на нашу домашнюю театралку Ольгу Ивановну. Теперь же надо сказать два слова о Палисадове как об учителе закона Божьего. Правда, в качестве католика я не состоял среди его учеников — и я мог бы даже вовсе и не присутствовать на его уроках, но эти уроки были до того занимательны, что первые два года я, вместо того, чтобы проводить эти часы вне класса в рекреационном зале, предпочитал оставаться в классе на своем месте.
Занимательность и даже забавность уроков отца Палисадова заключалась в том, что он вел их сплошь в юмористическом тоне. Из того Савонаролы, каким он являлся в церковных проповедях, он превращался в шутника, в подобие капуцина из «Лагеря Валленштейна». Одна из его забав заключалась в том, что не знавший своего урока ученик мог всегда вымолить себе пощаду (заключавшуюся в том, что вместо единицы ставилась в журнале тройка) — посредством подчинения себя своего рода епитимьи. Заключалась же епитимья или в простаивании на коленях у кафедры в течение пяти минут, или в том, что мальчик подставлял свою голову священнослужителю, а тот, схватив ее за волосы, ударял ею довольно сильно по кафедре, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе за то, что у Адама был сын Ной», — или «за то, что Авраам спасся из Содома». При этих экзекуциях (не очень жестоких; за каждый урок их было пять или шесть) весь класс неистово хохотал; смеялся, делая гримасы, и наказуемый.
Несколько предосудительнее была склонность отца Палисадова к скабрезностям, иногда даже довольно рискованным. Он любил задавать вопросы вроде: «Мог ли у Адама быть пуп?» — или же, складывая свою бородатую физиономию в сатирическую улыбку, делал прозрачные намеки на то, в чем выразилось первое грехопадение, или на то, что произошло между Авраамом и Сарой после посещения трех ангелов и т. п. Едва ли эти отступления от приличествующего этим урокам тона можно было счесть за нечто образцово-педагогическое или хотя бы за свидетельство хорошего вкуса, но зато популярность отца Палисадова в гимназии именно они и закрепляли.
Теперь несколько слов о моих гимназических товарищах. Но тут я буду краток. О том мальчике, которого я в течение двух лет мог считать своим другом, — о Володе Потапове, я уже говорил, а кроме него, друзей я себе среди гимназистов так и не приобрел. Одно время намечалась было дружба с двумя Княжевичами. Они были милейшими и очень благовоспитанными мальчиками. Несмотря на то, что они были близнецами, они представляли собой поразительный контраст. Единственное сходство между ними была худоба и легкая склонность к заиканию, но старший, Володя, был определенный блондин с удивленным или рассеянным выражением на некрасивом, но очень симпатичном лице, младший же, Коля, был смугл, как арапчонок, и в ласковых и лукавых его черных глазах прыгали чертики. Наша дружба завязалась на том, что часть пути из гимназии мы иногда проделывали вместе (Княжевичи жили в собственном доме на пересекавшей нашу Никольскую Офицерской улице), еще более на том, что у нас были какие-то общие духовные интересы. Поощрительно к этой дружбе относились и наши родители. Тем не менее, я только один раз побывал у них, а они ни разу — у нас, а через два года после их поступления в гимназию оба брата были переведены в Лицей, куда и я сам за ними стал проситься. Изредка впоследствии я еще встречался то с Володей, то с Колей, но уже мы обращались на «вы», и наши жизненные дороги совершенно разошлись.
Володя посетил нас в 1915 году, когда я с семьей жил в Судаке; в это время он был все такой же симпатичный, но уже и очень почтенный предводитель дворянства, Колю же я встречал изредка на светских собраниях. Эффектная форма лейб-гусара очень шла ему, но на его лице, в общем мало изменившемся, я уже не видел прежней веселости. Николай Княжевич был адъютантом Николая II, и его имя встречается в рассказах о последних годах царствования несчастного государя. Доживал свой век Н. Княжевич недалеко от Парижа, в «Русском доме» Сент-Женевьев де Буа, где он коротал свой досуги, исполняя роль садовника на кладбище. Недавно (писано в 1950 г.) я узнал, что Коля Княжевич скончался, оставив по себе память прямо святого человека. Меня в это время не было в Париже, и я не мог проводить своего товарища детства до могилы.
Почти то же приходится сказать о моей дружбе с двумя Литке — Саней и Костей. И это были очень приятные, милые, благовоспитанные мальчики. Мне несколько импонировало, что они графы, но они не кичились своим титулом и были необычайно ласковыми и простыми ребятами. С Саней я потом встречался часто, когда он уже был студентом, а я готовился стать таковым, но затем мы почти совершенно потеряли друг друга из виду — и это несмотря на то, что Литке состояли в каком-то родстве с Философовым, и Саня иногда появлялся на Галерной в дни семейных торжеств. То, что, кроме того, он был в родстве и с П. И. Чайковским, казалось, должно было бы способствовать моему сближению с человеком, которому ничего не стоило меня свести с обожаемым композитором, однако, как будет сказано дальше, я никогда не стремился лично знакомиться со своими кумирами. Теперь же не один десяток лет как граф Александр Николаевич покоится в земле, скончавшись сравнительно в молодых годах.
Музыка могла бы подружить меня с еще одним товарищем — с Жоржем Бруни, и это тем более, что между семьями Бенуа и Бруни существовали стародавние очень близкие отношения, носившие даже оттенок чего-то родственного. Родная тетка Жоржа — Тереза Федоровна Бентковская (та самая Терезина, которой посылал мой отец свои чудесно иллюстрированные письма) была одной из немногих дам, с которыми мама сохраняла еще в детстве завязавшуюся дружбу. Отец же Жоржа (сын знаменитого живописца Федора Антоновича Бруни) — Жюль с полным основанием славился на весь Петербург как гениальный импровизатор (он являлся в некоторой степени соперником моего брата Альбера), и этот дар мой сверстник унаследовал от отца. Все же из моей дружбы с Жоржем ничего не вышло. Этот высокий, стройный и очень красивый мальчик с типично итальянской наружностью слишком отставал от меня в умственном развитии. Бедный Жорж, благодаря своей простоте, служил даже посмешищем в нашем классе, мишенью разных злых шуток со стороны озорников-товарищей. Говорят, родители в раннем детстве опасались, что Жорж просто вырастет кретином, но своевременно были приняты какие-то чрезвычайные педагогические меры, и постепенно удалось научить его говорить и читать не только на русском, но и на других языках (по-французски он даже любил изъясняться, причем неизменно принимал при этом слегка фанфаронский вид). Когда ему минуло десять лет, родители решились поместить его в гимназию. Но следы какого-то странного умственного дефекта оставались у Жоржа; учился он отчаянно плохо, а когда его вызывали отвечать урок, то весь класс хохотал, до того уже комично он выкладывал свою неспособность что-либо усвоить и хотя бы вызубрить. Для меня было очевидно, что бедняжке хотелось со мной сблизиться, но как мог я дружить с мальчиком, который был так далек от всего, что меня занимало и интересовало? Что же касается до его музыки, то тут, пожалуй, те восхваления, которые уделяли импровизации Жоржа его кузены — все трое Бентковских (старший, Альфред Карлович, был сам удивительно музыкальным человеком и даровитым импровизатором), то это скорее ущемляло мое самолюбие и вызывало во мне чувство зависти, столь знакомое в детские годы. Несомненно, что импровизации Жоржа служили известным отводом для страданий родительского самолюбия и компенсацией за то, что во всем прочем трудно было им гордиться. Впоследствии из Жоржа вышел вполне нормальный человек. После того, как отец его, знаменитый Жюль Бруни спустил не только все наследство, полученное от отца, но и большое приданое свое жены (урожденной Пель), Жорж женился и не без достоинства стал играть роль уважаемого отца семейства. Виделись мы, однако, редко и больше на улице. Его музыкальные способности нашли себе применение в том, что он по воскресеньям играл на органе в Швейцарской церкви на Большой Конюшенной.
Об остальном классе у меня осталось смутное и далеко не отрадное впечатление. Уже с самого начала я почувствовал к массе этих шалунов и дуралеев известное презрение, но оно только еще усилилось и достигло настоящего страдания, когда с осени 1881 года в наш первый класс были определены человек двенадцать настоящих, мы бы теперь сказали, — хулиганов. Это были ученики какого-то Ивановского училища, воспитывавшиеся полными пансионерами на казенный счет. Почему их перевели в гимназию Ч.Л.O. и с какой стати наш класс подвергся их поистине тлетворному влиянию, это осталось загадкой, но что это были действительно разбойники и будущие преступники, — стало ясно с первых же дней прибытия к нам дикой и во всех смыслах развращенной оравы. К тому же это были грязные, в самом прямом смысле, мальчики, от которых шел неприятный запах. Со мной рядом посадили по другую сторону от Потапова — коренастого, удивительно уродливого хохла Дзубенко, который чуть ли не с первого дня принялся за пополнение моего просвещения в очень специальном смысле. От него я узнал целый словарь площадных выражений. На русском языке они отличаются исключительной звучностью — недаром Достоевский посвятил несколько страниц своего «Дневника писателя» главному среди них. От него же я узнал все то, что для меня до тех пор было тайной. Другие мальчики производили тут же на глазах разные игры, курили, пряча при входе учителя в класс зажженную папиросу в рукав, пили из горлышка водку, которую держали в парте за книгами или в печке, с ожесточением дрались и с удовольствием умыкали в свою пользу все, что плохо лежало.
Постепенно они терроризировали весь класс, и особенно доставалось от них одному крошечному, но необычайно усердному и способному еврею — Гурвичу, бывшему у нас первым учеником, но державшемуся на большой дистанции от товарищей. Любимым мучительством ватаги диких башибузуков было «крещение жида», для чего устраивалась целая церемония с пением богохульных гимнов. Кончалось это тем, что однажды Гурвичу вымазали все лицо чернильными крестиками, но смыть эту татуировку сразу не удалось. В таком виде несчастный предстал перед учителем, а тот повел его показать директору. Башибузуки были наказаны, и зачинщики даже снова переведены куда-то. Но брошенные ими семена взошли на благодарной почве, — и это с тем большей легкостью, что все же часть ивановцев осталась.
Я покинул гимназию весной 1885 года Главной причиной тому было, как я уже говорил, преследование, которому я подвергался со стороны гнусного Мичатека, и получившаяся вследствие того моя полная деморализация. Деморализация привела к тому, что я совершенно запустил не только древние языки, но и все другие предметы, вследствие чего меня оставили за неуспехи на второй год без экзаменов. Это было слишком постыдно, и мне без труда удалось убедить маму, чтобы меня взяли из казенной гимназии и перевели без потери года в какое-либо частное училище. Я мечтал о Лицее — плененный тем, что это было нечто аристократическое и «шикарное». По окончании Лицея я уже видел себя на дипломатическом поприще… Но папа решительно воспротивился этой «глупой фанаберии» (он неохотно согласился и на перемену школы), и после наведения разных справок выбор пал на немецкую гимназию Мая — правда, находившуюся от нашего дома на расстоянии двух с половиной километров, по ту сторону Невы, но зато рекомендованную разными знакомыми и в особенности милым Обером как образцово поставленное заведение. Туда, благополучно сдав осенью того же 1885 года вступительные экзамены, я и был определен.
ГЛАВА 12 Заграница
Не знаю как сейчас в России относятся к загранице, но в моем детстве, в Петербурге и в нашем кругу — заграница представлялась чем-то в высшей степени заманчивым, каким-то земным раем. О загранице мечтали стар и млад, и едва ли младшее поколение не более сильно, нежели старшее. Ездили за границу все, и даже люди с очень скромными достатками, и даже те, кто из патриотизма готовы были все чужеземное хаять. Весьма многие ездили за границу лечиться, но часто и это бывал только предлог, чтобы перевалить за границу и очутиться в одном из таких заведомо приятных мест, как Карлсбад, Мариенбад, Эмс, Баден-Баден или Висбаден, в которых «столько чудесных прогулок» и в которых собиралось такое «избранное общество»… Мечтал о загранице и я, когда еще был крошечным карапузом и имел самые смутные представления о географии. Одной из забав моего отца, когда мне было 3–4 года, было подымать меня высоко над своей головой и спрашивать: «Ну что, видишь Москву?» Я делал усилия, вглядываясь пристально, и хоть бы это происходило где-либо в Петергофе, в конце концов, мне действительно казалось, что я различаю вдалеке какой-то чудесный город.
Из-за границы шли все самые прелестные вещи: рельефные картинки, присылавшиеся из Гамбурга семьей дяди Саши, фантоши, которые бабушка привозила из Венеции, чудесные швейцарские стереоскопические виды, коллекции дяди Кости и т. д. Из Мюнхена шли забавные картинки («Мюнхенер бильдербоген»), из Парижа всевозможные смехотворные, а иной раз и таинственные вещицы. В своем месте я забыл упомянуть о той волшебной книжке, которой я особенно любил изумлять своих товарищей. Она была так устроена, что если ее листать в одном направлении, то все страницы оказывались пустыми. В обратном направлении каждая страница была украшена красиво раскрашенной картинкой. В доме у нас все свободно говорили по-французски и по-немецки, а многие друзья дома были иностранного происхождения, и как раз они казались мне более воспитанными и изящными, нежели русские знакомые. Наконец, папа увлекательно рассказывал о своем пребывании в Риме, в Орвието, в Венеции и в Англии, и хотя это все происходило за тридцать лет до моего рождения, однако рассказы его отличались такой живостью, они были так прекрасно дополняемы его акварелями, что все это представлялось мне близким и современным. Я не сомневался, что, когда я, наконец, поеду за границу, то увижу все таким же, каким видал папа. В Риме ожидал встретить среди непролазных развалин стада буйволов, и я был уверен, что все итальянцы до сих пор одеты так, как они одевались в годы римского пенсионерства папы, иначе говоря, как одеты были те волынщики, которые, по стародавнему обычаю, все еще ходили по петербургским дворам и плясали под заунывные звуки волынки.
Помнятся, наконец, мне и те мечты, которые вызывал во мне издали из Петергофа видимый Кронштадт с цепью его прямо по воде разбросанных фортов. В ясные летние вечера все это отчетливо вырисовывалось на фоне заката. Сидя на мраморной площадке Монплезира, глядя вдаль, где между фортами лежала дорога за границу, туда, куда заходило солнце, я испытывал томительное, сладкое чувство — род ностальгии. В зрительную трубу (в кабинете Петра I в Монплезире стояла огромная такая труба, и придворный лакей, хорошо всех нас знавший, охотно позволял ею пользоваться) эти форты казались уже совсем близкими. Чудно было видеть, как какой-либо большой трехмачтовый корабль, пройдя между ними, удалялся дальше, дальше и наконец погружался за линию горизонта. Этот корабль плыл за границу, в Гамбург, в Лондон, а то еще дальше, в Америку, в страну милых краснокожих и смешных янки. И ах, как мне хотелось оказаться на таком корабле — хотя бы юнгой! Только бы уехать, повидать, что творится там, где, по общему свидетельству, так хорошо.
Я думаю, в тогдашней Западной Европе едва ли можно было бы найти культ иностранщины столь интенсивной, как тот, что царил в России и особливо в Петербурге — в этом «окне в Европу». Город Санкт-Петербург по-прежнему служил перстом его основателя, указующим на то, что должно служить россиянам образцом всяческого подражания. Все петровское и самый дух Петра, витавший по улицам и площадям Петербурга — еще более Петергофа, — вещали, что оттуда, из-за границы, идет спасение. Много было смешного и много было несправедливого в этом поклонении русских чужому; жизнь тогдашней России обладала, в сущности, большой (и даже ни с чем не сравнимой) прелестью, но к этой прелести так привыкли, что ее больше не замечали. О ней скорее можно было слышать восторженные отзывы от заезжих иностранцев — особенно от англичан, но мы этим восторгам не верили и принимали их за вежливые комплименты. С другой стороны, всякие уродливые и дурные стороны российского быта — будь то на улице или дома — лезли в глаза, люди тонкого вкуса не переставали их обличать, находя в этих обличениях своеобразное упоение. Много таких хулителей всего русского было и у нас в семье; к ним принадлежали и дяди Костя, и бабушка Кавос, и дядя Миша, и синьор Бианки, и Саша Панчетта. Напротив, убежденной и чуть комичной защитницей была тетя Лиза Раевская и настоящими ура-патриотами были Зозо Россоловский и мой зять Женя Лансере, за что я их немножко и презирал, убежденный в несомненной ошибочности их оценок. Впрочем, до известной степени защитниками если не всего русского, то весьма многих хороших сторон русской жизни, были и мои родители… но мамочкин патриотизм подвергался осмеянию ее же братьев, а папочкин патриотизм носил явно космополитический характер. Его «приятие России» входило в общую систему его приятия…
Быть за границей казалось мне до того соблазнительным, что как-то не верилось, что когда-нибудь я сам там побываю. И, однако, уже в 1881 году это чудо свершилось! Зато я и вкусил неожиданно представившееся наслаждение, как только в сказках вкушают какие-либо фантастические чудесные лакомства. Продлилось это пребывание за границей всего десять дней, да и эта заграница была не настоящей, так как я оказался не где-либо за пределами государства Российского, а в одном из ее же губернских городов… Но этот губернский город был Варшавой — столицей бывшего Царства Польского! Все население там говорило не по-нашему, одеты были тоже по-иному, а многочисленные церкви не были похожи на наши петербургские православные церкви; не перечесть всего, что с полной несомненностью свидетельствовало о заграничности Варшавы. Вместо наших чумазых Ванек с их дребезжащими дрожками тут были наемные коляски, запряженные парой, с кучером, одетым по-господски; вместо ужасных мостовых некоторые главные улицы были залиты асфальтом, вместо наших грязных бородатых мужиков всюду видел я бритых и опрятно одетых людей. А затем какая прелесть были встречавшиеся на каждом шагу кофейни-цукерни, где так весело гудел и свиристел хлесткий польский говор, где подавался такой нектароподобный кофий со сбитыми сливками и такие соблазнительные булочки и крендельки.
Когда через четырнадцать лет я снова посетил Варшаву, то она произвела на меня далеко не столь приятное впечатление. Я как раз попал в нее, возвращаясь в Петербург из Вены. Сравнение резиденции Франца Иосифа с Варшавой 1894 года оказалось отнюдь не в пользу последней. Мало того, я увидал ее тогда в зимнюю распутицу. В те же июньские дни 1881 года стояла чудесная погода. Одуряюще пахли каштаны и цветы в Саксонском саду, гулявшие пешком или разъезжавшие в нарядных экипажах поляки были действительно не по-нашему элегантны, и даже молоденькие евреи в пейсах, с тросточками в руках и в длинных лапсердаках, были полны сознания своего щегольства. Надо еще прибавить, что мне все тогда показалось каким-то праздничным, потому что мы очутились в совершенно необычайной обстановке. В Варшаву родители поехали с целью навестить своего сына — моего брата Николая, корнета лейб-гвардии его величества уланского полка, — а потому мы почти не расставались с целой ватагой молодых офицеров, эффектно носивших свою красивую форму, не испорченную нововведениями только что вступившего на престол императора и гарцевавших на своих прекрасных гнедых конях. Многие из офицеров при этом были титулованными, и так как все ближайшие друзья Николая в шутку со мной, мальчишкой, выпили при первой же встрече брудершафт, то мне особенно лестным казалось, что я «на ты» и с графом Ф., и с князем Г., и с бароном Д…
Вероятно, совсем иначе на русских офицеров смотрели поляки; для них они являлись ненавистными чужеземцами, чуть ли не притеснителями, но для моего детского глаза это не было заметно, тем более, что и среди друзей нашего необычайно общительного Николая было немало и поляков (и тоже титулованных). Все они вместе смешивались для меня в одну компанию — веселых, приветливых, необычайно ласково ко мне относившихся людей и к тому же — людей заграничных! И еще прелестно было то, что стоял уланский полк в Лазенках, в этой очаровательной загородной резиденции польских королей. Сильнейшее впечатление произвела на меня тогда в Лазенках беломраморная группа на мосту, изображавшая Яна Собеского на коне, попирающем турка. В совершенный же восторг я пришел в Лазенках от античного театра, несменяемая каменная декорация которого под открытым небом представляла руины, а места для зрителей возвышались амфитеатром насупротив — через узкий пролив.
Самые казармы уланов были невзрачны: низенькие, однообразные, симметрично расположенные каменные домики без всяких украшений, но и в этих казармах, с моей тогдашней точки зрения, шла особенная и притом сплошь праздничная жизнь. То один то другой из офицеров нас чествовали обедом или завтраком, причем рекой лилось шампанское — тот божественный напиток, который у нас дома так скупо наливался в узкие бокалы только на свадьбах и крестинах. Снаружи, в садиках, под окнами офицерских квартир, во время этих пиров распевали солдаты-песенники или гремел полковой оркестр. А как «шикарно» было приезжать в Лазейки в открытом (наемном от гостиницы) ландо и из него раскланиваться с попадавшимися навстречу по Уездовской аллее всадниками, многие из которых подъезжали к нашему экипажу и сопровождали его…
Всего десять дней провели мы тогда с родителями в Варшаве, остановившись в «Европейской» гостинице, окна которой выходили на площадь перед Саксонским дворцом, но эти десять дней моей первой заграницы врезались в память так, точно я пробыл в Варшаве несколько лет. Уже одно то, что мы жили в гостинице (это была моя первая гостиница); что нас встречал и провожал эффектный швейцар, что столько сновало всюду лакеев во фраках и горничных с наколками на голове, что комнаты наши были убраны, по тогдашнему обычаю, коврами и тяжелыми драпировками на окнах и дверях, — уже это все складывалось в самое ощущение заграницы.
Моя первая заграница оказалась богатой и чисто художественными впечатлениями. Мои довольно еще беспомощные зарисовки в альбоме, подаренном папой, запечатлели то, что особенно меня тогда поразило. Разумеется, эти впечатления были довольно сумбурными, бессвязными и отнюдь не свидетельствовали о каком-то верном вкусе. Так, например, едва ли не самое сильное впечатление на меня произвел огромный, несуразный черный обелиск, который стоял на площади прямо перед нашими окнами и загораживал вид на открытую колоннаду, соединяющую оба флигеля Саксонского дворца. Этот обелиск был сооружен Николаем I в назидание полякам после бунта 1830 г. и был снабжен золотой надписью: «Полякам, оставшимся верными своему государю». Папа, вообще пиэтетно относившийся к Николаю Павловичу, не одобрял постановку такого монумента прямо «на носу» у поляков и на главной площади польской столицы (еще большей бестактностью было сооружение в позднейшие времена огромного православного собора в византийском вкусе на том самом месте, где прежде стоял обелиск (перенесенный в сквер у одной из боковых улиц). Я ненавидел этот собор, хотя он и был построен моим братом Леонтием, ненавидел, как все, что отзывалось фальшью нарочитого патриотизма. Для поляков же этот собор, кроме того, был свидетельством их порабощения, и ненависть к нему выразилась в том, что собор, несмотря на свои колоссальные размеры, был сразу около 1920 г. снесен, как только Царство Польское возобновило свое самостоятельное существование.), но мне этот аляповатый, несуразно огромный монумент необычайно нравился. В нем было что-то кошмарное, и это меня больше всего и пленило (вообразите, тупоконечный тяжелый обелиск на ступенчатом подножье, со львами по бокам, и все это сплошь покрашенное в черный цвет).
Вообще меня особенно поразили тогда памятники и то, что их было так много в Варшаве. Импонировал памятник, сооруженный князю Паскевичу (усмирителю все тех же бунтовавших поляков), и такой уютный и вдохновенный Коперник, который сидел перед зданием гимназии, тогда еще не перестроенной в «русском стиле». Но больше всего, даже больше черного обелиска, меня очаровала колонна Сигизмунда — то, что она такая тонкая, что она увенчана тяжелой и вычурной капителью, что на ней стоит с крестом в руках коронованный рыцарь и что к подножию колонны неожиданно прильнули четыре сирены (сирена — герб Варшавы). Эту колонну я потом без конца рисовал на память, и она мне казалась куда интереснее, нежели наша хваленая и все же такая скучная (передаю тогдашнее мое мнение) Александровская колонна. Да и вся площадь, посреди которой стоял Сигизмундов памятник, была в 1881 г. еще необычайно живописна и по-заграничному занимательна. Ее высокие, узкие, иной раз в одно окно, дома с их треугольными завершениями, были совсем такими, какими изображались дома на площадях знаменитых средневековых городов… Тут же неподалеку стоял готический кафедральный собор. Я тогда не понимал, что эта церковь изуродована плохой реставрацией, изуродована до того, что ее подлинная готика стала походить на псевдоготику 30-х гг. Для меня достаточно было того, что это настоящий старинный собор — такой же собор, как те, в которых венчались и погребались любимые мои рыцари, паладины и короли. Внутри в стены его были вделаны изваяния, изображавшие закованных в броню рыцарей, а над могилами кардиналов (настоящих кардиналов!) свешивались со стрельчатых сводов красные шляпы, снабженные переплетенными кистями и шнурами. Это ли было не «загранично»? Одно это разве не говорило, что находишься не у «окна в Европу», а уже в ней самой.
И все же Варшава в 1881 г. была лишь известным преддверием к ней, тогда как уже в следующем году я был осчастливлен превыше всякой меры, побывав в самых подлинных и несомненных заграничных столицах. Мои родители вообще были домоседами и не любили больших передвижений, но тут их соблазнило приглашение дяди Кости принять участие в небольшой поездке по северу Европы, и в течение трех недель мы побывали в Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге и в Берлине. Ехали мы довольно большой компанией — в обществе дяди Кости, его дочери Оли, ее тетки Е. А. Кампиони и моего брата Коли. Таким образом, вместе со мной нас было семь человек, что давало возможность в гостиницах снимать целый ряд смежных комнат, а это придавало всему путешествию (начавшемуся 1 июля прямо по окончании традиционного пира в честь папиного дня рождения) характер какого-то семейного пикника; впрочем, родители не всегда были довольны этим пикниковым характером нашей поездки. Много того времени, которое они и я с ними предпочли бы уделять более подробному обозреванию незнакомых мест, уходило на всякие вечерние чаи, на поездки в загородные рестораны и вообще на тот вздор, который считается приятным препровождением времени. И этого было столько, что то, что удалось увидать действительно интересного, я с папой обозревали как-то урывками, контрабандой, во время утренних прогулок сразу после кофе. Зато эти наши прогулки носили особенно чарующий, слегка конспиративный характер. Мама была в заговоре с нами, и благодаря этому нам каждый раз удавалось улизнуть — и мы оказывались вне досягаемости, когда остальная компания только-только начинала вставать…
На сей раз заграница началась почти тотчас же по выезде из Петербурга — ведь приходилось уже в Белоострове выходить из вагонов, предъявлять паспорта и тащить багаж на таможенный осмотр. А когда утром на следующий день я проснулся и подошел к окну, то поезд мчался по совершенно чуждому пейзажу, среди розовых и довольно высоких гранитных скал. В Гельсингфорсе я изумился собору, несколько похожему на петербургского Исаакия и все же отличавшемуся от него тем, что эта церковь стоит не на плоском петербургском болоте, а высоко над городом, и к нему надо подыматься по колоссальным лестницам. В каком-то загородном ресторане, в котором мы обедали, меня опять-таки привели в восторг обступившие его скалы, розовые, круглые, покрытые тонкими соснами. Настоящее же путешествие началось с момента, когда мы вошли на палубу и расположились по каютам парохода «Фон-Деббельн», совершавшего постоянные рейсы по шхерам между Гельсингфорсом и Стокгольмом. Вот где мне вспомнились романы Фенимора Купера и Жюля Верна. До чего же мне показался прекрасным строгий и все же любезный, «совершенно заграничный» капитан, величественно председательствовавший во время обедов за общим столом и так изящно беседовавший (по-немецки) с соседними дамами. В первый же вечер я объелся превкусными закусками, которыми был уставлен стол. Расположились мы за ним, как только пароход отделился от набережной и Гельсингфорс с его квази-Исаакием и с остроконечным силуэтом русской церкви в порту, медленно поплыли от нас, а «Фон-Деббельн», разбивая волны, устремился вдогонку за спускавшимся к горизонту солнцем.
Хоть я запомнил почти каждый час этого путешествия, однако я не стану здесь передавать всех своих впечатлений. Ограничусь главнейшим, причем главнейшим окажется не то, что было значительным по общепринятой оценке, а то, на что я особенно реагировал. Если бы мне тогда поручили составить путеводитель подобного путешествия, то, несомненно, он представил бы довольно сумбурный набор пестрых и разнокалиберных вещей. Но все же я должен отдать себе справедливость, что мало из действительно достойного ускользнуло от моего внимания, а то, что схватывала тогдашняя, еще совершенно свежая восприимчивость, запечатлелось с такой отчетливостью, что я и до сих пор, без всякого насилия способен вызвать в памяти яркие видения всей поездки и каждого отдельного момента. Мало того, в отношении Стокгольма, в котором я снова побывал в 1914 году, и даже в отношении Берлина, в котором я потом бывал столько раз, я должен признаться, что над этими позднейшими впечатлениями продолжали господствовать впечатления мальчика двенадцати лет.
На пути в Стокгольм, после первой ночи, проведенной в каюте, я весь день простоял на палубе, не уставая любоваться сменой тех пейзажей, которые плыли мимо нас и состояли из трех элементов — из воды, из скал и из сосен. То розовые скалы-островки расступались, и мы оказывались как бы среди широкого озера, то снова они сдвигались и временами так близко подходили к пароходу, что ветви деревьев почти касались его. Большинство этих островков были пустынными и дикими, но иногда на них виднелась серенькая избушка рыбака, и совершенно вблизи можно было разглядеть его хозяйство, а дети бежали за пароходом и обменивались какими-то возгласами с нашими матросами. Очень эффектно в четыре часа пополудни выглянул вдали старинный замок, предвещавший город Або. Это был подлинный средневековый замок, и хотя бывшая резиденция рыцарей служила теперь тюрьмой, однако я все же впился в нее глазами и тут же набросал ее в альбом. В самом Або, где наш пароход простоял часа четыре, папа успел свести меня в древний собор. Меня поразили расписные стекла XIX века, представляющие какие-то события из шведской истории (отказ королевы Христины от престола?), и грандиозное, как мне тогда показалось, старинное надгробие. Выезжая из залива, в глубине которого расположено Або, я снова увидал поразивший меня замок, но уже в лучах заходящего солнца.
Впечатление от Гельсингфорса и Або, от всей их заграничности померкло, когда пароход поравнялся с нарядными, чистыми, точно гранеными набережными столицы Швеции, и когда предстал во всей своей величественности строгий королевский дворец с его террасой-садом, усаженной пирамидальными тополями. От первой же прогулки, совершенной после того, что мы расположились в прекрасном большом отеле у музея и позавтракали (как вкусно, как совершенно по-особенному!), я совершенно обезумел. Сколько тут было садов, сколько цветов в этих садах. И все это мне казалось таким чистым, шикарным. Необычайно изящными казались мне гуляющие в садах, и какую особенную нарядность придавала всему сверкающая сбруя экипажей и белизна бесчисленных спущенных над окнами маркиз. Да и тогдашняя моя страсть к памятникам нашла себе здесь особенное удовлетворение: вот благородный Густав Адольф верхом на величаво ступающем коне (он стоял у моста между двумя одинаковыми, необычайно красивыми зданиями (выдержанная красота этой площади у моста впоследствии была нарушена тем, что одно из двух одинаковых зданий, а именно оперный театр, было перестроено и на месте прежнего здания, такого изящного в своей простоте, выросла одна из тех громадин, которыми в 80-х и в 90-х годах все столицы сочли своим долгом обзавестись в качестве главных оперных театров); вот уродливый Карл XII, тяжело ступающей в своих сапожищах и протягивающий руку туда на восток, как бы завещая потомкам долг мщения за претерпленную под Полтавой обиду; вот облаченный в порфиру Густав III, с трагической кончиной которого я уже был знаком по либретто Скриба в опере «Бал-маскарад». Да всех и не перечислить!
Максимум наслаждения мне доставили два посещения Риддаргольмской церкви и королевского дворца. Первую, готическую, с черным чугунным шпилем на кирпичной башне, живописно обступают капеллы, служащие королевскими усыпальницами, внутри же так жутко горели в глубоких сводчатых погребах десятки свечей, окружавшие не преданные земле гробы с положенными на крышки коронами. Во дворце я пропустил без особенного внимания довольно-таки однообразные и безличные парадные комнаты, зато был польщен, что нас впустили в спальню царствующего короля, в которой не только кровать еще не была сделана, но даже еще стоял перед ней ночной сосуд, что доказывало, что его величество Оскар II всего за несколько минут до того покинул свою опочивальню. Совсем в ином роде было впечатление, полученное от тронного зала. В спальне меня удивила столь мало отвечавшая моему представлению о монархе простота; в тронном зале я снова почувствовал королевское величие. Две исполинские белые мраморные статуи — Густава Адольфа и Густава Вазы стоят здесь по обеим сторонам трона, и тогдашнее впечатление от этих двух колоссов было до такой степени сильно, что я видел их затем не раз во сне.
Подробное изучение Стокгольма под руководством папы происходило на следующий же день, но уже третий день ушел на те обязательные для взрослых развлечения, которые мне доставляли одну только досаду и скуку. К полудню взобрались мы в ресторан на верхушку Мозебаке, откуда расстилается широкий панорамный вид, весь же остальной день ушел на несносные мытарства: чай мы пили в каком-то садовом ресторане, где, к довершению бед, присоединилось к нам несколько петербургских знакомых, обедали же мы за городом и уже в сумерки, так что мне не позволили пуститься на исследование местности, а заставили томиться за нескончаемым табльдотом.
Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял целиком свою старосветскую уютную прелесть, самую атмосферу андерсеновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того старого дома, о котором так поэтично рассказывает мой любимый писатель, а за мутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка и трубочист, а стойкий оловянный солдатик вздыхает по балерине. К тому же Копенгаген был мне вообще уже несколько знаком. В папиной библиотеке хранились два толстенных фолианта архитектурного увража «Датский Витрувий», там я видел и эту площадь, среди которой на выкрутасистом бронзовом коне какой-то король топчет побежденного врага, и этот совершенно необычайный шпиль Биржи, сплетенный из хвостов трех драконов, и башню какой-то церкви, кончавшуюся спиралью вьющейся наружной лестницы, и эту массивную круглую башню, на верхнюю площадку которой можно было подняться хотя бы верхом по круговому пандусу…
Теперь я все это видел наяву. Кроме того, подъезжая на пароходе, я заметил замечательный портовый маяк, увенчанный короной, — вроде того, как был увенчан наш Ораниенбаумский дворец. Особенно мне понравился дворец Амалиенборг, на круглом проездном дворе которого стоит еще один медный королевский всадник; видел я и другие весьма замечательные дворцы и замки, и, наконец, мы с папой посетили то своеобразное здание, в котором умеющие ценить своих великих людей датчане сгруппировали в оригиналах и слепках творения Торвальдсена. Странность этого выстроенного в каком-то архаическом стиле музея подчеркивается тем, что наружные стены его украшены фресками с фигурами на темном фоне — и эти фигуры изображают не богов и не героев, а господ в сюртуках и в цилиндрах, представляющих сцены из жизни Торвальдсена… Перед красотой же изваяний «датского Фидия» я пришел в совершенный восторг; а особенно меня порадовал уже знакомый по Варшаве Коперник, которого я теперь видел не издали на высоком пьедестале, как там, а в непосредственной близости. Кое-что я запомнил и об остальных коллекциях музея, особенно те простые сценки из жизни, на которые обратил мое внимание папа и среди которых была картина, изображающая сборище веселых художников в каком-то итальянском кабачке. Некоторых из них папа знавал в Риме лично и мог их мне назвать поименно. Это та картина, на которой художник, между прочим, решился изобразить в курьезном ракурсе тень на полу от протянутой руки одного из пирующих.
К сожалению, в Копенгагене последний вечер ушел опять на нечто такое, от чего я бы охотно отказался. Как могла нехудожественная часть компании отказаться от посещения знаменитого сада Тиволи? Прокатившись после обеда в колясках по ближайшим окрестностям столицы Дании, мы и отправились в это увеселительное заведение, а там прохлаждались какими-то напитками, слушая совсем неинтересные музыкальные номера и поглядывая на каких-то акробатов. Стоял мягкий, нежный вечер… Как бы я предпочел посвятить его посещению близлежащих замков, среди которых меня особенно манил Эльсинор, знакомый по «Гамлету», печальная история которого мне была хорошо известна. В тот же вечер мы погрузились на пароход и к утру прибыли в Киль. Папа в ожидании гамбургского поезда не пожелал упустить случай осмотреть и этот город, и от прогулки по нем в ранний предутренний час у меня сохранилось очень отчетливое воспоминание. Несомненно, с тех пор Киль, превратившись в грандиозный военный порт, утратил свой прежний характер, тогда же это был скромный провинциальный городишко, с ухабистой мостовой, с островерхими домами, которые только-только начинало золотить восходящее солнце.
В Гамбурге нас ждали родственные объятия. Проживавшая в своем небольшом особняке вдова дяди Саши (брата папы) тетя Мари и ее четыре дочери буквально затискали меня, зацеловали и сразу же задарили всякими, издавна припасенными для этого случая, подарками. Самое это погружение в чисто немецкую уютность оставило во мне наилучшие воспоминания. Сердечность приема, незатейливый благодушный юмор, царивший при всех беседах и на семейных обедах, самая старомодность обстановки, украшенная лишь несколькими художественными предметами, доставшимися «гамбургским» от деда Бенуа, — все это обладало необычайной прелестью.
Завершением гамбургской идиллии явилась прогулка на пароходе в местечко Бланкензее. Против этого я не протестовал, тем более, что вожаком экспедиции была пятнадцатилетняя кузина Клара, в которую я вздумал чуть-чуть влюбиться. И тут все носило уютнейший характер. Особенно же весело было за прекрасным, изобиловавшим морской снедью обедом, который мы съели в простеньком ресторанчике, стоявшем среди рощи на самой макушке холма, откуда открывался чудесный, далекий вид на Эльбу.
Впрочем, и от самого Гамбурга с его прудами, с его высокими готическими церквами (одна из этих церквей, Николаскирхе, особенно заинтересовала моего отца. Он еще помнил прежнюю церковь, которая погибла в большом пожаре лет сорок назад, а вновь воздвигнутая грандиозная церковь считалась выдержанной в строжайшем средневековом характере), с его каналами, в то время еще обставленными древними, прямо к воде подходившими деревянными домами, я был в восторге. Побывал я с родителями и в Музее, в котором гвоздем коллекции считалась исполинская картина тогдашнего кумира Ганса Макарта «Торжественный въезд Карла V в Антверпен». Мне она, однако, несмотря на великолепие зрелища и на роскошь костюмов, не понравилась. Я как-то инстинктивно почувствовал, что художник выбрал этот сюжет только потому, что он давал ему случай развернуть особый блеск и, между прочим, представить полдюжины совершенно нагих красавиц, шествовавших по улицам города перед юным императором. Казалось бы, что присутствие столь соблазнительного элемента могло бы особенно заинтересовать мою как раз тогда просыпавшуюся чувственность. В какие только картины, в каких только изображенных на них особ я тогда не влюблялся. Однако вот макартовские голые дамы были мне не по вкусу. Они показались мне неправдоподобными, не жизненными.
В последний день пребывания в Гамбурге мы познакомились с нашим свойственником Гансом фон Бартельс, блестящая художественная карьера которого тогда только начиналась. Это был еще совсем молодой человек, довольно красивый, но, как мне показалось, несколько спесивый. Быть может, впрочем, та горделивая манера, с которой он показывал нам свои крупные акварельные этюды, только что привезенные им из Италии, являлась просто следствием смущенности. Во всяком случае, при позднейших моих встречах с Гансом он мне предстал в совершенно другом свете — самым благодушным, веселым, общительным малым. Акварели его мне тогда в Гамбурге тоже не слишком импонировали; я нашел, что они грубоваты, недостаточно разработаны и выписаны. Но моему тщеславию льстило, что этот молодой заграничный художник, о котором критика отзывалась с большой похвалой, — мой почти родственник, что мне разрешено его называть Гансом и быть с ним на «ты». Много лет спустя между нами установились дружеские отношения, и эту дружбу Ганс распространил даже на Сережу Дягилева, которого, по моей рекомендации, он возил по разным достопримечательностям Мюнхена — с чего, в сущности, и началась художественная деятельность моего знаменитого друга.
В Гамбурге мы посеяли некоторых наших спутников. Дядя Костя со своими дамами отправился на воды в Мариенбад, а брат Коля, отпуск которого кончался, проследовал прямо в Варшаву. Я остался с родителями, и поэтому в Берлине уже совершенно овладел папой (приятно было сознавать, что и мама теперь в моем исключительном распоряжении). Берлин мы с папой осмотрели досконально, тем временем как мама делала всевозможные закупки, удивляясь добротности товаров и необычайной их дешевизне. Вскоре две наши комнаты (в тогда только что отстроенном «Отель де Ром», поразившем меня роскошью мраморов и позолоты) оказались заваленными пакетами и коробками. В то же время возникла тревога, как это все перевезти через границу, как бы не заплатить непомерной пошлины, как бы чего не конфисковали. Этой тревогой заразился и я — тем более, что среди этих покупок немало было всяких мне принадлежащих вещей; был тут, между прочим, и новый микроскоп, и какая-то книжка с движущимися картинами и складной театр, и даже какая-то кукольная мебель. Но на русской таможне все обошлось благополучно — очевидно, подействовал папин паспорт, его чин, и нашего багажа просто не осматривали вовсе.
Немало я наслышался речей, что Берлин-де скучный город, что в нем нечего смотреть, что этот город новый, казенный, провинциальный, что это нечто вроде «плохого Петербурга». Мне же Берлин вовсе не показался таким, а напротив, он меня поразил своим богатством, великолепием и даже тем, что я теперь назвал бы романтикой. Возможно, что произведенное именно тогда впечатление предрасположило меня к тому, что я и в дальнейшем чувствовал всегда к Берлину некоторую нежность. Почти каждое путешествие за границу в последующие времена непременно начиналось и кончалось Берлином — и таким образом я перебывал в нем по меньшей мере раз двадцать, и вот каждый раз я с особенным удовольствием (иногда и без всякой нужды) в нем останавливался, причем меня к этому располагали не только чудесные музеи, но и удовольствие побегать по улицам — по тем улицам, с которыми я познакомился, когда мне было двенадцать лет, и которые на моих глазах из года в год стали менять свой облик по мере того, как Берлин терял свой старосветский характер прусской столицы и становился мировым городом.
За исключением двух-трех сказок, Гофман в 1882 г. мне еще не был знаком, да и эти сказки я знал в детском переложении и без того, чтобы слышать что-либо об их авторе. Мое увлечение Гофманом началось приблизительно только с 1885 г. Но я положительно уже почувствовал Гофмана на тогдашних улицах Берлина — и особенно в том малоизвестном туристам старом Берлине, что расположен за Курфюрстенбрюкке и что группировался вокруг высокой красной готической церкви св. Марии. Тогда там было еще немало улиц с низенькими домами, с остроконечными фасадами в два-три окна на улицу, с плохой, ухабистой мостовой. Чувствовалось, что еще недавно то был курьезный и «шутовской» город именно в духе Гофмана. Особенно это чувствовалось на площади, где возвышались две странно вытянутые купольные церкви, — Жандарменмаркт. Ряд старых домов Schlossfreiung подходил к самой реке у бокового фасада дворца. В одном из них помещался рекомендованный нам ресторан и там, изменив чинному табльдоту в «Отель де Ром», мы обедали в беседочке, увитой хмелем, — у самой воды. Как это было мило, как уютно, как по-провинциальному простодушно.
От посещения в те дни берлинских музеев я запомнил немного. Музея императора Фридриха еще не существовало (да и сам несчастный кайзер Фридрих вступил на престол лишь шесть лет спустя). Главным художественным хранилищем служило еще шинкелевское здание Старого музея, нижний этаж которого был заполнен античными статуями. В Новом музее меня поразили гигантские фрески Вильгельма Каульбаха, украшавшие лестницу. Папа попробовал мне объяснить содержание некоторых из этих «синтетических» картин по всеобщей истории, и меня они очень заинтересовали. Разглядывая их, я получил представление о «решительных моментах» летописи человечества.
Берлином завершился праздник моего первого посещения заграницы. Вероятно, родители, утомленные переездами и ночевками в чужой обстановке, были рады вернуться к себе. Но не то чувствовал я, сидя в мчавшемся на восток поезде. Моментами, забившись в угол мягких диванов, я тихо плакал, до того горько я ощущал это водворение в повседневную прозу… Даже очутившись в милой домашней обстановке, имея возможность снова приняться за свои любимые занятия, я долго еще продолжал томиться, чувствовать, что мое сердце осталось там, где только что мне было так хорошо, где все меня так занимало. Напротив, Петербург показался мне пыльным и унылым. Один грохот ломовиков и дрожек по корявому булыжнику представлялся мне безобразием и олицетворением возмутительного варварства. Я даже стал брезгать домашней кухней: наша кухарка, наши горничные казались мне неопрятными, не говоря уже о дворнике, вваливавшемся в комнаты в своих смазных сапожищах. А что сказать об их манере изъясняться, столь мало похожей на тонкость обращения заграничной прислуги?
Это отношение к загранице я сохранил затем на все время своего отрочества и отчасти своей юности. Не зная еще ничего об учении западников и славянофилов (или русофилов), я заделался на добрый десяток лет завзятым западником.
В известном смысле и мой «роман жизни», начавшийся в конце 1885 г. (когда мне минуло 15 лет), протекал в заграничной атмосфере. Пожалуй, и прочность этого романа была в некоторой степени обусловлена тем, что та девочка-подросток, которая на моих глазах и в постоянном со мной общении превратилась в барышню и в даму, была дочерью иностранцев и разделяла со мной то, что я не могу иначе назвать, как фанатическим культом иностранного.
Впрочем, я и теперь не каюсь в этом — ни за себя, ни за нее, мою подругу. Мало того, я убежден, что именно наша «заграничность» сыграла значительную и притом положительную роль не только в нашем личном развитии, но и в образовании того культурного ядра, из которого затем возникло целое художественное направление, известное под именем «Мира искусства». Не спорю, в нашем часто слепом увлечении заграничным было много просто ребяческого и нелепого. Еще больше глупости было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того не заслуживающего. Мы просто не умели осознать и оценить то, что составляло самые устои нашего же жизненного счастья. Лишь постепенно однобокое отношение к своему стало меняться. Перевалив двадцатипятилетний возраст, мы даже пережили искреннее и прямо-таки бурное увлечение всем русским. Мы прозрели, и это прозрение освежило нас, обогатило нашу душу. Но прозрев, мы не изменили и прежним детским идеалам. Мы не променяли одно на другое (что почти всегда служит обеднению), а приобретая новое, присоединяя новый опыт к старому, мы обогащались, и надо прибавить, что это новое прекрасно укладывалось рядом со старым.
ГЛАВА 13 Гора Венеры
Когда-то я мечтал о том, чтобы посвятить этой стороне жизни чуть ли не центральное место в своих мемуарах. Я даже готов был сравняться в откровенности с теми писателями, которые славятся ею. И не из какого-нибудь цинизма или озорства я хотел это сделать, а скорее из чувства благодарности — чувства мне вообще свойственного. Однако ныне такая задача представляется мне не столь уж соблазнительной. Не то, чтобы во мне изменилась оценка когда-то испытанных чувств, а потому, что с годами во мне, естественно, погас прежний пыл, да и как-то неловко человеку, убеленному сединами, все еще заниматься такими несоответствующими сюжетами. Иначе говоря, мне стыдно, и я не могу свой стыд побороть… Все же совсем исключить эту главу из своих воспоминаний я как бы не имею права. Ведь я поставил себе задачей изложить правдиво и точно весь тот быт, который окружал меня и частью которого я был сам, и вот в этом быту, если и было принято скрывать или вуалировать область, посвященную Венере, то все же она играла большую, а часто и господствующую роль. Ведь самое наше существование, наше появление на свет целиком зависит от этого, а не от чего-либо иного.
С очень раннего детства во мне (и, вероятно, в большинстве людей) стали уже сказываться два часто между собой сплетающиеся и все же по существу различные начала, которым присвоены названия «Любовь земная» и «Любовь небесная». Но только под небесной я вовсе не подразумеваю сейчас нечто совершенно от земли отделенное, серафическое, бесплотное, а подразумеваю то, что принято называть маловразумительным словом «глубокое чувство». Напротив, другое близкое и все же по существу отличающееся от него чувство остается на поверхности и точнее всего характеризуется словом «похоть». В каждом из нас (и даже в ребенке) проявляется влечение к телу, безразлично к какому, только бы это была ярко выраженная телесность. Это и есть похоть, чувство животное, простое, наиболее естественное. В любви же небесной проявляется влечение к тому, что обусловлено личным началом. Одно чувство чисто стихийное, безразличное, часто принимающее нелепые, а то и безобразные формы (безобразные с точки зрения нашего внутреннего эстетического и этического критерия); другое чувство всегда как-то связано с нашим представлением о чем-то возвышенном — с нашим сердцем, с нашей душой.
Из моих самых первых влечений к телу, безразлично к какому, мне припоминается случай, относящийся к тому лету, которое мы провели в 1876 г. на даче в Петергофе. Мне было шесть лет. Здесь моими товарищами в играх были два сына местного дворника, и вот в Сашку я, ничего не зная о любви и о влюбленности, самым настоящим образом влюбился, но не столько в него всего, сколько в его ноги. Это был мальчик лет семи, смазливенький, стройный, чистенький, но не это меня прельщало, а прельщало то, что он всегда ходил босой. Я настоял, чтобы и мне разрешили у нас в саду разуваться, и с этого момента меня стало преследовать желание как-нибудь моими ногами коснуться до босых ног Сашки. Я даже вступил с ним в заговор, чтобы нам непременно уединиться у ледника в кустах, лечь и сплести наши ноги. Но мама вовремя заподозрила что-то неладное, нас разъединили, и с тех пор Сашке было даже запрещено являться в господский сад.
Этот пример показывает, до какой степени я был предрасположен к культу Эроса, о других подобных случаях я умолчу. Однако к тому же разряду явлений можно отнести и мое обожание некоторых изображений, и в первую голову — композиций Ф. П. Толстого к поэме «Душинька», о чем я уже повествовал. Я продолжал не иметь никакого представления, в чем тут дело, и даже не подозревал, что вообще какое-то дело может быть и, однако, упивался, глядя на то, как, например, Душинька сходит «вся голенькая» в купальню или как она лежит без единого покрова рядом со своим супругом. Не мог я оторвать глаз и от изображения некоторых античных и новейших статуй. Чувства эти я скрывал, смутно догадываясь, что это нечто не совсем дозволенное. Любопытно, что при этом я обнаруживал полное безразличие к полу и даже к возрасту. Мне одинаково нравились девочки и мальчики и даже бородатые люди или великолепные герои в шлемах.
Не надо при этом думать, что я был каким-то развращенным ребенком и что, скажем, при виде таких изображений я впадал в болезненные трансы. С другой стороны, я солгал бы, если бы стал утверждать, что они действовали на меня только в художественном смысле. Мне нравились их плечи, ноги, торсы, руки, и я был уверен, что коснуться до всего этого было бы необычайно приятно. Тут действовал зов плоти в самом своем первобытном смысле. Прибавлю еще, что я и теперь лишен способности усматривать нечто нечистое во всем том, что составляет «область Венеры». Все, что не есть прямой разврат, пошлятина и грязь для грязи, упиванье грязью, все в этой области чисто. С другой стороны, я представляю себе и какую-то очищенную чистоту, и были периоды, когда я к этой серафической чистоте, к чистоте Беато Анжелико, стремился и хотел от всей души себе ее усвоить… Впрочем, спрашивается, в какой области человеческого бытия нет такой же путаницы, таких же оттенков? Разве не на них построены целые пирамиды мировых недоразумений? Разве не от них пошли религии, секты, чудесные экстазы и страшные изуверства?
Свою настоящую влюбленность я пережил только восьми лет, и если я ее называю настоящей, то это потому, что я в этот раз почувствовал не только безотчетное влечение, но и нечто осознаваемое. Не обошлось тут и без того, что древние называли «ранением стрелой Амура». Эту мою первую любовь звали Варей и была она дочерью кухарки, поступившей к нам весной 1878 г. Мама, как и большинство хозяек, была против подобных поблажек, но на сей раз ей очень захотелось иметь эту очень ей рекомендованную Дарью, да и одиннадцатилетняя ее дочка произвела на нее выгодное впечатление. Варя буквально всех очаровывала своей миловидностью, а для меня это была большая радость получить в свое распоряжение в добавление к унылой и злившей меня бонне такого прелестного товарища. Варю одели с иголочки, как тогда одевали гимназисток, т. е. в коричневое платье с черным передником, и этот скромный наряд удивительно ей шел и особенно способствовал тому, что ее и без того необычайно свежий цвет лица стал «сияющим». Варя должна была меня очаровать и потому, что она мне до странности напоминала ту пастушку, изображение которой я нашел в каком-то французском альманахе. Совсем такая же девочка очутилась теперь в моей непосредственной близости, и уже через два или три дня после появления у нас Вари я почувствовал упомянутый укол стрелы. Ничего еще не смысля в этих вопросах, не зная даже в точности, в чем женщина отличается от мужчины, я все же почувствовал необходимость скрыть произведенное Варей впечатление. Особенно же тщательно я прятал зашевелившееся во мне чувство от самой виновницы моего поранения.
Мне все нравилось в Варе: и ее круглый, еще детский овал, и нежный румянец щек, и сверкавшие при улыбке зубы, и стройная ее фигура, и каштановые, подстриженные сзади, зачесанные назад, захваченные полукруглым гребнем волосы. Чтобы иметь Варю бок о бок со мной, ощущать ее теплоту и чувствовать ее дыхание, я придумывал всякие предлоги. Несмотря на то, что я как раз тогда сам уже умел читать, я все же требовал, чтобы Варя мне читала вслух всякую всячину, а так как мне особенно нравилось, когда она смеялась, то я норовил подсунуть ей какую-либо потешную чепуху. К сожалению, большинство такой юмористики среди моих книжек было на немецком или на французском языках, но были у меня и русские смешные книги, и среди них «Гоша долгие руки» с превосходными и чудесно раскрашенными рисунками Берталя. Но не всегда эти чтения обходились без ссор. Варе надоедало вечно перечитывать один и тот же ребяческий вздор, она начинала ломаться, раза два она даже швырнула книжку под кровать, а однажды, взобравшись на стул, закинула ее на верхнюю полку висячего шкафика, куда моя рука никак не могла дотянуться. Но эти, как и всякие другие ее проказы, я сносил безропотно. Я даже любил с ней ссориться — это вносило разнообразие в наши отношения, к тому же Варя, будучи девочкой незлобивой и уступчивой, сама первая сдавалась, в шутку просила у меня прощение, и мы мирились. Иногда такие ссоры завершались робким поцелуем, который я клал на подставленную свежую ее щечку.
Знала ли плутовка, какие чувства она возбуждает во мне? Вида, во всяком случае, она не подавала и продолжала со мной обращаться как с мальчишкой, порученным ее присмотру. Как раз моя бонна того периода была, повторяю, существом угрюмым, ленивым; она часами сидела, погруженная в какие-то печальные мечты. А затем, незадолго до переезда на дачу, этой печальной Наталии было отказано, и некоторое время прошло без того, чтобы вообще, кроме Вари, кто-либо состоял при моей особе.
Роман с Варей приобрел новый оттенок, когда мы переехали на Кушелевку. В предыдущее лето я уже отлично изучил все ближайшие окрестности нашей дачи, все заросли, все кустарники, а начав упиваться романами Ж. Верна и Купера, я все это превращал в своей фантазии в девственные леса, в джунгли, полные диких зверей и т. п. Варя должна была принимать участие в моих играх-представлениях; мы с ней «блуждали, умирая с голоду, по пустыням», мы спасались от тигров и крокодилов, мы влезали (невысоко) на деревья и переходили реки вброд. Как раз для последнего похождения вполне подходящим местом был овраг, по дну которого тонким ручьем вытекал в Неву излишек воды из каналов Кушелевского парка. Чтобы перейти этот «страшный поток», достаточно было мне разуться и немного засучить свои штаны. Но следовавшая за мной Варя сильно сконфузилась, когда ей пришлось забрать юбки выше колен и открыть перед моими восхищенными взорами свои белые стройные ножки.
Переехали мы на дачу в том году (по нашему обыкновению) рано. Деревья еще не все покрылись листвой, а после нескольких отменно погожих дней наступили свойственные северному маю холода. Наша экспедиция через реку происходила как раз в довольно скверную погоду, и Варя, схватив насморк, покаялась матери в том, что сначала мы решили от нее скрыть. Тут и мама забеспокоилась; нам были запрещены слишком долгие и далекие отлучки: «Играйте дома, зачем вам так удаляться?» — фразу эту приходилось слышать по несколько раз в день, и это меня очень раздражало. Раздражала эта фраза и Варю, в этих словах чувствовалось какое-то к ней недоверие. Раза два она в резкой форме отказалась последовать за мной в наш «девственный лес», а о «бурном потоке» и слышать больше не хотела. Кроме того, она стала проявлять какие-то непозволительные странности; то она начнет меня дразнить или высмеивать мои фантазии, то вдруг схватит и обнимет крепко, причем в таких случаях я топорщился, ибо мне становилось невыносимо стыдно. Раз мы даже подрались, и я довольно больно ударил ее по спине; она заплакала, однако жаловаться к матери не пошла, я же чуть с ума не сошел от раскаяния и жалости. Несколько раз и Варя меня била чем попало, но странное дело, — от этих побоев мне и в голову не приходило плакать, и я даже испытывал при этом нечто похожее на удовольствие.
Своей кульминационной точки мой первый роман достиг при следующем случае. К нам на Кушелевку приехал к обеду (это уже было в конце июля) обожаемый мной Д. В. Григорович, большой друг моего отца. Всякое посещение знаменитого сочинителя и бесподобного рассказчика ввергало меня в своеобразное восхищение, а тут еще летняя обстановка, чудный сияющий вечер, какие-то поэтические восторги Григоровича от деревьев, от цветов, от всего. Вместе с папой они предались воспоминаниями о тех празднествах, которые раньше происходили в этом же парке, когда гостил на Кушелевке сам Александр Дюма-отец. Словом, я был возбужден, как только бывают возбуждены дети, когда им случается оказаться с теми редкими взрослыми, которых они считают почему-то за своих близких. Григоровича же я не только считал за своего близкого, но, повторяю: я его обожал.
И вот этот обожаемый мной авторитет, этот полубог тоже не устоял перед прелестью Вари и даже в какой-то выспренней форме выразил это. Если у меня еще могли быть сомнения, что «моя» девочка представляет собой нечто чудесное, то после того, что произошло в тот вечер за обедом, уже никаких сомнений оставаться не могло. Сцена эта до того меня поразила, что я ее запомнил во всех подробностях. За столом сидело всего четыре человека: папа, мама, Григорович и я. Было около шести часов, следовательно, еще совершенно светло, и в тройное венецианское окно, доходившее до потолка высокой комнаты, видны были какие-то деревянные постройки, а за ними высокие деревья парка — всё это залитое солнцем. Кончалась закуска, и Дмитрий Васильевич, уплетая божественную, по его выражению, селедку, уже принялся за один из своих рассказов, как на пороге дверей из кухни появилась Варя с миской супа в руках. Появилась и остановилась в нерешительности. Дмитрий Васильевич сидел спиной к двери, но легкий шум заставил его обернуться. И не успел знаменитый сочинитель заметить девочку, как, прервав на полуслове свой рассказ, он вскочил, взмахом руки расправил бакенбарды и, подскочив к Варе, выхватил у нее миску, которую он и донес до стола, приговаривая: «Не могу я, нет, не могу, дорогая Камилла Альбертовна, чтобы такой ангел мне прислуживал. Ей быть в облаках среди небожителей, а не здесь, на Охтенской даче!» Мама, привыкшая к чудачествам Григоровича, только рассмеялась, папа шутливо что-то прибавил, я же совершенно оторопел и густо покраснел. Григорович еще раз подошел к Варе, оставшейся стоять в дверях, взял ее за руку и привлек к своему стулу, предложил ей несколько вопросов, на которые она ответила без особенной робости, и только после этого, закрывшись передником, она опрометью бросилась бежать.
Увы, пожалуй, именно этот случай, этот апофеоз Вари ускорил развязку. Вероятно, и до того мамочку начало беспокоить, что я так заинтересован кухаркиной дочкой, после же этого случая она встревожилась серьезно. Необходимо было удалить такую красавицу от Шуреньки, иначе ее присутствие могло бы еще повредить его здоровью. И вот в августе, в самый разгар моего обожания Вари (зачем было теперь скрывать его, раз сам Григорович объявил, что она достойна жить среди богов), она была внезапно удалена. Ее определили помощницей к знакомой портнихе, а там она вскоре попалась в утайке каких-то ленточек, ей было отказано, и одновременно было отказано и ее матери от нашего места. С тех пор я уже никогда Варю не видел, и мой первый роман растаял, как марево, продолжая жить в одной только моей памяти.
Следующие два года прошли без всяких собственных увлечений. Я часто встречался с разными девочками — например, со своими кузинами Верой и Катей Храбро-Василевским и или с дочерьми дяди Сезара (я вообще предпочитал играть и быть с девочками; мне нравилась самая атмосфера женственности и, напротив, я ненавидел типичных мальчиков-драчунов, забияк, хвастунишек), но ни одна из моих тогдашних подруг не возбуждала во мне особенного внимания. Но вот в 1881 г. я все же влюбился, и влюбился я как раз в одну из моих кузин — в Инну Кавос, которую я и раньше видел постоянно, но которую я открыл только теперь. Мало того, на сей раз у меня впервые возникли какие-то матримониальные мечты.
Инна, в отличие от своей хрупкой, золотушной и уже тогда слегка глуховатой сестры Маши, росла здоровой девочкой с некоторой склонностью к полноте. Ее даже прозвали «генералом Бурбаки» — не потому, что она была действительно похожа на знаменитого французского воина, а потому, что самое слово «Бурбаки» вызывает представление о чем-то пышном, круглом. К Маше я тоже питал нежнейшие чувства, но они оставались неизменно братскими, такими же, как те, что я, скажем, питал к сестре Камишеньке. Они обе во многом были похожи друг на друга, — та же легкая грусть, та же венецианская склонность к беспечности, та же прекрасная, но какая-то стыдливая доброта. Проснувшееся же так неожиданно чувство к Инне, которая была всего на два года старше меня, носило оттенок чего-то иного. Маша была для меня милой, Инну же я находил прелестной, особенно когда в летние праздничные дни она рядилась в кисейные платья, на нежной шее появлялся медальон на бархотке, а темные волосы перевязывала голубая лента. И вот, живя целое лето 1881 г. на даче дяди Сезара в Петергофе (сам дядя лечился где-то на водах), пребывая ежечасно в обществе Инны, катаясь с ней по паркам, внимая с ней концертам в Монплезире или же играя в крокет, я все более и более подпадал шарму этой как раз тогда расцветавшей девушки. К концу лета я уже совершенно одурел и буквально прицепился к ее юбке; я уже не мог быть без нее.
О, как я страдал, когда, принуждаемый Талябиной играть гаммы и экзерсисы в полутемной гостиной, слышал из сада звонкий смех Инны, стук крокетных молотков о шары, а иногда и азартные ссоры игроков из-за какого-либо удара. О, как еще более становилось нудно, когда под контролем миссис Кэв я вынужден был дочитывать положенный кусочек какого-нибудь рассказа, а со двора по ту сторону дачи доносились визги бегающих и летающих на гигантских шагах. Как зато я бывал счастлив, когда за завтраком и за обедом (в хорошую погоду на веранде, в дурную — в столовой) я оказывался рядом с Инной и она мне передавала хлеб, наливала вино и квас. Этот домашний квас был невкусный, слишком кислый (сказывалась экономия на сахаре Натальи Любимовны), но я выпивал его целый большой графин — только для того, чтобы иметь удовольствие видеть в непосредственной близости голый локоть Инны (самому же мне было запрещено наливать — я был очень неловок и мог испортить скатерть). Любил я также часы укладывания спать. Я с мамой помещался в верхнем этаже дачи в угловой комнате, а рядом была большая спальня обеих девочек. Урывками я мог видеть, как они раздеваются, как Инна в одних панталончиках, превратившись в мальчишку, бежит к умывальнику или как она, стоя у окна и выделяясь силуэтом на фоне белой ночи, заплетает свою тяжелую черную косу.
Но не урывками, а уже совершенно откровенно я рассчитывал налюбоваться ею такой, как Бог ее создал, когда однажды мои кузины, ходившие каждый день в сопровождении миссис Кэв купаться в море, легкомысленно высказали пожелание, чтобы и я присоединился к ним. Для них я был, очевидно, все тот же маленький Шурка, с которым они совсем недавно нянчились, как с куклой, и чего-либо дурного в том, что мы все одновременно окажемся в воде, они не видели. Возможно, что я и попал бы в этот рисовавшийся мне рай, если бы меня не выдало то волнение, которое охватило меня, если бы я не слишком уж усердно торопил, чтобы мы скорее отправились на Купеческую пристань. Тут миссис Кэв, посоветовавшись с мамой, объявила, что будет довольно неприлично, если такой большой мальчик будет с ними купаться. Девочки, видя, что я готов расплакаться, попробовали уверить миссис Кэв, что я еще маленький, что детей другие дамы берут с собой и что, если мы разденемся в номере, а затем сразу войдем в воду, то никто даже не обратит внимания, мальчик я или девочка; гувернантка оказалась непреклонной, и меня оставили дома.
В каждом романе полагается быть кульминационному пункту. Такой кульминационный пункт моего романа с Инной (следовало бы написать моего одностороннего обожания Инны) случился в осеннюю пору. То была поездка в Бабигоны. Каким-то чудом вышло, что нас, детей, отпустили проехаться с одним только конюхом в плетеном шарабане. По временам правили то Маша, то Инна, а это было для каждой из них большим и редко разрешавшимся удовольствием. Невзирая на низкие, сулившие дождь тучи, мы добрались до самих Бабигон и даже зашли погреться в Никольский домик. Отпер нам его знакомый сторож-инвалид, и как раз тогда Маша, Инна и я вместе с ними осмотрели эту царскую избу во всех подробностях. Но стал накрапывать дождь, сразу стемнело, поднялся ветер, и надо было спешить домой, чтобы не промокнуть. Тут-то села править Инна, а я примостился к ней. Маша же и конюх оказались позади нас, и таким образом, в течение всего обратного путешествия по склону бабигонских высот, мимо мраморного Бельведера; мимо Руины на острове, мимо Озерков и во всю длину Самсониевской аллеи я мог касаться обожаемой девочки, представляясь мерзнущим. Какое это было блаженство сидеть так, уткнув нос в ее плечо! Непосредственная опасность дождя миновала. Ходивший в шарабане пегий пони был самым смирным животным и плелся медленной рысцой; встречных экипажей не попадалось: многие дачники уже перебрались в город. Инна почти не делала движений и не прибегала к хлысту. При толчках, слишком на мой вкус редких, моя голова билась о мягко-упругое тело кузины и невольно (или вольно?) соскальзывала на ее уже слегка выдававшуюся грудь. Все это складывалось во что-то необычайно сладостное. Изредка я поглядывал на ее профиль, на короткую верхнюю губку, на родинку у виска, на выбившиеся из-под малиновой бархатной шапочки волосы. Все это было так очаровательно! Я тут же решил, что Инна должна стать моей женой, что я вообще без нее не смогу жить.
На следующий день я сделал ей своего рода предложение! Лил проливной дождь, приходилось сидеть дома и заниматься комнатными работами. Я рисовал, Инна рядом вышивала. Маша в углу слагала стихи про петергофский пароход «Кокериль». Под впечатлением Никольского домика я принялся набрасывать на бумаге дачи в русском стиле. Вообще я скорее презирал все такое мужицкое, но Никольский домик, мельницу и другие нарядные избушки, раскинутые в парках Петергофа, я считал прелестными и даже мечтал именно в подобном домике когда-нибудь поселиться. Так затейливо перекрещивались два конька над гребнем крыши, такие веселые букетики украшали ставни, такая хитрая резьба окружала оконца, а крылечко выпучивалось на кургузых с перехватцами столбиках. Но, сочиняя свой проект, я не удовольствовался разными вариантами фасадов, представляя их на выбор Инне, а при помощи линейки и циркуля начертил и планы к ним. Тут я и выдал себя. Объясняя кузине, какому назначению должно служить каждое помещение, я заговорил про «мой кабинет», про «ее гостиную», про «нашу спальню». Инна, вероятно, смеясь в душе, со всем соглашалась, а я делал из этого заключение, что она готова стать «моей», и был вне себя от счастья.
На этом наш роман завершился. Через несколько дней пришлось возвращаться в город; кончилось наше житье-бытье на даче у дяди, зимой же столь милый интим с Инной уже не возобновлялся, да и виделись мы редко, ведь от нас с Никольской до них на Кирочной было целое путешествие. В следующие годы я на даче дяди Сезара бывал лишь урывками, а Инна уже слишком для меня повзрослела, я стал при ней конфузиться, и конфузился тем более, что теперь, хотя с виду все еще казался невинным ребенком, я уже имел представление, благодаря просветительному действию гимназических бесед, о многом таком, что превращало для меня всякую девочку в женщину, в запретный плод…
Первое, но еще смутное представление о запретном плоде я приобрел следующим образом. Осенью 1881 г. я провел несколько дней в гостях у сестры Камиши и там познакомился с мальчиком — Борей Нарбутом (ничего общего не имеющим с моим позднейшим приятелем чудесным художником Егором Нарбутом). Он был на два года старше меня, но уже говорил о разных жизненных вопросах с тоном опытного мужчины. Резвились мы и шалили, как дети, подымая на дорожках облака пыли, лазая на деревья, но в минуты отдыха, запыхавшиеся, красные и потные, мы усаживались на ступеньках крыльца дачи, в которой жили родители Бори, и каждый раз Боря начинал мне что-то рассказывать на темы, совершенно для меня до той поры неведомые. Узнал я от него и некие слова, необычайное звучание которых повергало меня в странное волнение. Однако все это я хоть и слушал с напряженным интересом, но еще без всякого личного отношения. Таких собеседований было три или четыре, и в общем они прошли для меня бесследно, — мне показалось «все такое» скорее смешным и не заслуживающим полного доверия.
Но в первые месяцы 1883 г. мое знакомство с запретными плодами становится более реальным. В нашем доме на роли подняньки при маленьких моих племянниках Лансере появляется молодая и очень приятная девушка. Как раз детвора сестры Кати целых два месяца гостила у нас, во избежание заразы от свирепствовавшего тогда на Охте дифтерита. Такие меры предосторожности были тогда обычным явлением, но характер настоятельной необходимости они получили с момента, когда у Лансере и у Эдвардсов смерть от горловых болезней унесла по ребенку. Естественно, что родители стали дрожать при малейшем недомогании остальных и что дедушка с бабушкой давали при этом случае приют внучатам.
Если у нас поселялись Эдвардсы, то я в лице Джомми и Эли получал самых ретивых участников в играх, носивших зачастую дикий характер, и наш мирный, чуть сонливый дом оглашался неистовыми криками и топотом. Если же поселялись Лансере, то мы затевали с Женей и Колей более спокойные игры, а то и занятия умозрительного характера — рисование, чтение, разглядывание картинок и т. п. Английские племянники, хоть и были соотечественниками Шекспира, обнаруживали мало интереса к моим театральным затеям. Напротив, оба моих полуфранцузских племянника уже обнаруживали явные признаки художественного призвания. Они были лакомыми до всяких представлений, а Женя, которому в 1883 г. уже шел восьмой год, мог даже принимать участие в приготовлении декораций и в вырезании персонажей… Это был очаровательный сосредоточенный мальчик, обожавший разглядывать книги и часами просиживавший с карандашом над бумагой, на которой получались иногда и весьма затейливые композиции. Наследственный дар перспективы проявлялся в них с особой определенностью…
И вот помянутая девушка была приставлена специально к двум девочкам — трехлетней Соне и годовалой Кате, но естественно, что гораздо интереснее ей было находиться в обществе мальчиков — тем более что, будучи сама совсем юной (ей было всего 16 лет), она не обладала ни в какой степени теми способностями, которые требуются для ухода за малыми ребятами. Соня к тому же была необычайно тихим и покладистым ребенком, и ее куда бы ни посадили, она там могла оставаться часами, ничего не делая и ничего не требуя, Крошка же Катя три четверти дня спала, да о ней особенно пеклась мать, продолжавшая ее кормить.
Маня В. особой красотой не отличалась, но ее типично русские черты, ее удивительно свежий цвет лица, ее ласковые карие глаза и сверкавшие белизной зубы составляли с темными волосами весьма привлекательное целое. Не такие ли именно «милые мовешки» одерживали в помещичьих гаремах победы над писаными красавицами и завоевывали прочные места в сердцах своих обладателей? К тому же Маня не была простой и безграмотной девушкой из народа, а воспитывалась в Патриотическом сиротском институте, умела бегло читать и правильно писать, и говор у нее был чисто городской, лишенный простонародных оборотов. Словом, моя новая пассия была «почти барышней», а единственная ее тетка была «почти купчихой», ибо держала молочную торговлю на Охте.
Начитавшись романов (не романов Купера и Верна, а уже настоящих Дюма и Феваля), я как раз мечтал тогда о собственном настоящем романе. Первые недели пребывания у нас Мани прошли без того, чтобы я почувствовал какой-либо особый интерес к ней, но постепенно я стал все больше обращать на нее внимание. В гимназии же я теперь томился вдвойне не потому, что там было скучно на уроках, и не потому, что меня дома ожидали игры с Женей и Колей, а потому, что мне уже очень хотелось очутиться снова в обществе этой веселой и милой девицы. Предлогом для того, чтобы получать Маню в наше распоряжение, у нас, мальчиков, служило общее чтение. Я засаживал Женю и Колю за рисование, сам тоже принимался за какую-нибудь работу, Соне давали кубики, а Маня В. должна была нас всех развлекать похождениями Гулливера или Робинзона, что она и делала с охотой, так как сама заинтересовывалась этими чудесными историями. И вот где-нибудь в чертежной, если глядеть со стороны, представлялась милая и невинная картина, дышавшая семейственным уютом. При свете лампы дети разного возраста были поглощены кто рисованием, кто какой-нибудь игрой, тогда как «старшая сестра» в своем скромном сером платье с белым передником склоняла свою голову над страницами невинных рассказов. Однако, если вглядеться в эту картину, то оказывалось, что один из мальчиков с каждым вечером норовил сесть поближе к читальщице, а иногда даже клал руку вокруг ее талии и прижимал свою голову к ее плечу, не встречая с ее стороны никакого сопротивления. Не раз мама, начинавшая подозревать что-то неладное, внезапно входила в комнату и нарушала эту гармонию… И до чего же несносными казались мне эти большие и старшие, вечно озабоченные нашим воспитанием и хранением нашего добронравия. Каждый раз вслед за таким посещением мамы или Кати Маня должна была прерывать чтение, и ее усылали на другой конец квартиры, мне же мамочка с несколько сокрушенным видом предлагала вопрос: «Почему ты так близко подсаживаешься к этой молоденькой девушке?» Мама даже пробовала мне внушить, что это вредно для здоровья, но с этим я уже никак не мог согласиться, так как, напротив, чувствовал теперь наплыв каких-то чрезвычайных новых сил.
Увы, такая идиллия не могла долго продолжаться. Тринадцатилетний Шуренька стал, наконец, проявлять свои назревшие чувства с такой недвусмысленной ясностью, что пришлось принять крутые меры. Заметил ли кто-нибудь, что теперь и Маня стала отвечать на мои авансы, как тогда говорили, что мы все чаще уединяемся в дальней Зеленой комнате, где нам обоим одновременно нечего было делать, но на пути моей первой пассии стали восставать всякие препятствия. Так, моей избраннице стали поручать стирку на кухне, и я теперь видел ее там с оголенными до плеч руками за мытьем пеленок. Разумеется, такие репрессии не только не способствовали моему охлаждению, а напротив, лишь возбуждали жалость к той, которую я хотел бы видеть на троне. Я даже несколько раз совершал вящую неосторожность, пытаясь за Маню заступиться.
Как бы то ни было, Мане было отказано от места.
Невозможно передать охватившее меня тогда горе. Сначала я догадался по заплаканным глазам Мани, что стряслась какая-то беда, а затем и доподлинно узнал из уст Ольги Ивановны про убийственную новость. Мое отчаяние было самым подлинным и без всякого наигрыша. И тут уж я не смог скрывать свои чувства. Напротив, я решил отомстить разлучникам — собственной смертью, и решил, к великому ужасу мамы, заморить себя голодом. Полтора дня я провалялся на постели, не вкушая никакой пищи и обливаясь слезами; на третий день я нашел, что мне необходимо как-то выявить свои трагические переживания, и сначала я попытался нарисовать портрет Мани (она сразу после отказа ушла и даже не простилась со мной; ей, вероятно, этого не позволили), а когда из этого ничего не вышло, то сочинил род какой-то печально-героической арии, которая показалась мне превосходным выражением того, что я испытывал.
Мой роман с Маней, естественно, должен был бы кончиться на этом, но совершенно неожиданно он получил иное завершение. Приблизительно через неделю после того, что она покинула наш дом и как раз в четверг на Вербной, мой дальний кузен Аркаша Храбро-Василевский, юноша лет шестнадцати, зашел к нам невзначай и, желая меня развлечь (мама, вероятно, жаловалась ему на мое состояние), предложил мне пойти вместе прогуляться. Последние дни я безвыходно сидел дома, в гимназию отказывался ходить и вообще всячески выражал, что я убит горем. Но добродушному и всегда веселому Аркаше (эта веселость не помешала ему года через два покончить с собой) удалось-таки, после нескольких уговоров, выманить меня из моей комнаты. Как раз в этот день окна на улицу по всей квартире были с утра освобождены от зимних рам и некоторые стояли настежь открытыми. Необычайно нагретый для марта воздух вливался потоками, распространяя по комнатам тот особый бодрящий и опьяняющий дух, что так убедительно возвещал о начале весны. Тут мне и самому захотелось выйти на улицу. Я обожал эту странную пору ранней петербургской весны. На улицах виднелись дворники, которые, сняв тулупы и вооружившись метлами и лопатами, очищали мостовую от последних следов зимы; возникавшие от таяния снега потоки прокладывали себе путь между обледенелыми извилинами; солнце ослепительно сияло не только в небе, но и в любой луже, а уличные мальчишки пускали бумажные кораблики.
Когда мы дошли по Морской до Арки Штаба, у Аркаши явилась мысль, не зайти ли, благо оставалось перейти одну только Дворцовую площадь, в Эрмитаж. До того дня я в Эрмитаже был всего один раз, лет пяти, и осталось у меня о том самое смутное воспоминание — о каких-то зеркальных паркетах, об огромных вазах, о массе золота на диванах и столах и от бесчисленных картин в золоченых рамах на стенах. На сей же раз я входил в Эрмитаж более подготовленным и даже считая себя в некотором смысле знатоком в искусстве. И как раз то были дни, когда, по случаю пятисотлетия со дня рождения Рафаэля, была устроена в Рафаэлевских лоджиях выставка, состоявшая как из оригинальных картин кисти великого художника, коими тогда гордился наш музей, так и из целого ряда гравюр и фотографий с его произведений. Но не это все меня тогда поразило, а обомлел я перед «Помпеей» Брюллова, висевшей в одной из русских зал нашего музея. Я оторваться не мог от этой великолепной грандиозной картины, восторженное описание которой я читал у Гоголя. От избытка впечатлений у меня разболелась голова, я почувствовал даже род дурноты и потому сразу по выходе из Эрмитажа потребовал, чтобы кузен взял извозчика.
Тут-то, по возвращении домой, и получилось то чудо, которое придало какое-то очаровательное завершение моему первому серьезному роману. Все до того странно соединилось и до того сгармонировалось, что среди тысяч и тысяч других дней этот Вербный четверг 1883 г. остался в памяти, окруженный каким-то бесподобным сиянием.
И что за беда, если весь тот мой полудетский роман был чем-то таким, что происходило чуть ли не в каждом доме? Сколько мне самому известно, с таких же «недостойных» амуров, в большинстве случаев не оставляющих ни малейших следов в дальнейшем, обыкновенно и начинается эротический опыт юношей буржуазной среды. С другой стороны, какое значение имеет то, что и в тогдашнем моем случае было больше воображения и всяких стечений обстоятельств, благодаря которым все представлялось в особом и, вероятно, ложном свете? Мой роман с Маней В. трудно раздуть во что-то литературно-поэтическое и гораздо легче его изобразить в виде чего-то банального и чуть комического… А произошло вот что. Доехав до дому, я почувствовал такую разбитость, что даже не попросил Аркашу к нам зайти, а простился с ним у подъезда. Я мечтал только об одном — лечь и выспаться. Полный одного этого желания, я дергаю за звонок у двери нашей квартиры, слышу чьи-то приближающиеся шаги — и кто же мне отворяет дверь? Маня! Маня, взволнованная, розовая, улыбающаяся. Оказалось, что она зашла за своими вещами и чтобы попросить рекомендацию для нового места, но случилось как раз, что все наши должны были отправиться на праздничный шоколад в соседнюю квартиру к дяде Косте, а новая няня отпросилась со двора. Мане и предложили постеречь спящую маленькую годовалую Катю. Таким образом, в большой квартире мы оказались совершенно одни, так как и находившиеся за тремя дверьми в кухне прислуги в комнатах не появлялись. Мы могли делать, что нам угодно.
Только в момент, когда мы сомкнули наши уста в прощальном поцелуе, вернулись наши. Заслышав их издали, я успел пробежать к себе в Красную комнату и устроиться на своем узком диванчике — как ни в чем не бывало. Когда сестра Катя заглянула ко мне, то я очень удачно изобразил из себя глубоко заснувшего. Да действительно я вскоре и заснул, как убитый, а когда проснулся, то и следа больше не оставалось от Мани. Хоть мы и надавали друг другу обещания, что будем втайне видеться, что я ей напишу, когда и где нам встретиться, однако по неопытности я забыл спросить ее адрес. Да и едва ли я сумел бы найти ту форму письма, которая годилась бы для таких совсем для меня новых обстоятельств. Возможно, что нашим показалось странным, что я как-то сразу воспрянул и уже совершенно больше не страдал, но если им это и показалось, то никто виду не подал. Я же как-то сразу примирился с тем, что продолжения не будет. Я успокоился, а уже через день или два весь этот чудесный случай стал казаться далеким — чем-то вроде прочитанной прелестной книги. Мало того, когда Маня еще раз — и в последний — через несколько недель зашла, чтобы спросить новую рекомендацию (ибо на первом месте она не ужилась), я только пожал ей украдкой руку, но и тут адреса не спросил, вполне на сей раз сознавая, что все кончено…
О следующем своем романе я предпочитаю молчать, хоть он и длился с двумя перерывами целых три года и моментами приобретал очень жгучий характер. Решил же я умолчать о нем, чувствуя себя бессильным передать хотя бы приблизительно то, что было в нем самого прекрасного и необычайного. Скажу только, что этот второй настоящий роман был совершенно лишен какой-либо психологичности, и тем не менее он протекал далеко не безмятежно. Моя подруга проявляла то необыкновенную для ее возраста пылкость, то удалялась от меня, и тогда наступали длительные периоды размолвки и необъяснимых капризов… В счастливые периоды я затруднился бы признаться перед самим собой, что люблю ее, но когда она избегала меня, я страдал ужасно и тогда принимался ненавидеть прелестную, но и жестокую девочку. Тут и дошло, в первые месяцы 1884 г., до того, что я совершенно обезумел, тут со мной и стали делаться те припадки отчаяния, о которых я уже рассказывал. Тут однажды меня и отвел домой рыжий герр Шульц. Как в детстве я мечтал о волшебной палочке, так и теперь, начитавшись Жозефа Бальзамо, я мечтал найти какое-либо магическое любовное зелье, чтобы снова вернуть мне мучительницу…
Впрочем, в этот же период мне иногда удавалось отвлекаться временами от своего главного романа. Несколько раз я бывал охвачен другими, но скоро проходящими увлечениями. Именно тогда, во время одного спектакля «Конька-горбунка», я воспылал страстью к Марии Петипа, и особенно тронул меня момент, когда молодцеватый Лукьянов в заключение малороссийского танца, схватив Марусю за оголенное, чудесно круглившееся и блестевшее белизной плечо, громко, на весь зал, поцеловал ее в уста, после чего она, отираясь рукавом, убегала в своих высоких красных сапогах за кулисы. То было время, когда мне в компании с моим другом Володей Кинд уже разрешали одним ходить в театр, и именно тогда мы оба (за год до приезда Цукки) сделались ярыми балетоманами. Театр был в трех минутах ходьбы от нашего дома, а так как на пустующие тогда балеты нам удавалось получать места даром, то мы и не пропускали ни одного «Конька» или «Коппелии». В последнем балете та же Мария Мариусовна пленила и разжигала нас несказанно. Правда, она появлялась только в первом акте, в мазурке и в чардаше, но этого было достаточно, чтобы и я и Володя впадали на весь вечер в какое-то неистовство. Под чудесную музыку Делиба блестяще и лихо плясала долговязая Маруся, казавшаяся слишком большой среди других танцовщиц. Впрочем, даже ее дефекты как артистки прибавляли в наших глазах ей прелести. Благодаря им как-то особенно выявлялось в красавице нечто «вульгарно-обещающее». Взоры, которые она метала в партер, изгибы ее стана, ее безудержное (не слишком высокого вкуса) ухарство точно приглашали к развеселым и сладчайшим утехам. Как раз в ту эпоху у брата Альбера чуть ли не через день бывал официальный друг Марии Мариусовны флигель-адъютант Х. П. Дерфельден. Я мечтал, чтобы он меня познакомил с дивной вакханкой, но когда это однажды случилось на лестнице того дома, где они жили (и где поселился в квартире рядом мой брат Михаил), то я так опешил, что остался без языка, выразив всем своим обликом одну только беспомощность четырнадцатилетнего пижона.
Запомнился мне и другой случай, имевший отношение к моему безумному увлечению прелестной танцовщицей. Сложность, а моментами и мучительность моих эротических переживаний в этот период (весна 1884 г.) привели к тому, что я сильно запустил свое гимназическое ученье, время же весенних экзаменов приближалось; пришлось прибегнуть к ускоренному способу подготовки, иначе говоря, к помощи репетитора. Перебывало тогда у меня их несколько, но лишь один, уже помянутый Владимир Андреевич Соловьев, сумел меня так подвинуть в латыни и в математике, что благодаря ему я явился на экзамены вполне подготовленным. Соловьев сумел и лично расположить меня к себе. Наши встречи заключались не в одном приготовлении уроков, но в беседах на самые разнообразные темы. Соловьев, с виду типичный студент-бедняк, одетый не по сезону легко во что-то светлое и очень ветхое, долговязый, курносый, с костлявыми красными руками, торчавшими прямо из пиджака без намека на белье, быстрый в движениях, но несколько неуклюжий, сначала меня шокировал своими манерами. При этом у Соловьева ко всяким его повадкам, с которыми он входил, садился, разваливался, закуривал одну папиросу за другой, соря всюду пеплом, — прибавлялось еще нечто плебейское (употребляю тогдашнее выражение), и это меня сначала так раздражало, что я даже стал просить маму ему отказать.
Но постепенно наши отношения стали меняться. Однажды мы случайно попали с ним на какую-то одинаково интересовавшую «вне наших учебных обязанностей» тему — вероятно, на какие-то театральные впечатления, и тут Цезарь и Овидий были отложены, и завязалась уютнейшая дружеская болтовня. С этого вечера я не только не избегал уроков Соловьева, но ожидал их, как некое удовольствие, и эти уроки стали затягиваться на два, на три часа. Чай нам подавали в классную комнату, и бедный Соловьев съедал один бутерброд за другим, а также все печенье. При этом и учение пошло успешнее. Чтобы скорее добраться до разговоров, я прилагал несвойственное мне усердие, и, при совершенно исключительных педагогических способностях Владимира Андреевича, это давало великолепные результаты. Очень скоро я уже наловчился переводить с листа латинские тексты, а те ненавистные арифметические задачи, которые повергали меня в уныние (какие-то поезда, какие-то водоемы, какие-то цибики «смешанного» чая), я стал решать с удивительной быстротой.
Вспоминаю еще об одном глупейшем эпизодике в связи с моей страстью к Марусе Петипа. Сам этот случай настолько глуп, что расскажу я про него только потому, что именно эта глупость уж очень характерна для моего тогдашнего состояния. С одной стороны, рыцарь с оттенком Дон-Жуана, дебошир эпохи Регентства, а с другой, мальчишка, крадущий из-под носа учителя нечто такое, что ему вдруг совсем по-мальчишески захотелось иметь. Приходится покаяться — моя страсть к Марии Петипа довела меня до воровства! Но только предметом хищения оказалась не какая-нибудь драгоценная безделушка или кошелек, набитый золотом, а была это маленькая картонная коробочка, в которой умещалось не более десяти штук дешевых папирос; ее только что в лавочке купил Владимир Андреевич, а войдя в классную, швырнул на стол. Каково же было мое изумление, когда на крышке этой коробки я увидел обожаемые черты Маруси, мало того, ее оголенные плечи, ее прелестные, немного длинные руки. Это была посредственная репродукция с какой-то недавней фотографии (кажется, из балета «Фиаметта») — но узнать ее все же было легко, мало того, удачно был передан ее заигрывающий взгляд, ее соблазнительная улыбка. Странное дело, при всей моей балетомании и при том, что у меня были кой-какие карманные деньги, я до того момента не догадывался, что можно купить за какой-нибудь рубль фотографию популярной артистки, теперь же такой портрет валялся тут передо мной на столе… Занимался я в этот вечер из рук вон плохо, мешал зародившийся в голове план, как бы этим талисманом овладеть. Под предлогом, что у меня разболелась голова и что комнату надо проветрить, я предложил Владимиру Андреевичу пойти (в виде исключения) выкушать чай в столовую, и вот во время чаепития я успел один вернуться в учебную, схватить коробку и засунуть ее в самую глубину своего письменного стола. Оставалась еще одна папироска, и Соловьев, видимо, это помнил, ибо по возвращении из столовой он принялся искать коробочку. С еще большим рвением искал и я, но, разумеется, коробочка сгинула, или вернее, она осталась в моем владении.
Из сказанного явствует, что моя сентиментальная жизнь в этот период (1883–1884) была достаточно сложная и путаная. Однако, кроме всех этих моих влюбленностей в реальных особ (причем я умалчиваю о главном тогдашнем моем романе), попутно я влюблялся и в существа ирреальные, и из них некоторые влекли за собой и очень интенсивные страдания. Эти предметы поклонения были то литературного, то художественного порядка. Среди художественных влюблений я, кажется, уже упоминал Хлою, которую в целом ряде иллюстраций очаровательно изобразил Прюдон, а также Психею, созданную Ф. П. Толстым. Из литературных же особенно сильно захватило меня чувство, которым я воспылал к полутелесной героине рассказа Тургенева «Призраки». Как раз тогда известный книгопродавец Глазунов подарил папе только что им изданное полное собрание сочинений Ивана Сергеевича. Я с жадностью и с путаной для себя пользой поглощал один за другим все знаменитые рассказы (причем наибольшее впечатление на меня произвела «Ася» и «Вешние воды», а Базаров и Нежданов были зачислены сразу в злейшие мои враги), но свихнулся я только тогда, когда после всего я неожиданно наткнулся на ту странную повесть, которую так зло пародировал Достоевский в «Бесах». Сам же я был слишком доверчив (и просто юн), чтобы разобраться в том, что в «Призраках» есть надуманного и фальшивого. Я не только не смог бы в этой повести что-либо критиковать, но в целом я принял ее за нечто возможное, за жуткую и совершенно достоверную быль. В течение многих ночей я после этого ждал, что и меня посетит прелестный призрак, и несколько раз мне даже казалось, что я слышу тот стеклянный звук, который предвещал его появление. Вперив взор в темноту комнаты, едва освещенную отблеском уличных фонарей, я пытался различить формы ее, и моментами мне мерещилось, что я и действительно вижу, что неясный милый образ колышется, придвигается ко мне… В конце концов, муки, причиняемые мне капризами моей главной пассии, и нежелание тургеневского призрака меня осчастливить так, как он осчастливил героя рассказа, слилось в одно сложное и необычайно нелепое чувство. Я был тогда положительно близок к помешательству, и, пожалуй, со мной могло случиться нечто, чему не смогли бы помочь никакие Шульцы, если бы вся эта путаница не разрешилась тем, что капризы главной пассии внезапно прекратились. Одновременно городская жизнь с наступлением лета сменилась дачной с ее привольем…
Во вторую половину лета 1884 г. мне представился новый повод к любовному помешательству. На сей раз полная реальность и все же известная фантасмагоричность сплелись в одно наваждение, в плену которого я оставался целых три месяца. Реальная сторона заключалась в том, что я тогда познакомился с настоящей усадебной деревенской жизнью, к тому же в чарующе своеобразной обстановке Украины. Фантасмагорическая же сторона заключалась в том, что я без памяти влюбился в деревенскую девушку, стоявшую у моей сестры Кати в услужении… Влюбившись, я наделил в своем воображении эту простую и, вероятно, совершенно обыкновенную крестьянку всеми качествами и добродетелями. Это было еще одно «недостойное приличного человека» увлечение; это был — столь презираемый «роман с прислугой». Недостойность этого романа усугубилась еще тем, что я так-таки ничего от этой особы не добился. В свое же оправдание я могу привести, во-первых, то, что вся новизна обстановки меня настроила на совершенно особый лад, так что я мог, пожалуй, подобно Дон Кихоту, и самую ужасную Мариторну принять за Дульцинею, а к тому же эта моя Дульцинея была вовсе не Мариторна, а достойна внимания человека и с весьма разборчивым вкусом.
Мой роман, в общем типично мальчишеский, начался с того, что влюбился уже в некую идею такого деревенского романа, и это еще в Петербурге, понаслышке. Точнее, я не влюбился, а приготовился влюбиться, слушая восторженные рассказы об имении моей сестры, Нескучном, нашего свойственника Анатолия Александровича Серебрякова, мыза которого отстояла от усадьбы Лансере всего в полуверсте. Моей сестрой Катей было поручено Серебрякову соблазнить моих родителей приехать погостить, и мама стала склоняться последовать этому приглашению, но какие-то дела заставили папу отложить эту поездку, и тогда мама предложила мне отправиться к сестре одному. Я не сразу согласился; меня смущало то, как это я лишусь мамочкина крылышка и поеду один через всю Россию, но Анатолий Александрович при повторных визитах до того красноречиво продолжал настаивать, повел такие речи, что я, наконец, и поддался соблазну. Пока, впрочем, он описывал роскошь фруктовых садов, тенистость векового парка, красоту полей, обилие раков в речке, занимательность экскурсий по окрестностям, — я не был в состоянии пересилить страх перед таким своим первым вылетом из родного гнезда. Когда же он заговорил о том, что у Кати полон дом настоящих красавиц, а к тому еще прибавил шутя, что представительницы прекрасного пола на Украине необычайны милы и сговорчивы, то мое решение вдруг созрело. Немедленно было приступлено к сборам, и через день или два после того, что был отпразднован 1 июля день рождения папы, я отбыл из Петербурга в сопровождении нашей домашней портнихи Аннушки — особо уважаемой, богомольной, при этом очень некрасивой и абсолютно для меня не опасной. Ее тоже выписывала Катя для каких-то работ, а на время пути она должна была служить моим ментором. Нигде не останавливаясь, покатили мы с Аннушкой через Москву, Тулу, Орел, Курск, конечным же путем был Белгород. От Харькова было бы ближе до имения Лансере, но шоссейная дорога до Нескучного была размыта дождями, и по ней временно прекратилось движение.
Белгород, вполне оправдывающий свое название благодаря обступающим его меловым белым холмам, показался мне унылым и тоскливым, но нам не пришлось в нем пробыть и получаса, так как сразу нашелся у указанного в письме Кати трактира тарантас из Нескучного. Я был несколько обижен, что меня не удостоили коляски, что вместо приличного кучера рядом (рядом, а не передо мной) сидел довольно плюгавого вида мужичонка, но это неприятное впечатление уступило другим, как только мы поднялись на первую из высот, которых предстояло на этом сорокапятиверстном пути одолеть немало. Вид, открывшийся оттуда, был поистине восхитительный в своем безграничном просторе и в своей солнечной насыщенности. Ряды невысоких холмов тянулись один за другим, все более растворяясь и голубея, а по круглым их склонам желтели и зеленели луга и поля; местами же выделялись небольшие, сочные купы деревьев, среди которых ярко белели хаты с их приветливыми квадратными оконцами. Своеобразную живописность придавали всюду торчавшие по холмам ветряные мельницы. Все это дышало благодатью и несравненно большей культурностью (почти что заграницей), нежели все то, что я видел в окрестных с Петербургом деревушках и только что на своем пути из окон вагона.
Приглядевшись к моему мужичку-вознице, я и его оценил и даже вступил с ним в разговор. Это был великоросс, «москаль», говоривший по-русски, а не по-украински, и он сразу выказал себя парнем сметливым, остроумным и в некотором смысле даже образованным. Как затем выяснилось, он был мастер на все руки и в имении у сестры исполнял самые разнообразные обязанности, начиная, как в данном случае, с кучера, кончая механиком, слесарем и столяром. Но прозвище, ему данное (и которого он вовсе не стыдился), не рекомендовало его как человека образцовой честности. Его все звали Ванька-Жулик, и это свое наименование он частично оправдывал — правда, не серьезными, но все же непозволительными проделками. Надо еще сказать, что Ванька-Жулик был и великим виртуозом на гармонике, превосходно танцевал и ухаживал напропалую за девчатами, а два раза в неделю напивался вдрызг пьян. Все это вместе взятое придавало его личности какой-то ореол. С виду же это был довольно щуплый, невысокий блондин, с мягкими, скорее приятными чертами лица, с жидкой бороденкой, с ясно-голубыми глазами. Одет он был почти по-нищенски: все, что зарабатывал, он пропивал или раздаривал своим подругам; если же что получал с барского плеча, то и это, через короткое время, он нес в кабак.
Проехав, качаясь и прыгая, оставляя за собой облака пыли, часа три с половиной и, как раз, когда мы взобрались на более высокий холм, Ванька попридержал лошадь, поднял кнут и вымолвил, не выпуская изо рта цигарку: «Вот она Нескучная». И действительно, в открывшейся перед нами долине — но еще довольно далеко, — показался белый господский дом, выделявшийся на фоне массы деревьев; поодаль в поле стояла белая церковь с двумя зелеными куполами, а еще дальше расположились сараи и амбары разной величины и назначения. Все это мне показалось очень внушительным, и я немало возгордился в душе, считая, что все это как бы и наше, мое, раз оно принадлежит моей сестре Кате. Еще минут через десять тарантас прогремел по мосту через полувысохшую речонку, сбоку под липами мелькнула готическая кузница, потянулись крытые соломой здания скотного двора и конского завода, и, наконец, вытянулся отделенный от дороги дом какого-то курьезного доморощенного стиля, в котором формы готики и классики сочетались весьма причудливым образом. Тут у ворот уже стояли поджидавшие меня родные с угрюмым Женей и с сияющей Катей во главе, а среди группировавшихся позади домочадцев я сразу же различил высокую стройную девушку с каким-то трогательно детским лицом: это была «подгорничная» Липа.
Первые дни моего нескучанского пребывания прошли без того, чтобы я почувствовал какое-либо «серьезное сердечное ранение». Не до того было; слишком было много новых впечатлений, слишком много меня таскали по прогулкам и устроенным в мою честь пикникам — в большое соседнее село Веселое, в рощу Дубки, к славившемуся орешником Оврагу; слишком обильно я нагружался всякими новыми для меня яствами, — непонятно даже, как желудок выдерживал такое количество снеди и особенно кукурузы, только что сорванной и которую так приятно было «отгрызать», смазав сливочным маслом. Я слишком уставал, слишком бесился, играя с племянниками; и тут же слишком старался показаться взрослым, ухаживая за сестрой Е. А. Лансере — Зиной Серебряковой и за ее подругой — смазливой и смешливой вдовицей госпожой Поповой. Но когда все это первое возбуждение улеглось и потекла будничная жизнь, то я стал оглядываться на ближайшее, — и тут я оценил прелесть Липы, тут снова я и попался в сети Купидона.
Спал я в угловой комнате с окнами, затемненными вековыми деревьями, но, несмотря на это, как только начинало брезжить утро, так начиналась мука от бесчисленных мух. Чтобы спасти меня от них, окна завешивались темной занавеской, и вот получавшаяся от этого искусственная ночь сменялась серым полумраком, когда отворялась дверь в соседнюю гостиную, а затем сразу наступал день, когда отдергивалась занавеска. Роль такой Авроры и играла Липа, которой было наказано будить меня за полчаса до утреннего кофе и которая входила, неся в руках вычищенное платье и сапоги. Слов никаких при этом она не произносила, а лишь спокойно и старательно производила довольно сложную операцию отшпиливания и отвешивания занавесок. Первые дни такое нарушение сладости предутреннего сна меня раздражало (и какой же у меня тогда был сон!), но постепенно я, напротив, стал этот момент ценить и ожидать. Меня он уже не будил, а я лежал добрых полчаса до него с открытыми глазами, прислушиваясь ко всем шумам пробуждающегося дома. Наконец, скрипнет дверь столовой, послышится поступь босых ног по полу гостиной, повернется ручка моей двери, и в комнату проскользнет ее тень. Эта тень превращалась затем на фоне окна в силуэт стройной, полногрудой девушки, которая, освещенная зеленым отблеском деревьев, шла обратно к двери и с легким поклоном говорила: «Здравствуйте, барин, пора вставать». Самое прелестное в этом ежеутреннем явлении были именно эти шаги Липы — эти легкие удары босых ног по паркету. Из смазливой горничной, «за которой можно приударить», Липа с каждым днем превращалась в моих глазах в существо, не имеющее себе подобных. Происходила же эта метаморфоза как-то вкрадчиво и разумеется, менее всего по вине или по желанию самой девушки, которая только тогда заметила, что у барчука к ней особенные чувства, когда я стал это выражать в откровенной форме.
Эти откровенные формы были в большом ходу в Нескучном, и откровеннее всего свои чувства выражал помянутый Ванька-Жулик. У него была всему дому известная связь с сестрой Липы, Ольгой, также очень красивой женщиной, тоже служившей горничной, однако это не мешало Ваньке тут же, на глазах своей возлюбленной, заигрывать с другими девчатами и даже хватать, тискать и целовать их куда попало. Сопротивлялись деревенские красавицы слабо. Легкость, с которой можно было добиться у них чего угодно, и моя дружба с Жуликом, который меня занимал своими картинными и крайне нескромными рассказами, должны были и меня наталкивать на подобную предприимчивость, но для этого, скажу откровенно, у меня не хватило желания, я даже чуть брезгал этих не слишком чистоплотных и уж больно доступных прелестниц.
И вот, попробовав такое же прямое действие в отношении Липы, я наткнулся на решительное сопротивление. Это было при царивших местных нравах чем-то необычайным, но это особенно и разожгло мою страсть. Поцеловать Липа себя разрешала только в щеку; разрешала она и погладить себя по плечу или по наполовину оголенной руке, но как только я становился более отважным, так получал решительный отпор, и этот отпор действовал тем сильнее, что он сопровождался не каким-либо возмущенным восклицанием, негодующими взглядами, смехом или битьем по рукам, а сопровождался он простым, безмолвным, но явно неумолимым отстранением. В этой девушке было что-то до такой степени природно-степенное, такая подлинная, приправленная грустью, скромность, что и при малейшем сопротивлении руки сами собой опускались, и мне становилось только убийственно неловко. И чем стыднее делалось от этих тщетных и все же то и дело возобновляемых попыток завоевать Липу, тем сильнее стал говорить во мне уже не простой каприз испорченного мальчишки, а чувство более серьезное. Мне уже казалось, что я не могу жить без нее, что я не в силах буду расстаться с ней. Забродили и нелепые для четырнадцатилетнего мальчишки мысли о браке.
И тут как раз я получил ошеломивший меня удар. От одной из прислуг, Лукерьи, я узнал, что Липа невеста и что на днях к ней приедет жених. Все вдруг для меня померкло, и, забравшись в самые запущенные заросли сада, обжигаясь о крапиву, я бросился на землю и предался беснованию полного отчаяния… Нечто подобное я уже испытал год назад, когда ушла от нас Маня, но там не было ревности, здесь же я впервые почувствовал, до физической боли, остроту ее укола. Кто же это мог быть, кто дерзал искать обладания моей Липой, этой богини? Какой-нибудь мужик, набитый дурак, который ничего не сможет понять в исключительной красоте и прелести девушки, покорившей мое сердце? Некоторым утешением мне было только то, что Липа на вопрос, правда ли, что она невеста, пожала плечами и молвила: «Все брешет Лукерья». Никакого-де у нее жениха нет, а действительно сватался вдовец из далекого, за сорок верст, села. Но сестра Ольга была более категорична. Когда, в поисках истины, я как-то отыскал ее в каморке под лестницей, служившей ей спальней, то застал ее уткнувшейся головой в подушки и всю содрогавшуюся от рыданий: она как раз переживала очередной кризис своего романа с Ванькой. Сквозь пальцы, закрывавшие ее залитое слезами лицо, она, всхлипывая от собственного горя, подтвердила Лукерьино сообщение. Как будто даже она была рада, что сестру упекут куда-то и что ей готовится нелегкая жизнь. Пусть же отведает и она горя, пусть попробует, легко ли в семнадцать лет стать мачехой чужих детей…
А через два-три дня, пережитых мной в сомнениях, я уже собственными глазами увидел жениха Липы. Мужик этот был тоже русский, а не хохол, с окладистой светлой бородой, рослый, довольно красивый и чисто одетый. Он степенно пил чай на кухне у окна, а Липа ему прислуживала. Я поздоровался с соперником за руку (у меня тогда выработалась такая демократическая манера со всеми здороваться за руку, и мне это очень нравилось), предложил ему даже какой-то вопрос, но от чаепития с ним отказался. К удивлению своему, я при этом никакой злобы против того, кого еще накануне готов был зарезать, изрубить, не почувствовал. Напротив, вся эта картина чаепития в белой большой кухне с плитой в пестрых изразцах осталась у меня в памяти как нечто скорее приветливое и милое. Но горе мое все же не знало границ. В уединении я обливался слезами, да и на людях меня не оставлял трагический вид, что служило поводом к особенно злому издевательству моего зятя. Так и вижу его в татарской ермолке, в бешмете, сидящим в глубоком кресле в столовой и что-то делающим своими инструментами над очередной восковой фигуркой, которую он вертел в руках. Иногда он поверх очков бросал взгляд на меня, валявшегося тут же на диване, и изрекал по моему адресу нечто в высокой степени язвительное. Я сносил эти сарказмы с непривычной молчаливой покорностью. Какое мне было дело до оскорблений злого человека, которого я по-прежнему продолжал ненавидеть (оценил я своего зятя только во второй свой приезд в Нескучное в следующем году), какое мне было дело до таких ничтожных уколов, когда я был и без того «весь изранен», когда я себя чувствовал героем настоящего романа, скорее даже трагедии. Я почти серьезно подумывал, не покончить ли мне с моей разбитой жизнью…
Не надо, впрочем, думать, что страдания молодого Бенуа поглощали все его время и совсем выбили его из своих привычек, занятий и игр. Горе горем (это горе, если и было несколько театрализовано, то все же оно было искренним), а время все же надлежало каким-либо образом убить, и это убиение времени по-прежнему заключалось в ловле для своей коллекции бабочек и жуков (какого красавца жука-оленя я тогда нашел посреди темной липовой аллеи, но особенно я был горд включением в свою коллекцию мохнатой кротоподобной медведки), в прогулках, в возне с племянниками. Урывками я даже принимал участие в крестьянском труде. Как раз тогда прибыла выписанная из Англии молотилка, и работа вокруг этой гудящей, тучи золотой пыли разбрасывающей машины увлекала всех. Совершенны были и две большие прогулки в обществе Липы и приехавшей со мной Аннушки, которая внезапно вспомнила о своей обязанности за мной присматривать. Эту необычайно глупую, перезрелую и некрасивую девицу я тогда возненавидел. Оставаться в моем обществе я решительно ей запрещал, но так как она все же всерьез считала себя моим ментором, то надзор ее сводился к тому, что она, соблюдая приличную дистанцию, следовала всюду за мной. Таким образом — на расстоянии пятидесяти шагов от меня и от Липы — она поплелась в необычайно жаркий день и по пыльной дороге до села Веселого, где жили старички-родители Липы. В Веселом же она не удостоилась быть допущенной внутрь хаты Липы, а чай ей был вынесен наружу. Таким же образом бедная Аннушка следовала за мной по пятам и в состоявшейся за два дня до моего отъезда прогулке в лунную ночь к расположенной на холме деревне Кукуевке.
Но не одни воспоминания об Аннушкином следовании остались у меня от этих прощальных прогулок, а осталось в памяти то меланхолическое упоение, которое я испытал, пребывая в течение нескольких часов в непосредственной близости с Липой. Во время прогулки на Кукуевку мне даже было разрешено взять ее под руку, и моментами я ощущал через легкую, бурую с красненькими пятнышками кофточку ее крепкое прохладное тело… Стояла изумительно светлая ночь, о которой я мечтал еще тогда, когда любовался гостившей у нас картиной Куинджи; теперь я наяву видел млеющие в фосфорическом свете белые хаты и те же огоньки в них, те же шапки соломенных крыш, те же бархатистые чернеющие пирамидальные тополя. Нас ждали в деревне, т. е. ждали Липу и двух-трех других девчат из Нескучанской экономии. Сразу появилась гармошка, появились местные девки и парни. Начались танцы, в которых особенно отличался какой-то молодец, который не только вертелся, как волчок, взлетал высоко в воздухе или пускался вприсядку, но и со всего размаху бросался на землю и, уже лежа в пыли, продолжал неистовствовать. Девчата визгливо распевали свои странные дикие песни и водили хороводы. В них приняли участие и нескучанки, даже вытащили в круг и богомольную Аннушку. Но Липа не пожелала присоединиться и вместе со мной осталась в стороне; сидя рядом с ней на бревне, я изнывал от счастья.
Дневная же прогулка в Веселое носила менее оперный характер, но в своем роде тоже не была лишена поэзии. Пришлось идти шоссейной дорогой — большим трактом, на котором лежало Нескучное и который соединял Харьков с Белгородом. Пыли было много, зной полуденный, нигде по дороге ни дерева, ни даже кустика. И все же какое это было наслаждение проделать весь этот пятиверстный путь в обществе той, по которой я изнывал.
Надо еще прибавить, что в этот день Липа оделась совсем по-украински, с шелковым платком на голове, повязанным тюрбаном, и в бархатной безрукавке поверх расшитой рубахи. В этом наряде она была действительно поразительно красива. И как отрадно было после жаркого пути вступить в прохладную чистую хату почтенных родителей Липы и быть там принятым в качестве почетного (несмотря на юный возраст) гостя. Все показалось мне удивительно приветливым и культурным в этой выбеленной, полотенцами убранной просторной комнате, один из углов которой был занят образами и благочестивыми лубками. Засуетилась мать Липы, отец же, не говоривший ни слова по-русски, степенно просидел в своей белой рубахе в стороне на пестром сундучке. Появились свежеиспеченные коржики, чай с полдесятком кусочков сахара на цветном блюдце и только что снятые с дерева яблоки. Долгое время затем, по приезде в Петербург, я просил, чтобы мне подавали к чаю вместо лимона яблоки, так как один ароматичный, чуть приторный вкус их вызывал воспоминание о тогдашней прогулке. После чая мы прошлись по селу. Старинная церковь в Веселом была несравненно интереснее банальной, всего лет сорок до того сооруженной Нескучанской. Это была типичная для Украины пятиглавая постройка с пирамидально сокращающимися кверху этажами; и в общем она вызывала впечатление чего-то китайского и в то же время носила на себе явный отпечаток польских влияний. Выбеленная внутри, она была залита светом, а среди всей этой белизны торжественно блестело золото высокого затейливого иконостаса. Увы, и тут я исполнился горечью при мысли, что, пожалуй, в скором времени Липа будет стоять перед этими сверкающими иконами, но будет она стоять не со мной, а с бородатым мужиком и что увезет он ее к себе за много верст от Веселого и Нескучного!
День моего отъезда вдруг приблизился, и настал момент разлуки. В то утро уже, потеряв всякий стыд, не скрывая ни перед кем своих переживаний, я ежеминутно, длинным коридором отправлялся на кухню или в людскую — с тем, чтобы или поцеловать Липу в плечо или сказать ей две-три бессмысленные фразы, которые она, вероятно, и не понимала, так как не была сильна в русском языке. Странное дело, она и теперь отрицала, что выходит замуж, а это давало мне какие-то (какие?) надежды. Но пробили часы в столовой десять, и к крыльцу подъехала бричка (я и на сей раз не удостоился коляски). Уже понесли чемоданы, Аннушкин громадный узел и большую корзину с провизией на дорогу. Я было попробовал заставить ненавистную Аннушку сесть ко мне спиной, но Женя Лансере на меня прикрикнул, кучер (то не был мой друг Ванька-Жулик, который валялся мертвецки пьяный) дернул вожжами, и мы покатили. Дети и прислуга побежали за нами и остались, помахивая платками, у ворот палисадника. Пока можно было их видеть, я оглядывался и все старался различить Липу среди прочих, но вскоре экипаж нырнул к мосту, усадьба скрылась за углом, поднялись столбы пыли, и я почувствовал, что все кончено… В Белгород я доехал в каком-то оторопелом состоянии и в том же состоянии, не удостаивая ни единым словом спутницу, добрался до Петербурга.
До чего же мне все показалось дома тоскливым, тесным, душным! Первые дни я по памяти рисовал одни малороссийские хаты, тополя и пытался, но тщетно, передать очаровательные черты Липы. При этом я кое-как утешался последним заверением Липы, что она и не думает выходить замуж «за такого старика». Но недели через две пришло письмо от Кати, которое разбило последние иллюзии. Сестра писала: «Шуреньке, вероятно, интересно будет знать, что у нас в доме невеста. Его подруга Липа выходит замуж; в будущую субботу будет ее свадьба». От мамы я до этого момента скрывал причину моей меланхолии, а тут я не счел нужным это делать. Сначала я даже заговорил о том, что мне совершенно необходимо ехать на эту свадьбу, мол, я «обещал», когда же я понял, что это мне никогда не позволят, то заперся у себя в комнате, в отместку (чему? кому?) сжег массу всякой всячины в камине (тогда-то погибли всякие хорошие книги и все мои детские дневники), принялся варить на грелке для курения яд из своих акварельных красок и тут же обдумывал, не лучше ли покончить с собой, воткнув в сердце Мишин морской кортик. Мое состояние повергло бедную маму в настоящую тревогу: папа же взирал на все это, как на глупые гримасы. Желая как-то заглушить сердечную боль, я себя не жалел; отказывался от еды, надевал на ночь вымоченную в холодной воде рубашку и т. д. Мечтал при этом, что заболею воспалением легких и умру.
Однако я не умер и даже не заболел, и все эти терзания завершились совсем просто. Как раз подоспели приготовления к свадьбе брата Миши, к которой мне был сшит новый парадный гимназический мундир. Облекшись в него, я почувствовал себя почему-то совсем обновленным и удивительно элегантным. Деревенские настроения испарились. Сыграло большую роль в моем возвращении к нормальной жизни самое это бракосочетание Миши и Ольги, происходившее в верхней раззолоченной церкви нашего Никольского собора (моя кузина, Мишина невеста, была православной). Сколько тут оказалось красных и синих лент, сколько звезд, сколько разнообразных военных форм. Как разрядились наши дамы, среди которых эффектнее всех была бабушка Ксения Ивановна. Не подозревал я до тех пор о таком великолепии нашего круга знакомых. А тут мне приглянулось странное бледненькое личико барышни Аршеневской, казавшейся столь хрупкой и жалость возбуждающей. И в этот вечер и во время последовавших семейных торжеств я очень много пил шампанского, и потому почти не выходил из какого-то затуманенного состояния. Постепенно мои малороссийские впечатления стали меркнуть, и сердечная рана зарубцовываться. Я уже не рисовал больше хохлушек, пирамидальных тополей и хат с соломенными крышами, а снова вернулся к своему кукольному театрику. Снова на моем горизонте появилась прелестная, ставшая после перерыва еще более ласковой моя девочка, попрекнувшая меня за то, что я-де забыл свою невесту… Все же образ Липы где-то в памяти не умер, не стерся, и я сохранил его, окруженным поэзией, на всю жизнь…
ГЛАВА 14 Первое причастие
Теперь необходимо вернуться несколько назад.
Когда мне минуло двенадцать лет, мамочка решила, что нельзя дольше оставлять меня без настоящего религиозного воспитания. При всей своей глубокой преданности церкви, папочка как-то забывал об этом заботиться. Ему я все еще представлялся тем же малышом, который так еще недавно днями просиживал у него на коленях. Напротив, неверующая мамочка понимала, что я вступаю и уже вступил в возраст всяких соблазнов и что потому нельзя дольше медлить и пора как-то морально укрепить меня. Это входило в ее заботу о «гигиене моей души». Несколько раз я слышал, как она говорила: «Нужно, чтобы он прошел катехизис», а осенью 1882 г. она наконец и предприняла соответствующие шаги. Оказалось, что как раз при том доминиканском монастыре (скорее подворье или общежитии), который обслуживал главную приходскую католическую церковь в Петербурге — Святой Екатерины, с недавних пор среди прочих монахов, по большей части поляков, находится и один французский патер, «которого все очень хвалят». К нему мамочка и отправилась; от него она разузнала о всем распорядке уроков катехизиса и о материальных (удивительно скромных) условиях. После этого она повела меня прямо на первый же урок, купив предварительно серенькую книжку парижского издания катехизиса с гербом кардинала-архиепископа на обложке. Это был тот катехизис веры, по которому патер учил свою не великовозрастную паству.
Я порядочно трусил, вступая в сакристию при церкви св. Екатерины, в которой я застал целую толпу мальчиков и девочек, а также группу родителей. Посреди окруженного шкафами помещения стоял довольно высокий и полный, очень моложавый человек с превосходно выбритым лицом, одетый в белую суконную, лежавшую крупными мягкими складками рясу. Но робость моя сразу прошла, когда очередь знакомства с пэром Женье дошла до меня, и он с изысканной вежливостью, но и не без важности, обратился к маме (тоже порядком в таких случаях робевшей) с вопросами — сколько мне лет, где я учусь, имею ли я представление о Священном Писании и т. д. Получив все ответы, он слегка нагнулся ко мне, и вот в эту секунду он сразу меня покорил. Я взглянул в его карие, ласковые глаза, я увидел его умную улыбку, и мне захотелось у него учиться, хотя я не очень отдавал себе отчет, в чем именно будет заключаться это ученье. Когда же пэр Женье с большой простотой и без всякого пафоса положил свою большую добрую руку мне на голову, я совершенно естественно (будучи приучен к этому) поцеловал ее.
Когда представление всех детей кончилось, он сгруппировал нас и повел через двери мимо главного алтаря (перед которым он и мы встали на колени) в капеллу Пресвятой Девы, находящейся в левом приделе. Почему-то я никогда здесь раньше не бывал и потому меня поразила прелестная архитектура этой отдельной церкви (папочка назвал имя ее строителя: Кваренги), состоящая из толстеньких колонн и из полукруглых ниш с несколько приспущенным сводчатым потолком в кессонах. На алтаре я увидел красивую картину Благовещения (если я не ошибаюсь, она кисти Дуайена), а в нишах низко поставленные большие статуи святых. Все началось с общей молитвы. Рассадив детей по длинным скамьям, занимавшим всю середину капеллы (родители кое-как расположились на скамьях вдоль стен, где, кроме того, стояли и исповедальные будочки — «конфессионалы»), пэр Женье подошел к алтарю и, встав на крытую вышитым ковром нижнюю ступень, сначала минуты две молился молча, а затем, обратившись к нам, предложил хором прочесть за ним «Отче наш» и молитву Богородице. Дружное жужжание явилось в ответ, но в нем я не участвовал, ибо мне было стыдно, хотя никто из соседей не мог бы заметить, бормочу ли я что-нибудь или нет. Эта моя конфузливость (робость) при всяком массовом выступлении не покидала меня всю жизнь, и я до сих пор страдаю ею, не зная, чем ее объяснить и как этому помочь. Любопытно, что такой же неожиданной и непобедимой конфузливостью отличается и моя жена, и ее же мы передали нашим детям. После молитвы пэр Женье взял стул и положил принесенные с собой книжки на аналой первой скамьи, почти рядом со мной (ибо мне посчастливилось попасть в первый ряд, благо тому, что моя фамилия начинается со второй буквы алфавита) и произнес род короткой, но очень трогательной проповеди на тему о любви к Богу. Задав после того первый урок и пояснив нам своими словами все ответы первых двух глав катехизиса, которые надлежало заучить, он снова помолился, снова вслед за ним прожужжал детский рой, чем и завершилось это собрание.
Не все дети были одинакового со мной возраста; были мальчики лет восьми или даже шести, а были и почти взрослые юноши и барышни. Среди последних было несколько полек. Одна была мадемуазель Любомирская (может быть, княжна), а другая Софи Кербетц. Упоминаю я здесь о них потому, что, как уже рассказано, я вообще переживал тогда период первого чувственного пробуждения (о вещах, подвластных Венере и Купидону, я узнал всего год назад), и все усилия стать на тот путь добродетели и целомудрия, о которых учила церковь и который я клялся себе не покидать, особенно возбуждали во мне всякие соблазны. В частности, я не мог видеть мало-мальски привлекательную девочку без того, чтобы не задать себе вопрос: «не стоит ли в нее влюбиться?» Это Венерино наваждение сообщало моему катехизисному году особую окраску, и если теперь совершенно объективно (по-стариковски) оценивать ее, то я бы сказал, что именно эта окраска придала всему и особую прелесть.
Я только что рассказал, как в 1883 г. я пережил первый мой очень меня захвативший роман, влюбившись в девушку, за которой я раньше ухаживал больше из шалости, от нечего делать, а затем полюбил ее (ее ли лично или в ней вечно женственное?) со всей страстью, на которую способен тринадцатилетний мальчик. И вот я думаю, что развязка этого романа, всего на несколько недель предшествовавшая знаменательному дню первого причастия, сообщила моему тогдашнему религиозному экстазу такую интенсивность, которая едва ли могла бы быть, если бы, скажем, я походил на моих товарищей по катехизису, этих здоровяков и простаков, из которых иным было и пятнадцать и шестнадцать лет, но которые были сущими детьми. Я же в своей скороспелости был до некоторой степени уродом. Это несколько мучило мою совесть и в то же время наполняло каким-то чувством превосходства. Да и все мои душевные переживания того года получали от этой сложности, от всего этого сплетения особую силу и род какого-то озарения.
Что же касается до самих уроков катехизиса, то я быстро заинтересовался ими, однако, когда до меня доходила очередь давать ответы на положенные вопросы, я отвечал не столько текстуально то, что вызубрил, сколько по существу и своими словами. Пэр Женье казался иногда удивленным решительностью и свободой ответов такого тихонького и скромного мальчика (каким я должен был ему представляться) и неоднократно вступал со мной в отдельную беседу, но при этом у меня не было и тени желания как-то отличиться или поразить его. Я слепо верил каждому его слову, а потому мне было легко в таком же духе мыслить и эти мысли излагать. Впрочем, я вообще от природы предрасположен к какой-то ортодоксальности, и мне скорее претит всякий бунт. Сомнений каких-либо тогда во мне и не возникало. Лишь после того, что я познакомился с учением о благодати, во мне стали просыпаться какие-то движения гордыни, какие-то мечты о чрезвычайной святости. Эти мечты, однако, в самом зародыше терпели крушение как раз благодаря тем искушениям, тем «победам дьявола», которые особенно участились по мере моего приближения к половой зрелости.
Иногда я прибегал, по совету пэра Женье, к помощи своего молитвенника и пробовал разобраться в себе. Разумеется, у меня не было на совести ни убийства, ни воровства, ни иных каких-либо уж очень страшных и эффектных грехов, но были всякие пустячные грешки, а также немало грехов против церковных законов — их я не собирался утаивать на исповеди. Но дальше шел перечень грехов плотских, от зовов собственного тела исходящих, и тут получалось великое смущение. К тому же некоторые термины были абсолютно непонятны, например fornication (грехи плоти). Когда я обращался к маме, то и она не умела мне их объяснить. В конце концов, я решил всю как бы активную часть переложить на священника — пусть он спрашивает (как оно и полагалось), а я буду отвечать. Если он спросит про такие вещи, о которых мне никак не позволял стыд заговорить самому, то я и на эти вопросы отвечу честно. Если же не спросит, то я со своими сомнениями к нему не полезу. На таком компромиссе я и успокоился, а пэр Женье никаких предосудительных вопросов мне на духу и не поставил. Получив затем отпускную (как мне казалось, совершенно заслуженно), я пошел затем к причастию с чистой, голубиной душой…
Не могу на этом месте не отдаться воспоминаниям о всей атмосфере, царившей на уроках пэра Женье, исходившей как от его собственной особы, от его слов, жестов, от его белоснежной одежды, так и от всего окружающего — от уюта этой замкнутой капеллы, которую в зимние месяцы едва освещали две тусклые стенные лампы и полдюжины свечей, расставленных по аналойным доскам, на которые клались молитвенники. Тайной веяло от всего обширного и темного помещения самой церкви позади нас. В ней уже не было молящихся (двери на улицу с наступлением темноты запирались зимой в три или четыре часа), зато тем отчетливее слышалось тиканье больших часов и, каждые четверть часа, их кристальный бой. Шум Невского проспекта не проникал к нам, особенно после того, как установился санный путь, а вся эта громадная и темная храмина, в которой при свете лампад едва блестела позолота обрамлений алтарных картин и мерещились белые фигуры исполинских ангелов, отважно под самыми сводами восседающих на карнизах, казалась полной какой-то своей жизни. Совершенно особое чувство я испытывал, когда на пути из капеллы в сакристию (через которую приходилось и выходить и входить, когда главные двери церкви на улицу закрывались), я топтал плиты, под которыми были похоронены последний король польский и знаменитый французский полководец генерал Моро.
Перед самым причастием атмосфера наших уроков изменилась. С приближением весны церковь с каждым разом казалась более светлой и, входя в нее после теплеющего воздуха, я уже ощущал ее прохладу и сырость. В зимние месяцы я даже своих соседей по скамьям различал с трудом и то только тех, которые сидели у самых свечей, тогда как вся остальная масса тонула в полных потемках. Теперь же я их видел, теперь я мог любоваться теми девочками, которых я раньше почти не различал. Теперь они не приходили закутанные в бесформенные шубы и ротонды, а являлись в кокетливых шапочках и в цветных, обрисовывавших фигуру, пальто. Особенно теперь я отличал сидевшую через одно место от меня не очень красивую, но очень милую, очень по-видимому добрую и ласковую Софи Кербетц — дочь известного инженера. И как раз мне ее назначили в пару (по росту), когда наконец наступил высокоторжественный день. В паре с ней я ходил не один раз, ибо пэр Женье, как настоящий француз, не желал предоставить все случайностям, а строго выработал церемониал и, дабы не произошло никакой путаницы, заставил нас проделать две настоящие репетиции. В душе мне это не очень нравилось, я находил, что это нечто даже недостойное серьезности момента. Да и мамочка проронила что-то вроде «это совершенно лишнее». Но приходилось подчиниться, к тому же пэр Женье сумел нам растолковать все значение благолепия: мол, соблюдение его — лучшее выражение богопочитания. И вот, возможно, что как раз эстетическая, светская сторона его педагогики оказала особенно глубокое действие на меня и способствовала утверждению во мне таких взглядов, которые легли в основу всего моего «личного мировосприятия».
С этого года мой природный анархизм получил какое-то ограничение, и, хоть в душе я оставался верен ему, однако, я познал также пользу и смысл узды. Самые репетиции дали мне случай быть с Софи — точно жених с невестой, и у нас даже получился какой-то намек на дружбу в озарении ожидаемого дарования святости. Поэтому и дружба наша носила какой-то «райский, бесплотный» характер, перейти же во что-либо другое она не успела…
Я сомневаюсь, чтобы пэр Женье хоть кого-либо провалил на том экзамене, которым завершились его уроки, но трусили все, и более сознательные — скорее за учителя, чтобы его не огорчить. Присутствовал на экзамене другой монах — австриец, патер Шумп. Он служил чем-то вроде ассистента, придававшего большую значительность процедуре. Несколько раз и Шумп предлагал на ломаном французском языке кое-какие очень легкие вопросы. Но не только внушительность придавал этот второй белый монах, но и одним своим видом он способствовал усилению той атмосферы святости, в которую мы окунались всем нашим существом. Это был еще очень молодой человек, черноволосый с чудесным, вдохновенным серафическим лицом — полным того выражения, которое старинные художники придавали св. Антонию Падуанскому или св. Франциску Ассизскому. Рядом с довольно полным, холеным и уже не совсем молодым пэром Женье его друг казался особенно просветленным. Не могло быть сомнений, что жизнь этот монах ведет суровую, аскетическую, что он должен целыми днями пребывать в экстазе и простаивать ночи на коленях. Весь наш класс увидал в нем прямо-таки подлинного святого, чуть ли не с нимбом вокруг головы.
Иллюзия, что Софи являлась вроде какой-то моей «небесной невесты», еще усилилась, когда на вторую репетицию (как и все прочие девочки) она явилась в белом платье до самого пола, с целым облаком кисейных вуалей, с венком из белых роз на голове. Костюм этот и ей и всем прочим девицам удивительно был к лицу, а в целом их рой производил прелестное впечатление. Напротив, мальчики в новеньких курточках выглядели не особенно авантажно, а многие даже казались смешными, представляя собой подобие карликов. Спасал широкий белый бант с великолепной золотой бахромой, которым была повязана левая рука каждого, а кроме того, в правой руке появилось по толстой свече, тоже украшенной белым бантом. Обращение с этой свечой представляло известные трудности; надо было то вставать на колени, то подыматься, сходиться и расходиться, и все это так, чтобы не закапать воском соседку — и не дай Бог! — не поджечь ее фату. Некоторые дети были более ловкие и внимательные, они сразу понимали, что именно от них требовалось, но среди нас были и тупицы, которые наступали на подол, поворачивались налево, когда нужно было направо, забегали вперед или отставали, не понимая еле слышным голосом произносимые команды пэра Женье. Первая репетиция затянулась на добрых три часа, а вторая отняла часа два, причем все ужасно устали и более всего оба священника. Наконец, все наладилось, мы выслушали еще одно напутственное слово, еще раз исповедались — на тот случай, если что-либо греховное было совершено за последние два дня (тут просто приходилось выдумывать, дабы пэр Женье недаром сидел в своей будке) — после чего нас отпустили с тем, чтобы мы снова явились наутро, в воскресенье в 9 часов — отнюдь, однако, не вкушая до тех пор какой-либо пищи. Тело наше должно было быть сосудом совершенно чистым — так как предстояло принять в него самого нашего Спасителя…
Большого труда соблюдение этого поста мне не доставило, напротив, мне тогда казалось, что я мог бы выдержать и бесконечно более тяжелое испытание. Ведь я находился после второй исповеди в состоянии «совершенной святости», — не мог же ошибаться пэр Женье, утверждавший, что это так. Я чуть ли не чувствовал крыльев за спиной, и, представляя себе свою «внутренность», я думал, что она озарена каким-то белым светом. Даже смерть в такие часы не представляется страшной; я почти желал ее, ибо тогда я бы предстал перед Божьим судом таким же белым и чистым и мое допущение к сонму блаженных произошло бы без всякого затруднения, без необходимости еще очищаться от греховной грязи в чистилище. Воздержание в тот вечер от чая с печеньями было чем-то совершенно пустячным, не заслуживающим даже названия жертвы, и лишь чуточку труднее было устоять от прельщения чудесно пахнувшего утреннего кофе с сухарями и булкой.
В церковь мы поехали в открытом ландо (весна была в полном разгаре) — папа, мама и я, а в церкви нас ожидали многочисленные наши родные и знакомые. На церемонию пожелали поглядеть близкие люди и других маленьких святых, а потому церковь переполнилась необычайно нарядной публикой, оттеснившей обыкновенных серых прихожан. Нас всех собрали в сакристии и в монастырском коридоре перед нею. Тут был нам произведен (без участия родителей, которые оставались в церкви) строгий смотр, затем мы были расставлены попарно, наши свечи были зажжены, и мы двинулись двумя длинными рядами к дверям церкви, откуда навстречу лились торжественные раскаты органа. В этот момент у меня так захватило дух, что я еле удержался от слез. И то же счастливое умиление отразилось во взоре Софи. Описывая теперь эти моменты, я должен делать некоторое усилие, чтобы не съехать на добродушную иронию: прожитая жизнь и весь опыт очерствили душу, приучили ее к сомнению. Но тогда, разумеется, было не до иронии и сомнений, тогда я как-то весь растворялся в восхищении, в каком-то сверхъестественном (как мне казалось) блаженстве.
О самой церемонии скажу только, что и оба патера, и третий сослужащий мне показались преображенными благодаря тем сверкающим золотом ризам, в которые они облачились по случаю праздника. О как чудесна была та секунда, когда мне на язык была положена гостия (облатка)! А затем все как-то сразу кончилось в суматохе поздравлений, и я не заметил, как уже снова очутился в экипаже с родителями. Подсел к нам и сеньор Бианки. Каким я был в тот день на несколько часов еще образцовым и мягким! Мне казалось, что я продолжаю излучать потоки добродетели. Как мило и ласково я отвечал на поздравления прослезившейся Степаниды и трижды поцеловался с Ольгой Ивановной. С какой отменной сдержанностью, не высказывая ни малейшей жадности, я вкушал (я ужасно проголодался) разных любимых блюд. В ощущении своей собственной святости я как-то цепенел и даже неохотно двигался, точно опасаясь расплескать всю накопившуюся в душе и сердце благодать.
Но к ощущению счастья примешивалось и немного меланхолии, ибо праздник-то как-никак прошел и наши общие занятия с пэром Женье кончились. Некоторым утешением служило то, что уже через неделю должна была состояться наша конфирмация, причем все только что проделанные церемонии должны были снова повториться. Они даже обещали приобрести еще большую торжественность, так как должен был присутствовать епископ. То был поляк, оказавшийся в Петербурге проездом на пути в свою епархию в Сибирь.
Только что я упомянул имя сеньора Бианки, оказавшегося среди близких людей при моем первом причастии и севшего с нами в коляску. Упоминал я о нем и раньше, но здесь необходимо сказать, кто это был, так как именно он был приглашен быть моим отцом-восприемником при конфирмации. Джованни Бианки как-то достался нашему дому в наследство от деда Кавоса. Это был художник-живописец, но в Петербург он прибыл еще при Николае Павловиче в качестве фотографа — чуть ли не первого в России. У нас в семье считалось, что именно Бианки познакомил русских людей с изобретением Ниепса и Дагерра. Специальностью его, однако, были не столько портреты, сколько пейзажи, памятники и особенно интерьеры. До последних в те дни усиленного строительства и убранства русские баре были особенно охочи. При этом Бианки не был простым профессиональным техником; на всех им изданных фотографиях он себя величает художником, и художником он действительно был, что сказывалось как в выборе момента освещения, так и в точке зрения. В технику же фотографии он ушел с головой, уподобляясь в этом какому-либо средневековому алхимику. Ногти у него были всегда желтые от коллодиума, а весь он был пропитан какими-то химическими запахами, впрочем, не противными. Я узнал Бианки уже стариком, одевавшимся по моде 40-х годов, а на свадьбах и других торжествах он вызывал общие улыбки своим допотопным фраком с приподнятыми плечами. Волосы и бороду он оставлял в девственном состоянии, что, в связи с его слезливыми глазами, придавало ему вдохновенно-умиленный вид какого-либо мученика с картины Гвидо Рени. Обычным его состоянием было насупленное молчание, да и садился он всегда куда-нибудь в уголок, в тень. Но стоило беседе коснуться церковных или религиозных вопросов, как Бианки выходил из своей дремоты, настораживался и даже вступал в спор, причем быстро терял самообладание. Речь его тогда принимала характер каких-то грозно-пророческих выкриков. Е. А. Лансере обладал даром выводить из себя бедного Бианки, и он не упускал случая его дразнить. Но бесили старика и вольнодумец-либерал дядя Миша Кавос, и консерватор дядя Костя, и скептик дядя Сезар. Зато к моим родителям Бианки чувствовал неограниченное почтение. Потому-то, когда экспромтом ему предложили, не согласится ли он быть моим крестным отцом на конфирмации, он (не теряя своего насупленного вида) принял это с восторгом, увидав в этом высокую честь. При этом Бианки не мог к участию в столь важном таинстве отнестись чисто формальным образом. Он вообразил, что ему поручают не более не менее, как самое спасение души моей, и Бог знает, во что это его пестование со временем могло бы превратиться, если бы в этом же году ему не выдалось какое-то наследство от брата на родине и если бы он не предпочел отправиться туда на покой.
Еще несколько слов о Бианки… Увы, покоя Бианки не обрел. Он слишком отвык от мелкопровинциальных нравов и обычаев своей деревушки. Он сразу со всеми стал ссориться, больше же всего со вдовой брата. Непреодолимо его поэтому тянуло обратно на берега Невы, где, однако, он перед отъездом все распродал, где у него не было ни кола, ни двора. Отчасти этим стремлением можно объяснить то, что когда моя сестра Катя в 1886 г. овдовела — семидесятипятилетний Бианки в письме по-французски на двадцати страницах сделал ей предложение.
Вероятно, и вообще старого аскета не оставляли уколы в ребро беса, ибо через два года он сочетался браком в Лугано с какой-то своей компатриоткой. Гораздо позже причуды судьбы привели нас в ту самую тессинскую Монтаньолу, в которой находился семейный дом Бианки, о чем я раньше не имел никакого понятия, так как всегда считал, что родина моего старого крестного — Италия. И опять-таки случайно в Монтаньоле я познакомился и с родным племянником Бианки, рассказавшим мне об его последних днях. Оказалось, что он всех досаждал своей сварливостью и постоянно грозился, что уедет и лишит родных наследства. Особенно поразило меня, что Бианки внутри каменного дома племянника выстроил род деревянной избы, нарушившей весь план здания, но якобы спасавшей старика от сырости. В эти годы старческого рамолисмента к Бианки подобралась какая-то авантюристка, которая и женила его на себе. «Молодые» переселились в Лугано, и там эта женщина вскоре добилась перевода на ее имя всего капитала мужа, завладев коим, она самым бессовестным образом его покинула в обществе своего любовника. Несчастный разоренный Бианки, из гордости не желавший обратиться к родным за помощью, умер вскоре в больнице, в совершенной нищете, и был похоронен в общей могиле. Печально и то, что все привезенные из России негативы, бесценные в документальном смысле, — были перед этим проданы его женой как простые стекла.
Вернусь к описанию церемонии конфирмации. Она происходила под вечер, а не утром, и вышла весьма торжественной. Мы снова были в своих костюмчиках с бантами, а девочки — Христовыми невестами в подвенечных платьях. Опять потянулись мы процессией и произвели те же движения перед окутанным ладаном алтарем; опять рокотал и гремел орган. Особенную же величественность придавали торжеству присутствие и участие епископа. Этот небольшого роста, довольно тучный человек с огромным орлиным носом и выдающейся нижней губой, в митре и с пастырским посохом в руке, стоял наверху ступеней, которые вели к главному алтарю, наподобие какого-то грозного стража. Подходя к нему, я почувствовал настоящую жуть, исчезнувшую после того, как вслед за помазанием благовонным маслом я ощутил ту легкую пощечину, которой заканчивался обряд, причем я успел заметить и огромное аметистовое кольцо на пальце епископа. В целом же конфирмация оставила на мне менее яркое и глубокое впечатление, нежели первое причастие. Это было торжественно и эффектно, но в этом не было того, что затрагивало душу и сердце. Надо еще сказать, что за эту одну неделю уже успела испариться значительная доля моей святости. Я, правда, не совершил каких-либо уже очень явных грехов, в общем я продолжал себя вести похвально, но в то же время мне как бы начинала наскучивать такая образцовость и особенно постоянный контроль над собой. Даже утренние и вечерние молитвы я теперь творил без настоящего внимания. В то же время образ Софи стал меркнуть. Я даже не помнил, как я простился с этой девицей после того, как последний раз мы прошлись с ней во время церемонии конфирмации.
А там скоро пошли гимназические экзамены (из второго в третий класс) со всеми их страхами и мучениями, а там наступило лето, и я переселился на дачу к брату Альберу. На даче я еще иногда посещал по воскресеньям ту католическую капеллу, что стояла на берегу залива в Лейхтенбергском парке, но капелла эта была крошечная, съезжалась же туда вся польская аристократия, жившая в Петергофе и его окрестностях, и в тесном помещении становилось душно. Если вместе с другими запоздавшими я оставался снаружи на открытой галерейке или просто на траве, то, естественно, меня развлекала всякая всячина — и вид моря, куда тянуло поплавать (я только что начал увлекаться купаньем и гребным спортом), и порхающие бабочки, которые так и просились попасть ко мне в коллекцию, и группы гуляющих, наводнявшие парк в праздничные дни. Тут как раз появится бонна Аделя с детьми Альбера и с ручной козой Золушкой, направляющиеся на нашу любимую лужайку, что расстилалась за «собственной его величества дачей». О, эта чудесная лужайка с ее изумительными дубами! Какая там была высокая ароматичная трава, какие прыгали большущие и жирные кузнечики, как удобно было там играть в прятки за ветлами у канавки… Соблазн становился слишком великим, если старшая из племянниц делала мне издали знаки, чтобы я присоединился к их компании. Где тут было слушать возгласы священника и следить по молитвеннику за ходом службы!
С возвращением зимнего времени я первое время аккуратно посещал вместе с папой мессу, но из удобства и выигрыша времени мы не ездили в прекрасную и торжественную церковь св. Екатерины, а удовлетворялись тем, что слушали раннюю мессу в церкви св. Станислава на Торговой. Но когда я говорю — слушали, то и это не совсем соответствует истине, ибо едва можно было различить, что в торопливом бормотанье произносил священник, прерываемый резкими ударами колокольчика в руках мальчишки, одетого в куцую рубашонку. И десяти минут не пройдет, как уже службе конец, и я ловлю себя на том, что именно этой ее краткости я радуюсь. Во вторую половину зимы, в посту, наслышавшись о великолепных проповедях пэра Женье, мы с мамой стали ездить к св. Екатерине, но там была такая давка, что мамочка была в страхе, как бы нас не задавили, а меня возмущало бесцеремонное толкание польских старушек-богомолок, которым было не до действительно прекрасных французских речей отца Женье. Когда наступила Страстная, папа напомнил мне, что нужно пойти к причастию (он сам никогда его не пропускал), но я пошел за ним без охоты, исповедался какому-то ксендзу без убеждения (уже сознательно скрыв по принятой привычке особенно стыдные грехи). И причащались мы тут же, в самой обыденной обстановке, среди всех прочих, в тусклом полумраке унылого и холодного утра. От этого моего принятия святых тайн до следующего прошло затем целых десять лет, да и тогда я едва ли решился бы превозмочь то, то в таких случаях удерживает хотя бы и верующего, но недостаточно крепкого в вере человека, если бы это не понадобилось в качестве неизбежной формальности для нашего бракосочетания…
Самая эта предбрачная исповедь происходила не в церкви, а в кабинете у патера Шумпа в общежитии св. Екатерины. Да и Шумп, за эти годы удивительно возмужалый, отрастивший себе бороду во всю щеку, совсем больше не походил на прежнего, на юного святого с картины Сурбарана. После вынужденного отъезда пэра Женье (ходили тогда слухи, что он был отозван по требованию русского правительства после того, как переманил в католичество нескольких особ из высшего общества), он унаследовал всю светскую и великосветскую паству последнего, но мягкий, слишком добрый и любезный, он не сумел себя оградить от мирских соблазнов и постепенно привык ко всевозможным компромиссам. В беседе с ним поминутно слышались самые мирские нотки, которые, вероятно, его самого возмущали бы в былое время. И мне тогда он всячески облегчил неизбежную формальность. Вопросы на исповеди он задавал самые ребяческие, точно перед ним не двадцатичетырехлетний мужчина, готовившийся стать супругом, а все еще тот мальчишка, который сидел на уроках пэра Женье…
ГЛАВА 15 Наверху
Брат Альбер, живший со времени своей женитьбы в 1876 году в разных частях города, а в последние два года в близком от нас соседстве, в доме Войцеховского, выходившем на площадь Николы Морского, переселился осенью 1882 года в прародительский дом. Для этого пришлось выселить из верхней квартиры стародавнего ее жильца доктора Реймера, аккуратненького, необычайно вежливого господина, и эта операция доставила моим родителям еще большие страдания, нежели выселение за два года до того Свечинских. Но уж очень хотелось маме иметь своего старшего сына около себя, да и Альберу уж очень захотелось оказаться снова под одним кровом с ней. При всем легкомыслии и некоторой ненадежности в чувствах Альбера, его никак нельзя было упрекнуть в безразличии к родителям; напротив, он их обоих любил не меньше нас всех, но, разумеется, выражались эти чувства в нем по особенному, с каким-то, я бы сказал, итальянским пафосом, куда менее спокойно, нежели у сестер и у прочих братьев. Впрочем, известное сходство в выражении сыновней нежности существовало между им и мной: ведь и во мне «итальянщина», особенно в детстве, сказывалась очень сильно.
Для меня переселение Альбера к нам в дом приобрело огромное значение. До того я у него бывал редко и всегда с родителями, теперь же открывалась возможность посещать его, когда мне захочется, и хотя бы десять раз в день! Стоило только подняться на двадцать три ступени по черной лестнице, и я уже оказывался у кухонной двери брата, а оттуда прямой ход по коридору приводил либо в большую белую залу, где я его или его жену часто заставал за роялем, либо в его кабинет, где он с таким мастерством готовил архитектурные проекты или заканчивал свои акварели, либо, наконец, в «детские», где находил своих двух племянниц и их маленького брата. Старшей — Масе (впоследствии вышедшей замуж за композитора Н. Н. Черепнина) было около семи лет, но эта удивительно хорошенькая девочка была для своих лет необычайно развита и выглядела гораздо старше своих лет; ее сестре Милечке (впоследствии генеральше Хорват) — плотненькой, немного приземистой, всегда веселой и шаловливой — было около пяти; трехлетний Аля был толстеньким карапузом на немного кривых ножках, которые, впрочем, очень скоро совершенно выпрямились. Что же касается до четвертого ребенка Альбера и Маши, крошки Коли, то он только предыдущим летом явился на свет и, естественно, что он эти первые годы своего существования никакого интереса для меня не представлял. Настоящей участницей моих забав (в играх, в беседах, в чтении) сделалась одна только Мася, но и то не сразу, а постепенно: в особенности с весны 1883 года, с того момента, когда я стал подолгу гостить у брата на даче под Петергофом. За детьми присматривала немецкая бонна Аделя — особа уже не первой молодости, склонная к баловству и к шутовству, охотно подчинявшаяся и самым диким фантазиям своих воспитанников.
Весь уклад жизни Альбера стал очень скоро оказывать на меня воздействие и непреодолимую силу притяжения. В целом быт «наверху» резко отличался от нашего «нижнего». Это мне особенно и нравилось. Насколько наш уклад носил характер чего-то патриархального, тихого, чуть даже строгого и чинного, что вполне отвечало и годам моих родителей и их природной склонности к чему-то спокойному и уравновешенному, — настолько альберовский дом являл черты известного… оргиазма и анархизма. Здесь царили артистическая свобода и беспечность, а это особенно нравится в детстве и в юности. В человеческой натуре живет столько еще мятежного, стихийного и дикого! Для того, чтобы как-нибудь укротить эту дикость, требуются годы, в течение которых мы постепенно начинаем ценить навыки того, что выработала многовековая культура, создавшая сложную систему правил для сносного и даже приятного сосуществования людей. Я же был тогда довольно необузданным, очень до всего лакомым и любопытным мальчиком, а мою домашнюю «дрессуру» никак нельзя было назвать ни образцовой, ни выдержанной. И вот, моим мятежным порывам, моему любопытству и жажде развлечений альберовский быт и потворствовал в сильнейшей степени. Я находил там всяческую поблажку и поощрение своим, подчас и очень странным фантазиям. Сам Альбер был моим великим поощрителем. В этом тридцатилетием муже оставалось масса детского, и эта детскость сказывалась как в его ненасытной потребности в забаве, так и в удивительной способности организовать всевозможные развлечения, так и в его взглядах на семью, на обязанности супружеской жизни, на супружескую верность и т. д. Достойной парой ему являлась его жена Мария Карловна — женщина в полном расцвете сил и красоты, веселая, склонная ко всякого рода балагурству, добродушная, очень неглупая, порядочно начитанная, а к тому же столь же превосходная пианистка, сколь превосходным художником был ее муж. И он и она естественно притягивали в свой дом самых разнообразных представителей искусства, литературы, музыки и просто света. В то же время оба были самыми гостеприимными хозяевами. Дом их был всегда открыт для друзей, а в разряд друзей попадал почти сразу всякий, кто появлялся у них на горизонте, кого они умели приручить и заставить себя чувствовать, как дома.
Но кроме этого, быт альберовского дома был разукрашен всевозможными и весьма частыми праздниками. Не говоря уже об именинах и рождениях, по всякому поводу наверху устраивались обеды и завтраки, а по вечерам более или менее интимные танцульки; а раз в году непременно грандиозный маскарад, для которого многие (и особенно художники) норовили придумать особенно пикантные, смешные и роскошные костюмы. Самый пышный из этих маскарадов был устроен на Масленой в 1883 году. В этот вечер альберовский зал среди бала в один миг (как в театре) превратился в ярмарку, с сотнями фонариков, с гирляндами цветов, свешивавшихся с потолка, а в каждой двери появилось по лавочке, в которых шла шуточная торговля всякой потешной ерундой. Хозяйка дома щеголяла в очень рискованном и очень оголенном туалете наяды, а Альбер носился по всем комнатам, наряженный (с полным на то основанием) волшебником — в длинную черную, усеянную звездами, мантию. Да и я был не плох в виде маленького Мефистофеля — весь в красном, с традиционным перышком на остроконечной шапочке. Этим костюмом я был чрезвычайно доволен, часто наряжался в него и в будни; именно в нем я приобрел ту отвагу, которая понадобилась для моих первых любовных атак…
Но кроме всей свободы, безалаберности и какой-то непрерывной праздничности, меня тянула наверх и чисто художественная сторона. Альбер периодически устраивал перед гостями демонстрацию своих новейших работ, а таковых у него набиралось особенное множество после каждой его поездки. В летнее время он совершал путешествия по России, в другие времена года — по чужим странам. Так он за сравнительно короткий период два раза объехал север Италии, один раз спустился до Сицилии (из Палермо он привез одну из своих самых удачных акварелей, изображающую Монте Пеллегрино), побывал он и во Франции, и в Англии (в Лондоне Альберу был устроен необычайно радушный прием братом нашего зятя Эдвардса Жоржем, тогда владевшим несколькими театрами, в одном из которых шла оперетка «Дворец Правосудия», пользовавшаяся необычайным успехом. Альбер запомнил многие мотивы из нее и часто вплетал их в свои импровизации), а в 1884 г. проехал в Алжир до Бискры, что тогда могло сойти за нечто вроде подвига… Об его чудесных импровизациях я уже не раз упоминал; их я слышал теперь снизу из своей Красной комнаты. При первых же аккордах я бросал все и летел наверх, чтобы хорошенько наплясаться — при соучастии моих племянниц, а иногда и братьев Марии Карловны — Володи и Пети. Я уже рассказал про игру моей невестки и про то, что я ее не очень долюбливал. Особенно меня раздражали нескончаемые экзерсисы, гаммы, арпеджио или повторения одного и того же не дававшегося ей пассажа. Однако когда Маша играла что-либо начисто, то это доставляло мне удовольствие. Благодаря ей я впервые оценил такие вещи, как некоторые сонаты Бетховена, «Лесной царь» Шуберта и его вальсы в переложении Листа и особенно увертюру «Тангейзера» (в переложении Таузига). Но играла она и другую музыку, которая нынче едва ли нашла бы одобрение, — как блестящие фантазии Листа на вальс из «Фауста» Гуно, на финальный квинтет «Риголетто», как танец воинов из «Нерона» Рубинштейна (этот танец вслед за ней и я одолел), и только концерт Направника, который Маша разучивала специально для того, чтобы заручиться расположением автора, я терпеть не мог — может быть, и без основания.
Но импровизациями Альбера и разучиванием серьезной музыки Маши не ограничивалась музыкальная жизнь наверху. Еще один член тамошнего общежития — постоянно гостившая у Альбера его невестка Соня (бывшая лет на десять моложе Маши) обладала на редкость роскошным голосом и готовилась стать певицей, знаменитой певицей. Ей пророчили, что она затмит Дюран и Зембрих — и в этом ее усиленно поддерживал ее профессор, старичок Кореи. Вставала эта склонная к лени шестнадцатилетняя толстушка довольно поздно и сразу, уединившись, дабы не мешать ни сестре, ни зятю, в ванной комнате, она принималась за вокализы или за разучивание всяких арий — для ее будущего оперного репертуара. Но эта ванная в квартире Альбера приходилась как раз над моей комнатой, и потому (а также вследствие звонкого голоса певицы) я волей-неволей слышал каждую ноту. В часы, когда я находился в гимназии, это не имело значения, но как раз в те дни, когда, прикинувшись больным, я оставался дома и собирался заняться чтением или позабавиться каким-либо интересным делом, я принужден был с десяти часов выносить настоящую пытку — и тогда я посылал бедной, ни в чем неповинной Соне отчаянные проклятия — ведь я так несчастливо устроен, что всякая музыка отвлекает мое внимание, хотя бы и такая, которую я ненавижу. В то же время пение этой в общем симпатичной и довольно, несмотря на склонность к полноте, красивой девушки постепенно меня заражало. Я как-то, помимо сознания, проходил, благодаря ей, своего рода систематический курс пения и, проходя его, открыл в себе богатые голосовые средства и возможности. Голос у меня — тринадцатилетнего мальчика — был еще дискантовый, но именно потому я мог усвоить весь Сонин репертуар. Родись я двумя веками раньше, надо мной, пожалуй, была бы произведена известная операция, и тогда я сделался бы соперником какого-нибудь Фаринати или другого бесполого виртуоза. Так я с легкостью брал сразу и си, и до и даже ми, изумляя Соню своими трелями, а спеть какую-либо арию из «Фаворитки», «Миньоны» или «Севильского цирюльника» было для меня сущим пустяком. Многому я также научился, бывая по-прежнему еженедельно в итальянской опере и наслаждаясь голосовыми фокусами Марчеллы Зембрих или синьоры Репетто. Все же никакой существенной пользы я себе из всего этого не извлек, а после того, как года через два у меня надломился голос и я заговорил басом, то и вовсе отвернулся от благородного искусства пения…
Но музыка музыкой, а все же не в ней и не во всей художественной атмосфере альберовской квартиры заключалась основная ее приманка, пожалуй, даже и не в обитателях ее, а в том, о чем я уже упомянул, — в каком-то духе вящей свободы, в забавной бесшабашности, в отсутствии какой-либо стеснительной дисциплины. В этом отношении согласие между супругами было полное, и черты эти получили особую прелесть в особе моей невестки, с которой у меня тогда завязался, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в годах, род настоящей дружбы. Одно время я даже вбил себе в голову, что я влюблен в Марию Карловну, а начитавшись всякого вздора, мне такая преступная влюбленность как-то нравилась своей греховностью. Но затем эта блажь, не встретив ни малейшего поощрения, прошла сама собой, после чего все же наша дружба продолжалась несколько лет. Кончилась она только тогда, когда Мария Карловна выступила противницей моего романа с ее младшей сестрой Атей, романа, оказавшегося настолько сильным, что все козни против нас ни к чему не привели. Но об этом рассказ будет подробней в своем месте.
Более всего меня пленило в Марии Карловне (без того, чтобы я в то время отдавал себе в этом отчет) вечно женственное — типично женское отсутствие последовательности, какая-то смесь коварства с чистосердечной искренностью. Нравилась и ее способность всем интересоваться и все же оставаться абсолютно далекой от какого-либо педантизма и вообще от какого-либо более глубокого вникания в предмет. Беседа с ней на самые разнообразные темы — будь то музыка или искусство, театр или светские сплетни, рассуждения о Боге, о самых основах бытия, о морали и о порочности — была сплошным дилетантизмом, иногда сдобренным порядочной долей цинизма, но беседовать с ней было весело — особенно при ее манере перескакивать с одного предмета на другой, внося в каждую новую тему одинаковую страстность и живость! О чем только мы ни говорили, что только ни доказывали, до каких высот ни добирались, до каких бездн ни брезгали спускаться! Альбер в этих ежедневных словопрениях (обыкновенно вечерних, когда дети уже были уложены спать) участия не принимал. Ему было мало дела до всякого мудрствования. Зато очень любили вступать в словесное единоборство с Марией Карловной ее поклонники, а их постепенно образовался целый рой.
Вообще гости в доме старшего брата не переводились. Я не помню в эту эпоху (1883–1886) завтрака или обеда наверху, за который не садилось бы человека три-четыре посторонних. Были среди них такие, которые были как бы абонированы и которых можно было встретить там чуть ли не ежедневно. Таковыми были глуховатый шутник Лебурде, милейший горбунчик С. С. Гадон, друг многих петербургских дам, которых притягивало и его мнимо-злобное остроумие, и его прелестное лицо, так странно посаженное на кургузое туловище; таков был еще блестящий флигель-адъютант Христофор Платонович фон Дерфельден и еще кое-кто. Но были и такие, кто появлялись как-то неожиданно, а недели через три исчезали бесследно. Альбер и их величал своими лучшими друзьями, причем я убежден, что в эти минуты он сам верил в эту дружбу… хоть иногда в точности и не знал, как их зовут и кто они такие!
Еще больше гостей у Альбера и Маши бывало летом, в дачной обстановке, где многие оставались ночевать, а то и проводили несколько дней под гостеприимным кровом моего брата и в той чарующей атмосфере, которую без всяких усилий умела создавать его жена. Такое присутствие многочисленных гостей приняло прямо хронический характер, когда Альбер, начиная с лета 1883 года, стал жить в открытой им деревушке Бобыльской, находившейся в двух верстах от Петергофа и расположенной у самого берега Финского залива, между двух обширных парков. Тот, что лежал на запад, входил в состав так называемой «собственной его величества дачи» и сливался с еще более пространным парком герцогов Лейхтенбергских, а тот, что лежал на восток, принадлежал принцу А. П. Ольденбургскому и его супруге Евгении Максимилиановне (дочери великой княгини Марии Николаевны). Гостил и я у Альбера и Маши в Бобыльской на правах ближайшего родственника, но, в сущности, и не гостил, а жил месяцами, имея свою комнату и все предметы, без которых я не мог обходиться. И, разумеется, воспоминания, связанные у меня с этим моим пребыванием, принадлежат к самым чудесным в моей жизни!
Начать с того ощущения какой-то стихийной легкости, которая была вообще присуща моему возрасту. Я только что вступал в отрочество. В эти годы обладаешь способностью уходить с головой в любое увлечение, а у меня уживалась их целая масса — начиная с влюбленности в разных девочек, которым хотя и было еще меньше лет, нежели мне, но которые умели отвечать на мои чувства, и кончая всяким вздором, вроде собирания марок или насекомых. (Да не подумают, что я так пренебрежительно отзываюсь о филателии или о науке энтомологии. Вздором это собирательство было у Шуреньки Бенуа тринадцати лет и оставалось вздором, впрочем, чрезвычайно его поглощавшим, до пятнадцати.) Ах, каких я изумительных громадных кузнечиков ловил на дубовой полянке! Как безжалостно я их и всяких жуков и бабочек нашпиливал на булавки, предварительно умертвив их эфиром. (А однажды на берегу моря я словил и скорпиона, честное слово — то был скорпион!) Какие волшебные прогулки я совершал, бродя по тенистым, в лес переходящим аллеям Лейхтенбергского парка и добираясь по шоссе до Петергофа и вступая под сень Нижнего сада или Английского парка.
И еще какое наслаждение — пожалуй, наиболее сладкое и острое — купанье в море! Стоило сделать шагов тридцать от калитки Альберовской дачи, перейти через береговую дорогу, спуститься по невысокому валу из крупного булыжника, и уж под босыми ногами ощущаешь плотный песок, а еще через пять-шесть шагов на пальцы ног начинает набегать нагретая солнцем волна! Любители и виртуозы купанья жаловались на то, что в Бобыльске приходится идти очень далеко, пока глубина воды не окажется достаточной для плавания, но я плавать не умел (так и не научился), и с меня было довольно того, что я, барахтаясь в теплой и все же освежающей стихии или лежа на спине, ощущал ласковое прикосновение медленно скользящей по мне воды. В последующие годы у каждой дачи в Бобыльске были построены мостки, а на концах их раздевальные будочки (эти жиденькие постройки придавали под вечер что-то японское пейзажу), но в первое наше бобыльское лето (1883) такие мостки с купальней были только у дачи богатого фабриканта Сан-Галли, и туда были приглашены купаться наши дамы Маша и Соня и вообще взрослые из Альберовской компании. Напротив, я все еще пользовался привилегией мальчика, хотя и перерос обоих своих родителей и многое познал такое, что «мальчику еще рано знать». Поэтому я позволял себе вольность, завернувшись в простыню на голое тело, подобно античному греку, шествовать до воды и, дойдя до нее, скинув свой гиматион, предоставлять все части тела беспрепятственному лобзанию солнца, воды и зефиров. Немного позже, впрочем, у меня с Володей и Петей Кинд появилась манера выезжать на рыбацкой лодке подальше в море, там бросать якорь (необходимо, однако, было, чтобы я продолжал чувствовать дно под ногами) и спускаться в воду; но вылезать из воды обратно в лодку было довольно мучительно, и потому этот способ не имел большого успеха у меня.
Никогда раньше я серьезно не пробовал своих сил в гребле (прогулки по каналам и прудам Кушелевки в счет не идут), а тут, движимый примером друга Володи, я как-то присоединился к нему, чтобы сдвинуть с места тяжелую рыбацкую лодку, и это показалось мне не столь уж трудным и чем-то даже очень занятным. Через неделю мы с ним уже плавали в этой лодке довольно далеко вдоль берега, забираясь в густые тростники, наезжая на те бесчисленные подводные камни, которыми усеяны берега Финского залива.
Альбер не мог оставить эти наши забавы без какой-то шуточной регламентации и без того, чтобы самому не принять в них участия. Очень быстро он образовал из мальчиков нашего возраста, сыновей соседних дачников (тут были представители фамилий Штейнер, Кроте, Нэбо и др.), своего рода маленькую команду, нанял у рыбаков нужное количество лодок и сам возвел себя в чин адмирала. Он только что тогда научился ряду морских терминов, а мы — матросы — слушая его командные крики и боцманские свистки, выучились «класть весла на воду», «табанить», «брать весла на валёк» и т. д. Для себя Альбер неизменно брал лодку, в которой матросами были Володя и я, и мы в качестве адмиральского судна торжественно плыли впереди других, не допуская, чтоб лодки Нэбо или Штейнеров нас обгоняли. Чтоб особенно отличить нашу адмиралтейскую лодку от других, нам были сшиты особые красные костюмчики, на головы же мы получили тоже красные фуражки наподобие польских конфедераток. Наконец, на маленькой мачте нашей лодки развевался какой-то фантастический «адмиралтейский» флаг, а с кормы к воде свешивался трехцветный национальный.
Альбер гордился своей флотилией, и особенно он радовался, когда в праздничные дни мы гуськом плыли к Купеческой пристани Петергофа (верстах в двух от Бобыльска), дабы встретить и отвезти к нам на дачу прибывших на пароходе из Петербурга приглашенных к завтраку или к обеду. Как раз с 1883 года стали ходить между Петербургом и Петергофом два новых, в чужих странах построенных, парохода. Их кормовые половины (1-й класс) были снабжены верхней палубой и верхними каютами; под капитанским мостиком была устроена ванная (одно время я из мальчишеского снобизма брал такую ванну, что сокращало время пути). Превосходно был налажен ресторан-буфет, и нередко я, обладая юной ненасытностью, пожирал в нем чудесные бифштексы по-гамбургски и т. п. В эту эпоху путешествие в Петергоф морем пользовалось популярностью, особенно среди придворных и василеостровских коммерческих людей, из которых многие имели в Петергофе свои собственные, часто роскошные дачи.
Надлежало как можно ближе подойти к надвигавшейся громаде (о, как начинало тогда качать на волнах, образованных сочно чмокающими лопастями пароходных колес!) и, поставив весла вертикально, кричать во всю мочь «ура!». Пассажиры на пароходе едва ли бывали особенно поражены такой демонстрацией, но нам, и особенно самому Альберу, казалось, что эффект получался колоссальный. Вслед за тем, подъехав к сходу дамбы, мы принимали в лодки гостей и плыли обратно в Бобыльск. Вот этот обратный путь был гораздо утомительнее. Отяжелевшая наша ладья то и дето наезжала на мели или на подводные камни, и в таких случаях приходилось нам, матросам, снимать обувь и, засучив штаны под самый живот, слезать в воду и изо всех сил толкать лодку, пока она не сдвинется с места. У бедной нашей мамочки при таких похождениях делалось такое лицо, точно мы и впрямь терпим кораблекрушение, но Альбер, не теряя присутствия духа, продолжал отдавать распоряжения с классическим спокойствием морского волка. Несмотря на свои тридцать лет и положение отца четырех детей, он забавлялся еще пуще нашего. Впрочем, он и не мучился так, как мы. Шутка сказать, — прогрести подряд две версты в один конец и две в обратный, да еще получив значительную нагрузку! Немудрено, что мы с Володей доплывали до Бобыльска совершенно уморенные, обливаясь потом, с лицами не менее красными, нежели наши костюмы.
Одно событие, произошедшее среди лета 1883 года в нашей семье, способствовало тому, что Альбер, а за ним и я с Володей, «заделались моряками». В июле вернулся после своего кругосветного плавания наш брат Мишенька — мичман флота Михаил Николаевич. Пошли всякие чествования его, и естественно, что это повело к сближению нас с рядом его товарищей по плаванию на клипере «Пластун». Из них особенно часто стали бывать у Альбера и Маши красавец Патрикеев, мягкий, нежный князь М. С. Путятин, до смешного близорукий бородач Виноградов, строгий, малодоступный Полис. Но еще за несколько месяцев до того один офицер с той же эскадры, получив официальное поручение, прервал кругосветное путешествие и прибыл в Петербург, привезя с собой от Мишеньки поклоны и кое-какие подарки. Дальше я расскажу, какую роль суждено было сыграть именно этому М. С. Истомину в семейной жизни Альбера; здесь же достаточно будет, если я скажу, что все эти господа, морские офицеры — то в белых летних кителях на даче, то в темных с золотыми пуговицами сюртуках в городской обстановке — стали года на два, на три самым обычным у нас элементом и, в частности, придали альберовскому дому совершенно особый характер. Эта морская молодежь, со своей стороны, прямо влюбилась в моего брата, в его радушие, в ту радость, которую излучал Альбер. Некоторые стали совершенно своими людьми, другие оставались на несколько более официальной ноге.
Наконец, тому же странному преобладанию морского элемента в этот период жизни Альбера послужило то, что как раз тогда государь Александр III через воспитателя своих детей, нашего свойственника Чарльза Хиса, познакомился с художеством Альбера, чрезвычайно оценил его и пожелал, чтоб сам художник лично сопутствовал ему во время летних плаваний по финским шхерам. Первое такое плавание произошло в том же году, и с тех пор Альбер каждое лето бывал удостоен высочайшего приглашения. Продолжались эти царские плавания несколько недель, и происходили они в составе флотилии с большой царской яхтой «Царевна» во главе. Альбер, если память мне не изменяет, получил постоянную каюту на небольшой пароходной яхте «Славянка», но почти ежедневно бывал приглашаем к царскому столу и после обеда принимал участие в совершенно непринужденной беседе в кают-компании «Царевны», услаждая иногда слух августейших хозяев импровизациями на рояле и забавляя их музыкальными пародиями или фокусами, на которые он был большой мастер. Во время же частых остановок он участвовал в пикниках, до которых и государь и государыня были большими любителями, причем он тогда же фиксировал в акварели тот или другой живописный уголок, изумляя всех своей виртуозной быстротой и редкой верностью глаза. Многие такие акварели приобретались царской четой (уже в Петербурге) и часть их посылалась в дар родителям императрицы в Данию. Возвращался Альбер с таких экскурсий в очень приподнятом настроении, и его рассказы обо всем виденном, слышанном и пережитом знакомили нас с тем замкнутым и полным своеобразной прелести миром, куда он был допущен. Альбер с тех пор и в городе бывал в Аничковом дворце, куда ему был открыт доступ помимо обычных правил придворного церемониала.
Знакомство с оттенком дружбы, что завязалось у Альбера с командным составом яхты «Царевна», стоявшей все лето на Петергофском рейде (грациозный силуэт ее был мне до того знаком, что и я мог нарисовать его наизусть), получило свое увенчание в той авантюре, о которой я сейчас расскажу. Уже несколько раз господа офицеры «Царевны» приглашали Альбера и его близких провести вечер у них, но на сей раз за нами должен был прибыть большой парусный бот, на нем мы совершили бы предварительную прогулку по морю до Кронштадта, а к 9 часам этот бот доставил бы нас на «Царевну», к ужину. Программа представлялась весьма соблазнительной, но выполнение ее представило неожиданные и весьма неприятные особенности.
Как раз тогда, когда бот показался на траверсе Бобыльска, небо затянулось черными тучами, поднялся ветер, и море покрылось «барашками». Однако было поздно отменять прогулку (ведь никаких радиопередач тогда не существовало), и пришлось-таки нам с Володей на нашей лодке отправиться к стоявшему в четверти версты от берега боту, не имевшему из-за недостаточной глубины возможности приблизиться к берегу. Дамы (Маша и Соня) стали было протестовать, но Альбер остался неумолим — нельзя же было нанести такую обиду милым, радушным офицерам. И вот, скрепя сердце, мы и поплыли — я и Володя на веслах, Альбер у руля, обе дамы рядом с ним. Плавание это оказалось далеко не столь простым и легким, как наши обычные прогулки. Ветер дул все сильнее нам навстречу, волны становились все выше, и нужно было напрягать особые усилия, чтобы их правильно перерезать! Плыли мы не десять минут, как рассчитывали, а целых полчаса. Качало немилосердно, и обе наши дамы заболели, а мы совершенно выбились из сил. Когда же, наконец, мы подплыли к боту, то потребовалась вся сноровка бывших на нем двух офицеров и нескольких матросов, чтобы нас, одного за другим, пересадить, точнее, перебросить, с одного судна на другое, причем надо было ловить момент, когда уровень крупного судна и уровень нашей утлой лодчонки на секунду равнялись. И ловкие же парни были эти матросы! Двое из них спрыгнули к нам в лодку; схватывали нас и с кажущейся легкостью передавали с рук на руки!
Нечего было и думать продолжать намеченную прогулку, нечего было и рассчитывать на то, чтобы сдвинуться с места, ибо буря не позволяла поднять ни одного паруса. Бот, стоя на якоре, плясал, как одержимый, палубу то и дело окатывала волна; дамы спустились в каюту, но оттуда, преодолевая шум ветра и волн, доносились отчаянные их стоны и крики. Зажгли фальшфейеры, в ответ на них на «Царевне» (но не сразу) взвилась ракета; это значило, что нас увидали, что нам пришлют помощь. И, действительно, скоро по волнам заскакали огоньки приближающегося парового катера. О, как я оценил тогда преимущество Фультоновского изобретения перед самыми прекрасными благородными системами парусного плавания! В конце концов, все обошлось благополучно. Нас снова перебросили с бота на пыхтевший рядом пароходик (наша лодка была привязана к боту), а еще через несколько минут мы уже взбирались (бедные наши дамы, в каком они были виде!) на «Царевну». Там нас одели в сухие одежды (дамские платья отправили в кухонное отделение для просушки у очага, а пока они должны были довольствоваться, на маскарадный манер, одеждами матросов, что придаю всему лишнюю пикантность).
На том же катере мы были доставлены затем до «Купеческой гавани», но до дому пришлось добираться пешком, так как в столь ранний час нельзя было и думать об извозчиках. Это возвращение оставило, впрочем, во мне и в Володе неизгладимое и весьма пленительное воспоминание. Очевидно, действовал контраст со всеми пережитыми ужасами, а может быть, и те несколько бокалов шампанского, которые были выпиты за взаимное здоровье. Солнце уже медленно поднималось по совершенно очищенной лазури. Из садов, лежащих вдоль шоссе, текли дивные запахи цветов, в деревьях Ольденбургского парка птицы неистово заливались на самые разнообразные лады; в радостных, розоватых утренних лучах все казалось вымытым, точно покрытым свежим лаком. Лишь ветки, валявшиеся на дороге, говорили о только что пронесшемся шквале.
Помянутый только что М. С. Истомин, тогда в чине лейтенанта, обладал характерно российской наружностью. Широкоскулое лицо, монгольские хитрые голубоватые глазки, не очень отчетливо обрисованный нос, белокурая, еще юная борода, стриженная с намеком на бакенбарды, не сходившая с пухлых губ не то насмешливая, не то приглашающая улыбка. При этом стройное сложение, раскачка в походке и сильный, точно с перепоя, голос. В общем, определенный сердцеед, обладавший большим остроумием. Он сознавал свою неотразимость, свой победительный шарм, но отнюдь не щеголял этим, а скорее прикидывался славным, беспечным простаком. Как уже упомянуто, он прибыл в Петербург еще зимой, а к лету, когда вернулся и наш Мишенька, Истомин был уже совершенно своим человеком в доме Альбера, который в нем души не чаял. Проводил он «наверху» целые дни, с завтрака до ужина, и то слонялся по комнатам, без церемонии заглядывая и в спальню, и в детские, то сидел под боком у работающего Альбера, рассказывая ему свои путевые впечатления (рассказывать он был мастер), то пускался с Марией Карловной в споры на самые разнообразные темы, чаще всего обсуждая произведения литературы, преимущественно русской. Вопрос о виновности друг перед другом героев Тургенева и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, ожесточенные попытки оправдать или обвинить «его» или «ее», приводили между ними даже к чему-то вроде ссор. Истомин становился неприятным, бичующим с высоты какой-то им самим сочиненной морали, Маша обижалась за своих любимцев, — и все это в освещении тогдашнего обязательного свободомыслия и «непризнания предрассудков».
Такое положение длилось в течение двух лет. Оно, видимо, не тревожило Альбера, который, со своей стороны, продолжал свои ухаживания за любой попавшейся ему на пути юбкой. Но не так стали относиться к этому разные близкие люди и среди них жена брата Леонтия — «другая Машенька». Она являлась, несмотря на свои элегантные манеры и английский язык, типом, выхваченным из Островского или Мельникова-Печерского. Постепенно (особенно во время летних пребываний) войдя в доверие Марии Карловны, Мария Александровна окружила свою невестку целой сетью наблюдений, приведших ее к убеждению, что «дело с Истоминым» обстоит неладно, что под всем этим что-то есть. Не обошлось и без характерно женской провокации и усилий добиться, по дружбе, каких-то признаний. А там началось «наведение на подозрение» наших родителей и самого Альбера, который, вероятно, предпочел бы, чтоб его оставили в покое, чтобы ему не открывали глаз, считая, что поведение жены устраивает его собственные дела. Наконец, в 1885 году положение обострилось настолько и многое стало «до того очевидным», что Альбер с женой завели две спальни. А потом произошла размолвка и между Истоминым и Машей. Истомин попытался было высказаться в художественной форме — он сочинил пьесу, которая была дана на сцене Неметти на Офицерской. Но пьеса (кажется, то была драма), прескверно сыгранная любителями, провалилась, и эта неудача окончательно омрачила существование молодого человека; разнесся слух, что он пытался покончить с собой… А затем (около 1887 года) Истомин и вовсе исчез, и о дальнейшей его участи мне ничего не известно.
Мамочка сначала радовалась, что вот Шуренька нашел себе в доме старшего брата развлечение и отдых, но затем она стала все менее одобрительно взирать на мои учащавшиеся посещения «верха» и на мою дружбу с Марией Карловной. Когда я впал в ту меланхолическую одурь, о которой я рассказал выше, то она охотно приписала это дурному влиянию своей невестки и даже имела с ней на этот счет объяснение, которое, естественно, ни к чему не привело. Бедная мамочка была на ложном пути — ведь Мария Карловна была совершенно ни при чем в этом моем кризисе. Вообще же я должен был в те годы безжалостно мучить свою обожаемую мать. Ее не могла не пугать моя скороспелость и то, что в четырнадцатилетием мальчике появились повадки юноши, отведавшего всех соблазнов жизни. Однако не по вине Марии Карловны я стал таким, а благодаря чтению и своеобразному восприятию прочитанного. Было и много напускного, какого-то «театра для себя». Мне нравилось корчить из себя порочного, таинственного развратника. Я даже стал горбиться, волочить ноги, странно, с надрывом кашлять. На улице стал я появляться в довольно неожиданных нарядах, приставляя к глазу где-то найденную лорнетку, а однажды прогулялся по всей Морской в образе патера, шествовавшего, уткнув нос в молитвенник. И в самом говоре моем появились тогда всякие «гримасы». Я вдруг принимался говорить фальцетом, подслушанным у актеров нашего французского театра. Единственная вина Марии Карловны (если только это можно назвать виной) заключалась в том, что она, как старшая, не только не удерживала меня, не журила, а скорее забавлялась моими выходками, находя в них много пикантного и, пожалуй, кое-что и талантливого. Не прочь во время часто импровизированных полночных пирушек был я выпить (поощряемый Истоминым) лишнее, и тогда мое ломание переходило всякие границы; я нес безобразно циничную чепуху, мешая русскую речь с английской и с французской. Я переживал тогда переходный возраст.
В дальнейшем я, вероятно, еще не раз буду заглядывать в квартиру Альбера и Маши, так как именно в ней начался и получил свое первое развитие тот роман, которому было суждено стать моим «романом жизни», но здесь я хочу упомянуть про еще одно из любимых препровождений времени «наверху», а именно — об увлечении Марии Карловны спиритизмом!
Маша была вообще склонна придавать значение общению с потусторонним. Так, довольно часто она посещала профессиональных гадалок и слепо верила их вещаниям. Любила она слушать и разговоры про всякие чудеса, происходившие в обыденной обстановке, и все это невзирая на то, что, как верное дитя своей эпохи материализма, она должна была бы такие россказни презирать. Таким же уклонением от разумных принципов, достойных просвещенного XIX века, являлась и ее страстишка к столоверчению и к прочим попыткам входить в контакт с миром неведомых, но пребывающих вокруг нас духов. Спиритические сеансы особенно участились наверху с 1884 года — и это, вероятно, связано с тем, что сама Мария Карловна, после нескольких лет довольно ровного супружеского счастья, как раз как-то запуталась, сбилась с толку. Альбер никогда участия в этих сеансах не принимал и относился к ним скептически. Напротив, я, усердный читатель Дюма-отца и немецких романтиков, помешанный на трагедии Грильпарцера «Праматерь», только что получивший глубочайшее впечатление от спектаклей Томмазо Сальвини (особенно от сцен с привидениями в «Гамлете» и в «Макбете»), я стал верным участником этих радений. В компании Марии Карловны, ее сестры Сони, брата Володи и Истомина я просиживал часы в потемках за одноногим столиком, топчась, увлекаемый им по комнате или прислушиваясь к тем ответам, которые вселившийся дух давал посредством ударов ножкой столика по паркету.
И тут же я должен покаяться, что весьма часто это был я, кто толкал стол и кто его наклонял для получения ударов. В то же время я не сомневаюсь, что и все прочие участники, и в первую голову наша верховная жрица Мария Карловна, занимались такой же мистификацией. Спрашивается, что могло в таком случае нас побуждать продолжать заниматься обоюдным надувательством? Ведь не те заверения, которые слышались то от одного, то от другого, что он-де или она не жульничает. Получая такие заверения, каждый из нас знал, что и он не безгрешен в том же обоюдном обмане. Но вот таково прельщение, оказываемое на людей загадкой окружающей нас тайны, что даже ребячески-шаловливое и основанное на обмане решение этой загадки может не только тешить, но, в известной степени, и удовлетворять.
И вдруг наши радения за столиком получили совершенно неожиданное завершение, тем более нас изумившее и напугавшее, что месяцами продолжался помянутый взаимный обман. Все обманщики оказались посрамленными чем-то таким, что действительно запахло жуткой тайной. Происходило это еще до перестройки альберовской квартиры, когда из большой залы летом 1885 года были выкроены две комнаты. Именно в этой просторной, довольно пустоватой зале с большими зеркалами до полу в простенках и с белыми бюстами Моцарта и Бетховена по углам происходил тот сеанс, который оказался последним. Заседание за столиком длилось уже добрый час, ничего особенно не совершалось, всем становилось скучно, и тогда кто-то из нас, шутки ради, обратился к духу с вопросом: не пожелает ли он себя проявить в какой-либо материализации? Когда дух ответил утвердительно, я предложил ему, не сыграет ли он что-нибудь на рояле? И вот тут произошло совершенно неожиданное: в ту же секунду прогремела дикая рулада снизу доверху по всем клавишам благородного инструмента, стоявшего в совсем другом конце залы.
При слабом свете, проникавшем от уличных фонарей, мы еще успели разглядеть, что с клавиатуры соскочил большой кот, но вслед за тем поднялся такой визг, так все, сбивая друг друга с ног, ринулись к дверям, что осталось невыясненным ни откуда взялся, ни куда он затем девался: ведь Альбер не терпел у себя в квартире ни кошек, ни собак!
Под этим впечатлением спиритические сеансы у Марии Карловны тогда и прекратились, возобновились же они лишь около семи лет позже, когда она, уже разведенная с Альбером, жила отдельно в доме князя Львова на Большой Морской. К этому времени мода на столоверчение было временно вытеснена модой на сеансы с блюдечком, которое двигалось по бумаге с написанными на ней буквами. И вот однажды дух через блюдечко открыл, что его зовут Ратаксяном и что он готов материализироваться особым образом. В назначенный вечер Маша, ее сестра Атя (тогда уже моя невеста), кузен Киндов Джон Валдштейн и еще какие-то знакомые уселись (так приказал дух) перед камином в зале, готовясь к тому, чтобы произнести заклятие. Формула была тоже преподана через блюдечко и гласила: «Дух тьмы Ратаксян, восстань и явись перед нами!» Надлежало его произнести три раза. Никто из присутствующих не верил в то, что он действительно что-нибудь увидит, и Марии Карловне пришлось строго приструнить тех, кто продолжали болтать всякий вздор или с трудом удерживались от смеха. После первых двух возгласов ничего и не произошло, но после третьего произошло нечто, столь же неожиданно, как тогда с роялем и котом. А именно — из каминной трубы со страшным грохотом посыпались кирпичи! И опять это оказалось достаточным, чтобы нагнать на всех дикую панику. Все разбежались в разные стороны, и всякий интерес к дальнейшей материализации исчез. «Блюдечная серия» сеансов у Марии Карловны тоже закончилась навсегда!
Чтобы исчерпать этот сюжет (весьма характерный для того времени — недаром Толстой счел нужным сочинить на ту же тему целую комедию), — я расскажу тут же еще про один случай, произошедший года через два. Заразившись от друзей Сомовых, я сам стал тогда увлекаться блюдечной ворожбой. Эти сеансы происходили у приятеля Сомовых О. О. Преображенского (брата ставшей впоследствии знаменитой балериной Ольги Осиповны). Для этих сеансов я и посещал этого милого, но несколько вялого молодого человека в компании с Сашей и Костей Сомовыми и с каким-то нашим дальним свойственником, студентом Бауэром. Надо признать, что ответы через блюдечко бывали иногда поразительны по остроумию и по глубине, однако и эти умные речи внезапно сменялись дикими шутками, а то и просто ругательствами, причем дух выказывал особую склонность к порнографии (дам, к частью, среди нас не было). Однажды кому-то из нас пришла мысль положить на бумажку с азбукой маленький древний образок, но не успели мы тогда коснуться пальцами опрокинутого блюдечка, как оно с какой-то яростью налетело на образок и сбросило его со стола! Сила удара была такова, что медная иконка полетела в другой конец комнаты, и ее насилу потом нашли под диваном. Стол же опрокинулся и сломался! Я тогда же решил, что с меня довольно, что я не буду больше предаваться таким богомерзким делам. Тем более, что такие опыты и даже разговоры на темы, связанные так или иначе с потусторонним миром, неизменно вызывают у меня в темени своеобразное тупое и довольно болезненное нытье, указывающее, что заведующий именно этим департаментом моего мозга не склонен поощрять подобное. Предлагаю сей феномен вниманию ученых френологов и психиатров, сам же я с тех пор дал себе зарок больше не пытаться входить в какие-либо общения с духами. (Не так отнесся к спиритизму мой приятель, знаменитый художник Н. К. Рерих. С начала XX века он, вместе с женой, стал систематически заниматься общением с миром духов, а позже, в эмиграции, превратил это занятие в нечто как бы профессиональное, что, как говорят, принесло ему немалую материальную пользу и всяческий почет.)
ГЛАВА 16 Гимназия Мая. Преподавательский состав
Период в пять лет, между осенью 1885-го и весной 1890 года, проходит у меня под знаком частной гимназии Мая. Не то, чтоб эта школа поглощала все мое время, все мои думы и чувства, но все же мое общественное положение означалось словами: ученик Майской гимназии, а затем, хотя я и учился с переменными успехами, однако все же здесь я получал те более или менее прочные основы, на которых затем построилась моя образованность. Наконец, в гимназии Мая я приобрел тех друзей, которые остались моими верными спутниками в течение значительной части жизни и с которыми мне удалось создать многое, что позволяет и их и меня причислить к «деятелям культуры». Наконец, я сохранил совершенно особое воспоминание о гимназии Мая — род сердечной благодарности. А это что-нибудь да значит!
Я уже рассказал, как весной 1885 года я не был допущен к экзамену в казенной гимназии «Человеколюбивого общества». Чтобы не терять год, я стал было добиваться, чтобы родители меня определили в Лицей, куда уже поступили два моих товарища — братья Княжевичи. Меня эта мысль о Лицее привлекала по нескольким причинам, но все они были одного характера — суетно-мальчишеского. Особенно меня соблазняло то, что я найду в Лицее среди товарищей избранное аристократическое общество. Меня соблазняла и прелестная форма: черная с красным и с золотом, на голове треуголка, полагалась, кажется, и шпага. Движимый ребяческим честолюбием, я воображал, что, пройдя Лицей, я без труда достигну весьма высокого положения — именно на дипломатическом поприще. Так как я начитался всяких исторических романов (настоящих исторических трудов я не касался), то меня и манила перспектива попасть в разряд избранников, решающих судьбы государств: я бы сделался представителем своей страны и общался бы с чужими монархами почти как с равными! Мне казалось, что для этого я обладаю всеми нужными данными: незаурядным умом, необходимым лукавством и несомненным актерским талантом. Даже моя, тогда еще не изжитая склонность к лганью, — представлялась мне чем-то вроде профессионального дара, необходимого для данного ремесла. Однако все мои мольбы и убеждения не подействовали на папу, и мечты о том, чтобы благодаря Лицею стать вторым Горчаковым, Бисмарком или Меттернихом, рассеялись, как дым. Впрочем, я очень скоро примирился с такой неудачей и даже забыл о ней.
Этому забвению способствовало и то, что, поступив к Маю, я довольно скоро удостоверился, что эта новая школа мне по вкусу. Никакой формы в ней не полагалось, большинство товарищей принадлежало скорее к среднему кругу, никаких особенно блестящих путей гимназия не сулила… Зато я нашел в ней нечто очень ценное: я нашел известный уют, я нашел особенно мне полюбившуюся атмосферу, в которой дышалось легко и в которой имелось все то, чего не было в казенном учреждении: умеренная свобода, известная теплота в общении педагогов с учениками и несомненное уважение к личности. Вообще в гимназии Мая не было и тени казенщины.
Это было довольно своеобразное заведение.
С наружного виду это был самый обыденный безличный старый солидный петербургский дом в три этажа. От своих соседей этот дом ничем особенным не отличался и выкрашен он был в такую же, как они, светло-сероватую краску. Построен он был, вероятно, (без какой-либо заботы о стиле), в начале XIX века. На 10-ю линию Васильевского острова он выходил половиной, которая сдавалась внаем под частные квартиры, и эта половина нас совсем не касалась, мы не интересовались, кто в ней живет, и даже ни разу не полюбопытствовали заглянуть в подъезд.
Тон всему задавал основатель и директор гимназии, носящей его имя: Карл Иванович Май, человек в момент моего поступления уже очень пожилой, но все еще деятельный и достаточно подвижной. Только что помянутая атмосфера была целиком его созданием — как личных его душевных и сердечных качеств, так и его принципов и целой теории, выработавшейся на основании этих качеств. Карл Иванович твердо верил в то, что от юного существа можно всего добиться посредством выказываемого к нему доверия. Понятно, что среди нас было немало мальчиков, которые злоупотребляли добротой Карла Ивановича и даже за спиной издевались над этой самой его доверчивостью. Но большинство учеников уважали и любили своего директора, и это нежное чувство возникало почти сразу с момента первого контакта с ним самим. Во всяком случае я «Карлушу» полюбил именно в первый же день, а затем остался верен этому чувству до конца.
Мне сразу понравилась и вся его своеобразная, я бы даже сказал курьезная внешность. Это был маленький, щупленький, очень согбенный старичок, неизменно одетый в черный долгополый сюртук. В своей старчески исхудалой, точно дряблой руке он всегда вертел табакерку, которой нередко пользовался, а из заднего кармана сюртука у него торчал большой красный с желтым платок, — что вообще полагалось всегда иметь нюхальщикам табака. Уже это одно отодвигало Карла Ивановича во времени куда-то далеко и придавало его облику какую-то поэтическую старинность. Но совершенно своеобразным было и все лицо, вся голова Карла Ивановича: черные, как смоль, волосы (злые мальчики уверяли, что они крашены), кокетливо подстриженные прямой челкой, выдающийся до карикатурности острый красный носик. Подбородок был украшен опять-таки совсем черной бородкой на манер дяди Сэма, тогда как щеки и все вокруг рта было гладко выбрито. Подслеповатые, несколько воспаленные глаза были вооружены золотыми очками. Двигался Карл Иванович быстро, не совсем ровно семеня своими старческими ножками.
Этой смеси признаков глубокой старости, чуть ли не ветхости и сравнительной моложавости во внешности соответствовали и черты характера Мая. Нормальным состоянием Карла Ивановича было беспредельное благодушие. Его тонкие, еле заметные губы, вечно что-то не то жевавшие, не то посвистывавшие, охотно расплывались в приветливую улыбку. Но благодушие Карла Ивановича не было признаком слабости. Он мог при случае и гневаться, но только на то были всегда веские причины. В моменты огорчения он еще больше горбился, очки у него съезжали на кончик носа, и он скорбно глядел поверх них своими слезившимися глазками на провинившегося. Это уже действовало. Действовало и то, что провинившийся мальчик не удостаивался того рукопожатия с Карлом Ивановичем, с чего начинался для всех каждый учебный день. Для этой церемонии Карл Иванович становился на верхней площадке лестницы, откуда мы попадали в рекреационный зал и в классы, а старческую свою, точно безжизненную руку он держал перед собой «для общего пользования». Торопливо проходили один за другим ученики мимо этой безучастной фигуры, произнеся приветствие, скорее хватая эту руку, нежели пожимая ее. Но безучастность Карла Ивановича была только кажущейся; он отлично примечал, кто с ним здоровался, и когда появлялся накануне в чем-то провинившийся (о чем успели донести Карлу Ивановичу) и очередь рукопожатия доходила до него, то ручка директора отдергивалась. Иногда при этом старческий рот шамкал по-немецки: «мне нужно тебе сказать что-то» или «я должен поговорить с тобой», и это означало, что директор чрезвычайно недоволен тобой и что с глазу на глаз произойдет головомойка.
Ученики считали, что Карл Иванович по происхождению скандинав — не то швед, не то датчанин (с виду он, несмотря на черноту волос, больше всего походил на финна, на чухонца), но на самом деле он был, кажется, чистокровным и очень даже типичным немцем. Природный его язык, во всяком случае, был немецкий, тогда как по-русски он говорил если и совершенно, даже безукоризненно правильно, то все же с чуть заметным иностранным акцентом… Кроме своих директорских функций, он взял на себя преподавание географии, и на этих уроках сказывался и настоящий учительский талант и что-то, я бы сказал, поэтическое, что было в его натуре. Мы все любили уроки Карла Ивановича и своеобразную систему их и те описания природы, стран и городов, благодаря которым исчезала всякая сухость из его преподавания. Система же была основана на рисовании на доске самых упрощенных схем. Нарисует Карлуша три линии в известной комбинации и, полуобернувшись к классу, тыча мелом в одну из линий, спросит по-немецки: «Что это?» Знакомые уже с системой мальчики отвечают: «Это Фихтельгебирге». — «А это?» — «Майн» и т. д. Постепенно эта голая схема разукрашивалась разными добавлениями, появлялись другие горные цепи, города, притоки рек. Мое знакомство с преподаванием Карла Ивановича именно с такого урока о Центральной Европе и началось, но этот же урок я затем слышал не раз — и это благодаря «институту совместных уроков», когда ученики старшего класса оказывались в одном помещении с меньшими товарищами.
Эти совместные уроки входили в школьную систему Карла Ивановича. Под этим, вероятно, лежали экономические соображения, один и тот же учитель мог одновременно преподавать двум классам — а отсюда экономия во времени и в гонораре. Бывало, что такая комбинация получалась из-за того, что у данного учителя, занятого в другом учебном заведении, не оставалось времени дважды посетить нашу школу. Совместные уроки получались и вследствие случайных обстоятельств (скажем, из-за болезни одного учителя его класс временно поручался другому). Все это доставляло много забот Карлу Ивановичу. Перед доской с подвижными фишками, висевшей на стене в зале над фисгармонией, директор иной раз простаивал много минут, все что-то бормоча себе под нос, переставляя фишки и снова и снова их всовывая в прежние рубрики. Некоторые совместные уроки носили постоянный характер, так, например, Гомера читали одновременно и седьмой, и восьмой класс, и этот порядок был установлен навсегда. Кажется, то же происходило и с физикой, которую преподавал инспектор Ларинской гимназии элегантнейший Фохт.
Несколько преподавателей гимназии состояли при ней безотлучно и даже жили в том же доме, но большинство были приходящие. Постоянные, кроме преподавания, несли обязанности классных наставников. Их было трое — и все трое были немцами, по-русски даже не говорившими. Один из них к нам, ученикам старших классов, не имел отношения. Это был несколько обрюзгший пожилой человек с бритым и носатым лицом Полишинеля. Его звали герр Деглау. Он следил за порядком в младших классах, помещавшихся в нижнем этаже, и к нам наверх подымался редко. Деглау отличался беспредельной мягкостью, и дети его обожали, но ходила молва, что он каждый вечер напивается в соседнем трактире «Белый медведь», служившем сборным пунктом для всех местных немцев. В общем, это была комическая и чуть жалкая фигура. Кроме того, за мальчиками до тринадцати-четырнадцати лет присматривала супруга Карла Ивановича — очень некрасивая, красноносая и не слишком приятная Агнеса Ивановна, которую полагалось величать тетей Агнес; помощницей ее была родственница Мая, старенькая, такая же вся кругленькая, как ее фамилия, tante Lugebill (тетя Лугебиль), которую полагалось звать именно так, а не по имени.
Эти трое заведовали порядком в нижнем этаже (они же там и учительствовали), мы же наших маленьких товарищей встречали только по утрам на общей молитве, происходившей в рекреационном зале, и в субботу в полдень, перед тем как всем разойтись по домам. Наш же «мир верхней сферы» управлялся, кроме директора К. И. Мая и его помощника «инспектора» Кракау, господином Эмилем Молем и господином Виндом.
К Эмилю Молю я сразу почувствовал особую симпатию. Это был огромный, несуразно сложенный и потому казавшийся тучным господин с прекрасным лицом Юпитера — на деле вызывавшим скорее сравнение с бегемотом. Он недавно попал в Петербург, а родился в Швабии, в городе Тюбингене. Один его швабский говор располагал к нему юные души. В нем была какая-то нежность, что-то сентиментально-уютное, типично-германское (в прежнем, догитлеровском понимании этого слова). Уютность его выражалась и в том, что восседанию на кафедре он предпочитал сидение среди учеников, чаще всего на одной из парт, причем он свои ножищи мастодонта с трудом укладывал на соединенную с пюпитром скамейку. И вот этот обыкновенно ласковый добряк мог внезапно обратиться в гневного и даже в яростного громовержца — в тех случаях, когда распущенные им же мальчики слишком далеко заходили за пределы позволительного. Тогда Моль вскакивал, становился в пространстве между рядами парт и кафедрой и оттуда начинал метать взоры, которые он, вероятно, считал за уничтожающие, но которые были только смешными, так как Моль был ужасно близорук и в его взгляде, каком-то рассеянном и подслеповатом, это сказывалось даже тогда, когда он считал нужным превращаться в некое олицетворение гнева. Подобные проявления бешенства у Моля были чем-то обычным, в экстренных же случаях, когда его доводили до пароксизма гадкими, глупыми шалостями, гнев его получал уже совершенно дикое и какое-то плясовое выражение: он начинал кружиться на месте и даже подпрыгивать (прыгающий бегемот!), причем извергал по-немецки «страшные» слова: «Все вы бессовестные», «Я вышвырну всех вас» и т. п. Но через секунду после такого извержения Моль уже снова сидел за одним из столиков, уткнув нос и правый глаз в грамматику или в Ксенофонта, или в «Нибелунгов», и снова его швабская речь текла негромким уютным мурлыканьем.
Надо при этом прибавить, что Моль был очень образованный и начитанный человек — в особенности по части немецкой литературы, древней и новой; для пополнения же своего образования он пользовался каждой свободной минутой. Так и вижу его, как он сидит на деревянном диване в рекреационном зале с нечесаной рыжей бородой, с лоснящейся плешью, с какой-либо книжкой в руках, по большей части это был томик общедоступной «Универсальной библиотеки». Вместо того, чтобы пойти в учительскую покурить и поболтать с коллегами, он предпочитал такое полезное одиночество.
Нас, учеников 5, 6 и 7-го классов, Моль учил немецкой литературе и древним языкам. Вскоре после нашего окончания гимназии его переманили от Мая в Училище правоведения, при котором, как я слышал, он находился затем многие годы. Лично я благодарен ему, во-первых, за те воспоминания, которые связаны с его живописным обликом, во-вторых, за те знания, которые я почерпнул из его уроков, чуть бестолковых и лишенных системы, но всегда исполненных жизни и увлекательных. Наконец, я косвенно обязан Молю тем, что я с тех самых пор заделался страстным собирателем книг. Однажды он принес в класс оба тома только что тогда вышедшей книги «История германской культуры», автором которой был Otto Henn am Rhyn. Это было одно из первых популярных исторических исследований, начиненное иллюстрациями, воспроизведениями старинных гравюр, изображениями всевозможных памятников, говорящих о нравах и обычаях прошлого. Книга эта так меня поразила и так мне понравилась, что, не откладывая, я упросил маму, чтоб она мне купила такую же, а в подражание мне ею же обзавелись и мои друзья Нувель и Философов. Начало нашим личным серьезным библиотекам было таким образом положено, и с тех пор я не переставал предаваться благородной, но, увы, и очень разорительной страсти книгособирания.
Мой рассказ о господине Виндте будет короче. В противоположность Молю этот уроженец Вены был человеком изящной наружности с хорошо причесанными волосами и такой же бородой. Виндт был что называется красивый и даже элегантный господин; он никогда не гневался, не выходил из себя, но в нем не было и малой доли теплоты, и в общем он вполне заслуживал репутацию «сухаря». К своим урокам он относился с нескрываемой скукой и, хоть читали мы с ним самую занимательную книгу из всей классической литературы — «Метаморфозы» Овидия, однако на его уроках царило уныние и дремота. Учеников он не любил и скорее презирал. Единственный раз, когда я его видел веселым, — это тогда, когда я уже по окончании гимназии его совершенно случайно встретил в его родном городе, т. е. на Ринге, и когда мы зашли выпить чашку кофе в ближайшее кафе, Виндт так тогда растаял, что даже стал зазывать меня к себе в Баден (под Веной), но мне, ввиду близкого отъезда, пришлось отказаться, и это, к моему большому удивлению, его огорчило.
Названными двумя педагогами не исчерпывается та часть учительского состава, которая была занята преподаванием древних языков. Напротив, Виндт и Моль только готовили нас к Парнасу, а на самой вершине Парнаса заседали господин Мальхин и господин Блумберг. Блумберг не оставил ни в ком из нас приятного впечатления. Правда, он выучил нас, посредством какой-то особой тренировки, читать без подготовки Гомера (в одном только чтении «Илиады» и «Одиссеи» и состояли его уроки), но человек он был неприятный, с виду какой-то желтый, со светло-желтой общипанной бородкой, с зелеными глазами, прятавшимися под очень сильными стеклами очков, с дурным запахом изо рта. К тому же это был человек и довольно пошловатый и каверзный.
Пошлость Блумберга выражалась, между прочим, в том, что он заставлял нас исправлять Гомера — из соображений более утонченного вкуса. Известно, что некоторые очень картинные, но и очень несовременные выражения и особенно эпитеты у певца Троянской войны повторяются на каждом шагу. И вот надлежало такие шокировавшие Блумберга выражения или просто пропускать или же заменять другими. Например, ни в коем случае нельзя было оставить за Герой эпитет «волоокой» или про Аякса сказать, что он «выступил, как бык». Блумберг готов был поставить дурной балл за такой (второпях сделанный) промах и, мало того, он дулся затем в течение всего продолжения урока на того, кто совершал рецидив в этом смысле.
Настоящая культурная пропасть разделяла этого русского грека с его германским коллегой, с господином Мальхиным. О Моле у меня сохранилось воспоминание сентиментального порядка. Даже то, что в нем было глубоко комического, было в своем роде трогательным. Это был тип, словно слетевший с картин Шпицвега или Швинда. Напротив, память, которую я храню о Мальхине, полна глубокого уважения. Пожалуй, из всех педагогов, не исключая милого Томасова в казенной гимназии, я именно к Мальхину почувствовал наибольшую степень почтения и ученической преданности. Это был мой идеал профессора. И не только потому, что Мальхин умел хорошо учить (разбираться в тонкостях грамматик, разбираться в философии Платона), но и потому, что Мальхин подавал пример какого-то незыблемого чувства долга. Только под его руководством я понял, зачем вообще существует «классическое» воспитание, чему оно служит в жизни, как действуют на весь наш мыслительный строй и на наши критические способности упражнения в латыни и в греческом.
Появился Мальхин на нашем горизонте только тогда, когда мы перешли из шестого класса, или «сексты», в седьмой, но так как я и мой ближайший друг Валечка Нувель были оставлены без экзамена на второй год в этом предпоследнем классе, то нам посчастливилось «состоять под Мальхиным» целых три года, а не два, как это вообще полагалось. Тут же поясню, что наши неуспехи, которые заставили доброго К. И. Мая со скорбным сердцем не допустить нас до конечного экзамена в 1889 году (о чем дальше), никак не зависели от нашего нерадения на уроках Мальхина. Наши успехи по древним языкам были вообще вполне приличными, а временами и отличными. Но неблагополучно у нас обстояло с математикой, со всякими тригонометриями и космографиями, а к тому же мы тогда оба уж очень увлекались театром, да и вообще слишком жили домашними и личными, а не школьными интересами. Мы просто вышли из школьного возраста. Того же отношения, которое мы встречали со стороны Мальхина, мы в других преподавателях, и даже в самом Мае, который к концу нашего учения очень постарел, не встречали.
Самым характерным во внешности Мальхина была его недлинная, но густая, огненного цвета борода, а также злой, пронизывающий взгляд его зеленых, искрящихся глаз. Преподавал он обыкновенно по системе перипатетиков, расхаживая по классу, необычайно отчетливо и резко отчеканивая слова как немецкие, так и латинские и греческие. Он страдал застарелым плевритом, причинявшим ему внезапные острые боли, но Мальхин и в такие моменты не переставал разгуливать и лишь хватался за бок, как-то мычал, а в глазах мелькало отражение испытываемых мучений. Когда же припадок кончался, то лекция продолжалась. Он именно читал нам лекции. В его преподавании не было ничего механического, тупого (это особенно сказывалось в его толковании Платона — мы прошли с ним «Протагора», «Федона» и «Пир»), Все должно было пройти через сознание, всякое новое познание утверждалось в голове посредством его уразумения. На это я и мои друзья — Нувель, Калин, Философов и Скалон шли охотно, — и Мальхин поэтому относился к нам с особым благоволением.
Напротив, он не скрывал своего презрения к тупицам и бездарным зубрилам — хотя бы они отвечали на пять по заданному уроку. Некоторых же учеников он прямо ненавидел — одних за безнадежную глупость, других за лень и бездарность, прикрывавшихся подловатыми приемами. К разряду первых, к его беспредельному огорчению, принадлежал его родной сын Ваня («Ванья» — в произношении отца), среди вторых находился сын учителя русского языка Володя Доброписцев. На последнего, на этого вовсе не плохого, необычайно добродушного, но склонного к мужицкой лукавости веснушчатого малого Мальхин, такой всегда сдержанный, корректный, неоднократно набрасывался с криком, обзывая его бранными словами, совершенно не полагавшимися в устах культурного педагога. И мне кажется, что на этом примере с особой ясностью выражалась некая расовая непримиримость между типичным пруссаком и типичным россиянином. Пруссак никак не может понять и принять то, что в славянской душе скользкого, зыбкого, «складную русскую душу». Проявления ее выводят его из себя, он в них видит худшее, что может быть в человеке, и с этим он готов бороться огнем и мечом! При этом ярость его растет по мере того, как он под своими ударами ощущает нечто уступчивое, рыхлое, не противопоставляющее ударам сопротивление.
В самый год нашего окончания гимназии (1890) Мальхин принужден был подать в отставку (преподавание в гимназиях на немецком языке было запрещено правительственным распоряжением), и он предпочел оставить Россию и вернуться к себе, в свой родной Берлин. Там, движимый школьным сентиментализмом, я его посетил в 1894 году, но лучше было бы, если бы я этого не делал. Визит послужил только тому, что я не узнал своего Мальхина. Вся обстановка — ультрабуржуазная, точно выхваченная из какой-либо карикатуры Т. Т. Гейне в «Симплициссимусе», — была нисколько не похожа на ту характерную обстановку «фанатика науки», в которой мы заставали нашего профессора, когда приходили к нему в Петербурге. Там обстановка нашего педагога, при огромном количестве книг, коими были сплошь покрыты стены его кабинета, состояла лишь из нескольких самых обыденных стульев и очень большого, сплошь заваленного книгами и бумагами стола. На одиноком окне никаких занавесок. Здесь же меня принимали в типичнейшей гостиной с гарнитуром, крытом красным репсом, и с цветочным ковром на овальном столе. Кстати сказать, эти наши посещения Мальхина входили, я бы сказал, в своеобразную систему нашего общения с ним. Мы ходили к нему объясняться — или в тех случаях, когда чувствовали, что мы уж очень огорчили его каким-либо свидетельством нашего нерадения. Он это поощрял, принимал нас с ласковой строгостью, постепенно переходившей в ясно выраженное благорасположение; кончался же наш визит тем, что Мальхин нас провожал до входных дверей и, пропуская одного за другим, повторял по-немецки одно и то же: «Ничего, я на вас не сержусь!» После такого посещения на его уроках устанавливалась атмосфера прошедшей грозы.
Не могу не упомянуть здесь об еще нескольких лицах нашего педагогического синклита. Необычайно живописной и внушительной фигурой был господин Штрунке, черный-пречерный, горбоносый; густую свою бороду он стриг клином по образцу некоторых древнегреческих бюстов. Он с подчеркнутой отчетливостью произносил по-гречески имена древних деятелей. Когда Штрунке говорил о личности Пизистрата и называл его Пайзистратос, то мне чудилось, что передо мной стоит самый этот афинский тиран. Преподавал он древнюю историю всего еще год (мой первый год у Мая), после чего ему пришлось покинуть гимназию, так как сначала вышло министерское распоряжение, потребовавшее, чтобы преподавание истории происходило на русском языке, которым Штрунке не владел вовсе. Большинство учеников очень жалело об этом уходе, так как Штрунке обладал даром необычайно ярко, картинно и выпукло передавать факты, а его характеристики производили впечатление какого-то портретного сходства. На смену ему явился тусклый, беспомощный Кракау, который с трудом, точно ученик, отвечающий заданный урок, говорил в тех же выражениях то, что уже стояло в учебнике…
Другой любопытной фигурой был Михаил Захарович Образцов, крошечный человек с длинной русой бородой. За ним у нас утвердилось изобретенное мной прозвище Зюзя, и действительно это слово очень подходило к милому, доброму, но чересчур слабому человеку, абсолютно неспособному дисциплинировать порученную ему ватагу. Очаровательна была его манера улыбаться, точнее осклабляться; губы крошечного бородача широко раскрывались, открывая обе челюсти, причем усы как-то выпучивались в виде странных ворохов. Он считался весьма ученым математиком, и даже ходила молва, что он состоит членом-корреспондентом каких-то знаменитых иностранных обществ или академий, но возможно, что именно потому учил он плохо — не будучи в состоянии приноровиться к уровню наших мыслительных способностей. Образцов был первым, кто при поступлении в гимназию Мая меня экзаменовал, — и то, как мило и осторожно, как благожелательно он это произвел, расположило меня к нему навсегда. Даже в период, когда я становился из рук вон плохим учеником как раз на его уроках и когда получал от него вполне заслуженные плохие баллы, я не переставал его любить и как-то при этом жалеть этого маленького, чуть смешного гнома. Такое мое отношение продолжалось и после гимназии; он был единственным учителем, бывавшим у меня на дому. Разглядывая мои художественные книги, он при этом обнаруживал удивительные запасы наивности и большую готовность все узнать и понять. Если бы я тогда же не отбыл за границу (это было в 1896 году), то, вероятно, мы бы поменялись ролями. Образцов стал бы моим учеником по истории искусства, а я его учителем. Раз я его посетил на дому. Он жил у своего отца — священника при Смоленском кладбище, — и окна гостиной в этом деревянном двухэтажном доме выходили прямо на тот своеобразный парк, в котором под березами покоятся, прижавшись друг к другу, несметные толпы мертвецов. Этот грустный пейзаж показался мне очень подходящим для доброго и чуть жалкого Зюзи.
Неважно мы учились у учителя русского языка и русской словесности Михаила Евграфовича Доброписцева. Фамилия Доброписцева не что иное, как перевод с греческого: Евграфос, из чего можно было заключить, что наш Михаил Евграфович был семинарского происхождения — ведь именно в семинариях было в ходу давать такие фамилии людям, поступавшим в них «без имени». Во всяком случае, наш Доброписцев был типичным семинаристом, человеком, если и обладавшим нужными познаниями, то как-то плохо их усвоившим, а во всем своем облике не обнаруживавшим свою принадлежность к культурному и интеллигентному слою. Это был характерный пролетарий. Одень его в рясу, он явился бы идеальным натурщиком для изображения деревенского дьячка, одень его в армяк, повяжи его передником — и он стал бы приказчиком какой-нибудь мелочной лавочки. У него был маленький красный носик, длинная рыжая борода и пучки рыжих волос торчали над глазами. Вся его нескладная, какая-то длинная и тощая фигура выдавала простолюдина, и определенно крестьянским был его говор на «о» и его жесты, удивительно угловатые и какие-то «прямоугольные». Учил он и русскую историю, строго придерживаясь учебника и, видимо, ничего не зная помимо него. (Впрочем, у него был определенный, довольно личного оттенка культ Петра Великого, и за это я его жаловал!) К русской же литературе он относился с большей самостоятельностью: он обожал и хорошо знал Пушкина, ценил Гоголя и Лермонтова, а также некоторых мастеров слова более отдаленных эпох. Каждое свое предложение он начинал словечком «ны-те», сопровождаемым движением сапожника, тачающего сапог. Бедный Михаил Евграфович был обременен семьей и поэтому должен был учить во всех классах, начиная с младших, да и не в одной нашей гимназии. Именно для того, чтобы позволить ему получить лишние уроки, К. И. Май сделал для него отступление от общего учебного плана и назначил Доброписцеву два часа в неделю, оба от 8 часов утра до 9-ти. Из-за них мне приходилось вставать в 7 часов и идти по городу, еще погруженному во тьму, причем часть пути лежала по льду (что несколько сокращало дорогу), и это было очень жутко, так как ходили слухи, что «на Неве грабят». Дружные протесты родителей учеников заставили через два месяца такого опыта отменить эти ранние уроки.
В качестве католика мне не надлежало пользоваться уроками закона Божьего ни у дьякона церкви Академии художеств Постникова, ни у лютеранского пастора Юргенса, но видел я их постоянно, а иногда и просиживал у них за уроками. Интересно было сравнивать обе манеры обучения. Поп был человек лет пятидесяти, довольно полный, ступавший животом вперед, кудрявый, с проседью, с тщательно расчесанной, не очень длинной бородой. Он был весь какой-то сочный, приветливый и веселый. Пастор тоже не производил аскетического впечатления: это был довольно высокого роста господин, гладко выбритый, что придавало его лицу сходство со старой и склонной к плаксивости женщиной. Сходство это усугублялось в минуты, когда он по понедельникам за утренней молитвой и по субботам за полуденной (перед роспуском на воскресенье), переминаясь с ноги на ногу и воздев очи к потолку, произносил род коротенькой проповеди — каждый раз в выражениях, почти тождественных. Вслед за этим тетя Агнеса садилась за фисгармонию, и вся школа пела полагавшийся на данный день недели хорал. С такого же хорового пения начинался и всякий другой день, но не всегда в присутствии духовного лица. По средам гремел хорошо всем знакомый благодаря опере Мейербера гугенотский гимн «Господь — наша крепость», и это меня каждый раз наполняло торжественным настроением. Напротив, понедельник начинался с печальнейшего хорала: «Только тебе в небесах воздадим честь», а в субботу мы с особым ликованием возглашали: «Благослови нас и охрани милостью твоей». Все по-немецки, естественно.
В общем жизнь в гимназии Мая протекала тихо, ровно и безмятежно, но раз в году — в день рождения директора — она отмечалась скромным празднеством. В нижнем этаже, где находилась квартира Мая, варился для всего училища шоколад, и всех группами приглашали отведать этого праздничного напитка, разливкой которого заведовала супруга Карлуши, его дочка и tante Лугебиль. Однажды — это было осенью 1886 года — праздновали семидесятипятилетие Карла Ивановича — празднование получило несравненно более парадный характер, но уже вечером. Перед растроганным директором, сидевшим среди рекреационного зала в окружении всех педагогов и толпы приглашенных родителей, прошло «Шествие рек» в соответствующих костюмах и с произнесением каждой «рекой» уморительных немецких стишков, сочиненных известным академиком-этнографом Раддовым. Я изображал Хуанхэ, а мой друг Гриша Калин — Янцзыцзян. Нам из этнографического музея были одолжены настоящие китайские халаты, нам привесили длинные косы и приклеили висячие усы; мы должны были держать указательные пальцы перед носом и произносить довольно длинное стихотворение. Перед выходом мне казалось, что я нисколько не волнуюсь, однако, к собственному удивлению, и тогда уже, когда я произносил свои реплики, я заметил, что мои пальцы сами по себе и без всякого с моей стороны принуждения ритмично дергаются — точно метрономы. Это, вероятно, было сочтено за особенно изощренную китайскую стилистичность…
Н. К. Рерих, который был в младшем классе, вспоминает в своих мемуарах не без умиления об этом дебюте. К сожалению, что представлял он сам в «Шествии рек», я не помню, пожалуй, он и не участвовал в нем, а сидел среди зрителей. В следующем, 1887 году я на рождение Карлу Ивановичу поднес изготовленный мной альбом акварелей, изображавших каждая какую-либо из олицетворенных рек на фоне соответствующего пейзажа. За Темзой виднелся четырехконечный замок Тауэра, за Сеной — Нотр-Дам, за нами, китайцами — какие-то пагоды и т. п. С этими акварельками я очень мучился, и все же, как я ни старался, сколько ни переделывал, а получилось нечто позорно-ребячливое. Но дело было сделано, была заказана и шикарная папка, и я все же свое изделие поднес (оно с тех пор покоилось в гостиной Мая на отдельном столике).
Осенью 1887 года я вошел в более тесное соприкосновение с жизнью гимназии Мая. Это было время, когда я вздумал сочетать свое гимназическое учение с вечерними классами Академии художеств, куда я поступил в качестве вольноприходящего. Занятия в гимназии кончались в 4 часа; дома мы обедали к 5 с половиной, в Академии вечерние классы начинались в 6. Таким образом, у меня фактически не хватало бы времени поспеть домой и опять обратно на Васильевский остров. Поэтому мамочка сговорилась с Маем, чтобы я столовался в гимназии с пансионерами и дирекцией. Столовая помещалась в нижнем этаже; здесь в довольно просторной, но низкой сводчатой комнате стояли два стола. За одним председательствовал сам Карл Иванович и несколько учеников (я среди них), за другим восседала tante Агнеса и с ней классные наставники и мадемуазель Май — девушка лет восемнадцати. Всем подавалось одно и то же. Прислуживали два сторожа, заведовавшие в течение дня раздевальней. Одного из них, полунемца по фамилии Швебс, я, вероятно, потому и запомнил, что он оказывал нам разные услуги, а фамилия его своим звучанием как нельзя лучше выражала его расторопность и усердие. Мы все с симпатией относились к этому молодому и любезному парню и щедро награждали его по праздникам.
Запомнился мне один случай, связанный с этими обедами в гимназии. В какой-то октябрьский вечер Карлуша по окончании еды вдруг не без торжественности обратился ко всему собранию, заявив, что сегодня нам предстоит увидеть что-то особенное, и с этими словами повел нас на двор. И действительно, то, что мы увидали, нас глубоко поразило. Все небо, свободное от туч, было в движении. Мириады падающих звезд бороздили его в разных направлениях. Казалось: вот-вот весь небесный свод воспламенится и тогда нам несдобровать. Карлуша не уставал любоваться этим зрелищем, причем вид у него был такой, точно это он устроил весь этот фейерверк. Он самодовольно улыбался и старался в общедоступной форме объяснить, каким образом такой огненный дождь мог получиться. Признаюсь, именно с этого вечера я почувствовал известное недоверие к небу и впервые ощутил то специфическое сердечное сжатие, которое во мне повторяется каждый раз, когда я слышу о каких-либо тревожных для всего мироздания астрономических открытиях или сообщениях. Самой мучительной из таких тревог была та, которую я испытал в 1910 году — в ожидании кометы Галлея. Но могли добряк Карлуша предполагать, что приготовленный им тогда сюрприз получит значение какой-то душевной травмы для одного из его любимых учеников?
ГЛАВА 17 Гимназия Мая. Товарищи
Только что я упомянул имя того моего товарища по гимназии Мая, который впоследствии приобрел наиболее распространенную славу, — Н. К. Рерих. Но как раз в стенах нашей общей школы я общался с ним мало, и моим другом он тогда не стал. На то причина простая: он был двумя классами ниже моего, и встречались мы с ним лишь благодаря случайностям системы комбинированных уроков. Поэтому я мало что о нем запомнил в те годы — разве только, что это был хорошенький мальчик с розовыми щечками, очень ласковый, немного робевший перед старшими товарищами. Ни в малейшей степени он не подпал влиянию нашей группы, да и после окончания гимназии он многие годы оставался в стороне от нас.
Напротив, несколько человек из моих одноклассников сделались моими спутниками на значительную часть жизни, а один из них — как раз тот мальчик, с которым, поступив в пятый класс к Маю, я быстрее всего сошелся, с которым сидел на одной парте, — тот до самой своей кончины в текущем году (это писано в 1949 г.), остался, несмотря на наши частые ссоры, а временами и довольно серьезные раздоры, моим близким другом, — я говорю о Вальтере Федоровиче Нувеле.
Естественно, что первое время я только осматривался. Мне было конфузно, что я, как мне казалось, значительно старше всех прочих (у меня уже начинала пробиваться борода), и лишь немного позже я, к своему удивлению, узнал, что Костенька Сомов, несмотря на свой ребячливый вид, на целых семь месяцев появился на свет раньше меня. В те же первые недели я терпел обиды от другого моего будущего друга — от Димы Философова, который, несмотря на свое хорошенькое, ангельское личико, содержал в себе немало едкой злости. Он сразу высмеял мой действительно неуклюжий костюм (сшитый по чьему-то совету из пледа), и мою неряшливую прическу, и мои грязные ногти, но больнее всего меня кололи его разоблачения, касавшиеся нашей семьи. Через мою кузину Нетиньку, дававшую и у Философовых уроки игры на фортепьяно, Дима был хорошо осведомлен не только о настоящем, но и о прошлом семьи Бенуа, тогда как я считал нужным из мальчишеского желания придать своей персоне больший вес, нести всякую чепуху вплоть до того, что будто наши французские предки были маркизами, а мои венецианские деды — дожами и кардиналами. Я даже остро возненавидел тогда Диму. Раздражало меня в нем и то, что этот мальчик слишком откровенно выражает свое презрение ко всему классу, выделяя лишь своего соседа по парте — Костю Сомова. С ним зато он держал себя совсем как институтка, поминутно обнимаясь и чуть ли не целуясь. Впрочем, тогда я не усматривал в этом чего-либо специально предосудительного, и мне эти излияния казались просто неуместными и мужскому полу не подобающими.
Валечка Нувель, напротив, хоть и шокировал меня претензией на щегольство в одежде и некоторыми своими манерами, например тем, что он курил для вящего форса сигары, однако мне многое в нем и нравилось: больше всего его несомненное западничество, нечто, отличавшее его от характерно русских мальчиков. Впрочем, у нас в классе было два Нувеля. Старший Эдя (Эдуард) и младший Валечка (Вальтер) были по наружности до того друг на друга похожи, что их можно было принять за близнецов, причем Эдя был на полголовы выше брата. Однако наружностью и исчерпывалось сходство между ними. Насколько Эдя был мальчишка из самых озорных, настолько Валя и тогда уже держался корректно и казался рассудительным, «культурным». Эдя, к великому общему удовольствию, был мастером на всякие шалости и изобретателем иной раз и очень хитрых шуток. Это он принес однажды в класс целую дюжину заводных лягушек и пустил их под ноги подслеповатому старичку Лебурде — учителю французского языка. Он же устроил сложную махинацию, посредством которой кусок мела взлетал по черной классной доске без того, чтобы было заметно, как это происходит. Мел был подвешен на черной же нитке, которая была проведена через весь класс к задним партам, где и восседал автор и механик фокуса. Вот собрался Зюзя Образцов взять мел, чтобы написать алгебраическую формулу, а мел вдруг полез по доске вверх! До чего же это было смешно, до чего оторопел наш крохотный педагог! И попало же тогда Эде за эту шалость! Был вызван сам Карл Иванович, грозно крикнувший ему по-немецки, чтобы он немедленно убирался, на что отчаянный мальчишка так швырнул дверью, что она вся задребезжала своими многочисленными стеклами, а два из них даже выпали из рамы и разбились!
И вот мой Валечка представлял собой полный контраст со старшим братом. Не надо все же думать, что он был образцовым тихоней, пай-мальчиком или скучным зубрилой. И он, как и Эдя, обладал значительным запасом лени и не прочь был подурачиться. Что касается учения, то отличная память и большая сметливость выручали его, позволяя Валечке нерадиво относиться к урокам без риска быть зачисленным в разряд отменных бездельников. Та же память и та же сметливость, при вечно возбужденном любопытстве, делали Валю интересным собеседником. Он был таким же скороспелым юнцом, как и я, ему, как и мне, ничто человеческое не было чуждо, он был таким же страстным театралом и таким же великим охотником до чтения, и естественно, что по всем этим причинам я вполне оценил общение с ним и очень быстро с ним сошелся. В общем, Нувель был таким же продуктом Немецкой слободы, как и я, и это одно располагало к нашему сближению. (Семья отца Валечки происходила от французских эмигрантов, переселившихся еще в конце XVII века из Франции в Германию. Французский дух, однако, оставался в семье Нувелей господствующим, и это несмотря на то, что мать Валечки была немкой. Отца Вали я не застал: он скончался года за два до моего поступления к Маю. По рассказам же, это был очень зажиточный человек — директор не то какого-то банка, не то страхового общества. Получая крупное вознаграждение, он позволял себе вести довольно роскошный образ жизни, занимать большую и нарядную квартиру, держать лошадей и часто ездить за границу. Но вот он скончался почти внезапно, и матери Валечки — добрейшей и величественной Матильде Андреевне — пришлось сильно сократить весь образ жизни. Она переехала в сравнительно скромную квартиру, а лошади и экипаж были проданы. Все же и тогда обстановка Нувелей сохраняла следы того, что французы называют cossu, зажиточностью.)
Но, кроме того, еще одно важное обстоятельство делало дружбу с Валечкой особенно ценной. Он был серьезным любителем музыки, он недурно играл на рояле и обладал завидной способностью быстро читать с листа. Подобно мне, он тогда увлекался итальянской оперой (переживавшей в Петербурге на императорской сцене свою особенно блестящую пору), а под моим влиянием он стал несколько позже интересоваться и балетом — главным образом балетной музыкой. Единственно, что огорчало меня в моем новом друге, — это известная его сухость мысли и склонность к готовым формулам. Это порождало между нами лютые споры, причем я не щадил Валечку и, движимый священным негодованием, поносил его самой отборной бранью. Он же сносил все без протестов — не то по добродушию, не то по какой-то вялости и по отсутствию темперамента. Особенно же огорчало меня в Валечке его безразличие к пластическим художествам. На искоренение последнего дефекта я и направил свои главные усилия, и в конце концов мне удалось заразить Валечку своей страстью к живописи, обожанием архитектуры, наслаждением скульптурой. К сожалению, этот искусственно привитый интерес глубоких корней в Валечке не пустил, а в старости мой друг даже как бы гордился тем, что «все это его больше не интересует, все это он перерос».
Не лишним считаю здесь более обстоятельно познакомить читателя с семьей Нувель. У Вали было три брата и одна сестра. Старший брат Ричард Федорович обладал прекрасным голосом, что побудило его избрать карьеру оперного певца. Одно время он пел в каких-то заграничных антрепризах, и имя Рикардо Норди (избранный им псевдоним) стало довольно известным, но затем, будучи человеком слишком мягким, вялым, а может быть и ленивым, он бросил сцену и заделался учителем пения. Второй брат Федор являлся контрастом Риче. Это был настоящий герой из какого-нибудь романа Жоржа Оне. Рослый, хорошо сложенный блондин, он являл вид необычайно холеный и все же мужественный. Он должен был иметь большой успех у женщин, любил пикантные анекдоты, коих знал баснословное количество, и держал себя с характерной для высших коммерческих и биржевых кругов развязностью. Он рано умер, не достигнув и сорока лет. Рано умер и знакомый уже читателю Эдя — типичный бездельник и, как водится, любимчик матери. Наконец, была у Валечки и сестра, писаная красавица Матильда, но ее я видел в свои юношеские годы всего раза два, так как, выйдя замуж за голландского дипломата барона ван Геккерна (родственника того Геккерна, который сыграл столь роковую роль в трагической дуэли Пушкина), она жила за границей.
Постепенно наша с Валечкой дружба, наши беседы и споры стали привлекать к себе и других юношей, и уже в шестом классе (1886/1887) я и ближайшие мои приятели сплотились в особый кружок, в нечто похожее на школьный клуб. Но не надо думать, что наше объединение представляло из себя нечто серьезное и ученое. Даже несколько позже, когда мы назвали себя в шутку «Обществом самообразования» (это было уже в седьмом классе) и даже сочинили род устава, общение наше продолжало носить совершенно свободный характер с некоторым уклоном в шутовство и в потеху. Всякий намек на педантизм был изгнан и предан осмеянию. Изъята была и всякая цензура. Беседа шла о чем угодно и меньше всего о нашем ученье и о школьных делах. Не щадились и современные порядки, но только пересуды на темы, более или менее касавшиеся политической сферы, носили у нас чисто академический характер. Ни в ком из нас не жила склонность к какому-либо личному воздействию, к революционности, нам не был знаком соблазн вмешаться в общественную и политическую жизнь, хотя именно этому соблазну поддавалось в те дни великое множество среди русской молодежи. В нашем классе лишь один юноша явился исключением — то был Каррик, сын известного фотографа. Он был арестован в момент, когда собирался стрелять в министра Д. А. Толстого. При обыске выяснилось, что он забыл зарядить револьвер, что не помешало тому, чтобы он был сослан. Но этот Каррик держался в стороне от нас, а если и вступал в общий разговор, то не скрывал своего презрения к нам, балованным барчукам. Со своей стороны, мы считали Каррика порядочным дураком. Пожалуй, в нашем отрицательном отношении к революционности действовало очень сильно в нас говорившее отвращение от всего стадного, модного. Из того же инстинктивного противодействия против моды нас привлекали некоторые идеи консервативного порядка. В частности, я и Валечка Нувель стали в эти годы чувствовать какую-то симпатию к личности государя Александра III. Положим, и мы иногда возмущались отдельными мероприятиями правительства, видя в них проявление бессмысленного ретроградства и обскурантизма, но при этом все же крепло какое-то наше тяготение к самому принципу монархического правления.
Начиная с седьмого класса, наши собеседования стали все чаще происходить у меня на дому. Приманкой могло служить то, что у нас, точнее у меня, товарищи находили немало всяких наглядных пособий для просвещения как в смысле предметов искусства, так и в смысле книг и журналов. Атмосфера нашего дома была насыщена художеством, чем-то таким, чего никто из моих товарищей не находил у себя. Надо еще прибавить, что я очень рано стал ощущать в себе известное педагогическое призвание и потребность собирать вокруг себя единомышленников. И, между прочим, как раз моя способность вживаться в давно прошедшее оказывала свою притягательную силу даже на тех членов нашего кружка, которые сами по себе никакой склонности ни к истории, ни к искусству не имели.
Еще одна черта способствовала сплочению нашего «совершенно вольного единения», — это наше отношение к патриотизму. Мы все были в одинаковой степени плохими патриотами, если под этим подразумевать какую-то исключительность, какое-то априорное предпочитание своего чужому. Тут сказывалось нечто присущее не столько всему русскому, сколько специфически петербургскому образованному обществу, тут, несомненно, сказывалось, что двое из нас — я и Валечка — были своего рода «воплощением космополитизма». Из этого нашего космополитизма мы тогда уже черпали силу определенной реакции против все усиливавшейся в те дни тенденции во имя идей национализма натравлять друг на друга целые огромные группы человечества. Нам же была дорога идея какого-то объединенного человечества. Это особенно ярко сказывалось в нашем отношении к искусству. Раз какое-либо произведение носило «печать гения», оно было нам дорого — все равно, какая национальность его породила. При этом нас одинаково интересовало и пленяло как древнее, так и новое и новейшее искусство. Несомненно, в отдельных наших тогдашних суждениях было много незрелого и просто нелепого, но в общем наши тогдашние беседы и споры способствовали выработке нашего кредо. Мы безотчетно как бы готовились к чему-то, и когда много лет спустя настал нужный момент, то мы, наша группа (и как раз все то же гимназическое ядро ее) оказалась готовой к действию.
Здесь следует остановиться на только что упомянутом выражении «новейшее искусство». Оно требует ряда оговорок. Надо сознаться, что многое из того, что мы, образованные юнцы с берегов Невы, считали за новейшее искусство, таковым уже не было. Не могли нас по-настоящему осведомить и те книги и журналы, которые я пудами выписывал из-за границы. Почти все, что тогда издавалось и во Франции, и в Англии, и в Германии, игнорировало как раз то, что творилось под боком в каждой из этих стран, то, что было затем объявлено «достойным занять прочное место в истории». И не только мы, майские гимназисты, не были тогда в курсе, но и весь тогдашний образованный мир обнаруживал удивительную, с теперешней точки зрения, отсталость.
Так, например, ныне твердо усвоено всеми, кто мнит себя что-то понимающим в искусстве, что в 60-х и в 70-х годах во Франции господствовал импрессионизм, что то было движение, если еще официально и не вполне признанное, то все же очевидное, происходившее на глазах у всех. На самом же деле это было во всем не так. Импрессионизм вплоть до 90-х годов был явлением скорее подпольным, известным лишь тесному кругу. Еще более тесный круг не только знал о существовании каких-то художников, назвавшихся импрессионистами, но и оценивал их искусство как что-то интересное и прекрасное. Большие массы лишь изредка, урывками узнавали о существовании таких художников, как Мане, Дега, Моне, Ренуар, а если эти имена и произносились или печатались в каких-либо критических статьях, то всегда с оттенком иронии или возмущения. Эти нынешние неоспоримые представители славы Франции казались громадному большинству безумцами, если не шарлатанами. Напротив, несомненной «славой Франции» почитались Жером, Бенжамен Констан, Ж. П. Лоране, Эннер, Мейссонье, Бонна, Бугеро, Руабе, Жюль Лефевр. Передовыми смельчаками могли себя считать те, кто шел дальше и с уважением, с интересом или даже с восторгом относились к Пюви де Шаванну, к Гюставу Моро, к Бастьену-Лепажу, к Каролюсу Дюрану, к Даньяну Бувре, к Каррьеру; и уже самые отважные любовались Бенаром…
Что же касается до ежегодного парижского «Салона», то там напрасно стали бы искать картины, хотя бы только похожие на импрессионистов. Особенно характерным явлением для этих публичных художественных базаров были гигантские картины с историческими потрясающими сюжетами. Больше всех других по формату были и более всех других возбуждали интерес масс полотнища Рошгросса.
В сущности, выражение «импрессионизм» стало известно широкой публике только по выходе в свет нашумевшего романа Золя «Труд», но большинству его читателей оно оставалось каким-то недоступным для общего ознакомления — даже в самом Париже. Единственным местом, где постоянно выставлялись картины импрессионистов, была галерея Дюран-Рюэля, но существование этого довольно скромного магазина далеко не всем было известно. Замечательно, что когда государство решилось принять дар Кайботта в 1895 году, состоявший из картин импрессионистов, то это возбудило в художественном мире настоящий скандал, и раскаты того негодования, которым воспылало французское общество во имя здравого смысла, благоразумия, вкуса и даже «чести Франции», слышались еще многие-многие годы спустя. Посетители залы Кайботта в Люксембургском музее долго еще покатывались со смеха и держались за животики перед такими ныне ставшими классическими картинами, как «Олимпия» Мане, как «Бал в Мулен де ла Галетт» Ренуара, как некоторые пейзажи Моне и Сислея. Можно ли после этого удивляться, что в Петербурге 80-х годов никто об импрессионистах просто ничего не знал. Даже среди художников. Даже наш самый выдающийся художник И. Е. Репин, несколько лет проживший в Париже как раз в эпоху расцвета импрессионистов, имел о них очень слабое представление и относился к ним с пренебрежением.
В главе о зрелищах я упомянул о моем игнорировании русской музыки, но не в меньшей степени был невежественен в этом смысле тогда и Валечка. Еще кое-что нам было знакомо из Глинки, но остальное было для нас чем-то просто несуществующим, неведомым и абсолютно неинтересным. Нас тогда очень удивил бы тот, кто бы напророчил, что недалек тот день, когда мы же станем предпочитать отечественных композиторов всем остальным, и что даже мы оценим (да еще как оценим) тех самых «кучкистов», на которых обрушивались почти поголовно все критики.
И вот как раз в последние годы моего пребывания в гимназии во мне обозначился поворот в отношении русской музыки. Дальше я расскажу, какое потрясающее впечатление произвела на меня «Спящая красавица» Чайковского, здесь же, в связи с моими школьными воспоминаниями, я ограничусь лишь этим упоминанием вскользь. Тогда же я впал (на время) в другую крайность — в какое-то исключительное приятие одной только русской музыки. Впоследствии все это утряслось. Полюбив и поняв то, что заключало в себе прекрасного русское художественное творчество (как в живописи, так и в музыке), я все же не стал каким-то тупым фанатиком-русофилом. Подобную эволюцию проделали мои ближайшие друзья: Нувель, Философов, Сомов. Напротив, я остался ненавистником всего, что носит характер какого-то ограниченного предпочтения своего перед чужим, — будь то в духе французского шовинизма или немецкого «Deutschland über Alles».
Мое сближение с Н. Скалоном и с Г. Калиным началось в седьмом классе (с осени 1887 года). Оба эти юноши были необычайно для своих лет развитыми и начитанными. С ними можно было беседовать на всевозможные темы — в особенности на литературные, получая при этом не одно удовольствие, но и пользу. Как личности, как характеры наши новые друзья были мало между собой схожи. Совсем не похожи они были и в своем внешнем облике. Коля Скалон, несмотря на французскую фамилию, принадлежал к тем типично русским людям, к которым приложима поговорка: «Поскребите русского, и вы найдете в нем татарина», причем остается под сомнением, действительно ли то окажется татарин или иной какой-нибудь монгол, мордвин, вотяк или чухонец. Во всяком случае, под оболочкой вполне прирученного культурного человека оказывается некое коренное дикое начало. Да и в оболочке это коренное начало часто просвечивает — как в чертах лица иногда очень приятных, но все же грубоватых или как-то не совсем оформленных, так, в особенности, в жестах, в какой-то неуклюжей походке, в совершенном отсутствии грации.
Таким типичным русаком был Скалон, причем он как брат на брата был похож на других подобных же «татар» среди моих друзей и близких людей — на Владимира Княжевича, на моего репетитора В. Л. Соловьева, на моего издателя Всеволода Протопопова, хотя вообще все эти господа ничего не имели между собой общего ни в смысле деятельности и общественного положения, ни даже в смысле характера. Очень похож был Коля Скалон, особенно в сложении, в том, как он сколочен, на своего отца — известного земского деятеля либерального толка, очень умного, очень любезного и приятного человека, которого я всегда заставал за письменным столом, погруженным в вороха бумаг. По отцу наш Скалон мог бы быть отнесен к цвету русской передовой интеллигенции определенно демократического уклона. Напротив, мать Коли сочла бы себя обиженной от такой классификации. Это была дама такого же скифского облика, как муж и оба сына, однако она немало кичилась своей аристократической породой и своими высокопоставленными родственниками, особенно же гордилась своим дядей — адмиралом Шварцем. У Коли была младшая сестра Варя; из нее мать (в общем, милейшая женщина) старалась сделать совсем светскую барышню с манерами, годными для представления ко двору. Однако эти старанья матери, эти вечные замечания только раздражали Вареньку и еще больше они раздражали ее братьев, нашего Колю и его меньшого брата Сашу (будущего художника и довольно влиятельного художественного критика), у которых, пожалуй, именно из-за одного чувства протеста против такого калечения могли развиться и утвердиться их типично пролетарские ухватки.
При других бытовых условиях, не обладай Коля Скалон душой нежной, чуть женственной, он мог бы, пожалуй, выработаться в какого-либо героя-нигилиста, народника, как того требовала от юношей тогдашняя политическая мода. Он в интеллектуальном отношении обладал в достаточной степени предрасположением к анализу, причем надо отдать ему справедливость, что его логические выкладки обладали необычайной, довольно даже убийственной последовательностью. Это был очень умный юноша, пожалуй, самый умный из всех нас. Взгляды его отличались большой чистотой, прямотой и абсолютной искренностью. Он был мастером спорить и в два мига припирал к стене оппонента, даже и очень убежденного. Почти всегда при этом он переходил к какой-то моральной проповеди в духе властителя тогдашних дум — Льва Толстого. Все это скорее нравилось мне, за это я готов был любить Скалона, но, к сожалению, в то же время меня раздражала как уже помянутая нескладность всей его манеры, так и типично российская прямолинейность и однобокость его взглядов, его неспособность считаться с оттенками, нюансами и его отказ находить в них красоту. Несомненно, мешало нашему единению и то, что если в литературе, особенно в русской, он и был на редкость для своих лет сведущ, то в сфере пластического художества он выказывал полную и притом безнадежную ограниченность и даже тупость. Он страдал полным отсутствием музыкального слуха (ах! до чего он врал, когда мы хором в шутку певали «Gaudeamus»), картины и скульптуры он разбирал не иначе как с точки зрения их общественной полезности, касаясь одной сюжетной стороны, а архитектура для него просто не существовала.
Надо еще прибавить, что Скалон был легко уязвим в своем самолюбии. При первом же подобии какого-либо пренебрежения к его особе он обижался и подолгу затем дулся. Немудрено, что наша дружба продлилась не долее пяти-шести лет и что уже на третьем курсе университета охлаждение в наших отношениях стало клонить к разрыву. Он все чаще стал манкировать нашими собраниями, а там, по окончании университета, и начисто исчез с горизонта. Уже стороной до нас дошли слухи, что Скалон, к безграничному огорчению своей матери, женился на ее прислуге, простой деревенской девушке, и удалился в какое-то захолустье на Волге, где его толстовство (лишенное всякой религиозной основы) выразилось не только в приятии облика настоящего мужика, но и в том, что он стал питаться одним только черным хлебом и простоквашей. Мне думается, впрочем, что в основе такой судьбы Скалона, разделенной тысячами подобных ему чистых и хороших душ, лежали не столько толстовские убеждения, сколько стихийный зов сквозь толщу культурных наслоений начал степного кочевника.
Гриша Калин представлял собой другую категорию типично российских людей. По своему происхождению он был чистокровный пролетарий. Его отец служил швейцаром в доме, стоявшем на углу 10-й линии и Большого проспекта Васильевского острова — следовательно, в самом близком соседстве с нашей гимназией. И ютился этот привратник с женой и детьми в тесной, душной и темной швейцарской. Но вот колесо фортуны сделало оборот, и получилась полная, совершенно театральная метаморфоза. Швейцар Емельян выигрывает в лотерею сто тысяч рублей и сразу из холопа превращается в барина. Однако ни сам Емельян, ни его жена не оказались на высоте положения. На радостях оба супруга предались столь беспутной жизни, что уже через три-четыре года их обоих не стало — оба скончались от белой горячки. К счастью, свалившееся на них богатство не было еще к этому моменту целиком растрачено и пропито. Оставался купленный на сумму, отложенную по совету одного доброго человека, дом, тот самый дом, в котором Калин швейцарствовал, и благодаря доходу, получаемому с этого дома, опекун, назначенный над сиротами, смог дать им приличное воспитание и вывести их в люди. Я подружился со старшим из этих сыновей Емельяна Калина, с другими же только встречался в их общей квартире. Впрочем, одного брата Гриши, Александра, я застал здесь, в Париже, в 30-х годах — он служил чем-то вроде привратника при «Архивах по истории танца».
Если я привожу всю эту генеалогическую справку, то не потому, что считал, будто какая-либо печать такого низкого происхождения лежала на Грише Калине, а скорее для того, чтобы констатировать как раз обратное. Ничего ни в наружности, ни в манерах, ни в мышлении не выдавало того, что Гриша принадлежит к разряду «выскочек из низов». С виду это был благообразный, хорошо сложенный юноша с длинным тонким носом, сообщавшим ему (так же, как Н. Н. Томасову) некоторое сходство с Гоголем, с близорукими щурящимися глазами, красиво нарисованным ртом под едва пробивавшимися усиками. В противоположность манере держаться Скалона, Калин отличался свободой движений и даже некоторой грацией. Таким, несомненно, его уже создала природа, но, кроме того, он поддерживал и развивал гибкость тела своей страстью к гимнастическим упражнениям, дошедшей у него до того, что он одно время возмечтал посвятить себя карьере акробата. Ввиду этого Гриша построил в садике своего дома целое сооружение, отвечавшее техническим требованиям акробатического искусства, и тут можно было видеть в теплые светлые вечера Гришу в цирковом наряде, в трико с поясом, украшенным блестками, вертящимся, взлетающим, прыгающим, пользуясь трапециями, барами (гимнастическая палка), кобылкой и т. п. Как раз через улицу (через Большой проспект) находилось воспитательное заведение Патриотического института, ученицы которого, сидя по окнам, с большим интересом глядели на упражнения этого полуголого юноши, и, в свою очередь, эта публика подстрекала нашего гимнаста не щадить себя. Принимали участие в этих спектаклях и два младших брата Гриши, тоже в розовых трико и в коротких, расшитых блестками трусиках. Но вот надзирательницы института, наконец, догадались, почему девицам так полюбилось сидеть у открытых окон, и это им было запрещено.
Разумеется, не эта страсть Гриши Калина к акробатике послужила основой к нашему сближению; напротив, мы относились к ней неодобрительно, смеялись над ним и чуть даже не презирали нашего приятеля за такое неумное препровождение времени. Нравилось же нам в Калине то, что он отличался редким остроумием, что он отлично и самостоятельно изучил великое множество литературных произведений как русских, так и, в переводе, иностранных. У него была исключительная память, и он знал бесконечную массу стихов наизусть. Увлекаясь тем или другим произведением литературы, он любил знакомиться и с биографиями их авторов. Влекли Калина к более углубленному знакомству с литературой и личные творческие побуждения. Он обладал несомненным даром излагать свои мысли и серьезно готовился стать писателем. Его юношеские произведения (почти всегда в прозе) очаровывали нас своим своеобразным стилем и сверканием тонкого юмора. Я пророчил Грише блестящее будущее и твердо верил, что когда-нибудь мне будет лестно вспомнить про свою дружбу с таким замечательным человеком.
Но таким пророчествам моим не суждено было сбыться. Еще студентом третьего курса юридического факультета Калин женился на миловидной, но пустенькой барышне, и с этого момента он буквально погряз в мелкомещанском быту. Когда я встречался с ним впоследствии, он каждый раз каялся и уверял, что заботы о семье не дают ему ни минуты времени для какого-либо творчества, а над своими юношескими опытами он посмеивался как над ребяческой блажью. В последний раз я застал Гришу в здании бывшей Городской думы (в том самом здании, которое когда-то было местом службы моего отца). Это было уже при большевиках. Он занимал какой-то начальнический пост по снабжению населения «пищевыми продуктами» — не то картофелем, не то капустой, и мне пришлось прибегнуть к его покровительству, чтобы ускорить получение чего-то, что выдавалось по карточкам. Калин с величайшей готовностью помог мне тогда пройти через ряд бюрократических инстанций, и я проводил его затем до его квартиры (где-то в Коломне), болтая с той же милой и причудливой непринужденностью, с какой мы болтали когда-то у Мая или во время наших собраний у меня. Я очень в свое время ценил дружбу с Калиным, но мне помнится, что он был довольно равнодушен к художеству и едва ли мои рефераты в нашем «Обществе самообразования» о Дюрере, Гольбейне, Кранахе и французских художниках времен Наполеона, которые Гриша выслушивал с примерным вниманием, могли его побудить взглянуть несколько внимательней на то, чем я и другие мои друзья интересовались больше всего.
Моя дружба с Костей Сомовым, так же, как и моя дружба с Валечкой Нувелем, продолжалась до самой их смерти. Одно время эта дружба с Сомовым сделалась особенно тесной, нежной, но возникла она вовсе не сразу и не в стенах гимназии. Этот тихий замкнутый мальчик с неправильными чертами лица казался мне в течение трех лет, что мы пробыли вместе в одном классе, совсем неинтересным. Его слегка вздернутый нос, его всегда плохо причесанные волосы (все же лучше причесанные, нежели мои), его карие, какие-то женские глазки, его пухлые губки и даже неизменная коричневая куртка и бантом повязанный черный галстук — все это, вместе взятое, составляло очень уж ребячливый облик — без всякой прелести подлинной детскости. Я был уверен, что Сомов года на два моложе меня, и был очень изумлен, когда выяснилось, что он на несколько месяцев старше!
Совершенным ребячеством было и все его поведение в гимназии, его манера держаться — особенно выражение его дружеских чувств к Диме Философову: непрерывные между обоими перешептыванья, смешки продолжались даже и тогда, когда Костя достиг восемнадцати, а Дима шестнадцати лет. Да и с виду Костя мало менялся и оставался все тем же мальчуганом, каким я его застал, когда поступил в гимназию. Кстати сказать, эти институтские нежности между ним и Димой не имели в себе ничего милого и трогательного, однако я был тогда далек от того, чтобы видеть в этих излияниях что-либо предосудительное. Иначе относились к этому другие мальчики, а наш товарищ Федя Рейс, тот даже не скрывал своего брезгливого негодования с точки зрения известных моральных принципов.
Меньше всего я мог тогда подозревать, что Сомов станет когда-нибудь художником, да еще к тому знаменитым художником, и что его слава как бы затмит ту, которая мне иногда мерещилась в моей карьере. Я знал, что он сын известного историка искусства, редактора художественного сборника «Вестник изящных искусств», который получал мой папа, но этот «Вестник» представлялся мне чем-то необычайно мертвым и скучным, а потому и к редактору его во мне выработалось полное недоверие, которое как-то распространилось и на его сына. Мой отец также не очень жаловал старика Сомова, с которым он часто встречался на разных заседаниях и в составе каких-то комитетов. Папа считал его придирчивым сухарем и мелочным каверзником, лишь контрабандой проникшим в царство Аполлона. Однако, познакомившись лично с Андреем Ивановичем Сомовым, я постепенно во многом изменил свое первоначальное, заочное мнение о нем.
Совсем не одобрял я те рисунки, которыми Костя (подобно мне) испещрял свои школьные черновики. Уже одним своим однообразием они меня отталкивали. Это были почти исключительно женские профили, в которых Костя пытался воспроизвести черты актрисы французского театра Жанны Брендо, пользовавшейся тогда, наряду с Люсьеном Гитри, большим успехом благодаря своей красоте и таланту. Он увлекался этой статной брюнеткой, и особенно нравился Косте ее действительно прелестный профиль. И вот вариации на этот профиль и покрывали все страницы его учебных тетрадей, лишь изредка чередуясь с совершенно ребяческими и вовсе не меткими карикатурами. Нигде не появлялось проблеска того, чем впоследствии пленил Константин Сомов, — тут не было ни фантазии, ни острой наблюдательности.
Другой связующей чертой между мной и Костей могла бы быть наша страсть к театру, но и из обмена театральными впечатлениями с Сомовым в гимназии тоже ничего не выходило. Он как-то конфузливо замыкался и отделывался самыми бесцветными ответами; если же я приставал, он окончательно уходил в свою скорлупу и дулся. То ли дело — наши беседы с Валечкой, нередко (в ожидании учителя или в большую перемену) переходившие в целые представления. У наших товарищей долго оставалось в памяти, как мы однажды изобразили ряд сцен из «Кармен» и между прочим — шествие контрабандистов, ступая по столам и скамейкам и распевая во всю глотку знаменитый хоровой марш. Представлены были и сцены из «Рюи Блаза» и «Марион Делорм». Несколько товарищей охотно помогали нам, но всякие попытки вовлечь и Костю в такие действа встречали с его стороны отпор. Он густо краснел и, чуть не плача, замыкался.
А затем Костя, не предупредив никого из товарищей, покинул гимназию, в которой, кстати сказать, он еще менее преуспевал, нежели мы. Некоторые предметы ему не давались вовсе, успех в других — доставлял ему величайшие муки. При этом он был убежден, что только он один — такой недоучка и бездарность. Когда после летних каникул 1888 года мы узнали, что в новом для нас седьмом классе Сомова не будет, то в общем мы не были особенно удивлены этим, однако моему изумлению не было пределов, когда я узнал, что Костя для того покинул гимназию, чтоб поступить в Академию художеств! Костя со своими профилями Брендо и ребяческими каракулями — и вдруг теперь оказался в стенах Академии художеств, той самой Академии, в которой год назад я потерпел довольно постыдную неудачу (об этом будет рассказано в своем месте). С этого момента и на некоторое время я почти совершенно теряю Костю из виду. Лишь изредка, встречаясь на улице, мы обменивались несколькими фразами, но каждый раз он с грустью жаловался, что его рисование в Академии не подвигается и что его продолжает мучить сознание своей полной неспособности. Из известного чувства жалости (и еще потому, что как раз за самые последние месяцы в гимназии весной он успел-таки занять скромненькое место в моем сердце) я старался утешить Костю, подбодрить, вызвать в нем большую в себе уверенность. Делал я это, однако, без полного убеждения.
Забегая вперед, я тут же прибавлю, что в такой же роли утешителя и ободрителя я продолжал пребывать и впоследствии — тогда, когда уже сам исполнился восхищения от пробудившегося таланта Кости и когда уже мы стали неразлучными друзьями. Но это сам Костя провоцировал меня на подобное участие в нем, хотя я и сознавал, что он в нем по существу совсем больше не нуждается. Мало того, даже тогда, когда его талант и мастерство стали очевидными широкому кругу ценителей, когда фантазии, возникавшие в его мозгу, одна за другой ложились во всем очаровании совершенно своеобразной красоты на бумагу или на холст, он сам продолжал считать, что ему ничего не дается, и искать во мне моральную поддержку, от которой, посмеиваясь, я не отказывался, хотя временами бывал склонен требовать, в своих творческих сомнениях и в своей борьбе с техническими трудностями, поддержку с его стороны. Впрочем, Сомов в дальнейшем занял слишком значительное место в моей жизни, чтобы я мог исчерпать все, что имею сказать о нем, в главе, посвященной школьным товарищам.
ГЛАВА 18 Философовы
Я только что упомянул о том, что между мной и Сомовым еще в гимназии, но под самый конец его в ней пребывания, стало намечаться нечто вроде дружбы. Возможно, что этому способствовало то, что кончились его вызывавшие во мне известное отвращение «институтские припадки», в которых выражались те нежные чувства, какие испытывали друг к другу оба мальчика — Сомов и Философов. Кончились же они потому, что Дима Философов перестал бывать в гимназии. Он все чаще болел и очень плохо выглядел. Родители видели причину этого в школьном переутомлении, и его даже отправили за границу, кажется, на Ривьеру; он не был в Петербурге в течение нескольких месяцев. Таким образом, Дима пропустил целый год учения и отстал от нас.
Я не жалел о нем, так как еще продолжал остерегаться его злословия, его едких и подчас очень обидных сарказмов. Вздохнули свободно и другие наши товарищи, особенно подвергавшиеся его насмешкам. Однако по прошествии года Дима снова оказался среди нас, и это случилось потому, что я и друг Валечка остались на второй год без экзамена в восьмом классе. Дима таким образом нас, отставших, догнал. К этому времени ядро нашего кружка успело уже вполне окрепнуть, и тогда же возник вопрос, включить ли в него и Диму? Большинство было против, и особенно ратовали за недопущение Философова Скалон и Калин, которые бывали возмущены надменными манерами Димы. Во мне же проснулся какой-то задор, мне захотелось покорить гордеца; он пленил меня своим умом, да и самим его аристократизмом. Сначала я убедил Валечку, а затем и прочих в том, что Дима нам нужен. И, странное дело, гордец сразу поддался, — вероятно, его томила изоляция (Сомова уже не было в гимназии), и он пошел нам навстречу.
Через несколько недель я стал встречаться с Димой не только в школе. Как-то я его привел к себе, увлекшись беседой с ним на пути из гимназии, а через дня два он, в свою очередь, затащил меня на Галерную (дом № 12), где проживал, но в другом конце улицы, и Валечка. Эти домашние посещения стали затем учащаться, и постепенно я совсем вошел в семью Философовых, в которой меня приняли с необыкновенным радушием. Тут, между прочим, сразу выяснилось, что Димины горделивые манеры вовсе не являются отражением воспитавшей его среды, что, напротив, он и в этой среде представляет собой исключение. Некоторое время спустя стало сказываться и мое влияние на Диму; он оказался несравненно более мягким и податливым, нежели это казалось раньше. Он, видимо, привязался ко мне и к Валечке, в его тоне неожиданно проявились сентиментальные нотки; шутки его остались такими же острыми, но теперь они бывали направлены на других, а не на нас. Совершенно же очевидным стало то, что он подвергся моему влиянию в отношении к художеству, до которого (даже до музыки) ему до тех пор было мало дела. Выразилось это, между прочим, в том, что и он стал покупать книги по искусству. Будучи человеком чрезвычайно одаренным, с умом пытливым и исполненным какого-то пиетета к самой идее культурности, он быстро освоился с этой, совершенно новой для него сферой.
Прибавлю, впрочем, что он в эти годы какой-то «подготовки к дальнейшему» на все глядел моими глазами и был во всем согласен со мной. Можно сказать, что он стал моим совершенно верным учеником по вопросам живописи и других пластических художеств; он никогда со мной не спорил, чего нельзя сказать про Валечку, у которого то и дело прорывались попытки выявить какую-то независимость и индивидуальность. Но у Валечки это было в натуре. Он протестовал, потому что без протеста не мог существовать, однако мне не стоило большого труда эти вспышки мятежа подавлять.
Диме, видимо, нравилось, что он вошел в какой-то совершенно новый мир. Но, в свою очередь, и мне очень нравился весь быт Философовых, нравился мне и каждый член семьи в отдельности. Состояла эта семья из отца и матери Димы — Владимира Дмитриевича и Анны Павловны (урожденной Дягилевой), из сестер Марии и Зинаиды и из братьев Владимира и Павла. Все они, каждый в своем роде, были довольно характерные фигуры. Владимир Дмитриевич был уже очень старый человек (любопытно, что все наши родители были старыми: мой отец, отец Сомова, отец Философова, матушка Нувеля), высокий, худой, слегка сутуловатый; черты лица его, особенно его припухшие глаза, носили явно монгольский характер, а борода, усы и брови придавали ему что-то типично российское, простонародное. В комнате Димы висела фотография Владимира Дмитриевича в облачении коронационного герольда с двуглавым орлом на далматике, и нужно сознаться, что этот костюм вовсе не подходил ни к его лицу, ни к его фигуре. С тех пор (с 50-х годов) В. Д. Философов успел сделать если не блестящую, но все же очень видную карьеру. Состоя прокурором в Военном суде, он даже стяжал себе славу сурового, неумолимого блюстителя закона. За последние годы он более не занимал столь ответственного поста и заседал на покое в Государственном совете.
Как раз в те же годы начала моей дружбы с Димой состоялся юбилей Владимира Дмитриевича, и поговаривали о том, что он за свои заслуги будет возведен в графское достоинство; однако этой чести он не удостоился, зато был награжден особенно почетным орденом — Св. Владимира 1-й степени. Как-никак Владимир Дмитриевич был весьма высокопоставленной персоной, однако в его манерах это не сказывалось ни в отношениях с родными, ни даже с такими двумя юнцами, какими были мы оба, друзья его сына. Напротив, он проявлял в отношении нас какую-то изысканную любезность, охотно с нами шутил, а то, что он слегка заикался, придавало его речи какую-то, я бы сказал, своеобразную уютность. Нравилось мне в нем и то, что в его спальне, в комнате обширной, но лишенной окон, вечно горела лампада перед большим образом Нерукотворного Спаса (копия с Корреджо) и что его кот Васька был чем-то вроде ближайшего его друга.
Надо при этом пояснить, что я сам — страстный поклонник кошачьей породы и что для меня человечество делится на две половины: одна мне особенно близка потому именно, что она чтит Кота-мурлыку, а другая мне несколько чужда именно потому, что она не признает сверхъестественной прелести этих очаровательных существ и относится к ним с пренебрежением, а то и с отвращением. Кот Васька Владимира Дмитриевича пользовался в доме необычайными привилегиями; он то и дело вскакивал на колени своего сановного хозяина-друга и устраивался на них, как дома, а любимым местом его более обстоятельного отдыха служили полки богатой, но очень скучной юридической библиотеки Владимира Дмитриевича.
Владимир Дмитриевич был известен и почитаем в специальной среде, принадлежавшей к высоким рангам бюрократии, напротив, мать Димы была поистине знаменитой на всю Россию дамой, и имя ее пользовалось чрезвычайной популярностью — особенно среди передовой интеллигенции. О ней ходили всякие слухи, в значительной степени обоснованные. Говорили об ее увлечениях различными революционерами, но еще более об ее служении делу революции. Между прочим, тогда очень распространен был анекдот — будто на двух концах той казенной квартиры, которую Философовы занимали до их переезда на Галерную, находились кабинет Владимира Дмитриевича и гостиная Анны Павловны, и вот в кабинете страшный прокурор, не покладая пера, подписывал один приговор за другим: «к расстрелу», «к расстрелу», тем временем как в гостиной Анна Павловна принимала самых отъявленных террористов, кокетничая с ними, восхищаясь их доблестью. Разумеется, этот анекдот не более, как грубая лубочная картинка, однако все же он в известной степени соответствовал истине — в отношении Анны Павловны.
Никогда в России XIX века, даже в дни самой темной реакции и «борьбы с крамолой», человеческая жизнь не зависела от произвола какого-либо одного административного лица. Зато вполне достоверно было то, что Анна Павловна, увлекающаяся, горячая, со всей страстностью своей натуры отдавалась тому делу, которое она считала абсолютно правым. Она даже до того ревностно относилась к своему «служению», что вовлекла в него и своего старшего сына Володеньку, и свою старшую дочь Марию, которым она давала иногда и весьма рискованные поручения, заставляя их передавать, кому нужно, всякие подпольные инструкции и документы, или укрывая и всячески спасая от полиции лиц, опаснейших для существующего порядка. Эта деятельность Анны Павловны привела, наконец, к тому, что не только ее попросили покинуть пределы России, но и достижение Владимиром Дмитриевичем того министерского поста, до которого оставалось сделать всего несколько шагов, стало навсегда невозможным. Тогда-то его и определили в Государственный совет, считавшийся не без основания чем-то вроде богадельни для престарелых сановников.
Все это, когда я вошел в семью Философовых, было уже делом прошлым, но, впрочем, не очень давним. Анне Павловне уже снова было разрешено жить в России — в столицах, да и в ней самой и ее делах от прежних опасных революционных увлечений оставались лишь воспоминания. Зато Анна Павловна, и прежде посвящавшая немало своей энергии благотворительности и делу женского образования, теперь всецело отдалась именно этим задачам. Почти все ее время уходило на заседания, комиссии, на беседы с профессорами, с делегациями курсисток, на слушание докладов и т. д. Должен при этом сознаться, что насколько Владимир Дмитриевич мне нравился своим величаво-ласковым спокойствием, настолько меня скорее раздражала суетливость и вечная взволнованность Анны Павловны. Она нередко заходила в комнату Димы, где происходили наши, часами длившиеся беседы, и каждое такое посещение носило будоражащий характер. Она то являлась (точнее «врывалась») с сияющим лицом и, захлебываясь от счастья, сообщала нам о какой-либо победе на «фронте просвещения», то, напротив, войдя, валилась на диван и, заливаясь слезами (настоящими слезами!), негодовала на какие-либо новые репрессивные меры или ужасалась по поводу гибели тысяч людей от повальных болезней и от голода. Казалось бы, что эти излияния должны были бы трогать наши юные сердца, однако в них всегда звучала та нотка истеричности и в то же время та характерная барская безалаберность, которые лишали эти излияния своей действенности. Дима, при своей нежности к матери, не мог скрыть в таких случаях своего конфуза, а я, не показывая вида, что меня эти восторги или ламентации шокируют, все же весь как-то сжимался.
Было еще в этих жалобах и восторгах и нечто от «вечно-женственного». Когда-то Анна Павловна была одной из пяти самых красивых дам петербургского общества (одной из этих пяти была жена моего дяди Сезара, о чем любила вспоминать матушка Валечки — Матильда Андреевна), и подобные излияния могли служить в сильной степени ее чисто женскому обаянию, им она и пленяла своих бесчисленных поклонников, часть которых была прототипами тургеневских героев. Но в 1889 г. Анна Павловна утратила и последние следы своей красоты и прелести. Ей еще не было шестидесяти лет, однако ее сильно отяжелевшая фигура получила какую-то почти старушечью рыхлость, а черты ее лица заплыли и потеряли всякую чеканность. Вечная ее ажитация — смех, плач, возмущения, ликования — углубили складки у ее полного, не слишком отчетливо сформированного рта, и особенно ее старил двойной подбородок.
Я не стану в подробности говорить о других членах семьи Философовых, скажу только, что брат Поленька (Павел), бывший года на три старше Димы, был типичным военным (он служил в конногренадерах). Это был славный, приятный, несколько простоватый малый: в семье Философовых он представлял такой же декоративный элемент, какой в нашей представлял мой брат Николай. Что же касается до сестры Димы (бывшей на год или два старше его), то это была пикантная, высокая, с маленькой головой брюнетка, большая хохотунья и дразнила. То была эпоха, когда в моем «романе жизни» произошел разрыв (точнее перерыв — о чем дальше) и, возможно, что я серьезно увлекся бы этой, очень мне нравившейся девицей, если бы она не была уже невестой. Женихом же ее был наш давнишний знакомый Саша (Александр Николаевич Ратьков-Рожнов), друг моего кузена Жени Кавоса. Было время в начале 80-х годов, когда я чуть ли не ежедневно видел Сашу Ратькова в компании с другим Сашей (Панаевым) на даче дяди Сезара в Петергофе, где оба считались возможными женихами моих кузин. Бывали оба Саши и у брата Альбера. Они произвели сенсацию на одном маскараде, явившись в виде испанских иезуитов — иначе говоря, двух Дон-Базилио. Саша Ратьков был очень высокого роста, Саша Панаев был почти что карликом. У обоих были саженные черные шляпы и черные мантии, которые волочились по полу.
Лишь крайне редко я видел у Димы его старшего брата Володеньку. Он занимал в это время пост вице-губернатора Псковской губернии. Дима был лет на двадцать моложе его и несколько чуждался брата. Определенно же он ненавидел его первую жену, урожденную (или в первом браке бывшую) княжну (или княгиню) Шаховскую, про которую рассказывали, что она, влюбившись в В. В. Философова, насильно женила его на себе. С Володенькой и его второй женой мы с Анной Карловной очень подружились, когда в 1924–1926 годах жили в Версале. Это оказался самый милый, добрый и необычайно скромный человек. Он лицом походил на отца, но был гораздо меньше его ростом. Еще реже бывала в Петербурге старшая сестра Димы Мария Владимировна, которая, как и брат Владимир, совершенно отреклась от прежнего революционного дилетантизма. Она была замужем за генералом Каменецким и проживала далеко в провинции, где ее муж командовал какой-то частью. Мария Владимировна была статной, красивой, но не очень симпатичной дамой. К нам она относилась чуть свысока — как к мальчишкам, друзьям ее маленького брата.
Приятнейшее впечатление производил двоюродный брат Димы, тоже Дима (Дмитрий Александрович), носивший, однако, среди своих вполне заслуженное прозвище «толстого» Димы. Считалось, что перед ним открыта блестящая карьера, и действительно, он дослужился после первой революции до министерского поста (государственных имуществ); однако судьба не дала ему пробыть долго на этом посту. Он скончался от разрыва сердца во время какого-то торжественного спектакля в Мариинском театре. Мне он чрезвычайно нравился всей своей подлинно барской манерой и своим тонким юмором. Мне нравилась и его жена (они были молодоженами) — Мария Алексеевна, в первом браке Бибикова. У них на квартире (тоже на Галерной) в 1890 году были затеяны нами уроки фехтовального искусства; это было довольно весело, но и очень утомительно.
Был еще один член семьи Философовых, к которому я сразу почувствовал большое расположение. То была ключница Дуняша. За недосугом у Анны Павловны заниматься домашними делами, все ведение хозяйства лежало на этой толковой, спокойной и безгранично преданной своим господам уже довольно пожилой женщине. Зато все Философовы и относились к Дуняше не как к прислуге, а как к родной, как к другу. Это выражалось уже в том, что Дуняша, бывшая крепостная, занимала за обедом председательское место во главе стола, и она разливала суп, тогда как Анна Павловна садилась куда попало. Самый стол у Философовых не отличался изысканностью и был самый что ни на есть домашний; даже наши меню, тоже незатейливые, могли казаться утонченными рядом с тем, что случалось мне едать на частых семейных пиршествах у Философовых. Но все было очень вкусно и подавалось в чрезвычайном обилии. Особенно я ценил те угощения, которые Дуняша ставила к вечернему чаю и которые были ее изготовления. Будучи вообще лакомкой и сластеной, я особенно ценил Дуняшины засахаренные «дули» (маленькие груши). Вполне домашним диктатором Авдотья Егоровна становилась во время летних месяцев, проводимых в родовом имении Философовых — Богдановском, Псковской губернии. Там, в смысле всяческого варенья, соленья, маринования плодов и овощей, она развивала чрезвычайную деятельность, доставлявшую ей массу забот, но и немало наслаждения.
Именно то, что у Философовых было родовое имение, что они были «люди от земли», что в основе это были помещики, что еще совсем недавно, до 19 февраля 1861 года, они владели крепостными, иначе говоря, были рабовладельцами, что об этом самом Богдановском то и дело вспоминалось в беседах, о жизни же в Богдановском говорили, как о каком-то Эльдорадо, — все это сообщало в моих глазах особый колорит всему философовскому быту. В этом лежала, если и не сразу мной тогда осознанная, но все же глубокая разница между их домом и нашим. Ведь мы, Бенуа, были чисто городскими людьми; мои родители не владели ни единым клочком земли, если не считать территории под нашим домом. Помещичья же природа Философовых давала всему их быту своеобразную прелесть. Несмотря на давность своего рода (считалось, что родословная их доходит до времен Владимира Святого и до крещения Руси), несмотря на то, что многие предки их занимали высокопочетные места при древних князьях и царях, их нельзя было причислить к аристократии придворного круга. И вместе с тем это не была и буржуазия. Это был тот самый класс, к которому принадлежали все главнейшие деятели русской культуры XVIII и XIX столетий, создавшие прелесть характерного русского быта. Это класс, из которого вышли герои и героини романов Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстого. Этот же класс выработал все, что было в русской жизни спокойного, достойного, добротного, казавшегося утвержденным навсегда. Он выработал самый темп русской жизни, его самосознание и систему взаимоотношений между членами одного семейного клана. Всякие тонкости русской психологии, извилины типично русского морального чувства возникли и созрели именно в этой среде. Бывая у Философовых, я проникся особого уважения ко всему этому, столь своеобразному и до той поры мне ведомому лишь через книжки и «вымыслы» поэтов. С внешней стороны этот быт мало чем отличался от нашего, но по существу то были все же миры различные. И для ознакомления с этим бытом вовсе не требовалось какое-то наведение справок, какие-либо объяснения. Бывая в доме Философовых, я постепенно и незаметно для себя познавал его природу и через это познание стал лучше понимать и любить самую суть русской жизни. Мне кажется, что главная причина, почему я сошелся с Димой, а через него и с Сережей Дягилевым, лежала именно в этой атмосфере, через которую я открывал пресловутую «русскую душу».
Эта атмосфера философовского дома особым образом действовала и на самого Диму. Находясь в ней, он терял свою природную колючесть, вернее, она смягчалась, сглаживалась. Он становился проще, доступнее. Да и позже кузен Димы Сережа Дягилев, попадая в нее, заметно менялся. Он переставал быть заносчивым, он терял значительную часть своего провинциального дурного тона. В этом доме, несмотря на полную непринужденность, на царившее в нем почти непрерывно веселое настроение, на массу молодежи, на временами очень разношерстное сборище людей, всегда царил хороший тон, который не надо смешивать с рецептами светского приличия, а который естественно рождался и процветал. И во мне действие этого хорошего тона выражалось, между прочим, в том, что я, не переставая веселиться у Философовых, не корчил из себя шута, не ломался и не фиглярничал, чем я грешил (из вящего самолюбия, из желания обратить на себя внимание) с раннего детства.
Веселились же у Философовых часто и по всякому поводу. Собиралась масса народу — старого и молодого; какие-то генералы, адмиралы и сановники засаживались за карты с почтенными дамами; кузены и кузены кузенов (а то и дяди помоложе) тут же дурачились, как малые дети, играли, спорили, разыгрывали шарады. Почти всегда все это переходило в танцы, и в таких случаях в самой просторной комнате квартиры, в почтенном, чуть мрачном кабинете члена Государственного совета ставилось пианино (обыкновенно находившееся в Диминой комнате), и я или Валечка лихо разыгрывали наш салонный репертуар: вальсы, польки, мазурки, кадрили. Меньше мы любили, когда Анна Павловна заставляла знаменитого адвоката Герарда говорить стихи. Его специальностью был Альфред де Мюссе, но то, как он, не без аффектации, произносил французские слова, вызывало в нас — слушателях — мучительные припадки едва подавляемого смеха.
Из отдельных фигур дома Философовых мне еще припоминается родственник Димы: Сергей Неклюдов — человек уже не молодой и, может быть, по своему служебному положению важный, предпочитавший, однако, наше общество своей зрелой и перезрелой компании. Это был тоже характерный русский барин — большой остряк, балагур и острослов. Он чудесно рассказывал анекдоты — подчас и очень рискованные, но подносил их в формах, абсолютно корректных. Несколько обрюзгший, заплывший, с неряшливо содержавшейся желтоватой бородкой, одетый по-домашнему, Неклюдов все же сохранял облик настоящего барина и этим своим барством очаровывал.
Из наших же сверстников я особенно выделял у Философовых двоюродных братьев Димы — Павла Георгиевича Коребут-Кубитовича и Николая Ивановича Дягилева. Оба они в то время жили на одной квартире и почти никогда не разлучались. Коля Дягилев учился игре на виолончели; он был скромным, застенчивым, молчаливым молодым человеком. С виду это был красивый, статный блондин с бородкой Генриха IV, однако по существу он являлся чем-то тусклым и в обществе не обращал на себя внимания. Но как раз тусклость Коли Дягилева еще более выдвигала выдержанную характерность его друга Павки Коребута, представлявшего собой еще одну разновидность русского средне-высшего сословия. Если обаяние С. Неклюдова было скорее довольно понятного свойства, то Павка являл собой некую загадку.
В разные эпохи жизни я сближался с Павкой и даже дружил с ним. В его ласковости, в его готовности соглашаться и вместе веселиться, а когда нужно, то соболезновать и сокрушаться, — была масса прелести. Этим духовным чарам соответствовала и его типичная российская наружность — вся его круглота, его окладистая боярская, почти белая от белокурости борода, его столь охотно расплывавшийся в широкую улыбку или грустно сжимавшийся рот, его розовые пухлые щеки, наконец, его по-детски захлебывавшийся дискантовый говор. Недаром Сережа Дягилев, выписав его в 1923 году на свой счет из Советской России и устроив его без всякого определенного дела «при своей особе», говаривал, что он это сделал для того, чтобы иметь под рукой какое-то подобие валерьяновых капель. При всем том с Павкой было трудно сойтись по-настоящему. Не то он как-то не допускал до последних тайников своего я, не то он не внушал к себе полного доверия. С особой строгостью случалось обвинять Павку в двуличии Диме, и не раз такие обвинения принимали бурный характер. Павка же сносил эти нападки с чисто христианским смирением, трогательно оправдывался, чуть что не плакал! Надо при этом заметить, что этот отпрыск Гедиминовичей был далеко не глупым человеком, а когда нужно было, то он умел себя показать и с деловой стороны. Так, говорят, он не без достоинства в течение нескольких лет исполнял в провинции должность официального опекуна, а во время первой мировой войны обнаруживал большое и толковое усердие в заведовании лазаретом.
Еще несколько слов о жилище и об обстановке Философовых. Незадолго до моего знакомства с ними они еще занимали огромную казенную квартиру у Поцелуева моста, но я этого великолепия не застал. С момента же постигшей Владимира Дмитриевича опалы в начале 80-х годов, обрушившейся на него вследствие уж чересчур «нелояльного» поведения его супруги, Философовы занимали целый (второй по русскому счету) этаж в доме № 12 по Галерной улице — в двух шагах от Синода и Сената. В этот же дом, с другого конца той же улицы, перебрались около 1891 года и Нувели, в квартиру как раз над Философовыми, но занимавшую лишь часть площади последней. Дом был старинный и обладал как некоторыми преимуществами, так и значительными недостатками таких домов. Комнаты были просторные, но целых две (у Нувелей — одна) были темные. Комната Димы, длинная и узкая, тоже была наполовину темная, что, однако, не отнимало у нее приятности. Обстановка Философовых не отличалась роскошью и не содержала, кроме нескольких картин, художественных редкостей, но это была добротная и вполне комфортабельная обстановка на старомодный лад. Кресла, диваны и стулья в кабинете Владимира Дмитриевича и в комнате Димы были крыты зеленым репсом; мебель в гостиной и в спальне Анны Павловны — голубым и темно-синим штофом.
Единственным свидетелем прежнего великолепия у Философовых был десяток старинных картин — остатки собрания деда Димы — и несколько фамильных портретов. Среди последних особенно примечательны были портреты Дмитрия (Ивановича?) Философова — писанный О. Кипренским и изображающий этого круглолицего, в бачках, курчавого брюнета с затейливым чубуком в руке, и другой, работы А. Венецианова, портрет бабушки Димы, дамы уже не совсем молодой, в чепце, томно склонившей голову набок. Меня еще более, нежели эти два портрета, притягивал большой портрет самого Владимира Дмитриевича — ребенком трех лет, — висевший в простенке между окнами Диминой комнаты. Тихенький пай-мальчик в красной русской рубашке был изображен сидящим на высоком детском стуле, на фоне деревьев сада под колоннадой домовой террасы. Он был занят своими лежащими на полочке, прилаженной к стулу, игрушками, среди которых особенно обращала на себя внимание вырезанная из игральных карт карета, запряженная парой лошадей. Самое замечательное в этой очень старательно и не без мастерства исполненной картине было то, что она являлась произведением крепостного художника Философовых, который был и автором каретки и других разбросанных игрушек. Этому же ученику Венецианова принадлежали и два интерьера того бревенчатого дома, который был наспех домашними средствами построен в Богдановском после того, как сгорел великолепный прежний, украшенный колоннами дом. Меня самый факт существования такого собрата по искусству, еще совсем недавно (всего лишь лет сорок до моего рождения) пребывавшего в рабском состоянии и в таком же состоянии кончившего свой печальный век, озадачивал и изумлял, а на портрет деда Димы я поглядывал с недоброжелательством, как на жуткого жестокого крепостника.
В то же время о просвещенности этого деспота свидетельствовало как то, что он создал из холопа художника, так и те очень недурные старинные картины, которые, спасенные от пожара, все еще украшали с гены гостиной Анны Павловны. Среди этих картин была большая «Клеопатра» во вкусе Гвидо Рени и несколько «маленьких голландцев»; я не уставал любоваться «Пирушкой» в духе Дирка Хальса, которую я охотно приписываю мастеру более изысканному и интересному — Бейтевеху. К большой моей досаде, мне не удалось впоследствии пристроить эту картину в Эрмитаж (ее пожелал продать Дима после смерти матери), и картина ушла за границу. В кабинете висел еще один портрет Дмитрия Философова, писанный художником Гольпейном и изображавший его уже в старости, стоящим спиной к зрителю, но отражающимся лицом в зеркале. Кроме того, там же висела прелестная картина одного из лучших учеников Венецианова — Крылова, изображавшая деревенскую кухню и в ней сидящую прямо на полу перед топящейся плитой кухарку. Этот перл раннего русского реализма был впоследствии, при моем посредстве, приобретен Русским музеем, где, вероятно, он находится и по сей день.
ГЛАВА 19 Окончание гимназии
Однако пора вернуться к самой гимназии Мая, рассказать, как мы ее окончили — весной 1890 года. Нормально я должен был бы покинуть школу годом раньше, но я и Валечка за последнее время так нерадиво относились к нашему учению, мы до того оба были поглощены своими разными внешкольными интересами и переживаниями, что, несмотря на успехи у Мальхина и у Блумберга, оказались последними в классе. Уже задолго до Пасхи стал ходить слух, что, пожалуй, нас обоих и вовсе не допустят до выпускных экзаменов, и поэтому я не был особенно удивлен, когда увидел утром 25 марта входившим к нам в залу (я как раз сидел за роялем) самого Карла Ивановича. Вышедшей к нему навстречу мамочке он без обиняков, но в очень грациозной форме, объяснил причину своего столь неожиданного визита: «Сегодня Благовещение, однако я не с благой вестью к вам, Камилла Альбертовна, прихожу. Ваш сынок, к крайнему сожалению, не может в этом году держать экзамены, он слишком запустил свое учение» и т. д. С той же игрой слов насчет Благовещения и с той же речью (но уже по-немецки) Май предстал затем перед Валечкиной матушкой. Родители были очень огорчены такой новостью, особенно папа, для которого она была полной неожиданностью (за последние годы он как-то вообще «потерял меня из виду»), напротив, мы с Валечкой встретили неблагую весть почти с ликованием. Ведь перед нами открывалась весна, совершенно освобожденная от сопряженной с этим временем года пыткой экзаменов. Первым нашим делом и было убрать подальше с глаз ненавистные учебники и тетради!
Ужас перед экзаменами возобновился, однако, через год — весной 1890 года. Сидение второй год в восьмом классе облегчило нам отчасти задачу, и мы благополучно одолели эти страшные выпускные испытания; тому не помешало даже то, что наша театромания приняла еще более страстный характер. С января 1890 года, благодаря «Спящей красавице», возобновилось с удвоенной силой мое совсем было за последние годы остывшее увлечение балетом, а тут еще во время великого поста снова после пяти лет приехали мейнингенцы, и я стал каждый вечер пропадать на их спектаклях.
При этом со мной произошло и нечто непредвиденное. После пятилетнего промежутка (и благодаря моим же собственным рассказам) впечатления от этих представлений успели приобрести у меня в памяти какой-то легендарный характер; я поверил в собственные преувеличения, и когда теперь стало возможным проверить эти мои собственные рассказы, то я увидел, до чего многое в них присочинено. Отсюда внутреннее разочарование, что, однако, я тщательно скрывал даже от себя, стараясь уверить себя, что я и на сей раз наслаждаюсь в той же мере, как то было в их первый приезд. Мало того, я даже вздумал на сей раз сам поступить в мейнингенскую труппу, чему способствовало то, что мы свели с Валечкой личное знакомство с главными артистами; кроме того, мне очень нравилась одна совсем юная, прехорошенькая сотрудница, фрейлейн Клара Маркварт, знакомство с которой ограничилось лишь тем, что, дождавшись ее выхода из артистического подъезда Александрийского театра, я помог ей сесть в казенную карету, за что получил при очаровательной улыбке благодарность в двух словах: «Спасибо, сударь!» — по-немецки.
Наше знакомство с другими актерами произошло благодаря тому, что Валечка узнал в одном из них — в комике Пауле Линке — того курортника, с которым он встречался лет пять назад на водах не то в Баден-Бадене, не то в Висбадене. Этот профессиональный весельчак вовсе нам не был симпатичен, а его пошловатые уловки смешить публику были безвкусны, но стоило ли обращать внимание на такие пустяки, когда этот же господин мог нас приблизить к самому Юлию Цезарю — маститому Паулю Рихарду, к самому Бруту — к Карлу Вейзеру или к хорошенькой Жанне д’Арк — Елизабет Хруби. У нас завелся тогда обычай после каждого спектакля ходить с этими господами ужинать в скромный ресторанчик на Малой Садовой, — и вот, за одним из таких ужинов, состоявших обыкновенно из яичницы с ветчиной или из бефстроганова, я и решился открыть Паулю Рихарду, что мечтаю к ним присоединиться, для какой цели я уже выучил наизусть комическую «Проповедь капуцина» из «Валленштейна» и негодующую речь графа Дюнуа из первого акта «Орлеанской девы», начинающуюся со слов: «Нет, я это больше не могу терпеть, я отказываюсь от этого короля!» Мало того, считая себя уже актером, я поспешил сбрить бороду и усы, которые покрывали щеки, губы и подбородок с густотой, не соответствовавшей моим годам. Но милый старый Рихард, к которому я воспылал тогда каким-то подобием сыновней нежности, счел своим долгом меня разубедить. Он указал и на трудности их кочевой жизни, и на скудное вознаграждение, и особенно на то, что мне пришлось бы много упражняться, чтобы отделаться от моего не совсем правильного произношения немецкого языка. Я смирился, и на этом кончилось то, что я тогда был склонен считать своим основным призванием.
Заключительным проявлением нашего поклонения мейнингенцам было поднесение труппе адреса, украшенного моим рисунком в старогерманском стиле и содержавшего двадцать строк самой выспренней немецкой прозы. Все это было сущим ребячеством, но в своем роде и чем-то трогательным. Большого труда стоило нам собрать подписи после того, как мы трое — Нувель, Философов и я — поставили свои необычайно размашистые росчерки. Дядя Миша Кавос, хоть, и был поклонником мейнингенцев, наотрез отказался, а кузен Сережа Зарудный, хоть и поставил свою подпись, но предварительно жестоко высмеял нашу затею. Зато нам удалось подцепить одного титулованного, а именно — некоего князя Аматуни, приятеля моего приятеля (еще со времен Цукки), Мити Пыпина. Этот Аматуни случайно оказался в театре на последнем спектакле мейнингенцев и, будучи любезным человеком, не воспротивился нашей просьбе. Но едва ли сами мейнингенцы обратили должное внимание на наше подношение; возможно даже, что наш пергамент, порученный Линку, оказался в отдельной корзине для бумаг…
С момента отбытия мейнингенцев и до первых наших экзаменов оставалось не более двух месяцев, и теперь, за эти шестьдесят дней, надлежало приложить сверхчеловеческие усилия, чтобы без позора для себя и для гимназии завершить свое среднее образование. И на сей раз древние языки и несколько других предметов нас с Валечкой не тревожили, зато мы продолжали быть отвратительными математиками, и пришлось снова обратиться к помощи лица, обладавшего в нашей семье репутацией прямо-таки гениального чудодея в смысле подготовки и самых отсталых учеников. Три года до того появилась в нашем доме эта фигура — одна из самых живописных, когда-либо мне встречавшихся. Теперь же Иван Дмитриевич Дмитриев был снова призван, дабы в ускоренном порядке приняться за нашу тренировку в математике. Задачу он исполнил с обычной удачей, и благодаря этому мы не опозорились.
Рекомендован нам был Иван Дмитриевич милым Обером. Однако, советуя обратиться к И. Д. Дмитриеву, он несколько смутил мамочку, сообщив об одном уж очень оригинальном условии, которое его протеже ставил относительно гонорара. Это условие заключалось в том, чтобы к каждому уроку ставились две бутылки пива! Не предупреди заранее Обер о такой причуде, мамочка, наверное, остереглась бы доверить сынка какому-то пьянчуге. Но Иван Дмитриевич не был пьяницей, хоть и выпивал он за день, бывая на разных уроках, полдюжины, а то и больше, «шампанского для пролетариев». Преподавание его неизменно отличалось совершенно исключительной ясностью мысли; просто его натура требовала такого подкрепления!
Самый облик Ивана Дмитриевича был в своем роде замечательным. Не будучи вовсе тучным, он все же производил впечатление толстяка, чему способствовало как добродушное, луноподобное, гладко выбритое лицо с двойным подбородком, так и необычайно широкие плечи и манера держаться «пузом вперед». Ноги же у Ивана Дмитриевича были скорее тонкие, но покоились они опять-таки на колоссальных ступнях. Иван Дмитриевич брил бороду и напоминал тех приверженцев скопческой ереси, которые заседали в меняльных лавках, но густой бас доказывал, что это сходство обманчиво и что он — мужчина в полном смысле слова. Басом своим Иван Дмитриевич гордился и, состоя в хоре своей приходской церкви, зычностью своего голоса он покрывал даже громоподобные возгласы дьякона. Опять-таки в противоречии с этим величественным голосом находился в нашем учителе совершенно детский взор его глаз и его светлые, наивно завивающиеся волосы, а также его визгливое, чисто бабье хихиканье. Мне этот его смех (и то, как при этом бантиком складывались его губы, как вздрагивали его щеки, как заплывали глаза и как всего его начинало качать и трясти) доставлял такое удовольствие, что я всячески старался его рассмешить, не щадя подчас и его девственного целомудрия. Зальется Иван Дмитриевич и вдруг вспомнит о своей высокой миссии, хлебнет пенистой влаги, густо крякнет, приосанится и со строгим видом проговорит всего одну и ту же фразу: «Ладно, ладно, а теперь давайте решим еще одну задачку по алгебре». Вернувшись к исполнению долга, он и ученика заставлял снова напрячь все свое внимание.
Судьба Ивана Дмитриевича выдалась не из счастливых. При других обстоятельствах из этого типичного российского самородка мог бы, пожалуй, выработаться второй Ломоносов (он и был, судя по портретам, похож на него), но именно «других» обстоятельств не случилось, и этот человек с мозгом превосходного математика, этот рожденный профессор весь свой век провозился с лентяями, вроде нас, а то и с круглыми бездарностями, стараясь их уберечь от провалов или добавить к их образованию то, чего не давала казенная школа. Получилось же это так потому, что Иван Дмитриевич, рано потеряв отца, должен был, еще совсем юным, зарабатывать свой хлеб и кормить мать и сестру. Бедность помешала ему окончить гимназию и получить права на поступление в университет. А в сущности, в каком еще аттестате нуждался человек, который и труднейшую задачу решал сразу, «на глаз», который и самую сложную теорему мог объяснить так, точно это сущие пустяки!
Впрочем, не одно отсутствие диплома обусловило род существования и образ жизни Ивана Дмитриевича, а то, что он был до какого-то юродства скромный, незлобливый и бескорыстный человек, к тому же и ревностный христианин. Одет он был всегда в неизменный старомодный долгополый сюртук с широко раскрытым жилетом. Отложной воротничок безупречно белой рубашки только еще подчеркивал то, что было в нем детского. Таким он явился к нам в первый раз, когда ему было не более двадцати пяти лет, и совсем таким же я его видел тридцать лет спустя, уже в качестве учителя-репетитора, дававшего уроки моему сыну. За эти годы он успел просветить мозги многочисленным нашим племянницам и племянникам. Дальнейшая судьба И. Д. Дмитриева мне неизвестна, но едва ли он мог почитать за счастье, если дожил до эры большевизма…
Наконец подошли и грозные дни выпускных экзаменов! Как нарочно за несколько дней до их начала распространился слух, что на них будет присутствовать какой-то необычайно свирепый попечитель учебного округа, и это для того, чтобы проверить, происходит ли в нашей частной гимназии преподавание согласно с последними предписаниями министерства народного просвещения. Этот слух порядком нас напугал и деморализовал, однако после первого же испытания мы убедились, что особенных бед нам не грозит со стороны этого господина со звездой на груди, а вскоре нашлось и правдоподобное объяснение его снисходительности…
Дело в том, что среди нас уже года два или три как находился юноша, не без основания считавшийся за полу-идиота. Каким чудом он дошел до последнего класса, оставалось невыясненным, но факт был налицо; он был среди нас, восьмиклассников, и ему все прощалось; учителя его всячески «тащили». Даже гордый и независимый Мальхин, и тот как-то по особенному относился к нему и никогда его не вызывал, не желая отягощать свою профессиональную совесть предписанным кем-то снисхождением. Такое ультра-привилегированное положение нашего товарища объяснялось тем, что Митя Куломзин был сыном одного из важнейших персонажей империи Российской — управляющего делами комитета министров — и что этот сановный родитель, если и не мог питать иллюзий насчет достойной карьеры своего сына, все же желал доставить ему кое-какие права. Получив аттестат зрелости, Дмитрий Куломзин не поступил бы в университет, где уже на отличном счету состоял его брат, а был бы назначен куда-нибудь в провинцию, где он и прокоротал бы свой век как всякий другой не особенно далекий, но одаренный связями русский гражданин.
У меня в юности была болезненная жалость ко всякого рода калекам и убогоньким; я и к Мите Куломзину относился с большим участием, нежели остальные товарищи. Мне хотелось найти доступ до потемок его души и попробовать вывести его сознание из того полудремотного состояния, в котором он пребывал. Выучили же Митю читать и писать, умел же он, с грехом пополам, решать простейшие арифметические задачи, а также делать вид, что он понимает то, что на уроках геометрии и алгебры толкует учитель. Митя даже знал сотню-две латинских и греческих слов и имел некоторое (правда, очень смутное) представление о законах грамматики древних языков. Почему бы не попробовать продвинуть его и дальше? Дразнила мечта — а вдруг окажется, что под этой оболочкой кроется нечто и весьма ценное, скажем, вроде того, чем меня как раз тогда пленил князь Мышкин Достоевского? Митю, видимо, трогало мое внимание, и он перестал меня дичиться, а вскоре и совсем освоился и стал проявлять черты навязчивости и докучливости. Так, у него завелось обыкновение меня провожать из гимназии до самого дома, и, мало того, он без особого с моей стороны приглашения следовал за мной и дальше в мой кабинет. Тут он располагался на диване, болтая отчаянную чепуху или предлагая мне самые нелепые вопросы. Во всем этом было нечто жуткое, но однажды он даже не на шутку напугал меня, так как вдруг вскочил, подошел к камину, схватил один из стоявших на нем бронзовых подсвечников и стал его, с каким-то странным выражением, вертеть в руках, медленно подвигаясь ко мне. Какой-то хитростью я отвлек его внимание в другую сторону и, взяв его под руку, деликатно вынул у него тяжелый предмет. После этого я уже стал определенно бегать от Мити Куломзина, а прислуге был дан строгий наказ его не принимать, если бы он явился невзначай…
Еще более курьезный случай запомнился мне в связи с Куломзиным. Жил он не в своей семье, а у какого-то частного лица, взявшегося за его воспитание, — вероятно, в надежде, что удастся пробудить в юноше пребывающий в дремотном состоянии мозг и тем самым заслужить признательность влиятельного отца. Этот воспитатель относился к Мите гуманно (тут действовал и контроль нашего доброго Карла Ивановича), но все же Митя боялся его, как только может бояться дикий звереныш своего укротителя. Получив однажды уж очень плохую отметку, он побоялся вернуться домой, прослонялся весь остальной день по городу и даже ночь провел (уже стояло весеннее тепло) на одной из скамеек, расставленных по Среднему проспекту. Можно себе представить, какой получился переполох и в доме воспитателя, и в доме отца-сановника.
И вот, к большому удивлению моего отца, часов около десяти утра к нему является сам управляющий делами комитета министров в вицмундире, украшенном звездой чуть ли не Андрея Первозванного. Откуда-то ему стало известно, что Митя бывает у меня. Вот он и пожаловал, чтобы лично выяснить вопрос. Получилась довольно комичная сцена. Долгое время папа просто не мог понять, что от него хочет этот важный и церемонный, совершенно ему незнакомый господин, со своей стороны не решавшийся просто высказать предположение, что его слабоумный сын скрывается у нас. Папа же никогда до того не слыхал имени этого моего товарища (мало ли юношей тогда бывало у меня; все они смешивались в папином представлении в одну массу). К счастью, во время этого разговора, начавшего принимать несколько неприятный тон, примчался курьер с новостью, что Митя нашелся и что он уже водворился обратно к своему воспитателю. Вот из-за этого жалкого мальчика и сам Май, и весь педагогический состав были предуведомлены, что на сей раз не следует быть строгими, а напротив, рекомендуется проявить особенную снисходительность. Страшный же ревизор-попечитель оказался на страже именно того, как бы экзаменаторы не упустили из виду этого предписания. Именно благодаря Мите Куломзину наши выпускные экзамены прошли с меньшей нежели обыкновенно тревогой и никто не провалился. Мы же трое — я, Валечка и Дима — несомненно сдали бы экзамены и при более строгом отношении, но, вероятно, сдали с меньшим блеском и натерпевшись больших мук. (Во время письменных испытаний Куломзин старался устроиться позади меня, и то и дело раздавался шепот: «Бенуа, Бенуа! У меня ничего не выходит, скажи, что надо делать». Я на бумажке писал ответ заданной задачи, бумажка падала на пол, он ее подбирал и в точности списывал то, что на ней стояло. Но не всегда эта процедура удавалась, и на двух письменных экзаменах Куломзин подал лист с одним только списанным с черной доски заданием. А дальше — ничего. Сошло и это.)
Вспоминаю еще: пока мы не подозревали, что среди нас находится лицо, служащее чем-то вроде громоотвода, мы готовились с величайшим усердием и моментами до полной одури. О том, как Иван Дмитриевич начинял наши головы логарифмами и биномами, я уже рассказал, но мы и над другими предметами проводили целые дни и часть ночей в зубрежке. Во избежание того, чтобы как-нибудь во время этого не заснуть над учебником, мы собирались вдвоем, втроем, читали и заучивали читанное вслух или предлагали друг другу самые каверзные вопросы. И подумать, все это с таким трудом приобретенное было тут же забыто, а через два месяца мы уже наверно провалились бы по тем самым предметам, которые сдали вполне удовлетворительно.
Окончание гимназии было отпраздновано у меня по всем традиционным правилам, т. е. полунощным пиром при великом поглощении всяких яств и особенно питий, начиная с обязательного пунша. Но я не скажу, чтобы эта оргия оставила бы во мне приятное воспоминание. Правда, мы всячески и в самых бурных тонах старались изобразить нашу радость, правда, мы с неистовством горланили, не будучи еще студентами, студенческое «Гаудеамус игитур», правда, мы обнимались и клялись в вечной нерушимой дружеской верности, но все это носило характер чего-то нарочитого, какого-то представления, точно мы все сговорились сыграть какие-то роли из пьесы, к тому же очень глупые и вовсе нам не свойственные. Кончилось же пиршество для меня и для Димы плачевно. Мы оба почувствовали себя дурно; Дима тут же изверг все выпитое и съеденное из окна парадной лестницы на наш двор, меня же Валечка, сам шатаясь, увлек почти в беспамятстве в мою Красную комнату (пир происходил в бывшей чертежной) и уложил охающего и стонущего на постель. От пьяного усердия он затем так дернул одну из оконных занавесок (на дворе уже настал день), что содрал самый деревянный карниз, на котором она держалась, и вся тяжелая масса с грохотом свалилась на пол, чуть было не задев его самого. На шум прибежала мамочка, вслед за ней папа и прислуги. Я же в ужасных муках метался по кровати и вопил о помощи. Появились ведра, чаши, компрессы, запахло уксусом, одеколоном и крепким кофе. И все же, между двумя приступами рвоты, я хохотал до слез, глядя, с каким неуклюжим старанием, тоже совсем пьяный Нувельчик исполняет то, что он считал своим дружеским долгом. Только тогда, когда я, уже совершенно выпотрошенный, заснул, мой верный друг поехал к себе домой, где, весьма вероятно, повторилась подобная же сцена — к великому ужасу величественной Матильды Андреевны.
ГЛАВА 20 Путешествие по Германии
Мои добрые родители не удовольствовались тем, что дали мне возможность устроить сей пир, но они пожелали меня наградить за успешное окончание гимназии и более роскошным образом — снабдив меня средствами, дабы я смог осуществить свою мечту снова побывать за границей. Это была если и не очень заслуженная, но весьма приятная награда. Я получил возможность увидать в действительности многое из того, что до тех пор знал только по воспроизведениям в книгах и фотографиях. Меня манили грандиозные романские и готические соборы, таинственные замки, сказочные резиденции эпохи рококо, стриженые сады, полные романтической прелести старинные города. Но сначала надо было выработать план, куда именно ехать и в каком порядке знакомиться с разными диковинами. Тут я сразу остановился на том, что мне особенно полюбилось благодаря довольно основательному знакомству с немецкой литературой и что я в особенном изобилии встречал в тех прекрасных изданиях, которыми обогатилась за последние два года моя личная библиотека.
Наконец, покидая милую Майскую гимназию, насыщенную характерно германским духом и какой-то своеобразной уютностью, я захотел еще раз с головой окунуться в ту же атмосферу. При этом я, несмотря на советы родных и друзей, решил ограничиться Германией, включая сюда и германскую Австрию. Напротив, я решительно отказался распространить свою поездку на Францию и на Италию. Правда, то были две родины моих дедов, однако они мне казались в тот момент почему-то более чуждыми и менее заманчивыми. Что же касается до Парижа, то он меня просто пугал. Я и его изучил заочно довольно основательно по всяким изданиям в папиной библиотеке, однако, разделяя в этом предрассудки моих соотечественников, я представлял себе столицу Франции не иначе, как неким пагубным и опасным адом. Пугала и Италия в целом своими чрезмерными сокровищами. Я ведь не мог бы, побывав во Флоренции, отказаться от Рима и Неаполя, или, заехав в Милан, не отправиться в Падую, Мантую, в родную Венецию. Но на подобные разъезды уже никак не хватило бы ассигнованной суммы. Наконец, и времени до начала занятий в университете (куда я и мои друзья сразу записались) оставалось не так уже много — всего каких-нибудь шесть недель…
Итак, отпраздновав 1 июля папин день рождения (последний раз папа его проводил в обществе обожаемой им жены), я 2-го или 3-го отправился в путь. О, как при расставании встревожилась мамочка, сколько она и папа надавали мне советов, братья шутливо предостерегали, чтобы я не подпал под шарм хорошеньких немок, а Степанида и на сей раз заливалась горькими слезами и чуть было не причитала как над покойником. Я же только блаженствовал. Уложив ручной багаж в сетку своего отделения, поставив рядом с собой объемистую корзину со всякой снедью, я удобно внедрился в бархатный диван, взял в руки накануне купленный Бедекер и с видом опытного путешественника стал изучать его планы и карты. В первую очередь надо было, прибыв в Берлин, сходить в Бюро путешествий и заказать круговой билет по выбранному маршруту. Этим маршрутом я и занялся, но сразу запутался, ибо слишком разыгралось любопытство — слишком многое захотелось увидать и повсюду побывать.
Окончательно установленная программа заключала следующие города: Берлин, Лейпциг (где я навестил своего дорогого друга Володю Кинда, отбывавшего воинскую повинность), затем через Хёхст и Бамберг я бы проехал в Нюрнберг, откуда через Вюрцбург и Франкфурт в Майнц; там я бы снова сел на пароход и совершил классическую поездку по Рейну до Кельна; потом снова Майнц, и далее Гейдельберг, Штуттгарт, Ульм, Мюнхен, Обераммергау (как раз в том году шли знаменитые «Страсти господни»), Зальцбург, Вена и, через Прагу, Дрезден, — снова Берлин. В специальную задачу входило увидать на этом пути елико возможно больше картин любимых художников с Бёклиным во главе, услыхать несколько опер Вагнера (и вообще побывать в разных прославленных театрах), наконец, посетить особенно меня интересовавшие места — отчасти потому, что в них живали и творили любимые писатели: Гете, Шиллер, Гофман, Грильпарцер, отчасти потому, что в них разыгрывались сцены особенно меня пленивших романов и пьес.
Почти вся эта программа и была выполнена, лишь от некоторых намеченных городов пришлось отказаться и очень сократить пребывание в других. Тут действовали и соображения времени и ограниченность средств (уже в Мюнхене пришлось просить о подкреплении), к тому же, посетив неимоверное количество музеев, церквей, руин, живописных уголков, я довел себя до полного изнеможения и почувствовал настоящее пресыщение. Особенно досадно было, что я из-за спешки пробыл всего шесть часов в Бамберге, всего четыре — в Вюрцбурге, столько же в Ульме, совсем не заглянул в замок Лихтенштейн (манивший меня благодаря роману Гауфа) и не решился проехать в Обераммергау. Последний пропуск не помешал мне, по возвращении в Петербург, с величайшими подробностями и даже с энтузиазмом рассказывать, в качестве очевидца, про знаменитые религиозные действа, повторяющиеся каждое десятилетие при участии жителей этой горной деревни. Моими рассказами я особенно возбудил зависть Валечки Нувеля. И надо признать, что я до того основательно успел подготовиться к этой мистификации, прочитав несколько брошюр и одну книжку, что я и сам поверил, будто я там побывал, ночевал и даже промок, сидя в театре под открытым небом.
В таких хвастливых привираниях, от которых я в те времена еще не отделался, было много глупого ребячества; впрочем, на самом деле, несмотря на свой очень возмужалый вид, на снова подросшую бороду и на то, что я мнил себя серьезным знатоком искусства, я был во многих отношениях настоящим мальчишкой. Разве не мальчишеством было, например, то, что, попав в Гейдельберг, я обзавелся двумя студенческими фуражками, из которых одна попроще была для каждого дня, а другая парадная, расшитая золотом и с буквой «V» (корпорации «Вандалия», в которую записывались русские). Я даже рискнул, напялив ее, пройтись по всему знаменитому университетскому городу, примкнув к какой-то очередной манифестации; в ней же я щеголял несколько раз в Петербурге и на петергофской музыке. Мальчишеством было и то, что я считал своим долгом влезать (по рекомендации Бедекера) на все башни, колокольни и возвышенности, чтобы оттуда любоваться прекрасными далями. Не пропускал я также ни одного паноптикума и ни одной панорамы. Совершенным ребячеством, наконец, было то, что в самом начале своего странствования, в Берлине, я накупил на 140 марок фотографий (среди них одну большого формата «Елисейских полей» Беклина и его же «В игре волн»), истратив таким образом сразу одну десятую моего бюджета.
Коснусь попутно моих художественных предпочтений и увлечений того времени. Многое в этом может показаться смешным, и от многого я с тех пор отказался, однако я не сказал бы, что все мое тогдашнее восприятие искусства представляется мне сейчас ложным и таким, за что приходилось бы краснеть. Напротив, именно тогда стал складываться и крепнуть во мне тот фундамент, на котором затем построилось в течение моей долгой жизни все здание моего художественного «символа веры». В основе его лежало требование абсолютной искренности; ничего просто на веру не принималось, все проверялось посредством какого-то «инстинкта подлинности». В то же время во мне с особой силой сказывалось отвращение ко всяким проявлениям стадности и велениям моды — к тому, что позже получило кличку снобизма. Все, в чем резко означалось какое-либо направление как таковое, было мне тоже чуждо и противно. Если же художественное произведение — будь то живопись, скульптура, архитектура, музыка или литература — содержало в себе подлинную непосредственную прелесть поэзии или то, что принято называть «душой художника», то это притягивало меня к себе, к какому бы направлению оно ни принадлежало. Требовалась еще и наличность мастерства. Всякий дилетантизм был мне особенно ненавистен. Отчасти оттого, что я в собственном творчестве, не без основания, усматривал значительную долю любительства, я был невысокого мнения о нем.
Своими взглядами я постепенно заразил своих товарищей. В моей сравнительной зрелости и уверенности находилась и причина моего воздействия на них; я оказался в отношении их в роли какого-то ментора и вождя. Впоследствии и орган нашей группы «Мир искусства» получил определенное отражение именно моего «кредо» — иначе говоря, самого широкого, но отнюдь не холодного, рассудочного (и еще меньше — модного) эклектизма. Иногда такое всеприятие приводило меня к ошибкам, к увлечению чем-либо недостойным или к отвержению явлений неизмеримо более значительных, нежели то, чем в данный момент я увлекался. Но иначе не могло быть в двадцатилетием юноше и, как-никак, провинциале. Ведь художественный Петербург того времени представлял собой нечто во многом весьма отсталое. Прибавлю тут же, что некоторые из этих ошибок были и благотворны. Через всякие такие отклонения и блуждания лежал путь к свету — и этот свет казался тем ярче, чем темнее были иные из этих, ведших к нему закоулков.
Если теперь попробовать установить какой-то перечень моих увлечений в начале 90-х годов и, в частности, в эпоху моего первого самостоятельного путешествия по Европе, то нужно подчеркнуть среди современников-иностранцев имена Беклина, Менцеля, Ленбаха, Кнауса. Среди художников более отдаленных во времени я особенно выделял немецких романтиков — Швинда, Людвига Рихтера, Ретеля, отчасти Шнорра и Шинкеля. Кроме того, на меня большое впечатление произвели в берлинской Национальной галерее и картины поздних романтиков — Генненберга и Гертериха. Великой моей симпатией пользовались также английские «прерафаэлиты» (менее всего — Д. Г. Росетти, более всего — Дж. Э. Миллес и Х. Хант), а также Тернер и вся его школа. Среди французов я продолжал нежно любить классиков начала XIX века: Давида, Жироде, Прюдона, Жерара, Энгра; из позднейших мастеров я продолжал питать особенный интерес к историческим картинам Поля Делароша и ему подобных, и меня все еще коробил (моя большая вина) Делакруа; в чрезвычайной степени меня пленили всякие «рисовальщики»: Гюстав Доре, Домье, Гранвиль, А. Девериа и такие колористы и виртуозы, как Декан, Э. Изабе, Лепуатвен и Лами. Любовался я (разумеется, в фотографиях) и теми мастерами, которые в 80-х и в 90-х годах перед лицом всего мира представляли «славную французскую школу». То были Анри Рено, Ж. П. Лоранс, Бонна, Мейссонье, Жером, а также целые плеяды звезд второй и третьей величины. Пределом смелости в эти годы считалось признавать за нечто значительное искусство Альбера Бенара. Если же покажется странным, что я здесь не упомянул ни Мане, ни Моне, ни Дега, ни Ренуара, то ведь о них я в те годы просто не имел (и не я один) ни малейшего представления. Об этих импрессионистах заговорили только после появления романа Золя «Творчество», но и этот роман познакомил только с теориями и с принципами новой французской школы, самые же произведения их — даже в репродукциях — знал лишь самый тесный круг в Париже. Потребовался мировой успех книги Мутера «История живописи в XIX веке», вышедшей по-немецки в 1893 году, чтобы названные художники получили более широкую известность.
Особенную пользу мне принесло во время путешествия в 1890 году посещение двух картинных галерей: берлинского «Старого Музея» и мюнхенской «Старой пинакотеки». И не только самый осмотр их, но и то, что при изучении их я пользовался теми толковыми путеводителями, которые за год или за два до того были изданы Георгом Гиртом. Я познакомился с этими книжками еще в Петербурге, я их уже там основательно изучил и почти все сказанное в них запомнил, и теперь, при обзоре самих коллекций, меня как бы сопровождал какой-то удивительно тонкий и толковый комментатор, точнее, такой же любитель прекрасного, каким был я, но несравненно более сведущий. В некоторых своих частях эти чичероне ныне устарели (немецкая художественная наука сделала с тех пор столько открытий, столько исправила ошибок), однако для тех времен, о которых я рассказываю, это было, что называется, последним словом, к тому же изложенным без всякого педантизма, необычайно просто и убедительно. Я благодарил судьбу, что они достались мне в руки так необычайно кстати. На примерах, что содержат оба эти прекрасных музея, я и вступил в своем изучении старой живописи на путь, с которого уже затем не сходил. Тогда обозначились мои главные симпатии, мои главные мерила.
Изучая эти две книжки, а также монументальный увраж «История культуры в картинах», который я приобрел в конце 1888 года, я заочно преисполнился своего рода пиететом к их издателю — мюнхенцу Георгу Гирту. Вот почему, попав в Мюнхен, я счет своим долгом отправиться к нему на поклон. Это посещение представляло для меня великий соблазн и потому, что я знал по репродукциям, что дом Гирта представляет собой настоящий музей прикладного художества. Гирт принял меня, совершенно незнакомого юношу, с удивившим меня вниманием и сразу стал развивать мне свою теорию художественного воспитания, находившуюся в полном противоречии с академической. Он как раз тогда готовил книгу, в которой, как на образец, достойный подражания, указывал на гравюры и рисунки японцев. Вслед за тем он провел меня по всем комнатам своего трехэтажного особняка, построенного у самых «Пропилей», под личным его, Гирта, руководством. Несметные коллекции были сгруппированы в прелестных декоративных подборах, и немало среди них было вещей, которым могли бы позавидовать и первоклассные музеи. В то же время многие редкостные вещи продолжали служить своему назначению.
Особенно мне запомнились комнаты, посвященные немецкому барокко и рококо. Все это Гирт, несколько угрюмый с виду уже немолодой господин с черными усами, показывал, сопровождая демонстрации пространными и интереснейшими пояснениями, давая мне в руки самые вещи (особенно фарфоровые статуэтки и итальянские бронзы), обращая внимание на их глазурь, раскраску, патину, а также на грацию и жизненность их поз и жестов. Визит мой затянулся часа на три, и я покинул Гирта в состоянии какого-то восторженного опьянения. Я уже говорил выше, что во мне жила доставшаяся мне по наследству от деда Кавоса склонность к собирательству, но после посещения Гирта меня стала преследовать мечта о том, чтобы со временем обзавестись самому таким домашним музеем и жить в нем. Лично мне так и не удалось осуществить вполне эту мечту; того не позволили ни мои средства, ни моя непоседливая жизнь, ни, в особенности, внешние обстоятельства «мирового значения». Однако скольких я заразил ею, сколько у меня одно время было богатых друзей, которые старались устроиться по-гиртовски, не имея никакого понятия о самом Гирте. Впрочем, как раз сам Гирт через несколько лет разочаровался в собирательстве и пустил все содержимое своего дома с молотка. Каталог его знаменитой распродажи занимает несколько томов.
Из других особенно сильных впечатлений, полученных во время моего путешествия, отмечу еще те, которые я испытал в «Германском музее» в Нюрнберге. Музей был только что тогда отстроен; в основе его лежал средневековый монастырь, и коллекции были расположены частью по капитулярным залам, галереям и переходам, частью по заново построенным помещениям. Последние казались рядом с подлинно старинными несколько новенькими и чистенькими, зато некоторые дворики (в последующие времена перестроенные или запущенные) поразили меня своей поэтической затейливостью. И в этом богатейшем музее (а также в Гейдельберге) я снова разорился на фотографии: накупая их, я заранее радовался тому, как я буду показывать их в Петербурге, как буду просвещать с их помощью друзей, какое одобрение я встречу со стороны дяди Миши Кавоса. Вернувшись восвояси, я поспешил наклеить эти сокровища по специально заказанным альбомам большого формата, и на этих фотографиях затем действительно учились и Костя Сомов, и Валечка Нувель, и Бакст, и оба Лансере, и Дима Философов, и Сережа Дягилев. К сожалению, громоздкость этих альбомов не позволила мне взять их с собой в эмиграцию, и что с ними сделалось, кому они, бесхозные, достались, я не ведаю, так же, как я не знаю, что вообще сталось с моими коллекциями, картинами, книгами, брошенными на произвол судьбы. Продолжают ли эти сокровища служить своему благородному назначению или все пошло прахом?
КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА 1 «Роман жизни»
Я имею полное основание так озаглавить данную главу. Наш роман с Атей Кинд, начавшийся тогда, когда нам было по шестнадцати лет, протянулся на всю жизнь — если не считать периода в два года (1889–1891), в течение которых между нами продолжалась размолвка. Подобное постоянство — явление довольно редкое, особенно в наше время, и потому оно требует и некоторого объяснения. Но как объяснить то, что два существа взаимно подходят друг другу? Они точно предназначены одно другому, они друг другу нравятся и духовно, и нравственно, и физически, и это «нравление» сохраняет в течение многих десятков лет свой неизменный характер и силу. Недостатки каждого и некоторые, не всегда удобные странности без труда прощаются или игнорируются, а иные из них даже, пожалуй, чем-то пленяют и служат вящим средством притяжения! Несомненно, подобные избирательные средства существуют в природе! В нашем же случае это оказалось чем-то особенно выдержанным. Если не опасаться сойти за человека, страдающего преувеличенным самомнением, то можно утверждать, что нас вела какая-то «Верховная сила», иначе говоря «милость Божия» — в чем, впрочем, внутри себя ни я, ни Атя никогда не сомневались.
Рассказывать во всех подробностях, как все произошло, как мы отметили друг друга и как развивался наш роман, я не стану. Тому мешает порой известное «веление вкуса». Но если бы я был романистом, я бы использовал этот материал, этот столь долгий и чудесный опыт, чтобы создать весьма занимательную повесть, в которую оказались бы вплетенными всякие эпизоды и элементы, похожие на те, что составляют прелесть знаменитых любовных историй, начиная, скажем, с «Дафниса и Хлои». Но вот я не романист, никогда и не пытался стать таковым, совершенно же обойти эту главную сторону моего существования я в своих воспоминаниях не вправе, ибо «все оттуда пошло» и все вокруг этого сплеталось. А читатель пусть сам добавит многое, о чем я умалчиваю. Ведь у каждого, пожалуй, были в жизни минуты полного, предельного счастья — так пусть он о них здесь и вспомнит. Что же касается тех, кого вовсе обидела судьба и кто ничего подобного не испытывал, тех едва ли может вообще заинтересовать эта часть моего рассказа, и им я советую эту главу и несколько следующих просто пропустить.
С той, кому суждено было стать моей подругой жизни, я впервые встретился в 1876 году на бракосочетании моего старшего брата Альбера со старшей сестрой Ати Марией. Новобрачным было около двадцати четырех лет, мы же были совсем малышами — нам было всего по шести лет. Однако я, как в тумане, помню у алтаря церкви св. Екатерины, а потом на дому только что повенчанных (где, по желанию родителей невесты, произошло добавочное благословение лютеранским пастором), я помню среди толпы взрослых девочку в белом платье, с белым бантом в темных волосах, очень дичившуюся и конфузливую. То была Атя. И она со своей стороны утверждает, что заметила меня. Однако нас тогда не познакомили, официальная же обстановка мешала детям приступить к каким-либо играм.
Некоторое время спустя я стал получать известия об этой девочке из уст ее отца, почтенного Карла Ивановича Кинда, который в течение зимы 1877–1878 года давал мне уроки фортепианной игры. Вероятно, для того, чтобы вызвать во мне соревнование, он часто говорил, что младшая его дочка — моя сверстница — далеко ушла вперед сравнительно со мной и безошибочно исполняет те пьесы, которые мне казались непреодолимо трудными. Помнится, что то были попурри из любимых тогда опер — «Марты» и «Вильгельма Телля». Изредка я и встречался с этой самой Атей, то в городе у ее сестры — моей bell-soeur, то на дачах, снимаемых Альбером в Парголове или в Петергофе. Приблизительно с 1880 года я стал дружить с ее старшим братом Володей, но мне не помнится, чтобы Атя принимала участие в наших забавах. Зато до странности отчетливое воспоминание о ней врезалось мне в память летом 1881 года, когда я как-то забрел на кушелевской даче в тот милый домик с колоннами, который снимал в том году Альбер. Там я застал такую картину: у большого тройного («венецианского») окна, выходившего на заросший лопухом двор, сидела спиной к свету девочка (то была Атя), занятая чтением вслух, тогда как две ее сестры тут же что-то шили. Книга была толстая и русская — то была тогдашняя новинка — «Братья Карамазовы». Я тут же присел и стал слушать, но, как ни старался что-либо понять, я так ничего и не понял из этого набора слов. Через десять минут я попробовал прервать это нудное занятие и заманить Атю в сад. Неподалеку все еще было удивительно подходящее место для игр — то был пустырь, где еще недавно стояла большая дача, но дача сгорела, и на месте ее торчали одни только обломки стен и лежали в беспорядке почерневшие бревна. Тут так удобно было прятаться и играть в любимые мои игры — в прятки, в «палочку-воровочку» и т. п. Атя готова была последовать моему приглашению, но жестокосердая сестра, заинтересованная чтением, не пожелала отпустить ее (да еще с таким шалуном, каким я тогда слыл), и бедная девочка должна была, чуть не плача, продолжать читать, тоже ничего не понимая из читаемого.
У Марии Карловны это вообще было в обычае, чтоб ей вслух читали. Мне казалось это особенно удивительным, когда она заставляла кого-либо читать во время ее ежеутренних упражнений на рояле. При этом она ухитрялась очень внимательно следить за всеми происшествиями рассказа. Случалось и мне служить ей таким лектором. Разучивая без устали какой-нибудь особенно трудный пассаж Шопена или Листа, Маша все же успевала делиться своими впечатлениями от чтения, а при каком-либо комическом эпизоде она разражалась смехом.
Проходят еще года два без того, чтоб Атя и я как-либо выделяли друг друга при встречах, но самые эти встречи все более учащаются. Тому главным образом способствует моя все крепнущая дружба с ее братьями — особенно с Володей, который был старше Ати на полтора года. Но изредка имя этой младшей сестры моей bell-soeur упоминалось в разговоре моих домашних. Запомнилось (почему запомнилась именно эта беседа из тысячи других?), как однажды за вечерним нашим чаепитием сам папочка, перебирая и характеризуя разных знакомых дам и девиц, вдруг задался вопросом, будет ли и третья из Киндов такая же хорошенькая, как обе ее сестры, и при этом он еще шутя высказал предположение, что эта девочка может с нами еще и породниться. Мамочка запротестовала и нашла, что в этом подростке ничего нет привлекательного, с чем и я тогда согласился, но тут совершенно неожиданно заступился синьор Бианки. Обыкновенно после воскресного обеда он сразу удалялся и до чая не досиживал, на сей же раз он почему-то застрял (возможно, что это были близкие к моей конфирмации дни, когда он с таким рвением вступил в роль моего второго крестного). И вот, с какой-то необычайной горячностью он заявил: «Вы не правы, сударыня, девочка чертовски привлекательна, да простит меня Бог, — уверяю вас, она будет иметь еще больший успех, чем ее сестры!»
«Ай да святоша, ай да аскет Бианки, — подумал я, — какой у него глаз!» В тот момент я, впрочем, не был поражен такой аттестацией, но впоследствии я не раз вспоминал о ней — следовательно, она затронула во мне какие-то мне самому неведомые струны. Эти слова приоткрыли мое внимание на то, что было прелестного в этой девочке, как раз вступавшей в неблагодарный возраст, который немцы прозвали Backfischalter, а французы l’age ingrat.
Обладала ли впрямь Атя Кинд тем, что Бианки назвал столь малохристианскими словами (чертовская привлекательность), мне теперь трудно судить, но действительно, тринадцатилетняя эта девочка уже тогда начинала покорять сердца, и даже сам ее зять — мой братец Альбер — не раз не то в шутку, не то всерьез изъяснялся ей в любви. Запомнилось мне и то, как он, бросив другие занятия, сам, ввиду готовившегося костюмированного бала, принял усерднейшее участие в изготовлении для Ати наряда, олицетворявшего Музыку. Белое ее платьице было испещрено вырезанными из золотой материи и нашитыми нотными знаками и ключами, а талию охватывал пояс, изготовленный самим Альбером и изображавший клавиатуру. Напрасно, глядя на себя в зеркало, Атя, чуть не плача, пробовала протестовать. Альбер упорно отстаивал свою идею (он ее заимствовал из какого-то модного журнала), вертел Атей, как куклой, прилаживая булавками разные составные части, причем она то и дело вскрикивала от уколов. Он вообще пребывал в каком-то трансе костюмерного творчества. Мне стало очень жаль эту милую девочку.
Летом того же 1883 года я стал почти ежедневно встречаться с Атей, так как ее родители наняли небольшую дачку в деревне Бобыльске близ Петергофа. (Это дачное место у самого берега моря как раз тогда открыл Альбер и снял там большую дачу, сдававшуюся внаем рыбаками.) Мои родители предпочли остаться в городе: папе было трудно оторваться от своих служебных дел, мамочка жаловалась на усталость, и переезд на дачу ей представлялся чем-то непосильным. Вот я и оказался на все лето гостем моего брата, получив в свое полное распоряжение большую комнату в верхнем этаже. От дачи Альбера до дачи Киндов было не более двух минут ходу, и естественно, что вся детвора и молодежь из Альберовой дачи заходила за своими родственниками и тащила их на прогулки; это были Володя, Петя и Атя Кинды, которые приходили на Альберову дачу, где их ожидали всякие развлечения: игры в крокет, морские купания и прогулки в компании. Надо при этом заметить, что у Альбера и Маши постоянно были гости, преимущественно морские офицеры, что там иногда музицировали и в то же время завязывались всякие романы и флирты (последнее слово стало тогда входить в моду). О нашем увлечении морским спортом, точнее говоря, греблей, я уже рассказал, но о той затее, в которой выразился «пароксизм», до которого я с Володей тогда дошли, я еще не упоминал, припасая этот рассказ для данной главы.
Затея эта представляла нечто крайне нелепое, однако мы в этот ребяческий бред поверили, что лишний раз показывает, что мы, несмотря на рост и на исключительную скороспелость, были настоящими детьми. Решено было обзавестись собственной лодкой, приладить к ней каюту и пароходные колеса (которые мы рассчитывали двигать руками), и на этом «Наутилусе» мы должны были совершить далекое путешествие, поднявшись вверх по Неве до каналов Мариинской системы, а там добраться и до самой Волги! Теперь у нас было поглощающее занятие и в дождливые дни, когда приходилось сидеть дома. Мы изучали карты, чертили планы за планами нашего корабля и составляли подробный инвентарь всего, что нам понадобилось бы взять с собой. При разработке проекта плавания естественно входило и все то, что касается питания, и тут для нас стало очевидно, что необходимо будет взять с собой и какую-нибудь даму, которая варила бы нам уху (непременно уху, а не иной какой-либо обыкновенный суп; рыбу же мы ловили бы сами) и вообще вела бы хозяйство. Ближайшей к нам по возрасту дамой и была Атя, которая с радостью дала нам свое согласие, согласия же родителей мы собирались испросить только перед самым отъездом, точно и впрямь таковое могло бы быть получено.
Но весь этот чудесный план развалился, когда оказалось, что на постройку одной каюты и колес были бы потребны средства, далеко превосходящие все наши сбережения и все, на что мы могли еще рассчитывать. Да и самой лодки у нас не было. Правда, хозяин дачки Киндов, милейший чахоточный Яков Морин, рабочий с казенной гранильной фабрики в Петергофе, попробовал нам сосватать лодку какого-то своего приятеля, однако один вид этого суденышка, осиротело лежавшего килем вверх в рощице, позади дворца Марли, произвел на нас столь невыгодное впечатление, так мало соответствовал нашим грандиозным планам, что и я, и Володя совсем приуныли, и абсолютная несбыточность наших фантазий вдруг стала для нас очевидной. Ничего не говоря друг другу, мы оба тут же отказались от них. При этом болезненнее всего я ощущал тогда именно то, что не состоится та очаровательная идиллия, о которой я стал было очень мечтать, и что наше совместное в течение многих, многих дней сожительство с Атей, такой простой, веселой и милой девочкой, не состоится!
Более всего в Ате мне нравилась именно ее совершенно особая, абсолютно искренняя, неподдельная простота. Она вообще очень мало походила на всех других знакомых девочек и барышень. Не похожа она была (ни чертами лица, ни душой) и на своих сестер. Обе они, особенно Соня, были большими любительницами до пересудов, Атя же, при всей своей наблюдательности, никого никогда не «разбирала» (эту черту она сохранила на всю жизнь), а в общем была удивительно ко всем благожелательна. Охотнее всего она откликалась на темы художественные, музыкальные, литературные, но и это без намека на какое-либо желание блеснуть.
Притягивала меня к Ате еще и ее любовь к животным — особенно к кошкам и к собакам. Один из первых отчетливых образов ее, отпечатавшихся у меня в памяти, остается именно в соединении с огромным серым котом Васькой, которого Атя прямо обожала и который платил ей тем же. Я вижу ее в день переезда Киндов на дачу, как она, одетая в черную бархатную кофточку и в красную шотландскую (еще короткую) юбку, бережно, как ребенка, несет этого тяжелого зверя от дачи Альбера и Маши, где новоприбывшие только что позавтракали, на свою дачу. И все же ни в это лето, ни в течение еще двух лет я и не думал влюбляться в Атю. Мое сердце к тому же было занято другим романом, точнее, другими романами, среди которых один был главным. Атя мне просто нравилась как собеседница и как веселый, чуждый всякой жеманности, товарищ по играм.
Но вот, в один какой-то прекрасный день весны 1885 года, Атя, к моему собственному удивлению, понравилась мне по-иному. И что особенно странно, она понравилась не сразу сама по себе, а как-то «через Цукки», а именно через тот портрет итальянской балерины, который появился на страницах популярного журнала «Нива». В этот портрет, задолго до того, как я увидел Цукки в натуре, я действительно влюбился. Мне казалось, что представлено совсем юное существо и полное воплощение женственности (таких слов я тогда не употреблял, но чувствовать я их вполне чувствовал). И странно, это воплощение вовсе не отвечало какому-то моему «основному идеалу красоты». Ни овал лица, ни соотношение черт между собой, ни чуть китайский постав глаз, ни слишком большой рот не были похожи ни на мадонн Рафаэля, ни на нимф Прюдона, ни на головы знаменитых античных статуй! Не было в этом лице и ничего сладковато-миловидного. И все же лицо этой откинувшейся назад, чуть склонившей голову к правому плечу особы, кокетливо поглядывающей на зрителя, казалось мне прелестнее всех Венер и Диан! А влажный полуоткрытый рот сулил столько бесконечного счастья! Вглядываясь в этот рисунок, напечатанный среди текста на странице нашего почтенного семейного журнала, я буквально закипал страстным волнением. Эта девушка манила меня и казалась такой близкой! И что же — в тот только что помянутый майский день знакомая с детства Атя Кинд почудилась мне до странности тождественной с этим портретом — точно именно с нее и рисовал художник Вилье (не наш Михаил Яковлевич Wyllie, а какой-то Villiers, чужой — парижский). И что было особенно удивительно, и взгляд у давно знакомой девочки, тогда как раз быстро превращавшейся в девушку, мог быть таким же улыбчивым, робко и настойчиво зазывающим!..
В тот весенний день я зашел проведать друга Володю, но не застал ни его, ни его брата Петю, ни родителей, а прислуга была занята в кухне на другом конце квартиры. Атя одна была дома и была занята приготовлением к близкому школьному экзамену. Одета она была совсем по-домашнему, а окружали ее всякие наименее подходящие для романа предметы: учебники, словари, тетради и чернильный прибор. Да и пальцы Атя были замараны чернилами. Зато в открытые окна кабинета Карла Ивановича, избранного Атей, чтоб лучше сосредоточиться (она числилась среди лучших учениц своего класса), в эти окна, выходившие на самый поэтичный петербургский пейзаж — в одну сторону на Поцелуев мост, в другую — на канал, окаймляющий грандиозное здание «Новой Голландии», вливалось дивное полуденное солнце, в лучах которого и самые банальные предметы приобретали неожиданно искрящуюся жизненность и приветливость.
Атя не сочла нужным скрыть, что она рада моему приходу. Это ее отвлекало на несколько минут от заучивания тех премудростей, которые считались необходимыми для образования девиц в такой образцовой школе, какой справедливо слыло наше немецкое училище св. Петра. Меня же эта неожиданная встреча (наедине!) с девушкой, вообще мне крайне симпатичной, настроила сразу на совершенно особый лад. Тут-то мне и показалось, что я стою перед живым и каким-то милым, дышащим радостью жизни оригиналом портрета Цукки. Это меня наэлектризовало и подзадорило. Я принялся шутливо балагурить, рассказывать всякую чепуху, Атя же от всей души смеялась, а когда она смеялась, то становилось еще более похожей на «свой портрет»! Ее свежие, очаровательной формы ярко-алые губы открывались над рядом сверкающих белизной зубов, а в зеленоватых, чуть китайских глазах бегали искорки — «чертики». Это было до того прельстительно, что я не в силах был удержаться, чтобы тут же не попытаться этот рот поцеловать. Но Атя, не переставая смеяться, ловко увертывалась, причем в этой манере «ставить меня на место» не было ничего напускного, никакой ложной стыдливости и не было ничего для меня обидного. Однако экзамен надлежало сдать чуть ли не в следующее утро, Ате было некогда продолжать такую игру, и она, все еще смеясь, ускользнула в соседнюю гостиную; когда же я бросился за ней, она ловким движением оттолкнула меня, прошмыгнула обратно в кабинет, кинула мне еще прощальный поцелуй и вслед за тем повернула в замке ключ. Я покинул Киндовское обиталище, как пьяный… Однако тогда наш флирт на этом эпизоде и прервался. Я уехал на дачу, где меня ждало продолжение моего «главного» романа.
Позже, в то же лето, я увидел в натуре, на сцене театра божественную Вирджинию, а в середине июля покинул вовсе Петербург, отправившись с родителями гостить в имение к сестре под Харьковом. Должен тут же прибавить, что живая, настоящая Цукки хоть и очаровала меня танцами и мимической игрой, оказалась вовсе не похожей на свой портрет в «Ниве»!..
По возвращении из Малороссии случилось так, что я в первый же вечер отправился в Петергоф, в Бобыльск, и увидел там Атю; но увидел я ее на сей раз в самой неожиданной обстановке. Я попал прямо на генеральную репетицию какой-то пьесы, которую Мария Карловна, охотница до домашних спектаклей, решила поставить, для чего была сооружена в глубине сада довольно большая сцена, прислоненная к дровяному сараю. Что это была за комедия, я не помню, роль же, которая была поручена Ате, была самая незначительная — она изображала горничную «в хорошем доме», и лишь раза три за весь вечер она появлялась, что-то докладывая. Но вот ей удивительно шло простенькое серенькое ситцевое платьице, белый передник и белая наколка на волосах; реплики же она подавала не как другие любительницы — без малейшей аффектации, просто, свободно и весело.
На этой естественной веселости я настаиваю. Быть может, это не вполне отвечало требованиям хороших манер (позже, когда наш роман стал общеизвестным, я от некоторых своих близких, критически к нему относившихся, слышал такую фразу: «У нее золотое сердце, но дурные манеры»), но как раз такое отсутствие всякой позы и жеманности, такое простодушие и такая чудесная искренность было тем, что мне более всего в Ате нравилось. Весь ее стиль был своеобразный. Самая ее веселость вовсе не походила на веселость других знакомых девиц и дам. Были среди них и очень смешливые, но если они и веселились иногда весьма бурно и громко, если и смеялись до упаду, то под этим всегда сквозило желание обратить на себя внимание и пленить. Совсем иначе у Ати. Она никогда ничего не разыгрывала, а если и не была чужда кокетства, то сказывалось это очень просто, как нечто самое естественное и прямо стихийное.
Своему веселью она отдавалась всей душой и без всякой задней мысли. Могла она быть временами и «задирой», даже дразнилой, за что ее прозвали Neckvogel (пересмешник — титул, унаследованный затем нашей дочерью Еленой), и, например, оба брата Ати из-за этой черты ее побаивались. Особенно доставалось Володе. Остро, но без малейшей злобы она подмечала смешные черты этого вечно в кого-нибудь влюбленного юноши (тоже большого весельчака), и доставляла себе особое удовольствие, когда ей удавалось его сконфузить. Конфузился же он удивительно мило и простодушно. Его полные щеки заливались румянцем, он заикался, путался, не сразу находил нужные слова, чтобы парировать удары, и приобретал при этом совершенно потешный вид. Должен покаяться, что и я тогда не щадил своего друга. Сказать кстати, я никогда не видел, чтоб Атя ссорилась с ним, да и вообще с кем-либо из своих домашних.
На самый спектакль, состоявшийся на следующий день, собрался весь Бобыльск, да и из Петергофа и Ораниенбаума подъехало немало народу. Сад Альбера был, как водится, иллюминован цветными фонариками, развешанными по деревьям, а в стороне, на берегу, был устроен буфет, среди которого красовался бочонок настоящего мюнхенского пива «Lowen», подаренный соседом по даче, богачом-фабрикантом Сан-Галли. Несмотря на свою скромную рольку, Атя произвела наилучшее впечатление, причем я тут же из разговоров молодежи узнал, что она и во время моего отсутствия успела отличиться как актриса в более ответственной роли — морской царицы в феерии «Flick und Flock», в которой участвовала вся детвора и несколько бобыльских женомов (т. е. юношей). Восторженно мне об этом рассказывал, между прочим, Эрнст Грубе, молодой человек, несколько претенциозный и надменный. Я сразу понял, что он «тронут» Атей Кинд, и почувствовал тогда некоторый укол, хотя сам еще вовсе не собирался завоевать ее сердце. Позже я узнал, что Грубе даже успел объясниться в любви, но Атя, начинавшая уже привыкать к своим победам и не придававшая им ни малейшего значения, только высмеяла неудачливого жениха, который, жестоко обиженный, сразу и «отъехал».
В начале осени, очень скоро после спектакля в Бобыльске, я поступил в гимназию Мая. Памятуя тот позор, что я претерпел весной, когда меня не допустили в казенной гимназии к экзаменам, я ревностно отнесся к своим школьным занятиям. Новая обстановка, новые товарищи, новые учителя и все в целом производило очень приятное впечатление. Некоторые же предметы меня заинтересовали по-настоящему. Но тут же вскоре наступил бурный фазис моего увлечения Цукки, — главным образом в заглавной роли балета «Дочь фараона». Я не пропускал ни одного представления и каждый раз впадал в какое-то восторженное неистовство. Вполне разделял мое безумие мой верный театральный спутник Володя Кинд. Тогда же проснулась во мне и страсть прозелитизма. Я всех гнал на спектакли Цукки и торжествовал, когда ряды ее поклонников пополнялись. Своим энтузиазмом я заразил не только бабушку Кавос, склонную приходить в восторг от всего итальянского, но и брата Леонтия, до той поры вовсе не интересовавшегося балетом. Леонтий так зачастил на балетные спектакли с Цукки, пренебрегая обожаемой итальянской оперой, что вызвал даже ревнивую тревогу в своей супруге. (Эта тревога особенно обострилась после памятного банкета, данного в честь божественной Вирджинии родственником Марии Александровны, почтенным балетоманом И. И. Ростовцевым. После роскошного угощения, тут же в столовой была импровизирована сцена. Прибавлю здесь, что опасения моей belle-soeur за верность мужа были совершенно напрасными. Вирджиния, казавшаяся при свете рампы, в костюме и гриме, обольстительно юной, являла вблизи довольно поблекший, помятый вид. Неприятно поражал и ее грубоватый, чуть сиплый типично итальянский голос. В последнем мне случилось удостовериться, когда как-то, по окончании спектакля, я присоединился к компании юношей, возглавляемой грандиозным Степой Лалаевым, и мы отправились гурьбой к дому, в котором проживала Цукки, дабы ее там встретить, когда она приедет из театра. Снимала она меблированное помещение совсем близко от театра, на Офицерской, — и мы успели туда добежать за четверть часа до того, как пожаловала сама дива. И тут, к моему недоумению, вышла из кареты вовсе не пленившая нас только что дочь фараона, а крохотная, густо намазанная и набеленная, укутанная в какие-то шали дама. Она чуточку задержалась, чтобы раздать нам несколько роз из гигантского букета, который она держала в руке, произнесла несколько приветливых слов, после чего сразу впорхнула в дверь подъезда, а нам оставалось только глазеть на засветившиеся окна нижнего этажа и догадываться, кому бы принадлежали те тени, которые моментами шевелились за тюлевыми занавесками.)
Обыкновенно мы сидели с Володей в задних рядах кресел, но иногда на спектакли Цукки брались нашей семьей ложи, и тогда они набивались, несмотря на протесты капельдинеров, до отказа. То были те любители, которые, кто по нерадению, кто по неудаче, не успевали заручиться собственными местами — спектакли Цукки делали полные сборы, и публика буквально осаждала кассу.
С этой самой поры произошел перелом всего петербургского общества в отношении к балету. Балет перестал быть каким-то предосудительным зрелищем — «голоножием для развратных стариков» или забавой детворы… Огромный Большой театр, часто до того времени пустовавший на балетных спектаклях, теперь, благодаря Цукки, заполнялся до последнего места.
Несколько раз побывала с нами в таких ложах и Атя, причем ее неподдельный детский восторг от Цукки значительно способствовал нашему сближению. Атя, как и ее братья, была и до того большой любительницей балетных зрелищ и успела перевидать едва ли еще не большее число их, нежели я. Однако только теперь, по ее словам, у нее открылись глаза, только теперь она поняла, до какой высоты и силы может дойти балетная драма и до чего трогательной может стать балетная героиня. Очаровывала нас тогда и музыка «Дочери фараона» — в общем грубоватая и наивная, но местами не лишенная колоритности и даже поэзии — ведь автор ее, Пуни, был талантливейшим человеком, к сожалению, разменявшимся на всякую, иногда и очень вульгарную, дребедень. Через несколько спектаклей я всю музыку «Дочери фараона» уже запомнил довольно точно и мог играть ее на рояле у себя дома или у Киндов. Часто я играл ее по просьбе Ати, и звуки музыки способствовали тому, чтобы с особой четкостью возникали в воображении полюбившиеся образы. Когда же был приобретен клавир «Дочери фараона», то и Атя сама стала играть по нему, что нас окончательно очаровывало, и мы доходили до каких-то экстазов, а также до попыток самим представить те или иные сцены и танцы. Надо помнить, что Володе было семнадцать лет, мне и Ате — пятнадцать и шестнадцать, а Пете тринадцать лет.
Ничто так не сближает людей, как общий восторг, как то, что один встречает в другом какое-то подтверждение и углубление собственных ощущений. Постепенно и незаметно для себя, на этой почве наши отношения стали переходить от товарищеских к дружеским, а там стало обнаруживаться и то, что мы питаем друг к другу и более нежные чувства. Еще до конца этого многозначительного для нас 1885 года произошло наше первое объяснение, и произошло оно в самый сочельник в квартире Альбера и Маши. Но то не было объяснением словесным. Обыкновенно елка у моего старшего брата устраивалась — не так, как у нас, вечером 24 декабря, — а ранним утром 25-го, еще до восхода солнца (что, кстати сказать, получалось довольно своеобразно и таинственно). Но на сей раз было решено, что елка будет зажжена для взрослых после того, что малые дети будут уложены ровно в полночь, после чего нас ожидало обильное, как всегда у Альбера и Маши, угощение. Но до полночи оставался еще час, заняться чем-нибудь было трудно. И это ожидание показалось всем ужасно нудным, и поэтому все постепенно разбрелись по углам, расселись — кто по диванам, кто по кушеткам, кто по креслам, все стихло, а иные и просто заснули. Я же с Атей оказались рядом (едва ли случайно) на угловом диване, но и мы молчали, однако не потому, что вздремнули, а потому, что эта близость и вся эта обстановка торжественного ожидания настроили нас на совершенно особый лад. Мы как бы чувствовали, что совершается в нас и для нас нечто, имеющее первейшее значение, мы подошли к тайнику, который должен нам открыться.
Едва сдерживая свое волнение, я протянул руку в сторону Ати и дотронулся до ее руки. И не только я не встретил отпора, но пальцы ее сомкнулись на моих… Так мы и продолжали сидеть рука в руку, в полном молчании и в каком-то блаженном оцепенении, и я ясно чувствовал, что происходит нечто, что надлежит запомнить на всю жизнь, что нам суждено впредь идти вот так — рука в руку — и что это будет хорошо. Мне представилось тогда же, что состоялась наша помолвка и что с этого момента я должен считать Атю своей навеки нареченной. Что такие мысли могли зашевелиться в голове пятнадцатилетнего мальчика — вполне естественно, но что все в дальнейшем так и случилось, как тогда наметилось, это довольно-таки удивительно. И еще удивительнее, что наш роман вовсе не потек ровным непрерывным потоком, что через три года мы разошлись и сделали все возможное, чтобы забыть друг друга, и, однако, мы все-таки снова соединились и вот по сей день живем душа в душу в полном смысле этих слов. (Увы, с тех пор, что были написаны эти строки, обожаемая моя подруга жизни покинула меня — 30 марта 1952 года.)
Через два дня после альберовской елки, в день рождения почтенной матушки Ати, у Киндов состоялся бал — точнее то, что французы называют вечер с танцами или еще менее почтительно — танцулька. Тут я увидел ту, с которой я считал, что помолвлен, во всей прелести вечернего туалета. Несмотря на то, что Атя была еще почти девочкой и в ее сложении замечалась некоторая незрелость, та легкая диспропорция, что свойственна вообще всем еще не вполне сформировавшимся существам, это нисколько не нарушало ее обаятельности и скорее подчеркивало ее. Все в этом готовом распуститься цветке сулило чудесное счастье…
На вечеринку к Киндам явилось немало народу. Тут были и старики — сослуживцы Карла Ивановича, оркестранты Большого театра, во главе со знаменитым в Петербурге корнет-пистонистом Вурмом, тут были и родственники разного пола и возраста, тут были и какие-то морские офицеры (большинство «стариков» сразу засели за карты), Володя же привел целый взвод своих товарищей по Petrischule. Атю, большую охотницу до танцев, эти юноши стали беспрерывно приглашать на кадрили, вальсы и мазурки. Я же и на этот раз не танцевал, хотя ноги так и просились под звуки задорной музыки пуститься в пляс. То был у меня род позы, но и на самом деле я никак не мог себе усвоить некоторые фигуры и па и боялся, как бы не напутать и не оскандалиться. В течение всего вечера я так и не выходил из кабинета Карла Ивановича, где был устроен буфет с массой сладких пирогов и бутербродов (слово «сандвич» еще не было в ходу) и с целым батальоном графинов прохладительных напитков. Сюда разгоряченную, запыхавшуюся и раскрасневшуюся Атю вводили ее очередные кавалеры. Она бросалась в кресло, я же поджидал ее со стаканом розового морса или белого миндального молока, который она с жадностью и выпивала. Глаза мои не могли наглядеться на ослепительную белизну ее декольте и на ее оголенные руки. Пользуясь тем, что мы на несколько секунд оставались одни (старики за картами не могли идти в счет — они были поглощены игрой), я даже попробовал поцеловать руку немного выше локтя, но получил легкий удар веера, впрочем, при ласково-смеющемся взгляде.
Следующей главой нашего теперь уже вполне наметившегося романа явился день Нового, 1886 года, оказавшийся одним из самых значительных и счастливых дней всей нашей жизни. Считая себя уже взрослым, я решил последовать общему, тогда еще царившему обычаю и объехать с визитами главных родственников и знакомых. Однако исполнению этого похвального намерения помешало то, что я начал свою экспедицию с Киндов, куда меня тянуло с неодолимой силой… Случилось и на сей раз так, что я застал одну только Атю дома, так как ее родители и ее братья разъехались — опять-таки с визитами. В свою очередь, Ате пришлось принимать визитеров, которые и потянулись длинным рядом. Значительное число их оказалось молодыми людьми, которые так усердно отплясывали три дня до того на балу. Дольше других застрял долговязый семнадцатилетний блондин Латышев. За ним установилась репутация настоящего сердцееда, и мне очень не нравилось, что он как будто имеет виды на Атю. На вечеринке он чаще других танцевал с ней и в минуты отдыха продолжал с ней разговаривать и шутить. Он был и старше меня, и выше ростом, а в его манерах была особая развязность, которая, как мне казалось, должна особенно нравиться. Атя же охотно отвечала шутками на его шутки, а то и заливалась смехом, когда Латышев сыпал какими-нибудь остротами. Но на сей раз он был, видимо, очень неприятно поражен моим присутствием и не пытался это скрыть. Я же прямо исходил от внутреннего бешенства. В воздухе назревала гроза. И тут помогла благоприятствующая нам судьба. Явилось еще трое учеников Petrischule… Им надо было спешить дальше по разным местам, они скоро снялись и увлекли с собой Латышева. Не успела, однако, эта компания скрыться за дверьми, как мы, точно по уговору, упали друг другу в объятия и так уж не расставались до следующего звонка и до нового посетителя. Дальше это превратилось, от одного визитера до другого, в своего рода обыкновение; когда же совсем стемнело, я с ужасом увидал, что уже шесть часов и что я сильно рискую получить порядочный нагоняй от папы, вообще ненавидевшего опоздание к обеденному столу. Пришлось оторваться от Ати.
Однако, как я ни летел по всей Никольской и по Театральной площади, я все же подоспел только к жаркому. Вернулся я с таким лицом, с такими кровавыми губами, что мамочка воскликнула: «Что с тобой? Откуда ты?» Не скрыли родители и своего недоумения, когда я сознался, что ни у одной тетеньки, ни у одного дяденьки я не побывал, а только все эти часы «прогуливался по улицам» на морозе.
Сразу после обеда я заторопился в театр. Шла «Тщетная предосторожность» — балет, недавно тогда возобновленный, в котором Цукки была изумительно хороша (она имела в «Тщетной» даже еще больший успех, нежели в «Фараоне»), и на сей раз я взирал на знакомую сцену III акта, где происходило любовное объяснение между Лизой и Коленом, с совершенно новым чувством. Ведь нечто подобное только что испытал я сам, и губы мои все еще горели от полученных поцелуев…
Что эта моя влюбленность была иного рода и несравненно более серьезна, нежели все предшествовавшие, доказывало именно то, что я в своем обожании Ати поставил ее на недосягаемый пьедестал. Она стала для меня святыней! Я даже в воображении не допускал каких-либо «слишком свободных» желаний в отношении ее. И это был я, испорченный, скороспелый мальчишка, до того только и мечтавший о всяких самых откровенных наслаждениях!
Характерным для этого настроения можно считать следующий запомнившийся случай. С начала нового года я повадился бывать у Киндов чуть ли не каждый день — то на пути из гимназии, то по вечерам, наспех приготовив уроки. Вообще же я вовсе не считал нужным скрывать свое чувство. Я гордился им. Немудрено, что все близкие и на моей, и на Атиной стороне вскоре узнали о нашем увлечении. Большинство ограничилось легким дразнением или намеками (у нас в доме вообще не было обыкновения очень откровенно, «по-российски» высказываться по таким вопросам). Но иначе отнесся к нашему роману М. К. Истомин, ставший к этому времени постоянным завсегдатаем дома Альбера и Маши. Как я уже говорил, Истомин был исключительным шармером, но большой деликатностью он не отличался и часто обнаруживал некоторую склонность к цинизму. Вот он однажды за завтраком и позволил себе сначала втихомолку дразнить меня, а потом громогласно провозгласить: «Да что говорить, всем известно, что Шура влюбился в Атю». Ничего особенно обидного в этих словах не было, но я отнесся к ним как к чему-то возмутительному и оскорбительному. В бешенстве я вскочил, хлопнул тарелкой по столу и покинул столовую, крикнув «на уходе» что-то уж совсем несуразное. При этом, однако, меня обозлило не то, что наша тайна раскрыта, а только то, что Истомин употребил такие опошленные слова, тогда как мое чувство было недосягаемой высоты.
И действительно, благодаря этим чувствам я весь тогда преобразился и, как мне казалось, очистился. Повторяю, дурных чувств и мыслей (до того времени мне очень свойственных) я и в намеках не допускал, если же они все же сами собой рождались и начинали меня преследовать, то я всячески прогонял и подавлял их, прибегая даже и к очень мучительным аскетическим приемам. Одной из самых жестоких среди этих мер умерщвления плоти было надевание на ночь рубашки, насквозь вымоченной в холодной воде! И это зимой и при открытой форточке! Уу, до чего это было неприятно! Да и опасно. Однако какие-то добрые силы берегли меня. Даже насморка я тогда не схватил. Лишь уж очень озадаченной бывала почтенная Ольга Ивановна, которая находила утром мою постель мокрой. Не могла же она допустить, что Шуренька, став взрослым, вернулся к привычкам самого раннего детства?
Впрочем, такие соблазны являлись редко. Для меня было достаточно проводить часы в Атином обществе, сидеть рядом с ней, гулять с ней! Зачем же было портить такое прекрасное блаженство помыслами и тем менее поступками, которые могли бы снизить мой идеал?..
В первые месяцы нашего романа мы оба еще были школьниками, но школы наши находились на разных концах города. Моя Майская гимназия помещалась на 10-й линии Васильевского острова, Атино же Петропавловское училище — в центре города. Одной стороной это древнее учреждение выходило на Большую Конюшенную, другой — на Малую. Тем не менее и несмотря на дистанцию в несколько верст, мне удавалось к моменту, когда кончались Атины занятия, оказываться на бульваре, напротив подъезда женского отделения Petrischule, и тут, улучив момент, когда Атя, простившись с товарками, направлялась домой, я подходил к ней и дальнейший путь (через часть Невского и по всей Большой Морской) мы уж проделывали вместе. О, как я бывал счастлив, когда, доведя Атю до ее ворот у Поцелуева моста, я слышал из ее уст ожиданный вопрос: «Не зайдешь ли?» И, разумеется, я заходил и застревал на несколько часов. Иногда, если и уроки Володи, также учившегося в Petrischule, кончались одновременно с Атиными, он присоединялся к нам, от всего своего дружеского сердца сочувствуя нашей любви, — благо и он в это время стал усиленно ухаживать за подругой Ати, Fraulein Janke — миловидной, но пустенькой блондиночкой. Присутствие Володи давало мне более благовидный предлог для продления наших прогулок, а также к тому, чтобы проникнуть в квартиру Киндов.
Нашим тогдашним прогулкам удивительно благоприятствовала погода. Чуть ли не в конце еще февраля наступили ровные ясные дни, а в марте — неслыханное дело в Петербурге — многие (и я в том числе) заходили без пальто! Особенно запомнился вербный торг, который тогда происходил вокруг Гостиного Двора и который в этом году выдался необычайно многолюдным и разнообразным. В Вербное Воскресенье мы целой компанией бродили несколько часов по торговавшим всяким вздором лавчонкам на открытом воздухе и, забрав целую массу всяких сладостей, поехали к Киндам угощаться. Я ехал с Атей на одном извозчике, на другом Володя с Fraulein Janke, на третьем Петя с сестрой Соней. Но пиршество это не обошлось без печальных последствий. Мы приналегли (больше всего я) на какой-то «китайский пирог» (род сухого варенья или маседуана из всяких засахаренных фруктов), и на следующий день я был болен и даже не смог совершить свое ежедневное посещение Ати.
Жизнь только что помянутой сестры Ати — Софьи в общем протекала совершенно отдельно от нашей. Она бессменно жила у сестры Маши и редко наведывалась в родительский дом. Однако как раз тогда Соня зачастила, и это, несомненно, из желания как следует все разведать о нашем романе, а может быть, и воздействовать на младшую сестру — зачем-де она себя так компрометирует с мальчишкой?! Толстушка Соня, бывшая на пять лет старше Ати, имела непреодолимое влечение к сплетням, к семейным интригам. Мы не доверяли ей и остерегались ее. Однако как раз теперь Соня сумела принять участливо-медовый тон и так ластилась к Ате, так была мила со мной, что мы поддались этому, и Соню пришлось принять в нашу компанию, а это естественно привело к первым недоразумениям и первым между нами размолвкам.
Здесь уместно сказать несколько слов о той обстановке, в которой разворачивался наш роман, о том Киндовском интерьере, в котором я теперь проводил все свое свободное от школьных занятий время. Семья Киндов, состоявшая из papa, maman, Ати и двух братьев — Володи и Пети, помещалась в четырех комнатах верхнего этажа левой башни той казармы флота, которая стояла в конце Большой Морской улицы, у самого Поцелуева моста. Одна из комнат киндовской квартиры служила продолжением передней и была полутемной — тут стояли шкафы и буфет, другая — спальней Елизаветы Ивановны и Ати, третья была довольно просторная гостиная, в четвертой помещался кабинет Карла Ивановича, в пятой спали мальчики. Из спальни Елизаветы Ивановны одна из трех дверей вела прямо на чердак, тянувшийся во всю длину здания казармы. Считалось, что там водились крысы необычайной величины, и эта молва прибавляла романтической жути этому огромному пустому помещению, стоявшему без всякого употребления…
Вообще же у нас всех трех, т. е. у меня, Володи и Ати, потребность в романтике была так сильна, что мы находили таковую везде, где только что-либо представлялось мрачным и таинственным. Так, например, «совсем как в средневековом замке» представлялось нам и нижнее сводчатое помещение, откуда начиналась лестница, приводившая в третьем этаже к двери квартиры Киндов. Но в самой этой квартире романтики не было — ни в залитой светом гостиной с ее белыми обоями и белыми тюлевыми занавесками на окнах, ни в соседнем с ней кабинете. Меблировка квартиры была непритязательная и ограничивалась необходимым, если не считать обязательного высокого зеркала в простенке гостиной, длиннохвостого рояля фабрики Мюльбах, стоявшего у одной из стен гостиной, и прислоненного к противоположной стене, крытого красным сукном дивана. Здесь же висели единственные две большие акварели Альбера, подаренные им в период ухаживания за Марией Карловной. Одна изображала деревенскую дорогу, ведущую к лесу мимо золотистой нивы, другая — летний вечер на Неве, с рыбацкой тоней на первом плане и с башнями Смольного монастыря за рекой. Остальная обстановка была утилитарного порядка — стулья гнутого дерева, ломберные столы, несколько этажерок, письменный стол Papa-Kind’a, буфет, много объемистых шкафов, большой открытый шкаф с книгами библиотеки. В Карле Ивановиче была коллекционерская жилка, но его собирательство не обладало какой-либо декоративностью, он собирал серебряные и золотые монеты, разложенные по коробкам и хранившиеся в ящиках под ключом его письменного стола. Показывал он свои сокровища лишь в экстренных случаях и не без торжественности. Надо прибавить, что вся квартира Киндов содержалась в безупречной, чисто немецкой чистоте, в ней ничем не пахло, все, начиная с полов, сияло и блестело… Стояло всегда ровное тепло, но ничто не манило к неге. Диван и стулья были жесткие, газовые люстры и лампы с белыми абажурами были высоко подвешены, на окнах висели белые кисейные занавеси. Ковры в гостиной и в кабинете в обыкновенные дни убирались и стлались, только когда ожидались гости. Впрочем, мы ничего этого не замечали, да и вообще, разве нуждаются в какой-либо внешней приятности молодые люди, поглощенные своими сердечными чувствованиями?
О чем же мы с Атей могли тогда вести наши каждодневные бесконечные беседы? Это теперь невозможно восстановить, но, во всяком случае, чаще всего мы обменивались литературными и художественными впечатлениями. Я был «начинен» всевозможным чтением, да и у Ати запас литературных впечатлений оказался не менее богатым; при этом, пожалуй, этот ее запас был более систематичным и однородным, основанным на примерном изучении классиков, особенно немецких. Правда, своей матушке Атя по вечерам, приготовив уроки, имела обыкновение читать вслух, но то была всякая фельетонная чепуха, вроде романов Габорио, Понсона дю Террайля или Поля Феваля, и это чтение вовсе не трогало Атю, это было лишь исполнением дочернего долга. Свою мать Атя любила страстно и была готова ей в угоду приносить и не такие еще жертвы. Что же касается самого Карла Ивановича, то на родине, в Саксонии, он принадлежал к семье, в которой культивировалась поэзия, и один из его дядей даже прославился как поэт, в особенности как автор либретто оперы «Фрейшютц». Естественно, что Карл Иванович пожелал иметь при себе под рукой и сочинения своих любимых авторов, каковые в добротных переплетах и заполняли полки высокого шкафа. Рядом с Шиллером, Гете, Кернером и Лессингом стоял и Шекспир (в немецком переводе, с теми иллюстрациями Джона Джилберта, которые я так часто разглядывал, забираясь и в библиотеку своего зятя М. Я. Эдвардса). Именно Шекспиром особенно увлекалась Атя и зачитывалась им так, как юные девицы обыкновенно зачитываются романами.
Но характерно для нее было то, что склонность к серьезному чтению не мешала ей по-прежнему обожать сказки. Одним из самых значительных духовных звеньев, нас связывавших, была именно наша верность детству, наша способность в любой момент как-то перенестись в другой, фантастический мир. Атя, превратившись из девочки в барышню, не только не отказывалась от своих прежних любимцев; напротив, именно на них был построен и образован весь ее вкус. Сказки братьев Гримм, Андерсена, Перро, госпожи де Бомон и д’Онуа помогли ей (как и мне) создать себе известную «меру вещей». На них лучше, чем на чем-либо «более серьезном», мы научились отличать подлинное от фальши. Связывало нас и то, что мы были скорее приверженцами всего западного, заграничного, русской же литературой (за исключением Пушкина, Гоголя и Тургенева) мы стали интересоваться позже. Однако многие чудесные русские сказки Атя знала со слов своей няни, которая, выйдя замуж за денщика Карла Ивановича, еще многие годы оставалась у них в доме в качестве прислуги. Еще большим мастером рассказывать сказки был сам этот денщик Яков, которого я довольно отчетливо помню и который производил самое уютное впечатление. (Кроме классиков, в библиотеке Карла Ивановича находилось полное издание «Жизни животных» Брема (Brehm’s Tierleben) и несколько объемистых исторических трудов. И теми, и другими Атя была способна зачитываться так же, как впоследствии ее любимым чтением стали всякие мемуары.)
Близко к литературным темам были театральные. Я уже рассказал о наших коллективных посещениях балетных спектаклей (мы не отставали друг от друга в нашем культе Цукки), но часто Атя бывала с сестрами и во французском театре. Еще раз напомню, что это было время, когда совершенно еще молодой Люсьен Гитри сводил с ума петербургскую публику. Рядом с ним на подмостках Михайловского театра подвизался и чудесный гротескный комик Hitteraans (стоило ему только появиться на сцене, как весь зрительный зал рушился от хохота), милый, легкий, веселый и естественно изящный Андрие (Andrieux) и характерный Жумар (Joumard) и корректнейший Вальбель (Valbel). К манерам последнего, к непогрешимой его одежде, к его говору старательно приглядывались и прислушивались все те, кто посещал Михайловский, театр, как своего рода школу настоящей парижской светскости. Несколько позже присоединился к ним Дюмени (Dumeny), отличавшийся ювелирной отделкой своих ролей, и очаровательная Лего (Legault), которую можно поставить рядом с Режан (Regeane). В ролях grande coquette и фатальных женщин незаменима была Lina Munthe, в ролях дам полусвета обольстительная Lender, одни плечи которой действовали зажигающим образом. Наконец, в ролях благородных светских женщин и трагических королев любимицей Петербурга была красавица Brindeau, в качестве инженю — начинали тогда свою карьеру прославившиеся впоследствии в Париже Леони Ян (Yahne) и Томассен (Themassen). Наконец, смешила до слез верная партнерша Хиттеманса «комическая старуха» Дарвиль (Darville). Когда давалась какая-нибудь буффонада, в которой участвовала она, Хиттеманс, «тихоня», «страдающий любовник» Делорм, очаровательный Андрие к курьезный Жумар, то можно было заболеть от хохота!
По этим спектаклям в Михайловском театре русская публика, пожалуй, более разносторонне знакомилась с французской драматической литературой, нежели это было возможно в Париже! Ведь репертуар возобновлялся каждую субботу, благодаря чему единственный наш французский театр заменял целый десяток парижских. Каждая там нашумевшая новинка была уже через несколько недель поставлена и мастерски разыграна у нас. В то же время туалеты актрис и актеров, их манеры, их говор служили настоящей живой школой паризианизма. О, до чего прелестен, интересен и поучителен был в те годы Theatre Michel! Я собирался написать в сотрудничестве с моим дорогим другом, князем П. А. Ливеном, целую книгу о нем, о тех вечерах, которые мы проводили в его изящном зрительном зале, отделанном оранжевым штофом и серебром, но, увы, этот проект вследствие кончины Ливена не состоялся! К шарму Михайловского театра надо еще прибавить, что в антрактах маленький, но отличный оркестр играл коротенькие пьески, преимущественно французские — Делиба, Визе, Годара, Массне, Оффенбаха и Лекока. К сожалению, уже к концу 80-х годов эту «музыкальную закуску» сочли за слишком старомодную и дорогую, и оркестр был упразднен.
В то блаженное время я мог бывать в Михайловском театре каждый вторник (и редкий вторник я пропускал), так как мы были абонированы пополам с дядей Костей на ложу во II ярусе. Но и Атя, со своей стороны, бывала здесь часто — обыкновенно в ложе своей сестры Маши, на еженедельных субботних премьерах. Когда нам пьеса очень нравилась, мы шли на нее два-три раза и тогда брали себе места в партере или в «сталях». Ах, какая милая, трогательная публика сидела именно в сталях — в этих недорогих местах «за креслами», откуда было все отлично и видно, и слышно! По большей части то были все французские гувернантки, старые девы — восторженные энтузиастские поклонницы Гитри, Вальбеля и Лины Мент. Там же была абонирована и милая «тетя Лиза Раевская», к которой надлежало непременно подойти в первом же антракте и которая то, задыхаясь от восторга, шептала «до чего сегодня хорош Вальбель», то изливала свое негодование на грубые неприличия, на сальности Хиттеманса, «Дарвильши» и прочих «шутов гороховых» (что не мешало нашей состарившейся институтке хохотать над теми же глупостями и гадостями до слез).
В русском театре я бывал реже. Виной тому было, пожалуй, то, что наши домашние не особенно долюбливали пьесы Островского, Крылова, Сухово-Кобылина, находя, что это уж слишком простонародное, уж очень «отзывается людской», что иное даже «дурно пахнет». Впрочем, как раз мама, вообще убежденная поклонница всякой правды, всего реального, как раз уважала русский театр, и ей вторила ее горничная Ольга Ивановна. Но вот настоящей компании мне для русских спектаклей не было, и сам я попадал в русский театр редко. Все же я счастлив, что я успел увидеть в те годы (приблизительно до 1890 г.) в самом образцовом традиционном исполнении и «Ревизора», и «Горе от ума», и несколько драм и комедий Островского с несравненной (хоть на мой вкус чуть вульгарной) Савиной.
Атя в отношении русского театра была счастливее меня. Мария Карловна была большой его любительницей и не пропускала ни одной значительной новинки. Почти всегда она брала с собой обеих сестер. Еще реже и я, и Атя бывали в немецком театре, спектакли которого давались то в Михайловском, то в Александрийском театре.
Все же у меня остались в памяти превосходное исполнение трагиком Зуске роли Филиппа II в «Дон Карлосе», а также несколько комических пьес, необычайно бойко и натурально разыгранных. В одной из них, которая, кажется, носила название «Похищение сабинянок», выступала гастролировавшая прелестная юная актриса из Берлина. Однажды в немецком государственном театре мы с Атей увидали и тогдашнее загадочное «чудо-чудесное» — летающую по сцене танцовщицу. Звали ее Preciosa Grigolatis. Никакие бинокли не давали разглядеть ту систему проволок, благодаря которым эта особа слетала с небес и носилась в разных направлениях по сцене. Театральные люди рассказывали, что для установки этой очень сложной системы требовался долгий и кропотливый труд, исполнявшийся специалистами, сопровождавшими летунью, при соблюдении абсолютного секрета. Малейший недосмотр мог бы стоить жизни артистке, которая обладала скорее исключительной отвагой, нежели талантом.
Вредило несколько впечатлению фантастичности то, что все полеты происходили под резкими углами, что выдавало наличность раз навсегда установленной сети. Специально для этой сенсационной гастролерши была поставлена популярная в Германии, но и очень наивная пьеса «Расточитель», в которой Прециоза исполняла роль доброй, благоволящей растратчику феи.
ГЛАВА 2 Музыка у Киндов. Папа Кинд. Наша религиозность
Дом Киндов был музыкальным домом; начиная с самого Карла Ивановича, все, кроме Пети, были музыкальны, все — любители музыки. Карл Иванович олицетворял тип музыканта доброго старого времени. По приезде в конце 40-х годов из своей родной Саксонии он сразу поступил на службу в Дирекцию петербургских театров в качестве первой скрипки при оперном оркестре, а затем занял место капельмейстера, сначала в Гренадерском полку, а потом во Флотском экипаже. На этих двух постах он весь отдавался делу обучения музыке иногда и совершенно неотесанных, прямо из деревни прибывших в столицу молодцов, обнаруживая при этом как свое безграничное чувство долга, так и неисчерпаемое терпение. И ему удавалось превращать довольно быстро этих оболтусов в совершенно приличных исполнителей. Полковые оркестры под его управлением славились своей слаженностью, и их приглашали в различные театральные антрепризы, как, например, в летний театр при Зоологическом саде, где они исполняли иногда и очень сложные программы. Кроме того, Карл Иванович был вполне культурным музыкантом; он умел играть решительно на всех инструментах, знал теорию музыки назубок и горел безграничным энтузиазмом к великим композиторам своего отечества. При случае он и сам сочинял то какой-либо вальс или польку, а то и торжественный марш, которые разыгрывались оркестром «Гармонии». Любимым местом отдыха Карла Ивановича был старинный немецкий клуб «Palma» в Демидовом переулке, где у него был стол и его ожидал кружок почтенных завсегдатаев, где играли по очень экономическим ставкам в карты и в домино и где велись вполне благонамеренные беседы.
С виду это был высокий, прямой, крепко сложенный человек, рано поседевший, с крупными, энергичными чертами лица; густые, чуть свешивавшиеся усы придавали ему воинственный вид. Он слегка косил на правый глаз, что придавало его выражению несколько насмешливый характер. Впрочем, он и действительно был склонен к шутке, к безобидной иронии, но при случае мог быть и довольно суровым и даже грозно-сердитым. По-немецки он говорил очень чисто и изящно, без намека на какой-либо местный жаргон, по-французски довольно правильно, по-русски совсем неправильно, с потешными оборотами и сплошными ошибками. Своим музыкальным образованием дети были обязаны ему, но лишь одна из трех дочерей делала вполне честь своему наставнику — это моя belle-soeur Мария, закончившая свое воспитание пианистки под руководством знаменитого Лешетицкого — сначала в Петербурге, потом в Вене. Другие две дочери хорошо читали по нотам, обладали достаточной беглостью пальцев, но из них в смысле музыкальной виртуозности ничего особенного не вышло. Правда, Соня, как я уже упоминал, обладала редкой силы голосом и прошла полный курс пения, однако, будучи особой апатичной и довольно ленивой, она, выйдя замуж, постепенно совсем запустила пение. Старший сын Карла Ивановича, мой дражайший друг Володя, был исключительно музыкален, обладал прекрасной музыкальной памятью, не без блеска играл на рояле, но и ему было далеко до концертной виртуозности. К тому же в молодости он был натурой беспечной, влюбчивой и довольно легкомысленной, и ему претила всякая усидчивая работа и тем более всякое систематическое упражнение. Та же характеристика, что касается музыки, годится и для моей Ати, но все же в ней было гораздо больше выдержки, и она лучше справлялась с разными пианистическими трудностями, нежели брат. Наконец, Петя Кинд, если и не был лишен слуха, если и прошел какой-то первоначальный курс игры на рояле, то в общем он обнаруживал к музыке порядочное безразличие, причем, будучи любимцем своей матери, он, к огорчению отца, вообще отличался нерадивостью и ленью.
Музыка являлась для нас с Атей одним из главных развлечений, а также (особенно в первый период нашего романа) предлогом для встреч и для того, чтобы быть вместе. То Атя и Володя услаждали мой слух, исполняя в четыре руки разные, нам тогда нравившиеся пьесы (например, рапсодии Листа, «Карнавал» Шумана и «Карнавал» Рубинштейна), то Атя одна играла то, что она разучивала под руководством отца, а то и я подносил своей возлюбленной мои фантазии. Наши вкусы были тождественны, мы любили тех же авторов и те же их сочинения или тот же тип сочинений. Положим, рояль Киндов был еще менее звучный и еще более тугой, нежели наш Gentsch, но это не мешало нам, слушая издаваемые им звуки, наслаждаться. Папа Кинд поощрял эти наши музыкальные занятия: отрываясь от своего обычного занятия (расписания нот по оркестровым партиям), он, одетый в халат, выходил из кабинета и, ласково ухмыляясь, делал свои заключения относительно исполнения или вносил поправки в мои сочинения. Чем-то он мне удивительно напоминал камерного музикуса Мюллера из «Коварства и любви» Шиллера. Пребывал в таком же благодушном состоянии он и когда давал мне уроки, но от его детей я слыхал, что он не всегда бывал таким добреньким и, напротив, часто за уроками становился и очень неприятным; изредка он даже прибегал к линейке и больно бил ею по пальцам.
Я уже упоминал о своей страсти ко всякого рода изображениям — «картинкам», и даже высказал предположение, что в этой мании можно видеть доказательство, что я по природе живописец. Естественно, что, считая Атю своею, я с первых же месяцев нашего романа постарался заразить и ее этой манией. Очень скоро я повадился ходить к Киндам не иначе, как нагруженный всякими книгами; часть их я оставлял у Ати для лучшего с ними ознакомления на целые недели. Таким образом на том столике, который служил ей для школьных занятий, выросла целая гора всевозможных изданий — в громадном большинстве иностранных; но были и русские: например, роскошное фолио «Эллада и Рим» Фалька (перевод с немецкого), которое я себе когда-то выпросил на рождение. Величайшее счастье я испытывал, когда встречал в моей возлюбленной отклик на мои художнические восторги или когда она выражала стремление лучше, полнее ознакомиться с каким-либо явлением истории искусства. Сам я тогда только начинал усваивать кое-какие элементарные познания, но ведь известно, что лучшим преподавателем является тот, который сам только что обогатился знанием и страстно горит им поделиться. Постепенно я пристрастил Атю и к посещению музеев и выставок.
Один из любимых наших музеев был тот, что устроил обожаемый мной Григорович в залах «Общества поощрения художеств». Туда нас манил тот особый уют, с которым были расставлены коллекции старинной мебели, утвари, фаянса, бронзы. Местами эти коллекции были сгруппированы в целые жизненные уголки — казалось, точно только что давние хозяева, какие-нибудь бургграфы или почтенные ученые, покинули данное помещение, оставив на низком готическом столе увесистую Библию, медный шандал с полусгоревшей свечкой и огромную глиняную кружку. А над столом висела люстра, составленная из оленьих рогов, с фигуркой девушки, держащей перед собой пестро раскрашенный герб. Окна этой комнаты, выходившие на унылый петербургский, занесенный снегом двор, состояли из круглых рам со вставками расписного стекла. Тогда мы уже стали мечтать о том, как бы и нам обзавестись когда-нибудь такой обстановкой; хотелось, чтобы разные милые вещи не только красовались как редкости — напоказ, но чтоб они служили в домашнем обиходе…
Ныне, разумеется, я не могу смотреть на тогдашнее мое «знаточество» иначе, как со снисходительной улыбкой, но в то время я был полон гордости оттого, что разбирался в целой массе вещей, совершенно непонятных и «немых» для большинства наших знакомых. Впрочем, мы не только мечтали о чем-то, что могло бы исполниться в очень далеком будущем, но я, не откладывая, упросил мамочку сделать для меня (в душе я говорил: «для нас») ряд совершенно ненужных приобретений, в которых, увы, выразилась лишь одна моя незрелость и мое самое поверхностное понимание. Так были приобретены полдюжины резных стульев мореного дуба в стиле тех, которые изображались на картинках из быта средневекового рыцарства, куплен фонарь кованого железа с малиновыми стеклами, куплена дюжина больших зеленых рюмок для белого вина, вроде тех, которыми чокались заговорщики в третьем действии «Piccolomini», заказан был грандиозный диван красного дерева, крытый красным сафьяном (с перекидным матрацем), в стиле немецкого Возрождения. Но особенно я гордился креслом черного дуба, спинка которого была украшена маскаронами и кариатидами, ручки представляли собой крылатых драконов, а ножки покоились на львиных лапах. Уже через пять-шесть лет я вполне осознал, до чего все это было безвкусным и уродливым; постепенно я и постарался со всем этим расстаться, но тогда мы были очень довольны таким «поэтичным» обогащением нашего будущего жилища, да и эффект, произведенный этими предметами на моих друзей, немало способствовал моему возвеличению в их глазах.
Я забежал несколько вперед, заговорив, как мы с Атей мечтали о том, как сложится наша будущая супружеская жизнь. Но, разумеется, первое время нашего «согласия» мы о том не заикались. Ведь нам было всего шестнадцать лет! Род предложения я все же ей сделал, и с этого момента наши мечты приняли более конкретный и определенно матримониальный характер. Произошло же это объяснение во время одного нашего выезда за город, организованного Володей. Этот выезд слишком курьезен сам по себе, чтобы не рассказать о нем в подробности.
Весельчак и вечный балагур, Володя обратился к нам как-то с весьма неожиданным приглашением, якобы исходившим не более не менее, как от самого… испанского посланника, маркиза Кампо Саградо! Сей сановник задумал-де устроить грандиозный бал у себя на даче под Петербургом, и вот среди тысячи других приглашенных оказались, бог знает почему, и мы — совершенно ему незнакомые юнцы. Надо знать, что этот дипломат был в те годы одной из самых заметных фигур тогдашнего Петербурга, и он интересовал собой самые широкие круги общества — даже и такие, которые были весьма далеки от жизни высших слоев. Одна чрезмерная тучность маркиза обращала на него общее внимание как на улице, когда он сидел в открытой коляске (на козлах которой рядом с русским кучером восседал егерь с украшенной плюмажем треуголкой), так и в театре — в опере или в балете, когда он величественно, с ласковой улыбкой на своем широком лице, грузно шествовал к своему креслу в первом ряду. Имели мы с Володей случай любоваться им еще и тогда, когда Кампо Саградо в Страстную Пятницу, в обществе своих коллег — представителей держав католического вероисповедания — весь увешанный орденами, с большущей свечой в руке участвовал в процессии, продвигавшейся по Мальтийской церкви. (Эта католическая церковь была сооружена при Павле I в ознаменование того, что безумец-государь провозгласил себя гроссмейстером ордена иоаннитов. Она была построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги — так же, как и соседняя с ней православная мальтийская церковь. Особенной красотой и благородной роскошью отличалась внутренность этой католической церкви, пленявшая гармонией своих пропорций и своих красок, в которых преобладал густой оранжевый тон. Наша семья имела обыкновение именно эту церковь посещать во время Страстной недели; службы, совершавшиеся там, были сопровождаемы превосходным хоровым пением, в котором, как говорили, участвовали и многие артисты итальянской оперы. Помянутая же процессия протягивалась через всю церковь, вслед за священником, шествовавшим со Святыми Дарами от главного алтаря к боковой капелле, где была устроена особая декорация, представлявшая гроб господень.)
Про Кампо Саградо ходили по городу всякие анекдоты вроде того, что однажды его пришлось силой извлекать из театрального кресла, или будто кресло, на которое он был абонирован, было особой конструкции, которая могла выдержать его непомерную тяжесть. Знаменит он был и своим обжорством, и на меня особое впечатление произвел рассказ очевидца о том, как маркиз на балу у богача Нечаева-Мальцева слопал целую миску, полную трюфелей, и как при этом заметно пухла его печень! Словом, Кампо Саградо был фигурой легендарной и чрезвычайно живописной. Но был он и очень важный, недосягаемый, высокопоставленный сановник-олимпиец! И вдруг он узнал о нашем существовании и соблаговолил нас пригласить к себе! Все это представлялось совершенно фантастичным, но Володя клялся, что он не врет, объяснял с массой подробностей, как был налажен отбор приглашенных через целую сеть агентов и общих знакомых. Наконец ему удалось рассеять мои сомнения после того, что и Атя, и пассия Володи Fraulein Янке вполне ему поверили. В назначенный вечер я и явился, облекшись во фрак (он был в предшествующую зиму сшит по случаю бенефиса Цукки), тщательно причесанный и побритый. Дамы тоже были в вечерних платьях.
Однако, как и следовало ожидать, вся эта затея оказалась мистификацией. Меня действительно повезли через весь город и за Московскую заставу, но когда мы сошли с наших двух извозчиков у какого-то самого обыкновенного низкого забора, а за кустами я увидал большую, но тоже совершенно обыкновенную деревянную постройку, на резиденцию какого-либо гранда ничуть не похожую, то Володя раскрыл секрет своей шутки. Этот дом принадлежал некоему фабриканту, господину Кампосу, и эта дача была действительно за городом; выходило, что он и не обманывал меня, когда клялся, что мы приглашены к Кампос-за-градом — к Кампо-саградо! Я было обиделся, собрался даже сесть на извозчика и ехать обратно, но мои спутники так заразительно стали смеяться удавшейся шутке, что и я присоединился к ним. Какая же жила в нас святая простота и какой же я, бывший тогда очень о себе высокого мнения, был юный дурак!..
Бал у господина Кампоса, устроенный по случаю чьих-то именин, был в полном разгаре, но часть гостей рассыпалась по аллеям довольно обширного сада, скупо иллюминованного бумажными фонариками. Я ненавидел балы (особенно когда на них танцевала Атя — обнимаемая другими мужчинами!), а потому, познакомившись с хозяевами (самого простецкого вида), я сразу пошел бродить по дорожкам, причем меня одолела ужасная тоска. Тут была и досада на то, что меня так провели, и особенно я был огорчен тем, что в этом заговоре предательски приняла участие Атя. Действовал на мое мрачное настроение и расстилавшийся за садом унылый пригородный пейзаж: далекие огороды, убогие домишки, фабричные трубы, зловеще выделявшиеся на фоне зари; а на горизонте то и дело появлялись дымки поездов, маневрировавших на запасных путях. Непреодолимо захотелось поскорее выбраться из этого мещанского болота и увезти из него Атю, тем временем уже вальсировавшую под хлесткую игру Володи. Вскоре мне это и удалось, но тут не обошлось без маленького скандала, которым и завершился для нас пасторальный бал у испанского посла.
Сменив Володю у рояля, я сыграл сначала два-три модных танца, а затем без предупреждения перешел на самый залихватский трепак. Смущение танцоров было велико, но кое-кто попробовал было поддаться этой шутке. Но не сам хозяин — толстый, черномазый, довольно жутковатый господин. Он взглянул на дело иначе; ему почудилось нечто особенно обидное в моей выходке, и он накинулся на меня с грубыми ругательствами, потрясал кулаками. Я отвечал в том же духе, с треском захлопнул крышку рояля и, забыв про шляпу и пальто, выбежал из зала и помчался к выходу из сада. У калитки меня догнали перепуганная Атя и смущенный Володя (он же нес с собой мои вещи). После того, как я наотрез отказался вернуться на дачу господина Кампоса, с Володей мы расстались, и я с Атей вдвоем поплелись пешком обратно в город, причем я не переставал осыпать свою подругу упреками и изливать мое негодование на Володю. Лишь пройдя Триумфальные ворота, мы, наконец, нашли какого-то возвращавшегося из города извозчика, который, соблазненный обещанием щедрого «на-чаёк», согласился повернуть оглобли и повезти нас через весь Петербург к Поцелуеву мосту. И вот, сидя на этом тряском экипаже, мы сначала продолжали ссориться, но затем как-то совершенно неожиданно перешли на мировую, и тут я и спросил Атю, согласна ли она быть моей женой (для чего пришлось бы ждать несколько лет). Она без всякой оговорки отвечала, что согласна, и когда мы сходили с дрожек, то уже сияли оба счастьем, почитая себя всерьез женихом и невестой. Очень кстати в момент прощанья у ворот Атиного обиталища взошло за Исаакием солнце, и все вокруг нас озарилось и заблистало.
Вспыхнувшая тогда, на обратном пути с бала у «испанского посла», ссора была не единственная между нами. При нашем действительном основном согласии, все же характер каждого из нас был далеко не из самых покладистых и «удобных». Обе наши натуры имели в себе немало чего-то необузданного и своевольного. В частности, во мне сказывалась моя избалованность, что особенно выражалось в некоторых довольно неожиданных капризах и причудах. Да и Атя была очень нетерпелива, а при случае выказывала типично женское упрямство. К тому же, довольно скоро в ее семье стало проявляться противодействие нашему роману. Старались, впрочем, нас разъединить только сестры Ати. Маша видела во мне второе издание столь ей опостылевшего Альбера, Соня же была вообще склонна сеять смуту. Она мастерски умела вызывать людей на откровенность и их же затем натравливать друг на друга. Здесь открывалось для нее широкое поле деятельности. Меня она не решалась трогать, зато свою сестру буквально преследовала советами и предостережениями. Вполне естественно, что шестнадцатилетняя моя подруга иногда поддавалась наущениям старшей сестры, обладавшей к тому же большим даром убедительности. Под действием этих науськиваний и наговоров Атя, скрепя сердце, делала попытки прервать наши свидания, но вся ее решительность рушилась, как только я все же добирался до нее, а для этого существовала тысяча предлогов и способов, тем более, что ни папа Кинд, ни мама Кинд враждебных чувств ко мне не выказывали и не испытывали.
Не испытывали таких чувств к Ате и мои родители. Папа даже неоднократно похваливал ее, а мама до того баловала меня, что мне без большого труда удавалось заставлять ее приглашать все младшее поколение Киндов к нам и угощать их на славу. Иногда только мамочка обращалась ко мне со знакомым уже мне вопросом: «Что ты нашел необыкновенного в этой молодой особе?» И все же, верная своим правилам, она не восставала напрямик против моего увлечения. Мало того, по моей просьбе она сама купила на именины Ати (26 июля) и на ее рождение (9 августа) по большой и нарядной коробке конфет от знаменитого кондитера Балле, которые я и поднес своей невесте. Вероятно, мамочка считала, что все это Шуренькина блажь, что это не имеет значения и что чем меньше противодействовать блажи, тем скорее она пройдет.
Однако блажь на сей раз не проходила, принимая все более отчетливые и серьезные формы. Я продолжал бывать у Киндов почти каждый день, а когда для приличия пропускал день, то и тогда мы встречались. В зимнюю пору я провожал Атю на те уроки, которые она по окончании школы давала каким-то детям (один урок был где-то очень далеко — на Кирочной, другой совсем близко — на Торговой). Летом мы совершали вдвоем часами длившиеся прогулки по улицам и садам Петербурга, причем предлогом нам служило то, что надо было прогуливать двух прелестных Атиных собачек — бультерьеров белоснежной масти: Бойку и Мекку. Особенную симпатию мы оба чувствовали к Бойке — умнейшему, веселейшему псу — и он отвечал нам необузданными изъявлениями своей собачьей преданности. Мекка, напротив, была скорее особа глупая и с наклонностью к неврастении. Увы, во время одной нашей прогулки (уже в конце лета 1888 года) с Бойкой сделался припадок удушья; он вдруг в судорогах кубарем покатился на землю, и я не забуду того выражения смертельного испуга и мольбы о помощи, с которым он взглянул на нас, когда мы нагнулись над ним, дрыгающим и корчущимся в страданиях. Через несколько дней сделался второй припадок, и наш очаровательный песик скончался. Сколько было пролито Атей слез! Это у нее было редкостью, так как она вовсе не была плаксой и обыкновенно умела владеть своими чувствами.
Другим местом наших свиданий была… церковь. Вернее — церкви. С самых дней уроков катехизиса у пэра Женье, если я и перестал быть «практикующим», то все же я продолжал быть глубоко верующим христианином и чувствовать тяготение к церкви. Особенно мне дорого было то настроение, которое овладевало мной, когда я переступал порог Храма Божьего, все равно какого — православного или католического, или лютеранского. Меня также очень волновали разные религиозные вопросы, а в слово Священного Писания я верил абсолютно, не желая знать никаких научных проверок и толкований. Книги Штрауса или Ренана, о которых папа отзывался с омерзением, представлялись мне чудовищно-кощунственными, а когда до меня доходили слухи о каких-то археологических открытиях, опорочивающих или только частично подтверждающих то, что сказано в Библии, то я старался как-то истреблять в себе впечатления, ими производимые. При этом должен сознаться, что в смысле знакомства с Библией я не далеко ушел от того, что когда-то ребенком узнал от своих бонн, от папы и мамы, лучше же всего на уроках Е. А. Вертер в киндергартене. О них мне, кроме того, напоминали картинки в Библии Шнорра, свято мной хранимой, а в один прекрасный день и поднесенной моей возлюбленной. Основательно и как-то более самостоятельно я познал Новый Завет. Перед сном я завел себе обыкновение прочитывать по главе из Евангелия. Двухтомный экземпляр, которым я пользовался, был французским изданием романтической эпохи, переплетенным в зеленую с золотом кожу. Каждая его страница, наподобие средневековых часословов, была окружена символическим обрамлением, а, кроме того, главнейшие события были представлены в тонких гравюрах на стали.
В общем, если моя вера и была несколько прохладной и к тому же носила явно эстетический оттенок, то все же я был верующий, чего нельзя было сказать про большинство моих товарищей в школе и даже про моих братьев. Атя же была в полной мере верующей, и это, в свою очередь, отличало ее от ее сестер, относившихся безразлично к религиозным вопросам. Из родителей ее отец представлялся мне опять-таки безразличным к религии, зато мать Ати, милая Елизавета Ивановна, была глубоко религиозной натурой. Она перенесла за свою жизнь много горя, что ее преждевременно состарило, но в себе она сохраняла всю пламенность веры. Весной 1887 года религиозность моей невесты получила особую крепость после того, что она прошла катехизис у доброго пастора Мазинга и была конфирмована в лютеранской церкви св. Анны на Кирочной. То, что моя невеста была лютеранкой, тогда как я был тогда убежденным, как мне казалось, католиком, не вносило между нами какого-либо разлада. Ведь и у нас в доме царила полная веротерпимость. (Кажется, в своем месте я уже указал на то, что все мои дяди с отцовской стороны были католиками, а все тетушки — лютеранками. Это поставила условием бабушка Екатерина Андреевна, рожденная Гроппе, выходя замуж за дедушку, что произошло в 1795-м или 1796 году.) Мы могли отдаваться с Атей беседам на религиозные темы без того, чтобы наталкиваться на какие-либо догматические разногласия.
И вот как-то решено было, что по воскресеньям мы будем вместе ходить в церковь, причем, однако, произошел некий своеобразный уклон, который мне сейчас трудно объяснить. Вместо того, чтобы мне заманить Атю в мою церковь (св. Станислава или св. Екатерины), или вместо того, чтобы мне последовать за ней в ее церковь (ближайшей лютеранской была бы церковь св. Петра и Павла на Невском), мы выбрали для наших воскресных посещений Божьего Храма реформатскую церковь, лежавшую на Морской, при выходе ее к Мойке. Причина такого выбора заключалась, во всяком случае, не в том, что эта церковь находилась в двух шагах от дома Ати (и очень недалеко от моего). Скорее всего нам нравилась ее внешность, напоминавшая нашему незрелому вкусу те изображения романских церквей «кирпичного стиля», которыми мы любовались в книгах. Не забудем и того, что нам было шестнадцать и семнадцать лет, иначе говоря, что были мы сущими ребятами, а известно, что детей манит всякая новизна, все небывалое. Необычайность мы в Reformierte Kirche и нашли. Тут оказалось много такого, что нас очень заинтересовало и что даже нас первое время пленило. (Большевистские вандалы, как слышно, разрушили этот грандиозный архитектурный памятник середины XIX века — произведение архитекторов Бронштедта и Рахау. На ее месте, опять по слухам, выросло подобие какого-то небоскреба. Это жаль — Reformierte Kirche придавала большую живописность всему данному городскому пейзажу, образованному слиянием Морской улицы с набережной Мойки.)
Нравилось уже то, что, поднявшись во второй этаж и вступая в лишенное всяких украшений, картин и образов, высокое голое и светлое зало, надлежало мужчинам идти к скамьям направо, а женщинам — налево, причем каждый приходящий получал по чистенько переплетенной в черную клеенку книжке — псалтырю (при выходе она снова отдавалась причетнику). На первых порах нам нравилось и то, что вся служба была сведена к самым простым формам, в чем нам чудилась простота первых веков христианства, — к проповеди, к двум-трем молитвам, к пению псалмов всей общиной под внушительные звуки превосходного органа, а при выходе прихожан из церкви раздавались либо чудесный прелюд Баха, либо какая-нибудь его фуга (в той реформатской церкви давались во время поста превосходные концерты духовной музыки. Там мы слышали в образцовом исполнении «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну»), которые так чудесно звучали под пальцами знаменитого в Петербурге виртуоза Томилиуса.
Менее всего нам зато нравилось как раз самое главное, т. е. проповедь, хоть и держал ее славившийся своим красноречием пастор Дальтон — необычайно живой, крепкий и энергичный человек. Подчас было даже мучительно выдерживать такую речь, произносимую каким-то странным, сдавленным и все же зычным голосом, при большой затрате мимики и даже пантомимы. Для особой выразительности Дальтон метался, как безумный, на своей тесной, высоко поднятой над всеми кафедре, высоко вздирал руки, облаченные в широкие рукава черной рясы, отшатывался от барьера и снова припадал ничком к нему. То он неистово рычал, а то, напротив, речь потухала до еле слышного шепота. И не жалел себя пастор, когда из всей мочи принимался колотить себя в грудь, и эти удары гулко раздавались на весь храм. Многое было просто смешно и напоминало мне Федю Лудвига на Кушелевке. Что же касается до содержания этих проповедей Дальтона, то надо им отдать справедливость, что они были всегда прекрасно построены и вообще могли служить образцами богословской учености, причем они были начинены остроумными, меткими сравнениями и уместными цитатами из различных областей. Дальтон, несомненно, хорошо знал человеческую душу и, в частности, специфическую душу своих прихожан — почти исключительно людей очень зажиточных, а то и богатейших, приезжавших с далекого Васильевского острова на своих лошадях (перед церковным подъездом на набережной Мойки получался целый лагерь карет и открытых саней). К их кошельку он часто и обращался с особой настойчивостью, стараясь возбудить в них жалость ко всем тем, о ком уже заботились разные зависевшие от церкви богоугодные учреждения.
Наше усердие в посещении Reformierte Kirche продлилось всю зиму 1886–1887 года. Целых восемь месяцев мы не пропускали ни одного воскресенья, ни одной проповеди. Однако, в конце концов, это нам стало в тягость, и когда я как-то предложил Ате пойти вместо реформатской церкви в лютеранскую — св. Петра и Павла, то она согласилась с радостью. Для меня же это означало какое-то своеобразное возращение к той красоте и к той поэзии, в которых я так нуждался и которые я находил в католических церквах. О, как мне понравилась та изящная архитектура, которая была создана Александром Брюлловым в 30-х годах, что так отличалась от голых аскетических стен реформатской молельни! Какая это затейливая и сколь оригинальная постройка, в которой круглые своды покоятся на тоненьких высоких колонках! Сколько во всем воздуха, какие эффекты перспективы и рефлексов! Как приятно было, что вместо кафедры с черным мятущимся Дальтоном на ней (его физиономия с короткими бачками более напоминала нотариуса, нежели священнослужителя) здесь я снова увидал высокий алтарь, крест, ряд высоких зажженных свечей, прекрасную картину («Распятие» работы Карла Брюллова) и священников, исполняющих традиционные обряды. Не мог я оторвать глаз и от двух витражей, украшавших ближайшие ко входу нижние окна. На них с потрясающей мощью были представлены евангелисты (в те дни я был еще настолько несведущ, что не узнал в них копии со знаменитейших картин А. Дюрера!). Их яркие краски принимались ослепительно гореть, когда их пронизывали солнечные лучи, и все же они оставались глубоко серьезными картинами, не содержащими в себе ничего суетно-нарядного! Меня эти сиявшие образа притягивали настолько, что я даже переставал следить за тем, что говорилось в проповеди.
Пасторов было, если я не ошибаюсь, три, и они поочередно произносили свои, иногда очень искусные проповеди. Но один нас особенно трогал. Наружность его была довольно своеобразная — особенно мертвенная бледность его бритого лица, окаймленного курчавой седой бородой, придававшей ему неожиданное сходство с теми «морскими волками», которых любили в XIX веке изображать английские и голландские художники. Говорил же пастор Ферман плачущим, жалобным голосом, как-то даже мямля и растягивая слова. Все это не мешало ему быть любимым и почитаемым своей многолюдной паствой священником.
Увы, должен закончить эту главу признанием, что летом наши посещения и этой церкви стали все более редкими, а с осени мы уж и вовсе не возобновили своего усердия. Очень трудно объяснить, почему это так получилось, и вообще я не в силах найти какие-либо действительные обоснования тем постоянным колебаниям в нашей религиозности, которыми отличается все наше дальнейшее существование. Одно могу засвидетельствовать — ни я, ни Атя при этом не впали в безбожие и сохранили в отношении к таковому глубокое омерзение…
ГЛАВА 3 Мое художество
Во время наших почти ежедневных свиданий в доме родителей Ати мы не ограничивались музыкой, чтением и беседами на всевозможные темы, но я туда же перенес в значительной степени и свои художественные занятия.
Мое художество за период моих отроческих лет, приблизительно с 1883 по 1886 год, было запущено. Теперь же, благодаря нашему роману, оно как-то снова воспрянуло и ожило. Состояние влюбленности само по себе вызывает творческое возбуждение, является стремление отличиться перед возлюбленной. Влюбленность более мужественных натур толкает их на воинские или на спортивные подвиги; моей же насквозь миролюбивой натуре все насильственное претило, зато к моим услугам был мой изобразительный дар. В то же время живейший интерес, который проявляла Атя к моим успехам, являлся для меня самым значительным поощрением. Дома я бывал часто обескуражен разными критическими или скептическими замечаниями братьев. Раздражало меня и их понукание: «Ты бы, Шура, больше рисовал с натуры», «Надо с натуры рисовать, чтоб делать успехи, чтоб научиться рисовать!» Мне, недавнему вундеркинду, в детстве теми же близкими захваленному, мне, привыкшему своими рисунками вызывать восторг, было прямо оскорбительно слушать теперь такие речи; быть низведенным на степень какого-то начинающего школьника! По-своему братья были безусловно правы, но их психологический подход был неверен и вызывал чувства и решения как раз обратные тем, которые представлялись им желательными. Атя же, глядевшая на мои опыты влюбленными глазами, относилась к ним не только снисходительно, но приходила от них, и даже от малейшего пустяка, в восторг, и это естественно возбуждало мое рвение. Но я и теперь «сторонился натуры», а происходило это оттого, что при работе с натуры я натыкался на технические трудности, казавшиеся мне непреодолимыми. С другой стороны, дома я видел вокруг себя слишком совершенные образцы в работах отца и братьев. Напротив, у Киндов искусство, кроме музыки, не было чем-то домашним, обыденным, и там мое художество, лишенное непосредственных сравнений, производило более выгодное впечатление, да и мне самому оно лучше нравилось.
При моей театромании было естественно, что почти все мои художественные опыты тех лет были посвящены театру. Как раз однажды за вечерним чаепитием Д. В. Григорович стал в самых пламенных выражениях превозносить искусство великих театральных декораторов прошлого — Бибиены, Сервандони, и в заключение произнес запавшую мне в душу фразу: «Вот Шура должен был бы сделаться декоратором, пойти по стопам этих изумительных художников-волшебников». Папа поддержал приятеля, да и сам он не раз при мне с восторгом вспоминал о театральных спектаклях своей молодости и как раз о произведениях обоих Гонзаго (отца и сына), а также чудесных декораторов Каноппи и Корсини. Три великолепных рисунка того Бибиены, который работал при дворе Елизаветы Петровны, доставшиеся от деда Кавоса, хранились у отца в папках (впоследствии папочка подарил их мне; они были вставлены в рамы и служили украшением нашей столовой. Их чрезмерно большой формат не позволил мне их взять с собой в эмиграцию. Один из этих эскизов я воспроизвел в моей «Истории живописи»). Папочка сам неоднократно пробовал свои силы в декорации. У меня сохранилась очаровательная его акварель, являющаяся проектом для переднего занавеса того театра в Академии художеств, который был устроен в дни президентства князя Гагарина. Да, в сущности, театральной декорацией является и тот его «архитектурный синтез» (акварель очень большого формата), что хранится в Русском музее в Петербурге.
Первой попыткой создать нечто более серьезное (нежели прежние мои чисто ребяческие опыты, которые я делал для своих кукольных представлений) была серия рисунков, исполненных карандашом на полулистах ватманской бумаги, в которых я пытался по памяти воспроизвести постановку шиллеровской «Марии Стюарт» у мейнингенцев. Эту серию я смастерил уже во время нашего романа, и она встретила живейшее одобрение Ати. Я поднес ее папе в день его рождения 1 июля 1887 года. Добрый папочка, больше из поощрения и едва ли по убеждению, похвалил мою работу и положил ее в свою отборную папку. На самом же деле это были очень наивные и довольно беспомощные композиции — далекие от тех образцов, которые меня вдохновили. Вычурный трехэтажный камин, что служил главным украшением комнаты, в которой томилась шотландская королева, должен был бы вызвать в папе, в этом глубоком знатоке готики, смех, однако он из деликатности этого не показал.
Более трудной и значительной затеей было представить у себя дома при помощи кукол нашу любимую «Дочь фараона», к чему я стал готовиться с осени 1886 года и что было закончено и осуществлено в феврале 1887 года. Не странно ли, что 17-летний юноша, развитой не по годам, довольно начитанный, считавший себя женихом, мог заняться такой ребяческой затеей? Может показаться странным и то, что я вздумал в драматической форме представить на сцене кукольного театра то, что нас пленило в балете. Но мне уже очень хотелось испробовать свои силы в сложной и роскошной постановке; выбрал же я именно «Дочь фараона», во-первых, потому, что (благодаря Цукки) этот балет совсем завладел нашими думами, а, во-вторых, потому, что еще раньше, благодаря «Аиде» и прочтению романа Т. Готье, я воспылал особенным восторгом к древнему Египту. И отнесся я к задаче вовсе не легкомысленно; я перечел несколько серьезных книг по истории древнего Египта и делал выписки и зарисовки из тех, которые я не мог приобрести; кроме того, я побывал раз десять в египетском отделе Эрмитажа. В конце концов мне показалось, что я могу считать себя чем-то вроде знатока египетской культуры. На самом деле все это, разумеется, оставалось сущим дилетантизмом; я бы тогда едва ли сумел отличить памятник первых династий от памятников эпохи Птолемеев, но и этих моих знаний было достаточно для того, чтоб создать нечто такое, от чего и я сам, и мои друзья пришли в восторг. Скептически отнесся к моему труду один лишь дядя Миша Кавос. Он даже не досидел до конца спектакля, длившегося более двух часов, что я счел за жестокую обиду.
Текст мы состряпали вместе с Володей, тогда еще продолжавшим быть моим душевным другом, но, не владея вовсе стихосложением, я притянул к работе и старшего из братьев Фену, с которым сошелся за минувшее лето.
(В 1886 году Альбер изменил когда-то им открытому Бобыльску и несколько лет подряд снимал большую дачу в поселке, именуемом «Ораниенбаумская Колония» и расположенном по гребню возвышенности, тянущейся вдоль всего южного берега Финского залива, и находящемся на полдороге от Петергофа до Ораниенбаума. Одним боком эта колония прикасается к Лейхтенбергскому парку, другим — к Мордвиновскому парку, переходящему в южной своей части в лес. Обслуживал дачников полустанок «Лейхтенбергская площадка». От колонии до берега моря шла по окраине Мордвиновского парка широкая тенистая аллея. Вправо от нее, в парке же, была расположена та дача, которую когда-то снимали Панаевы и куда Григорович завез однажды Александра Дюма-пэра. На даче, снимаемой Альбером у обрусевших немецких колонистов, часто и подолгу гостили и Володя, и Петя, и даже Атя (хозяйской дачи по-прежнему считалась их сестра Маша, хотя разлад между ею и Альбером принял теперь совершенно явные формы). По соседству жили сестры Лохвицкие — прелестные барышни, которые обе занимались литературой и которые обе впоследствии прославились — старшая, Мирра, как поэтесса, младшая, Надя, как автор прелестных комических рассказов под псевдонимом Тэффи. Кроме того, соседями Альбера были помянутое семейство известного книгопродавца (обрусевшего француза) Фену, владелец игрушечных лавок Дойников, семейство архитектора Жибер, какие-то Каховские и еще кто-то. Все эти дачники перезнакомились между собой и подружились. В Ораниенбаумской колонии жилось тогда очень весело.)
Спектакль сошел блестяще. Так, по крайней мере, всем нам, участникам, казалось. Но для меня это был праздник вдвойне. Во-первых, я целыми днями находился в обществе Ати — у нас, у себя дома, тогда как в иное время не было возможности ее к нам затащить — ей все казалось, что наши косо на нее смотрят. А затем я действительно был горд и доволен своей работой — что я с ней справился, что довел ее до конца.
Успех моей «Дочери фараона» утвердил мое намерение посвятить себя театру. С осени же я решил, не покидая гимназии, поступить вольноприходящим в Академию художеств, где в то время еще существовал специальный класс театральной живописи. Особенно сложных формальностей на это не потребовалось, надлежало лишь сдать приемный экзамен, заключавшийся в том, чтоб в два часа времени нарисовать гипсовую голову, а затем в полчаса повторить ее на память. Тут мне пригодились уроки милого Обера, которые он давал по системе П. П. Чистякова. Состояла же эта система из перенесения на бумагу как основных линий, так и всех деталей посредством непрестанных «промеров». То и дело надо было вытягивать руку с карандашом вперед и отсчитывать, сколько раз такая-то часть содержится в какой-либо другой, принятой за основную. Эта система, основанная на чем-то совершенно механическом и лишенная всякого осознания, в сущности, плохая, нехудожественная система, но мне, никогда до того не учившемуся и никакой дисциплине не подчинявшемуся, она все же что-то дала; ее я, во всяком случае, с успехом применил на том вступительном в Академию экзамене, и возможно, что именно благодаря ей мой рисунок оказался удовлетворительным. Бюст, который надлежало срисовать, — был головой Сократа, и я в этом увидал добрый знак, так как переживал эпоху особого преклонения перед греческой культурой, а к Сократу и к его учению питал род нежности.
Другой совершенно посторонний факт, случившийся в ту же пору (летом 1887 года), я был склонен считать за некий перст судьбы. В нашем доме освободилась в верхнем этаже угловая квартира, и вот только что тогда прибывший по приглашению театральной дирекции французский художник Левот возгорел желанием в ней поселиться. Когда я узнал, для чего приходил к папе этот пузатенький, «краснорожий», ужасно картавивший и оглушительно громко говоривший иностранец, и когда я узнал, что родители мои не склонны сделать ему ту уступку на квартирной плате, на которой он настаивал, — то я пристал К маме, чтоб эта уступка была сделана. Я уже про себя решил, что, живя с господином Левотом под одной крышей, я смогу сделаться его завсегдатаем, а то и помощником, что я получу от него ценнейшие наставления, секреты, в которые меня не смогли бы посвятить академические профессора Бочаров (превосходный пейзажист) и Шишков (специалист по архитектуре и по стилям). На самом деле и тот и другой были (как оказалось впоследствии) и талантливее и тоньше Левота, но то были необычайно скромные, даже застенчивые люди, державшие себя скорее на манер каких-то ремесленников, трепетавших перед начальством. Напротив, monsier Levot всем своим развязным стилем как бы доказывал, что он сам себе закон, что своим искусством он владеет как никто и что никаких соперников он не боится.
Родители вняли моим убеждениям и уступили Левоту. Цепкий француз в течение этих переговоров несколько раз бывал у нас, и папа должен был вооружаться всем своим терпением, чтоб переносить его бестактность, бесцеремонное приставание (надо признать, что эта квартира в 5 комнат с видом на Никольский собор, вся залитая солнцем, с круглой комнатой на углу, была исключительно прелестна). Наконец, в день, когда Левот явился подписать контракт, мама — все, чтоб доставить мне удовольствие, — оставила его у нас обедать, да и не одного его, но и сопровождавшего его (в качестве толмача) молодого человека, оказавшегося начинающим художником — итальянцем Орестом Аллегри.
Таким образом произошло мое знакомство с Аллегри, ставшим впоследствии нашим верным сотрудником — исполнителем по нашим эскизам (моим и Бакста) декораций, способствовавших в такой исключительной степени успеху наших парижских спектаклей. Аллегри, который был сыном даровитого капельмейстера и когда-то славившейся своей красотой балетной танцовщицы, оказался в Северной Пальмире по прихоти судьбы, потеряв отца где-то в славянских странах и принужденный зарабатывать свой хлеб в совершенно чужой стране. В момент моего знакомства с ним ему было уже за двадцать лет и он уже успел научиться довольно бойко и почти без акцента говорить по-русски. Левот приблизил его к себе в качестве переводчика, однако Орест Карлович обнаружил сразу такую даровитость, что вскоре преуспел в трудном декораторском мастерстве и сделался главным сотрудником Левота, а затем и самостоятельным художником, исполнившим для петербургских театров очень много превосходно писанных и отличавшихся большой иллюзорностью декораций. Скончался он глубоким стариком в Париже в марте 1954 года.
Левот, и без того уже возбужденный своей удачей, так за этим импровизированным обедом приналег на наш действительно упоительный сент-эмилион, что красная его круглая физиономия, украшенная густыми белыми усами и бровями, стала малиновой, а его бесцеремонность «парижской знаменитости» (все иностранцы, попадавшие тогда в Петербург, считались знаменитыми) перешел все границы. Он принялся рассказывать при маме скабрезные анекдоты, то и дело вскакивал со своего места, чтоб, перебежав на другую сторону стола, обнять папочку, а к концу обеда он даже спел осиплым голосом какую-то дурацкую застольную песню. Вся эта хамоватость была вовсе не по вкусу моим родителям, но контракт был уже подписан. В этом контракте была сделана еще одна уступка домогательствам Левота — квартира была переименована из № 13 в № 12.
Через несколько дней состоялось вселение Левота, и я на следующее же утро посетил его, познакомился с madame Levot, статной и довольно красивой дамой, и увидал расставленные по комнатам только что прибывшие с вокзала ящики, частью вскрытые и наполовину опростанные. Содержимое их лежало тут же на полу, на стульях, на столах; то были книги всяких форматов и несколько огромных архитектурных фолиантов. Левот привез с собой целую библиотеку документов и на радостях тут же подарил мне перепечаток какого-то старинного архитектурного сборника, в чем я не преминул увидать то, что мои надежды и расчеты на Левота сбываются. Лавируя между ящиками, заглядывая то в одну, то в другую из этих книг, мне казалось, что все эти сокровища теперь, да и сам Левот поступили в мое распоряжение. На самый его дурной тон я решил не обращать внимания и счесть его за потешную оригинальность или за нечто, в чем особенно ярко выразились навыки Парижа — этого бесподобного, веселейшего, остроумнейшего города, в котором весь тон должен был походить на хлестко-бравую манеру героев Александра Дюма-отца, продолжавшего быть моим излюбленным писателем.
Увы, мои иллюзии касательно Левота длились недолго. А именно до тех пор, пока я не увидал его работ. Таковые же предстали передо мной очень скоро в виде кропотливо острым карандашом нарисованных и ножичком ажурно вырезанных макеток его парижских постановок — каких-то опер и феерий. Как игрушки то были довольно миленькие вещицы, но педантичная их сухость, отсутствие красок и светотени и, что хуже всего, полное игнорирование Левотом какой-либо характерности, не говоря уже о поэтичности, все это подействовало на меня удручающим образом. На своем веку я уже видел сценические картины куда более художественные и пленительные. Не говоря уже о шедеврах Цуккарелли, даже выцветшие от времени, доживавшие свой век, но все еще гениальные, композиции наших старинных мастеров Роллера и Вагнера, да и некоторые декорации Бочарова и Шишкова были и эффектнее, и благороднее, и поэтичнее! Дальнейший же шаг в разочаровании Левотом был сделан тогда, когда я побывал у него в той огромной казенной мастерской, которая была только что тогда пристроена сбоку Мариинского театра и была целиком предоставлена ему.
Первой заказанной работой Левота была декорация к балету «Гарлемский тюльпан». Над ним я и застал как самого мэтра, так и полдюжину прикомандированных к нему помощников, среди которых был и Аллегри. Боже! До чего то, что было разложено на полу, показалось мне тусклым и бесцветным и просто жалким, посредственным: деталей было сколько угодно, всякий тюльпанчик на цветочных полях, каждый листочек на деревьях был тщательно выписан, но от этого общее не становилось более интересным. В стороне стояли вырезанные новые макетки и они были не лучше тех парижских, которые я видел у Левота на дому.
Несмотря на полное разочарование в Левоте как в художнике, я все же еще некоторое время навещал его, но отныне только потому, что, благодаря знакомству с ним, я получал доступ в манивший меня закулисный мир. С Левотом я несколько раз спускался до самой сцены, но особенно заманчивой представлялась мне возможность прямо из его мастерской пройти на колосники, на те мостки, которые на головокружительной высоте огибают сцену и соединяются между собой посредством перекинутых с одной стороны на другую, над самой бездной, переходов. С этих колосников можно было следить за репетициями и за спектаклями. Каким очарованием окутывались долетавшие туда звуки оркестра и голосов, как забавно было видеть где-то далеко под ногами, как порхают газовые юбочки балерин или еще как целая армия плотников-машинистов ставит декорации, а бутафоры разносят свои картонные сокровища. И именно то, что сам я оставался в какой-то недосягаемости, прибавляло волшебности, освобождало эту область закулисного мира от того, что было прозаичного, суетливого, раздражающего в нижних его сферах, где воздух был отравлен всякими странными запахами, где он как бы был насыщен недобрыми чувствами и пресловутыми театральными интригами. Да и то, что меня непосредственно окружало на этих верхах, — эти кипы холщовых картин, рядышком висящих во мраке, ожидая момента, когда каждая картина будет спущена и освещена, все эти веревки и стропила, вся эта изнанка театра казались мне (как и всякому, кто впервые проникал в это царство) чем-то особенно романтичным и прямо-таки колдовским. Характер сказочности подчеркивался тем, что у замыкающего сцену брандмауера висели чудовищные фигуры: громадный кит из «Конька-Горбунка», сам Конек с сидящим на нем Иванушкой, Руслан, вцепившийся в бороду Черномора, и еще многое другое.
За разочарованием в Левоте последовало и разочарование в академическом учении. С каким священным трепетом вступал я в этот храм, в котором получили свое воспитание и мой отец и двое из моих братьев, в котором всего год назад было торжественно отпраздновано пятидесятилетие художественной деятельности моего отца. Мне казалось, что в Академии все еще живет дух, которым питались Шебуев, Брюллов, Бруни. И до чего же мне стало скучно, когда я убедился, что это не так, что в этом прекрасном и величественном здании царит та же унылая, бездарная казенщина, от которой меня уже тошнило в моей первой гимназии! Я теперь понял, что имел в виду папа, когда он, с сокрушенным видом покачивая головой, отзывался о своих академических коллегах — о бывших своих самых близких друзьях — об индифферентности ко всему Кракау, о подхалимстве перед властью ректора Резанова, о путаных интригах остальных, об их мелком тщеславии. И как раз эти папины друзья превратились теперь, после того, как я попал в их ведомство, в недосягаемое начальство, в каких-то олимпийцев. В прямое прикосновение я пришел с какими-то чиновниками, канцеляристами, надзирателями, инспекторами, и все это были люди, которым, очевидно, не было никакого дела до искусства.
Чуждым, к сожалению, оказалось искусство и моим товарищам. Эти молодые люди выбрали художественную карьеру, не имея ни малейшего понятия о художественных идеалах, они о них вообще не думали, просто не нуждались в них. Среди них выделялся некий Фома Райлян — мальчик лет пятнадцати, которому нельзя было дать больше тринадцати. Он держал себя как подобает гению, гордо, заносчиво, и за ним вечно тащился целый хвост его поклонников, с пиететом прислушивавшихся к тому, что он вещал, то сидя во время перерывов между занятиями на скамейке в коридоре, то в вонючей курилке, то в столовке. Меня он сначала заинтересовал, но, прислушавшись к этим его монологам, я удостоверился, что и его волновали не вопросы красоты и мастерства, а самые прозаические. Он с жаром громил заведовавших кухней за плохую стряпню, жаловался на то, как скудно живется стипендиатам, как мало предоставлено свободы русскому художнику, подразумевая под свободой отнюдь не свободу фантазии, а нечто совершенно иное — политическое. Иногда Райлян переходил и к критике тех или иных художественных произведений, но то была сплошная фразеология, неразбериха и безнадежный провинциализм.
Не лучше обстояло дело с самим учением. До декорационного класса, который главным образом я имел в виду, поступая в Академию, я смог бы добраться только после долголетнего подготовительного искуса. Сначала мне казалось, что я этот искус одолею довольно скоро. Мне казалось, что стоит лишь слегка приналечь, и я уже через несколько недель перейду из головного класса в фигурный, а там недалеко и до натурного, после чего я смогу пользоваться наставлениями профессоров декорационного класса. Каждый месяц (или каждые две недели — я сейчас забыл) ставилась новая «голова» (гипсовый бюст — слепок с античного), ее надлежало срисовать жирным итальянским карандашом на большом листе ватманской бумаги. Вследствие необходимости продолжать свои занятия в гимназии, в Академию я являлся лишь на вечерние классы, когда колоссальной величины бюст был освещен газовой, во много рожков, лампой, распространявшей чудовищную жару в помещении, и без того уже свыше меры натопленном. Стояла мучительная духота, соединявшаяся с отвратительным запахом, происходившим, вероятно, от малогигиенических бытовых условий, в которых протекало существование многих моих бедняков-товарищей. Первое время я был так наэлектризован, что на все это не обращал внимания. Даже потерпев некоторый конфуз от получения за свои первые две «головы» (помнится, одна была Юпитера Отриколи, вторая — Дианы) высоких номеров, приравнивавших меня к последним бездарностям, я еще не потерял бодрости. Но когда и третья моя «голова», на рисование которой я положил все свое умение, опять оказалась среди пятого десятка, то я приуныл, и приуныл главным образом потому, что не понимал, чем заслужить одобрение моих преподавателей.
Преподавателей в этом «головном» классе было четверо: три старика и один молодой. Ни один из них не делал каких-либо замечаний, не давал советов. Двое — почтенный иконописец (во вкусе Неффа и поздних немецких назарейцев) и гравер Пожалостин просто молчали, глядя на мой рисунок, третий же, медальер Пожалостин, вносил в любой рисунок всегда одну и ту же поправку — прибавляя жирным не стираемым карандашом сантиметра три затылку, отчего Луций Вер или Цицерон вдруг оказывались болящими водянкой. У этого профессора это была всем известная и совсем необъяснимая мания; некоторые ученики нарочно вперед утрировали объем задней части головы — и все же Пожалостин прибавлял еще затылка и все в той же мере. Но и молодой, наиболее общительный Новоскольцев, исторический живописец, надёжа тогдашней Академии, садясь проверить рисунок, только что-то, не выпуская дымящей сигары изо рта, мямлил, что-то про себя сверял, и, не удостоив ни одного прямого замечания, переходил к соседнему академисту.
Окончательно был я деморализован, приняв участие в композиционном конкурсе. Этот конкурс задавался ежемесячно (а может быть, раз в два месяца), и в нем мог принять участие любой академист, хотя бы и только что вступивший вольноприходящий. В этой общедоступности испытания можно было усмотреть одну из немногих положительных сторон тогдашней академической системы. Задаваемая профессорской коллегией тема (всегда исторического характера) выписывалась на листке бумаги, который клался в витрину под ключом, а рядом был раскрыт известный костюмный увраж Готтенрота на той таблице, на которой были изображены типы костюмов соответствовавшей эпохи. Витрина стояла среди довольно большой залы, все стены которой были завешаны рисунками и акварелями, заслужившими в разные времена одобрение академического ареопага. Рядом с эффектными сепиями Семирадского висела еще совершенно строго классическая акварель Солнцева, изображавшая какой-то эпизод из византийской истории, и т. д. Занятно было разглядывать эту пеструю по духу, краскам и приемам коллекцию, мечтая о том, что авось и моя композиция найдет себе здесь место… среди этих проб пера великих предшественников…
Но моя композиция, сданная на ноябрьский конкурс, не только на этих стенах не повисла, но я даже не сохранил ее у себя. До того тяжело пережил я постигшее меня тогда новое посрамление. Задано было представить сцену из драмы Пушкина «Моцарт и Сальери», а именно тот момент, когда знаменитый сановный, но и завистливый итальянский маэстро подливает яд в бокал своего гениального молодого и беспечного соперника (эта же тема была уже предложена на одном из предшествующих конкурсов, и тогда в состязании принял участие юный Врубель). Я долго бился над тем, как представить мне сцену более естественно и убедительно. Много старания положил я и на то, чтоб придать лицу убийцы смешанное выражение настороженности, ужаса и чего-то вроде жалости. Когда у меня получилось нечто, меня, наконец, удовлетворявшее (папочка помог мне справиться со складками одежд и с прическами), то я понес, не без горделивого чувства, свое произведение в Академию, где и сдал ее сторожам, на обязанности которых лежала развеска всех рисунков конкурса по залам архитектурного музея. Решение профессорского жюри я ожидал без особой тревоги — до того я был уверен, что получу если не первую, то все же одну из первых отметок. Каков же был для меня удар, когда на следующий день, войдя вместе с другими академистами в помещение, где были развешаны конкурсные работы, я насилу отыскал свой рисунок, и он оказался среди последних номеров — рядом с самыми беспомощными опытами заведомых бездарностей! Увидав это, я сразу повернулся к выходу, и даже не потрудился взять с собой моего «Моцарта». Вероятно, сторожа употребили его с другими бумажными отбросами на растопку печей.
Тут я усмотрел какую-то явную и даже намеренно нанесенную обиду, нечто вроде интриги. И не только я так взглянул, но взглянул так и папочка, всегда такой благонамеренный. Но только, понятно, целились обидчики не в меня лично: я, мелкая сошка, не мог их интересовать, а целились в моего отца, у которого в этот период сильно натянулись отношения с академическими его коллегами. Главной же причиной такой размолвки было то, что папа не скрывал своего отрицательного отношения к постройке на месте цареубийства 1 марта 1881 года грандиозного храма — и не только к действительно безобразному проекту архитектора Парланда, но и к ведению всего дела этой постройки. Вообще ходили тогда самые неблаговидные слухи, будто обнаружены чудовищные растраты и будто эти растраты производятся доверенным лицом великого князя Владимира конференц-секретарем Исеевым и при попустительстве самого великого князя. Именно Исеева папа особенно недолюбливал, и тот платил ему тем же. Вся эта история кончилась затем весьма печально и скандально. Александр III потребовал, чтоб было произведено судебное расследование, и это расследование привело к раскрытию неоспоримых хищений. Для великого князя дело закончилось бурным объяснением с братом-самодержцем, но Исеев был приговорен к лишению всех прав, и лишь заступничество великого князя спасло его от Сибири.
Этого Исеева, олицетворявшего собой самое беззастенчивое чванство, я через несколько лет встретил как-то на улице — одетого в поношенное пальто, жалкого, приниженного. Он как раз был тогда до срока выпущен из заточения и, ошельмованный, разоренный, влачил жалкое существование. Когда-то, весь увешанный орденами с красной «кавалерией» через плечо, он делал вид, что не замечает меня, теперь же он сам подошел и, сняв шляпу, с заискивающим видом попросил меня передать Николаю Леонтьевичу свое нижайшее почтение. Я так опешил, что не нашелся, что ему ответить.
Прежде чем расстаться с моими воспоминаниями об Академии художеств, в которую после случая с композиционным конкурсом я уже не возвращался, мне хочется сказать два слова о тогдашнем ректоре Шамшине — персоне не менее характерной для упадочной дореформенной Академии, нежели сонный олимпиец Резанов, нежели засохший Кракау или абсолютно чуждый искусству, ею фактически заправлявший Исеев. С виду Шамшин был очень декоративен: необычайно высокий, до странности тощий, с благородно-бледным лицом, украшенным белоснежными усами, он являл, особенно рядом с хамоватой внешностью Исеева, прямо-таки аристократический вид. Но этому внешнему впечатлению не соответствовало внутреннее содержание. Добрался он до своего высокого положения, не обладая и тенью таланта, а исключительно благодаря молчалинским приемам — где нужно низкопоклонству, где нужно лести, а где нужно, то и коварству. Таково, по крайней мере, было общее мнение о Шамшине и учеников, и готовых художников. В классах ректор появлялся редко; заглянет, постоит на пороге, точно опасаясь какого-либо враждебного выступления, тусклым взглядом обведет скамьи рисующих, что-то промямлит и, как призрак, исчезнет…
Итак, я покинул Академию, но я и вообще с этого момента стал охладевать к мысли стать художником. Однако именно тогда же я увлекся мыслью создать целый спектакль, в котором я был бы и автором пьесы (либретто), и музыкантом (композитором), и художником (декоратором), и постановщиком (режиссером). Сюжетом этого целиком моего балета я выбрал сказку из любимого Атиного сборника «Хоровод эльфов» — «Ожерелье Русалки». Сюжет походил на «Ундину» Ламотт-Фуке, вдохновившую моего любимого Э.Т.А. Гофмана, и на «Русалочку» Андерсена. Этим же сюжетом воспользовался в наши дни Ж. Жироду, пьеса которого шла с большим успехом на сцене театра Л. Жуве.
В музыке же мне хотелось угнаться за Делибом, но на самом деле то, что у меня вылилось, походило более на Пуни или Минкуса. Впрочем, два-три номера не только привели в восторг Атю и Володю, но даже заслужили одобрение самого строжайшего Карла Ивановича. Да и мне до сих пор кажется, что они были не так плохи.
Когда же в 1889 году я оценил Вагнера, а в 1890 году стал упиваться музыкой Чайковского и Бородина, перебаламутившей всю мою душу, то я бесповоротно забраковал себя как композитора и, если все же не проходило дня, чтоб я не садился за рояль, то это было скорее удовлетворением какой-то почти физической потребности «извлекать звуки», возникавшие и тут же забывавшиеся…
ГЛАВА 4 Разлад с Атей. Семейство Фену
Первая часть нашего романа в общем прошла наподобие идиллии. В современных костюмах и в современной обстановке, мы все же напоминали собой героев романа Лонга (за исключением, впрочем, эпизода с изменой Дафниса). Это не значит, однако, чтоб наша идиллия протекала совершенно безмятежно и без небольших столкновений, но то были столкновения, ссоры, быстро проходившие и забывавшиеся. Наиболее мучительную из этих драм мы пережили летом 1888 года; причина же была все та же — попытка сестер Ати нас разъединить. Моя возлюбленная всегда энергично отстаивала свою независимость, но все же от восемнадцатилетней девушки нельзя было ожидать неколебимой стойкости — особенно после того, как к осаждавшим ее сестрам присоединилась и ее мать, опасавшаяся, что здесь может повториться печальная история Альбера и Маши. Вот Атя иногда и уступала их убеждениям со мной порвать. Однажды это и привело к чему-то вроде действительного разрыва.
Маше и Соне удалось убедить Атю, и она дала себя просто-напросто увезти — в Петергоф на дачу — точнее, на дачу Альбера, который в тот год официально еще считался супругом Марии Карловны. Узнав о таком бегстве Ати, я впал в совершенное отчаяние. Проще было бы тотчас же отправиться в Петергоф, явиться в дом брата и там добиться объяснения с той, которая обещала быть навеки моей. Храбрости на такой поступок у меня хватило бы, но я был слишком удручен коварством моей возлюбленной, тем, что она от меня скрыла в данном случае самые происки сестер. Ведь очевидно, что на это ушло несколько дней, а между тем при ежедневных наших встречах она об этих интригах даже не заикнулась. В отчаянии я решил покончить с собой и выбрал для этого тот же способ, к которому я прибегнул в 1884 году, когда из письма сестры Кати я узнал, что Липа выходит замуж. Я решил себя уморить голодом. Способ этот, однако, имеет один существенный недостаток — он длителен, и то, что в первый день переносишь сравнительно легко, то на второй день и с каждым часом становится менее выносимым. Особенно мучила жажда — тем более, что стояла убийственная жара. Настоящим терзанием было утром и вечером выплевывать воду при полоскании рта…
На третий день я настолько уж ослабел, что еле плел ноги, в висках стучало и появилось головокружение. Тут мамочка не на шутку встревожилась и решила принять какие-то меры. По собственной инициативе она послала за Володей — в надежде, что близкий друг сумеет как-либо утешить и образумить. И что же, один вид этого всегда розового, бодрого, веселого юноши оказал сразу на меня освежающее действие. Часа два он убеждал меня и, наконец, убедил. Сразу же мы поехали на Балтийский вокзал, а через час мы уже ехали от станции Старого Петергофа в сторону Ораниенбаумской Колонии. Но на дачу — к врагам — я отказался идти, а послал туда своего представителя для переговоров, сам же отправился по аллее Мордвиновского парка к берегу моря, к условленному месту — у будки, служившей раздевальной для купающихся. Тут я растянулся (я еле держался на ногах) прямо на песке и стал ждать. Но в это время я уже был уверен, что все устроится, и всякая тревога во мне исчезла. Зная золотое сердце Ати, я не сомневался, что миссия Володи увенчается успехом. И действительно, не прошло и получаса, как я увидал над собой лицо моей возлюбленной, озаренное тем особенным выражением тревоги и любви, которое делало его прекрасным — прекраснее и самых прелестных красавиц. Я вскочил, и через секунду мы уже сидели обнявшись на скамеечке, прилаженной к купальной будке, — чуть не плача от радости, раскаяния и счастья.
Не теряя времени, Володя, приведший сестру, помчался обратно в мелочную лавочку, стоявшую под горой у шоссе, и вернулся оттуда со всякой провизией и с двумя бутылками моего любимого кваса. Пенистый напиток подействовал на меня лучше шампанского. Но все же удивительно, как я тогда не заболел, поглотив затем с невероятной жадностью и на совершенно пустой желудок и огромную краюху черного хлеба, и полдюжины свежепросольных огурцов, и около фунта чайной колбасы, и целую банку брусничного варенья. Поистине бог любви делает чудеса, когда обращаются к нему с пламенным сердцем, а сердца наши в тот вечер действительно пламенели. И в соответствии с ними, после душного, серого дня, все небо очистилось и пылало. Солнце озарило залегшую у горизонта тучу и окрасило огненным цветом бесчисленные облачка.
Насытившись, наговорившись, мы отправились в стан врагов — на дачу Альбера; однако теперь я чувствовал себя триумфатором, ведя под руку свою победу. Но и враги, будучи все же своими людьми, в сущности добродушными и меня вдобавок с давних пор любившими, приняли нас радушно. Состояние войны было сразу отменено и забыто. В моем трое суток пустовавшем желудке нашлось место еще для целого обеда — дом Альбера и Маши славился обилием вкусных вещей, и эта импровизированная пирушка выдалась из самых веселых. А затем нам постелили постели — мне на огромном угловом диване, который всегда сопровождал семью брата в летние резиденции, Володе на матрасе, разложенном на полдюжине стульев.
А утром на десятичасовом пароходе, забрав с собой Атю, мы плыли по водам Финского залива, и около полудня я был дома. При возращении блудного сына мамочка не могла скрыть своей радости, и возможно, что в душе она была благодарна Ате за то, что Шура вернулся довольный, здоровый и радостный. Что же касается папы, то, вероятно, он вовсе не был посвящен в эту историю, а если и был, то оценил ее по-своему — как еще одну глупую Шурину шутку.
Эта наша размолвка кончилась тогда общим примирением, но с начала осени интриги Маши и Сони возобновились с удвоенной силой. Со своей точки зрения они в своей заботе о сестре были правы, но мы относились к этому иначе, и вся эта путаница привела, в конце концов, к нашей полной изоляции. Мы отделились от наших самых близких людей. И не только Ате приходилось при этом выдерживать постоянную и непосильную борьбу, но и я повздорил с большинством своих родных и с некоторыми из самых милых друзей дома. Стоило кому-нибудь промолвить слово, выдававшее не совсем одобрительное отношение к нашему роману, как уже обмолвившемуся объявлялась с моей стороны опала, я переставал с ним разговаривать и не кланялся при встречах на улице. Вследствие этого приходилось не только отказываться от участия в наших (столь вкусных и часто очень интересных) семейных обедах, но я даже часами замыкался на ключ в своей комнате, дабы не встречаться с нашими обидчиками, если таковые были в гостях у моих родителей. Среди тех, которых я уже совершенно зря причислял к своим врагам, оказались и любимый мною и очень почитаемый дядя Костя Кавос, и мамина единственная подруга Елизавета Ильинична Раевская, и мой брат Леонтий, и его жена, и наша бывшая французская гувернантка mademoiselle Леклер, и многие другие.
Еще глупее было то, что я требовал такой же непримиримости от Ати. Ей это было труднее и тяжелее. И все же я добился того, чтобы она совершенно прекратила посещать своих сестер (Соня успела за эти месяцы выйти замуж за своего троюродного брата, Августа Августовича Вальдштейна). Все это создавало вокруг нас отвратительную и все менее выносимую атмосферу. Определеннее стала выражать свое недовольство и свою тревогу мать Ати. Мои по-прежнему частые посещения теперь только терпелись; и нередко у Ати с Елизаветой Ивановной происходили бурные объяснения.
К большому нашему огорчению, мы как раз в этот критический период лишились нашего главного союзника и доброжелателя — Володи. Бедняге пришлось отправиться отбывать воинскую повинность в Германию, так как отец продолжал оставаться в немецком (саксонском) подданстве. В те времена подобные совмещения были обычным явлением; можно было состоять, продолжая быть иностранным подданным, на русской государственной службе; следовательно, и дети до исполнившегося их совершеннолетия оставались в том же положении. (Досаднее всего для Володи, всем своим существом обрусевшего и совершенно не интересовавшегося тем, что происходит в отчизне его дедов, было то, что уже по отбытии им повинности, длившейся целых два года, Карл Иванович все же решился стать русским подданным, так что вся эта жертва Володи фатерланду оказалась напрасной. Разумеется, и он, как только вернулся, поспешил переменить свое немецкое подданство на русское.)
Что же касается до papa Kind, то, пребывая безотлучно в горних сферах музыки, занятый по горло своей службой, он предоставил издавна заведование очагом супруге и просто ни во что не вмешивался и, во всяком случае, ни ко мне, ни к дочери своего обычного благодушного отношения не менял.
Обстановка, в которой протекала наша идиллия, постепенно превратилась в нечто довольно-таки жуткое и мучительное, и такое настроение не могло не отразиться на нас самих, на наших отношениях. Мы все чаще ссорились, и хоть сладость примирения искупала до некоторой степени наши терзания, мы все же начинали от всего этого уставать. В то же время где-то в тайниках подсознательного созревала жажда свободы и требования возвращения к каким-то более нормальным условиям.
Одной из наиболее диких моих странностей того времени, тоже немало портившей нам существование, был неизвестно откуда взявшийся и до юродства доходивший аскетизм. В нашем затворничестве, в том унынии, которое являлось следствием его, я видел род подвига. Мы перестали совершенно бывать в обществе. Не говоря уже о семейных сборищах, о самых невинных вечеринках (я уже упомянул о тех приступах ревности, которые овладевали мной, когда я видел, как во время танцев Атю обнимают другие мужчины), мы даже наложили на себя запрет посещать театры и концерты. Это запрещение возникло из-за того, что я не хотел, чтоб Атя посещала французский театр в обществе Марии Карловны, а для того, чтоб ей подать пример, и для того, чтоб ей не было так обидно, я и сам отказывался от каких-либо зрелищ и удовольствий. Именно это воздержание стоило нам, страстным театралам, особенных страданий. Мне запомнился такой случай в августе того же 1888 года, когда наше воздержание от всяких зрелищ длилось уже несколько месяцев. Я шел как-то днем мимо Мариинского театра и вдруг услышал дивное густое звучание оркестра; шла, ввиду близости открытия сезона, репетиция «Руслана» в фойе театра, а окна из-за теплыни были настежь открыты. Я буквально тогда прирос к земле, остолбенел в своем восхищении, я весь превратился в слух. Сам Тангейзер едва ли мог испытать более жгучий соблазн, большую потребность — вернуться в Венерин грот, нежели я тогда… снова очутиться в креслах родного Мариинского театра. И до чего же мне захотелось услыхать тогда же целую оперу! Такие же чувства, несомненно, испытывала и Атя, но чтоб не огорчать меня, она их скрывала, заверяя, что ни в каких развлечениях она не нуждается..
В этом состоянии постоянной напряженности и натянутости, естественно, что недоразумения между нами (и самое состояние раздражительности) приняли какой-то хронический характер. Малейшее слово, не так сказанное, интонация или намек на интонацию вызывали объяснения, причем должен покаяться, что инициатором этих объяснений почти всегда бывал я, движимый своей совершенно болезненной мнительностью и ревностью. Стоило Ате запнуться, стоило ей прибегнуть к какой-либо маленькой и совершенно невинной лжи (между нами был установлен уговор ничего друг от друга не скрывать), как я уже приходил в дурное настроение, а то брала верх моя вспыльчивость, и я устраивал бурные сцены, осыпая Атю незаслуженными упреками. Вслед за такими сценами следовало раскаяние, так как я не переставал обожать Атю, знать ей цену, и все мои помыслы были направлены к ней. Все же эти терзания все более расшатывали все мое духовное существо, и я все более погружался в состояние, близкое если не к помешательству, то все же к чему-то такому, для чего тогда в употреблении было слово «психопатия» и что теперь назвали бы неврастенией.
А тут еще получилось новое обстоятельство, как будто никакого касательства к нашему роману не имевшее, которое, однако, как-то придвинуло ко мне вплотную то, что на церковном языке называется мирским соблазном. За последние годы наш родительский дом стал все более приобретать оттенок узко семейный. Людей теперь жило в квартире на Никольской улице больше, чем прежде, так как родители мои приютили у себя свою овдовевшую дочь Катю с шестью детьми и со своей прислугой, но от такого переполнения у нас не стало ни оживленнее, ни шумливее. Все шестеро детей Лансере были по натуре на редкость благонравными и тихими; все занимались по своим комнатам — девочки в одной, мальчики в другой (впрочем, старшая дочь Соня воспитывалась в Николаевском институте), не внося никакой суматохи в наш обиход. С другой стороны, повышенные расходы, вызванные этим сожительством, принуждали маму к экономии, к сокращению всего, что походило на роскошь. Мамочка не раз жаловалась на то, как ей трудно сводить концы с концами. И было видно, что родители себя во многом стесняли. Словом, дом наш в этот период (начиная с осени 1886 года) перестал походить на то, чем он был в моем детстве. Бывали у нас и теперь (почти ежедневно) гости, но это были исключительно самые близкие люди (или же папочкины утром по делу приходившие сослуживцы). Для таких гостей, все одних и тех же, не входили в большие расходы. Дом Бенуа становился постепенно из очень привлекательного чуть угрюмым и скучноватым. Я, впрочем, на это не жаловался — угрюмость гармонировала с помянутыми моими переживаниями, я с ней уживался.
И вдруг происходит метаморфоза. В этот тусклый, дремлющий мирок проникает новый элемент. Со дня на день все меняется. На лицах папы и мамы вместо выражения покорной и привычной заботы прежняя веселая улыбка, наши старые служанки затормошились, засуетились и даже как-то по-праздничному приоделись. Откуда-то стали постоянно доноситься громкие разговоры и смех, по паркету то и дело звякали шпоры. Причиной всего этого было то, что в Петербург на время переселился мой варшавский брат Николай, улан-ротмистр, и поселился он у нас на целых два года, так как поступил для усовершенствования в своей специальности в петербургскую Кавалерийскую школу. И не только наше сонное царство пробудилось, зашумело, зазвенело, но в нем появились и совершенно новые запахи — кожи от седел и сбруи, от духов и от усиленного курения. То и дело раздавались на парадной звонки, Степанида вперегонку с денщиком Коли Степаном летели по коридору отворять; слышались приветственные возгласы. То и дело в комнату, отведенную Николаю (рядом с передней), несли подносы с угощением, с винами и ликерами. А то Николай начнет упражняться на корнете или вздумает даже устроить у себя состязание в стрельбе из пистолетов. Целыми группами вваливались к нему господа офицеры: гусары царскосельские и гродненские, уланы варшавские и петергофские, гатчинские кирасиры, конногвардейцы, а в передней гремели отцепляемые сабли и шашки; вешалка и ларь под окном заваливались шинелями. И все это на фоне какого-то несмолкаемого молодого веселья.
Сначала эта суетня и возня меня раздражала и возмущала. Я слишком свыкся с нашей сонливой скукой и с моим относительным одиночеством. Я сторонился друзей брата, этих пошляков-солдафонов; однако постепенно то, что во всей этой компании было увлекательного и бодрящего, стало оказывать свое действие, и одновременно всякие формы светскости, только что мною презиравшиеся, начали меня манить и прельщать. Теперь и семейные собрания стали у нас снова походить на то, чем они были прежде, и мне захотелось на них присутствовать. Одну за другой я стал тогда отменять свои опалы, причем характерно для того благодушия, которое царило в нашей семье, было то, что все пострадавшие от моего дерзкого поведения только радовались тому, что я перестал блажить и сразу, без лишних объяснений, становились со мной на прежнюю ногу — как ни в чем не бывало. Да и я сам, постепенно оттаивая, становился прежним, склонным ко всяким дурачествам и чудачествам молодым человеком. Я возвращался в свое естественное по годам и по темпераменту состояние.
В этот же период все сильнее стало отзываться на наших отношениях с Атей то, что раздор между нашими двумя семьями, возникший три года назад, теперь крайне обострился.
Нелады, царившие между Альбером и его женой, приобрели совершенно открытый характер. Еще летом 1885 года мой брат произвел основательную перестройку в своей квартире, дабы иметь возможность иметь отдельные спальни с женой; с тех пор жизнь супругов получила полную независимость, и они совершенно перестали интересоваться друг другом. Каждый зажил своей жизнью, у каждого были свои увлечения и целые романы. Но если это ничего не меняло в положении Альбера, то естественно на положении Марии Карловны в нашей семье это стало сказываться весьма определенно. Пересуды на ее счет сделались теперь самым обыденным явлением, они стали любимым занятием наших дам, во главе которых находилась по-прежнему жена моего брата Леонтия — Мария Александровна. Эта в общем вполне достойная и даже очень симпатичная особа, примерная супруга и мать, страдала тем недугом, которым, за редкими исключениями, страдают особенно те женщины, которые не одарены счастливой, пленительной наружностью. В данном случае контраст между писаной красавицей Марией Карловной и толстенькой, как шарик, Марией Александровной был разителен, и удивляться было нечего, что последней сносить подобное соперничество было тяжело. В начале своего знакомства обе belles-soeurs скорее дружили, и эта дружба получила даже особенно тесный характер, когда семьи двух братьев поселились на двух соседних дачах — все в том же Бобыльске. Но как раз тогда же брат Мишенька вернулся из плавания, а дом Альбера наполнился моряками, из которых почти все приударяли за Марией Карловной. Тут-то и воспылала обиженная Венерой Мария Александровна завистью к своей подруге, тут вскоре и начались помянутые пересуды, причем надо признать, что Мария Карловна, благодаря своему легкомыслию и артистической беспечности, давала немало повода к возникновению и развитию всяких сплетен.
И еще способствовало ухудшению положения Марии Карловны в нашей семье то, что она вообще не любила себя стеснять общественными обязанностями. Даже в лучшие времена своей супружеской жизни она была редкой гостьей на семейных сборищах, Альбер почти всегда являлся к воскресному обеду со стереотипной фразой: «Маша извиняется, она не будет, у нее мигрень». Напротив, Мария Александровна не пропускала ни одного случая быть среди родных, ей это и нравилось совершенно искренно. Она, несмотря на свою полноту, птичкой влетала в папин кабинет и покрывала его поцелуями. Тут не было какой-либо комедии, она была так воспитана и к этому приучена, тогда как воспитание Марии Карловны в этом отношении оставляло желать лучшего… Кризис назревал еще до официального разлада между Альбером и Машей; теперь же Мария Карловна и вовсе перестала бывать у нас, и все стали привыкать к мысли, что она чужая и что поэтому она неминуемо должна будет отпасть. Никто об этом не жалел; друзей у нее среди наших не было, и даже я, когда-то ее юный друг, ее паж и чуть что не конфидент, теперь — из-за противодействия нашему роману — сделался ее врагом.
Что же касается Ати, то она и прежде неохотно и очень редко бывала у нас, и то всегда по специальному приглашению и сдаваясь на мои настойчивые убеждения. Теперь же, раз получилась между ее сестрой и моим братом совершенно явная и непримиримая размолвка, то нечего было и думать, что мне удастся эту ее стеснительность побороть. Мало того, теперь Атя совершенно перестала бывать и «наверху», у сестры. Мы теперь виделись исключительно в доме ее родителей или на прогулках, на выставках, в музеях, в церкви. Пока длилось наше аскетическое настроение — это было выносимо, это даже сообщало нашей жизни известную романтику — в духе одной из любимых наших повестей Людвига Тика «Жизнь льется через край». Мы удовлетворялись обществом друг друга. Но, когда я стал оттаивать, когда, со своей стороны, и Атю, в силу понятной реакции, потянуло к жизни более яркой и разнообразной (к тому же более соответствующей всей ее натуре и ее молодости), то наша замкнутость, в которой периоды лада и счастья все чаще сменялись подозрениями и мучительными ссорами, и ей стала невмоготу.
Прямого и систематического противодействия нашему роману со стороны близких теперь стало меньше. Все за эти три года слишком к тому привыкли, и на нас махнули рукой — мол, все равно с этими безумцами ничего не поделаешь. Но как иногда бывает, отсутствие внешних препятствий теперь скорее способствовало нашей внутренней разобщенности, и это без того, чтоб мы это сознавали. Нравилась мне Атя по-прежнему, и по-прежнему я нравился ей; в хорошие минуты нам казалось немыслимым быть одному без другого. Но в дурные минуты в каждом из нас заговаривало недоброе чувство и возникал вопрос: зачем продолжать? Зачем еще растягивать то, что уже надорвано и обречено. Да и все наше будущее теперь, чем ближе мы подходили к моменту, когда этот вопрос пришлось бы решить, представлялось слишком проблематичным и нелепым. Какая-то основа буржуазного благоразумия (в которой, однако, ни я, ни Атя не признавались — душевное мещанство почиталось нами за злейшее зло, заслуживающее особого презрения) — эта основа благоразумия и здравого смысла требовала, чтоб прежде, чем нам окончательно соединиться, нам (или, по крайней мере, мне) следует встать на ноги. Нужно было кончить гимназию (а я был только в предпоследнем классе и слишком запустил учение, чтоб надеяться благополучно перейти в последний); нужно было пройти университет; впереди стояла угроза воинской повинности, наконец, нужно было обзавестись местом службы. На все это требовались годы — шесть или восемь лет! Когда-то, в начале нашего романа, этих лет было еще больше, но тогда это нам казалось чем-то пустяковым, легко преодолимым; теперь же, сознавая, что мы и половины нашего испытания не прошли, такая перспектива стала принимать характер удручающего кошмара. Мы никогда об этом не заговаривали, но каждый чувствовал то же самое и чувствовал все сильнее и мучительнее.
Самая развязка (к счастью, не оказавшаяся в дальнейшем окончательной) наступила в середине февраля 1889 года, и произошла она скорее безболезненно, как нечто вполне созревшее и неизбежное. Подготовлением к тому было то, что я стал реже бывать у Киндов и за это не слышал от Ати упреков. Как будто это отвечало и ее желанию. А затем в один вовсе не прекрасный день между нами произошло откровенное объяснение в совершенно дружественных и ласковых тонах, но и без намека на прежнюю пламенность, которая еще недавно окутывала, пронизывала все наше бытие. Мы, как говорится, вернули друг другу свободу и расстались с решением больше не встречаться.
Описать те чувства, которые тогда овладели мной, я не сумею. Помню только, что с самого этого дня мирного расторжения в душе моей воцарилась какая-то муть, нечто до последней степени сумбурное и вздорное, а во многих отношениях и недостойное. Надлежало во что бы то ни стало забыть Атю, порвать и последние нити духовной связи с нею, еще только что представлявшиеся самой сутью моего существования. Это было очень тяжело, и периодами я страдал до безумия; ведь все мое существование было так сплетено с ее существованием. Но я был уверен, что возврата нет и не может быть. Несколько случайных и скорее смехотворных, глупейших авантюр не оказались способными меня развлечь. Попробовал я вернуться и к той особе, которая владела моими чувствами до моего влюбления в Атю; однако девушка эта, когда-то несомненно мучительно пережившая мою измену, теперь и слышать не хотела о таком воссоединении, и отсюда получились всякие длившиеся месяцами терзания, которые особенно обострялись, когда мы оказывались под одним кровом. Через подобные переживания (но о них я узнал позже) проходила тогда и Атя в первые месяцы нашей разобщенности. А затем раны у нас обоих зарубцевались, и у каждого потекла жизнь если и несравненно более тусклая, то все же в своем роде сносная.
Между прочим, в эти годы разлуки с Атей я очень сблизился с семейством Фену и не столько с тем или другим из его членов, сколько именно со всей семьей в целом. Надо признать, что эта была одна из самых достойных и симпатичных семей Петербурга, и что дом Фену (точнее, их квартира на Михайловской площади, в верхнем этаже соседнего с Михайловским театром дома) был одним из самых приятных. Хозяин дома, Н. О. Фену, владелец большого и очень популярного книжного магазина на Невском (впоследствии в этом же помещении открылся книжный магазин «Нового времени»), был прекрасно воспитанный, культурный, спокойный и приветливый господин. Это был уже пожилой человек, роста — больше среднего, худой, с окладистой седой бородой. Он мог сойти за типичного русского интеллигента. К сожалению, Николай Осипович страдал глазами и ему грозила в будущем слепота. Papa Fenoult был французского происхождения, но maman Фену была из хорошей, чисто русской дворянской семьи. Небольшого роста, полная, очень живая, очень любезная, она обладала даром заставлять собравшихся у нее людей чувствовать себя как дома, в то же время сохраняя тон, принятый в хорошем обществе.
Детей у супругов Фену было трое. Старший Женя (о нем я уже упоминал выше) в это время был студентом (юристом); второй — Саша — учился в Кадетском корпусе. Женя — такой же рослый, как отец и такой же тощий — держался несколько гордо и был из всей семьи наименее общительным, что, однако, не мешало ему принимать участие во всем том, что творилось с прочей молодежью. Раздражало несколько то, что он не столько говорил, сколько вещал. Напротив, Саша был самого веселого десятка юноша, почти мальчик, обожавший всякие затеи и принимавший в них самое усердное участие. Он был очень музыкален, и это ему пригодилось впоследствии в эмиграции, когда он в Лейпциге оказался заведовавшим знаменитым издательством русской музыки Митрофана Беляева. Единственной дочери Фену было в то время около восемнадцати лет. Это была барышня, несколько склонная к полноте и вообще по наружности напоминавшая мать. Я скоро подружился с этой живой и очень неглупой Наташей, находя большое удовольствие бывать в ее обществе.
Собирались у Фену каждое воскресенье вечером, и с осени 1889 года я почти ни одного воскресенья не пропустил. Мне там было весело, привольно, совершенно по душе. И что только собиравшаяся там молодежь ни вытворяла! Как от всего сердца и с каким хорошим вкусом, при полной свободе (и без малейшей жеманности) все веселились. Разыгрывались шарады (целые импровизированные иногда и очень удачные пьески), музицировали то всерьез, то в шутку; все наперерыв показывали свои светские таланты. А то вдруг брало верх какое-то чисто детское начало, и все начинали играть в прятки, в палочку-воровочку и т. п. Общество состояло почти исключительно из молодежи, из учеников Кадетского и Пажеского корпусов, из гимназистов и лицеистов старших классов, из студентов. Дам (барышень) было почти столько же, сколько молодых людей.
Такое мое посещение приятнейших вечеров у Фену продолжалось около двух лет, и оно продолжалось бы и дальше, если бы я не стал замечать, что родители Наташи начинают посматривать на меня как на возможного жениха, да и у самой милой девушки мне почудились нотки, как будто выдававшие ее особые чувства ко мне. Наташу я в высокой степени ценил, лучшего друга я не мог бы себе желать, но она мне не нравилась. Словом, я почувствовал, что во избежание усугубления недоразумения мне пора ретироваться. И сделал я это со всеми предосторожностями, не желая обижать ни прелестную девушку, ни ее родителей, ни братьев. Иногда впоследствии я встречался то с Женей, то с Сашей, но Наташу я так никогда больше и не видел.
В последний раз Женя Фену побывал у нас в Париже незадолго до своей смерти. Когда-то он был, как говорят, блестящим и влиятельным чиновником в каком-то министерстве, а тут в Париже занимал скромное место в какой-то конторе. Саша, когда окончил Кадетский корпус, поступил воспитателем в Пажеский корпус и в качестве такового был одно время прикомандирован к особе сиамского принца Чекрабона. Сашу со своим принцем можно было часто видеть в театрах и в концертах. Живя в Лейпциге, он иногда по делам Беляевского издательства приезжал в Париж, и тогда я его встречал у Н. Н. Черепнина. Это был прежний, почти такой же юный с виду, розовый, веселый и остроумный Саша, но почему-то, как я его ни зазывал к нам, он этим приглашениям не следовал. Возможно, что у них в семье в отношении меня сохранилось отношение если и не как к изменнику, то все же как к человеку, в чем-то перед семьей провинившемуся… Очень жаль…
ГЛАВА 5 Без Ати. Праздник у Е. В. Сабуровой
Отвлечься от мыслей об Ате помогло мне еще то, что я теперь вошел в более тесное и частое общение с друзьями. Мучительный период разных сердечных переживаний совпал с расцветом нашего товарищеского кружка, получившего тогда более организованный характер. Напомню, что мы — я и Нувель — не были, вследствие наших плачевных успехов, допущены до выпускных экзаменов, и именно это позволило отставшему от нас по болезни Диме Философову нас догнать. Отныне ядро кружка составляли мы трое с прибавлением еще Скалона и Калина. Осенью 1889 года мы, гимназисты 8-го класса, сочинили полушуточный устав для нашего общества и дали ему тоже полуироническое название «Общество самообразования». Через несколько же месяцев к нам присоединился ученик Академии художеств Левушка Розенберг (Бакст), а через еще несколько месяцев, ранним летом 1890 года, вступил в наш кружок и приехавший из Перми Сережа Дягилев. Осенью 1890 года мы всей компанией (кроме академиста Бакста) поступили на юридический факультет, и все в том же составе мы проделали в университете переход к молодости.
Выше я уже упомянул о том, что, не допущенные до экзаменов, мы с Валечкой получили тогда, в 1889 году, полноту свободы в распоряжении нашим временем, тогда как до тех пор чудесный период весны бывал каждый год испорчен необходимостью готовиться к переходным экзаменам из класса в класс и самыми экзаменами. Не помню, как Валечка использовал эту свободу, что же касается до меня, то я не могу сказать, чтоб я провел это время с большой пользой и с большим достоинством. Напротив, я точно тогда поглупел на несколько лет. Только что я был еще чем-то вроде «кандидата на положение серьезного супруга и отца семейства» и лишь не зависящие от меня обстоятельства помешали мне соединить себя навек с любимой девушкой, а тут я снова превратился в какого-то легкомысленного бездельника, жаждущего отведать всяких удовольствий и склонного без толку убивать время. С другой стороны, в этом сказывалась и необходимая для моего душевного здоровья реакция. Не по годам было повзрослевший, я ощущал теперь в себе некое непоборимое брожение молодости.
Одним из характерных проявлений этого моего тогдашнего поглупения и возвращения в детство было то, что я пристрастился к фланированию, к бесцельным, бессмысленным прогулкам. И происходило это фланирование всегда вдоль набережной Невы — от Дворцового моста до Летнего сада и обратно. Некоторым моим извинением может служить то, что стояла ровная, изумительно мягкая и теплая погода, что никогда еще с таким прекрасным величием Нева не несла свои волны, никогда на ее просторе не дышалось так легко. Особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами, а также от зрелища прекрасной архитектуры дворцов; никогда я с таким любопытством не вглядывался в лица встречных гуляющих, или тех, кто в элегантных экипажах неслись мимо по торцовой мостовой. И как отрадно было с набережной повернуть в Летний сад, деревья которого порошились ранней зеленью, а освобожденные от своих деревянных будок мраморные боги снова улыбались лучам нежного солнца.
Среди постоянно встречавшихся меня особенно заинтересовала одна скромно одетая девица. Далеко не красавица, но необычайно милая, с чертами лица, отдаленно напоминавшими мне Атю. Ее всегда сопровождала сестра помоложе и почтенная гувернантка. Какую-то странную притягивающую силу изъявлял один цвет лица моей незнакомки — матово-бледный, чуть даже болезненно-серый, а также какая-то рассеянность во взоре. Я вскоре узнал, что это две княжны Имеретинские и что как раз со старшей, которая мне так нравилась, произошел минувшей зимой случай, сделавший ее героиней городских пересудов. На каком-то большом балу танцевавший с ней моряк князь Э. Э. Белосельский вдруг запустил руку в ее открытый корсаж и положил ей туда не то комок мороженого, не то охапку конфет. Это был большой скандал, дошедший до государя, вызвавший высочайший гнев и повлекший за собой строгое дисциплинарное наказание. Но меня эта уродливая история взволновала как-то особенно… Непростительно гнусен был ничем не вызванный поступок (вероятно, сильно подвыпившего) озорника, и я готов был при встрече его побить, и в то же время меня не оставляла соблазнительная мысль о том, что должна была почувствовать рука обидчика, когда она проникла в самое нежное, сокровенное и прелестное в теле девушки!
Мой воображаемый этот роман продлился всего недели три, не более (за это время почки в Летнем саду успели едва распуститься), и он ровно ни к чему не привел; я даже не познакомился с предметом моих воздыханий. Да и позже за всю мою жизнь я никогда больше с княжной Имеретинской не встречался, хотя и был знаком с ее теткой, рожденной графиней Мордвиновой, и бывал у последней. Рассказал же я об этом эпизоде только как о чем-то характерном для тогдашних моих нелепых переживаний, почему-то запомнившемся мне с удивительной четкостью. Лицо княжны, ее томный взгляд, что-то жалкое, что мне чудилось в ее лице, я вижу и сейчас, более чем через шестьдесят лет, точно я только что вернулся с прогулки по Дворцовой набережной…
В этот же период и в той же обстановке весной 1889 года я возобновил знакомство и род дружбы с моим бывшим товарищем по казенной гимназии Саней Литке. Он был классом старше меня, но его брат был со мной. Началось с того, что только что поступившая в дом Альбера горничная — воспитанница графини Литке, матери Сани, — передала мне от него поклон. Его же я через день или два встретил как раз на прогулке у Горбатого моста через Зимнюю Канавку. Тут же Саня познакомил меня с целой группой своих приятелей — все студентов 1-го курса, корчивших из себя представителей золотой молодежи. Во главе этой компании стоял некий Коврайский — старейший из нас (ему было не более двадцати четырех лет), очень полный, уже обросший светло-русой курчавой бородой, он был одет в безупречно сшитый сюртук на белой подкладке, а околышек его фуражки был почти черного цвета вместо форменного голубого. Коврайский был необычайно важен и величествен, речь его была медленная, размеренная, и такой же размеренной была его походка — носками наружу. Он поглядывал на собеседника свысока, делал вид, что не слышит вопросов, когда же сам их задавал, то не ждал ответов. Должен признаться, что все это импонировало мне и что я чувствовал себя удостоенным какой-то чести, когда он изредка, не ворочая головой, обращался ко мне. Уже одно то, что на мне не было мундира, а на боку не висела шпага, сообщало моему сознанию известную приниженность. Его манера со мной означала, что я должен почитать себя счастливым, что меня, еще гимназиста в скромном партикулярном платье, он терпит в своем обществе. И я действительно был польщен этим, и тон у меня с ним становился чуть подобострастным, за что, уходя из-под чар его великолепия, я себя презирал.
Саню Литке я как будто не видал с самого того года, когда я покинул гимназию Ч.Л.О., и тогда ему было лет пятнадцать, но за эти шесть лет он мало изменился. Это был все тот же очень приятный, чуть женоподобный юноша, говоривший самые скабрезные вещи с видом невинной девушки.
Он приходился родственником Чайковскому и, когда знаменитый композитор приезжал в Петербург, Саня неизменно поступал в штат тех молодых людей, которые окружали Петра Ильича и исполняли разные его поручения. Уже одно это могло служить подтверждением молвы о специальных наклонностях моего товарища. Позже рассказывали, что и причина его ранней смерти была чрезмерная отдача себя тем же наклонностям. Настоящей дружбы между нами не завязалось в гимназии, но и теперь дружба с ним не клеилась. В нем было что-то ненадежное, хоть и незлобивое, но все же коварное — тоже черта женственная. Такого же мнения о Сане был и Дима. Он и ему приходился далеким родственником, вследствие чего Литке бывал на разных семейных сборищах у Философовых. Примером его ненадежности может служить то, что Саня пригласил меня гостить к себе на дачу под Ревелем, а когда я туда явился, то его там не оказалось. К счастью, в лице его матери и его двух братьев я встретил самый радушный прием и благодаря этому провел три очень приятных дня в Ревеле, тогда еще сохранявшем вполне свой старогерманский облик.
По дороге в Ревель брат Николай завез меня к товарищу по полку барону К. Деллингсгаузену. Мне очень нравился этот добрейший Карлуша, бывавший у нас к завтраку по воскресеньям, и мне очень понравился весь строй его усадьбы, выдержанный в подлинно благородном стиле, характерном для тогда еще верного старинным традициям балтийского дворянства. В родовом имении Деллингсгаузенов все было солидно, удобно, просто и превосходно налажено. Такой же балтийский «баронский» стиль я нашел затем в Ревеле, вкушая свой ужин — вкусный, сытный и необычайно дешевый — в загородном ресторане (под открытым небом), в котором я познакомился с целым рядом очень приятных, очень воспитанных и очень простых людей с самыми звучными и историческими фамилиями, приходившими туда со своими семьями. Это все были помещики, приезжавшие на день — на два из своих деревень подышать городской атмосферой, повидать близких, сделать нужные закупки. Доставил мне много наслаждения и сам Ревель. Я был влюблен в романтику специфически-германского типа, и эти городские стены, эти круглые башни, эти узкие кривые улички, эти готические церкви, среди коих выделялась неуклюжая огромная масса церкви св. Олая, как бы предвещали мне те художественные радости, которые через год я вкусил, когда оказался в Нюрнберге, во Франкфурте, в Майнце. Одно меня огорчило: я не увидал мумии герцога де Круи, которая хранилась с самых дней Петра I в церкви св. Николая и показывалась, говорят, за деньги — в оплату тех долгов, которые числились за герцогом в момент его кончины. Но я был утешен великолепием громадного резного готического алтаря, снятого и перенесенного в сакристию той же церкви (с бесчисленными золотыми фигурками и с дверками, покрытыми живописью отличного ганзейского мастера). Большое впечатление произвела на меня и внутренность рыцарской церкви в Вышгороде с ее стенами, сплошь покрытыми гербами балтийского дворянства.
Саня Литке обладал природной элегантностью и поэтому уже (и за свой графский титул) был включен в свиту Коврайского, зато совсем не обладал какой-либо элегантностью третий студент той же компании Митя Пыпин — сын знаменитого историка. С ним я тоже был знаком с самых дней Цукки (поклонником которой он состоял), но в минувшем марте я возобновил с ним приятельские отношения, встретившись на мейнингенцах. Попал же он в эту компанию золотой молодежи скорее всего по какому-то недоразумению, подчинившись какому-либо очередному влиянию. Митя был маленький, кургузый человечек, чуть на один глаз косивший, необычайно милый и услужливый, скромный, конфузливый, молчаливый, с вечной застенчивой улыбкой на устах. Его я ценил не только за его отзывчивость на всякие художественные явления, но и за его музыкальность. Временами он мог быть и полезен, так как он быстро читал по нотам, гораздо лучше Валечки, а для меня люди с таким даром являлись кладом, так как ведь я сам этим даром не обладаю, и для меня было пыткой что-либо разобрать.
Еще ценнее мог бы быть в том же смысле еще один из моих новых знакомых студентов — Володя Направник, сын превосходного музыканта, маститого дирижера русской оперы Эдуарда Францевича, но почему-то Володя держал меня тогда на дистанции не то из какого-то чванства, не то просто потому, что ему что-то во мне не нравилось. Вот он был отличный музыкант, не чета ни Пыпину, ни Валечке, и уже считался тонким, очень сведущим в теории, знатоком. Позже в жизни мы неоднократно с Володей встречались, и к этому времени он успел в корне изменить прежней своей манере относиться к мне. Напротив, он много раз напрямик изъявлял желание сойтись со мной поближе, но это не удавалось, а почему, я не сумел бы объяснить. В эмиграции нашему сближению помешало просто то, что он поселился в Брюсселе, а я в Париже…
Было в той же компании еще три-четыре человека, но из них я запомнил только одного Левенштерна, да и то, вероятно, потому, что этот юноша, жгучий брюнет, носил такую звучную фамилию — однако без какого-либо титула или хотя бы словечка «фон». Возможно даже, что он был еврейского происхождения. Звучности фамилии отвечало изящество манер и отлично сидевший на нем мундир. Рядом с Коврайским Левенштерн был наиболее декоративен в стиле золотой молодежи и, вероятно, в этом была причина, почему Коврайский терпел его общество и даже оказывал ему род предпочтения. Кажется, и Левенштерн был музыкален, во всяком случае, музыка играла в этой компании, которую я одно время считал своей, значительную роль. Этот общий к музыке интерес побуждал нас гурьбой отправляться в Павловск, славившийся своими симфоническими концертами.
Эти выезды за город бывали только по вечерам, тогда как днем к четырем часам полагалось всем являться к Горбатому мосту, причем существовал и особый пароль, которым надлежало обмениваться при встрече. Здороваясь с приятелем, произносилась фраза «еще одна шпага», а те, кто уже были на месте, отвечали: «закалывается». Запомнилась и другая фраза, совершенно неизвестно откуда взятая; это была даже не фраза, а что-то вроде заголовка какой-то пьесы или оперы: «Герцог и музыкантша». Она произносилась по всякому поводу, вернее без всякого повода, но часто, и опять-таки служила чем-то вроде пароля. Самый обмен этих фраз как бы намекал на существование некоего тайного братства и на принадлежность к нему. Однако никакого общества на самом деле не было, но все эти юноши-студенты имели основание упоминать о шпаге, так как неотделимой принадлежностью студенческой формы была та бутафорская шпажонка, что была воткнута в сюртук на левом боку. Увы, я еще не имел чести принадлежать к благородной студенческой корпорации, и вообще моя фигура должна была выглядеть среди этих «почти военных» жалким штатским, штрюком и филистером. Одно то, что подобная ерунда меня тогда тешила или огорчала, показывало, до чего я поглупел, а главное, до чего я был выбит из колеи и растерян. Помнится, что мне особенно тогда захотелось поступить в университет, но манила меня вовсе не наука, а все этот ребяческий соблазн гарцевать в мундире и при шпаге! Желание это через год исполнилось, но уже тогда, когда период растерянности миновал. Напялил я на себя и мундир поневоле, так как того требовал закон, но и уже без всякого удовольствия — напротив, ко мне вернулось все мое прежнее отвращение ко всякой обязательной форме.
«Дружба» (в кавычках) с компанией Сани Литке и Коврайского была одним из проявлений моего возвращения к светской жизни, другим таким проявлением было мое участие в устройстве того праздника, который с благотворительной целью устроила у себя Е. В. Сабурова — одна из видных представительниц петербургского высшего круга. Это происходило еще во время поста, а может быть на Фоминой — и во всяком случае, несколько раньше моего периода фланирования. Самое деятельное участие в организации праздника принимал брат Альбер, но участвовал в ней и его приятель, художник Эрнест Карлович Липгардт. Альбер, озабоченный тем, чтоб меня развлечь и ввести в петербургское общество, притянул и меня к делу, представив меня «тете Леле», как называл Е. В. Сабурову весь город и даже те, кто не состоял с ней ни в малейшем родстве. Всем была хорошо знакома никогда не сходившая с ее уст приветливая улыбка (улыбка любезная, но немного застывшая), все знали, что единственным ее никогда не сменяемым головным убором был гладкий золотой обруч, охватывавший ее волосы. Все знали и уважали ее кипучую деятельность дамы-благотворительницы. И в данном случае стало известно, что, несмотря на далеко не великолепные средства Сабуровых, у них готовился праздник, который будет настоящим событием и на который соберется избраннейшее общество, включая и нескольких «высочайших».
Квартира Сабуровых в первом этаже дома на Сергиевской превратилась на те две недели перед праздником в подобие, по выражению самой Елизаветы Владимировны, караван-сарая. По всем комнатам (кроме бережно оберегаемого кабинета ее супруга, известного государственного мужа) сновали молодые люди и молодые девицы — некоторые действительно занятые под руководством старшей дочери Сабуровых каким-либо приготовлением к фестивалю, большинство же делавшие вид, что они чем-то заняты. Моему брату Альберу было тут широкое поле для его деятельности ловеласа. В доме тети Лели Альбер был своим человеком и позволял себе, не стесняясь, расставлять сети; он ухаживал сразу за тремя прелестными особами: за мадемуазель М., за пикантной очень юной графиней К. и за дочкой госпожи Т., прибегая со всеми к своему любимому способу прельщения. Он садился за рояль, и из-под его трепетных пальцев лились восхитительные импровизации, в которых лейтмотивы вагнеровских «Нибелунгов» причудливо сливались с самыми страстными призывами к любви из «Фауста». То одна, то другая из юных красоток подпадали под эти колдовские чары и застревали подолгу у рояля.
Впрочем, эти музыкальные чары происходили только в короткие периоды отдыха, и не для них Альбер, отрываясь от своих бесчисленных и сколь разнообразных дел, являлся на Сергиевскую. Он взял на себя устройство большинства тех живых картин, которые должны были быть гвоздем вечера, и вызвался собственноручно написать для некоторых из них пейзажные фоны, тогда как другими заведовал Э. Липгардт. Сам Альбер, впрочем, отдавал этой живописи минимум времени, предварительно распределив работу между тремя помощниками, одним из коих был я. Он задавал нам определенную на день задачу, поправлял то, что было уже сделано, а иногда несколькими ударами кисти оживлял общий эффект, придавая всему законченность.
Происходила эта пачкотня не в квартире самих Сабуровых, а этажом выше, в большой зале, предоставленной на это время отбывшей за границу княгиней Кропоткиной, приходившейся ровно над парадными комнатами Сабуровых. Места здесь было довольно, и вот Липгардта можно было здесь видеть среди горшков клеевых красок и ушатов воды с самого утра до темноты. Ему никто не помогал, но так как наши холсты были разложены на полу тут же, то я мог постоянно следить, до чего старательно он относится к своей работе. В течение этих дней совместного труда я успел особенно оценить этого милейшего человека. Эрнест Карлович был тогда далеко не старый человек (ему в 1889 г. минуло сорок два года), но его впалые и прямо-таки провалившиеся щеки, его изможденное лицо и невероятно тощая фигура, напоминавшая классический образ Дон Кихота, вызывали представление о каких-то долгих годах лишений, о каком-то многолетнем подвиге аскезы. Это не помешало Липгардту со временем пережить многих своих с виду куда более крепких коллег, а усердие его во все времена было совершенно баснословным. Кропотливейшее старание приложил он и на выписку (по фотографии) ликов ангельского хора верхней половины знаменитой картины Рафаэля в болонской Пинакотеке, представляющей св. Цецилию и несколько других святых.
С первых же минут беседы Липгардт обнаруживал редкую воспитанность. Это сказывалось и в чуть аффектированном французском (или немецком) говоре, и в том, как он мило коверкал русскую речь. Во всем сказывался подлинный балтийский барон, утонченнейший господин. Баронская воспитанность проявлялась в Липгардте и в его чрезвычайной и всегдашней готовности быть всем и каждому полезным, а также в том умении, с которым он поддерживал разговор на любую культурную тему. О живописи великих мастеров он говорил с неподдельным трепетом, отдавая безусловное предпочтение итальянцам — как флорентийским кватрочентистам, так и художникам XVIII века с Тьеполо — его богом — во главе.
Я чувствовал особое расположение и даже род высокопочитания к Эрнесту Карловичу еще и потому, что я узнал об его биографии. Он был сыном богача-помещика и знаменитого собирателя художественных редкостей барона Карла фон Липгардта, славившегося на весь образованный мир 60-х и 70-х годов своим вкусом и своей эрудицией. Но сокровища отца достались не сыну, а были завещаны племяннику, и это потому, что наш Эрнест навлек на себя родительский гнев, изменив вере отцов и перейдя в католичество. Этот проступок он еще усугубил тем, что женился в Париже на своей модели — особе добрейшей и преданнейшей, однако несколько уж слишком простоватой. Именно вся эта романтика вселяла в меня какое-то нежное участие к художнику, которого я к тому же уважал и за его мастерство, вернее, за его чисто европейский характер живописи. Импонировало моей наивности и то, что Липгардт когда-то в Париже состоял постоянным сотрудником еженедельного журнала «Courrier de Paris». Да и мюнхенский меценат граф Шак, поставивший себе задачей открывать юные таланты, отметил Липгардта, заказав ему еще в начале 70-х годов несколько копий со знаменитых картин.
В 1889 году Липгардт мог еще считаться новичком в Петербурге; он всего года два до того переселился из Парижа. Выставлял он мало, зато был завален заказами светских портретов, из которых, увы, лишь немногие могут почитаться удачными. Писал он и плафоны, и стенные панно с аллегорическими и мифологическими сюжетами, но и тут надо сознаться, что эти декоративные изделия столь же мало походили на страстно им любимых венецианцев, как его портреты на Тициана, Рубенса или хотя бы Бонна. Вся культурность Липгардта, вся его выдержка и все его усердие не могли заменить недостаток подлинного таланта, не могли ему помочь побороть какую-то «тугость» воображения, какую-то безнадежную сухость техники и живость красок. Слушать его, когда он восхищался великими мастерами, было одно наслаждение, он действительно глубоко понимал старых мастеров (по какой-то дикой причуде он ненавидел голландцев и даже Рембрандта: пожалуй, в этом сказывался фанатик-католик), но когда от слушания его речи переходило к смотрению его собственных картин, то возникало недоумение: как странно сочеталось в одном человеке столько чуткости и такое отсутствие самокритики? Видимо, своих дефектов сам он не сознавал и чистосердечно считал себя преемником величайших художников былых времен.
Тут же я хочу представить другого художника, завсегдатая салона тети Лели и вообще высших столичных кругов — Михаила Яковлевича Вилье, хоть он и не принимал участия в приготовлениях данного фестиваля. Это и не могло быть, так как в натуре Вилье не было ни импровизаторской легкости Альбера, ни желания соперничать с великими мастерами Липгардта. Вилье был исключительно занят акварелями, которые он выписывал с величайшим старанием и в которых он старался с фотографической точностью изобразить разные исторические памятники. Как раз в те годы он заканчивал заказанный ему государем альбом видов приволжских древних городов. Над этой задачей он трудился уже несколько лет, но эти его работы на выставках не показывались, что только способствовало распространению всяких фантастических слухов, будто эти акварели не имеют себе ничего равного — до того верно передана малейшая деталь, до того все убедительно. К сожалению, эти слухи не оправдались впоследствии, когда наконец эти акварели Вилье предстали на суд публики. Исполнены они действительно с предельным старанием и не без мастерства, но они лишены всякой радости, они, что называется, замучены, и хорошие фотографии куда лучше служили бы назначению сохранить в образах чудесные произведения отечественного зодчества.
Вилье лично не участвовал в приготовлениях к празднику у Сабуровых, но это ему не мешало чуть ли не ежедневно навещать квартиру тети Лели и быть очень заинтересованным ходом работ. Его зычно сдавленный голос раздавался через все комнаты, как только он вступал в переднюю. Между ним и Липгардтом было мало общего. Их разъединяло то, что, казалось бы, должно было их сближать. Оба занимали аналогичное положение в обществе, и это создавало род ривалитета. В моем же представлении я их как-то соединяю потому, что к обоим я питал своего рода культ, и в основе этого культа лежало все то же мое преклонение перед заграничным.
Вилье был не то внучатым племянником, не то приемным внуком знаменитого лейб-медика Александра I, сопровождавшего государя в его путешествии в Таганрог и присутствовавшего при последних минутах жизни Благословенного. Этим же баронетом Вилье была основана клиника на Выборгской стороне, носящая его имя; бронзовая статуя перед главным фасадом увековечивает его память. Одно это происхождение создавало Михаилу Яковлевичу известный ореол. Но к этому надо прибавить, что прежде чем совершенно отдаться искусству, он служил в аристократическом Преображенском полку, и это объясняет количество и качество его общественных связей.
Михаил Яковлевич вел размеренный образ жизни. Все утро он корпел за мучительным выписыванием своих акварелей для помянутого альбома, остальное же время он посвящал своим знакомым, а таковых у него по городу были сотни. Завтракал и обедал он почти всегда в гостях. И всюду Михаил Яковлевич был желанный гость, так как он нес с собой какую-то особенную специфически английскую атмосферу. Эта атмосфера была насыщена своеобразным юмором, и она же излучала какие-то весьма заразительные запасы бодрости. С другой стороны, удивительная память Вилье, содержавшая целую энциклопедию анекдотов (часто довольно соленых, предназначенных для мужской компании, частью элегантных — для общества дам), его способность находить в один миг удачные каламбуры и реплики отводили ему видное место среди салонных остроумцев и остряков.
Самая внешность Вилье была чрезвычайно характерна и замечательна. Она наводила на сравнение его с Фальстафом (минус тучность) и особенно с Генрихом VIII. Роста он был выше среднего, сложения массивного, носил он свою ежиком подстриженную и украшенную рыжей бородой голову как-то гордо и даже вызывающе. Своеобразная походка на широко расставленных ступнях вызывала представление о каких-то рыцарях, привыкших носить тяжелые доспехи. Однако легкость, с которой его бульдожья физиономия складывалась в веселую улыбку, причем вся его кажущаяся свирепость переходила в ласковость, свидетельствовала о перевесе в его натуре большого благодушия. Надо еще сказать, что, не будучи вовсе тучным, Вилье производил впечатление чего-то чрезвычайно громоздкого и увесистого.
Весь в целом Вилье — громадный и чуть косолапый и чуть бестактный — должен был раздражать утрированно вежливого и утонченного Липгардта. Должна была шокировать и решительность его выступления, резкость его все же вполне «бонтонных» манер и больше всего его неистово оглушительный громкий голос. В свою очередь должна была действовать на нервы Вилье тихоструйная речь и подчеркнутая деликатность обращения Липгардта. Бывало, раздражение вдруг и прорвется в каких-то невзначай, на ветер сказанных, однако язвительных замечаниях.
Одной из слабостей Михаила Яковлевича было чтение вслух. Он действительно читал хорошо, т. е. выразительно, передавая нюансы в говоре разных персонажей; он мастерски владел паузой, мастерски распоряжался темпом, то ускоряя его, то замедляя. И все же лично я не выносил чтения Михаила Яковлевича. Несмотря на мое любование всем Михаилом Яковлевичем «в целом» (меня пленяли его заграничность, его культурность, его энциклопедические познания), меня раздражала нарочитость этого чтения, то, что он как бы становился между автором и слушателем и как бы хвастается своим положением человека, понимающего такие тонкости, которые другим недоступны. Кроме того, зычный и в то же время чуть сдавленный характерно английский голос, нравившийся мне в простой беседе, становился, когда Вилье читал, невыносимым. Но стоит ли вспоминать о слабостях человека, представлявшего собой такую живописность, такую сочную и яркую, в одно и то же время внушительную и потешную фигуру?
Я сделаю здесь еще одно отступление от своего рассказа. Раз я заговорил о Вилье, то как же мне не упомянуть о другом петербургском англичанине — на сей раз даже и в малой степени не обрусевшего и сохранившего до конца, в полной неприкосновенности свой национальный как моральный, так и физический облик. И вспомнить здесь о нем будет потому к месту, что и он вращался в высших кругах, и даже в самом высшем кругу, что и он до некоторой степени может быть отнесен к разряду светских художников — хоть он по профессии и не был художником и лишь в часы досуга любил заниматься акварелью. Впрочем, он выставлял свои произведения на выставках нашего «Общества акварелистов» и был избран в члены этого общества — не столько, однако, за свои маленькие и очень миленькие картиночки, сколько ради своего совершенно исключительного положения. Мистер Хис (Heath) был воспитателем детей цесаревича Александра Александровича, впоследствии императора Александра III. Нам же он приходился чем-то вроде свойственника, так как он был женат на сестре жены моего дяди Жюля Бенуа. У нас его и величали поэтому дядей — uncle Charles; старшая же его дочь, милейшая Эдит, скончавшаяся в юности, была одной из участниц моих детских игр. Сестра ее Ольга — в замужестве Мордвинова — унаследовала отцовский художественный талант и выработалась в хорошую рисовальщицу-портретистку, специализировавшуюся на детских портретах. В эмиграции я неоднократно с ней встречался у наших общих знакомых супругов Нуфлар (Noufflard). Ольга Карловна скончалась в этом (1954) году в своем маленьком поместье в Баварии.
Хис был типичнейшим бриттом. Широкоплечий, массивный, со светло-серыми, вечно как-то вопрошающе или удивленно поглядывающими глазами, с толстым, вызывающе торчащим носом, с бачками в виде котлет, с волосами, причесанными хохолком, он всем своим видом — и говором, и манерами — напоминал о некоторых слегка юмористических персонажах Диккенса, не то сидящих у себя на земле gentlemen-farmer’ов, не то отставных мореплавателей. Когда я впервые увидал его (это было в раннем детстве), он еще казался молодым, но довольно скоро Хис поседел, однако поседел как-то очень декоративно. Рейнолдс или Реберн наверное с упоением написали бы по портрету с такого великолепного представителя расы. Типичность Хиса сказывалась, между прочим, особенно вкусно в момент, когда он на семейных пиршествах брал на себя роль форшнейдера и с удивительной методой разрезал ростбиф или индейку. Его соперником в этом занятии мог считаться только мой зять Матью Эдвардс. Глядя на то, как оба они священнодействовали, слюнки текли.
При дворе цесаревича все души не чаяли в Хисе за его простодушно-веселый, ровный и бодрый нрав и за самые его чисто-английские чудаческие, чуть комические повадки. Не изменилось отношение царской семьи к Хису и после вступления на престол Александра Александровича. Напротив, Хис продолжал состоять неотлучно при детях государя и сопровождал своих августейших воспитанников всюду, причем он чувствовал себя в придворной атмосфере как рыба в воде. Он обладал большим природным тактом и при совершенной свободе манер никогда не забывался, всегда с достоинством оставаясь на своем месте. Надо при этом вспомнить, что в интимности Аничковского дворца или Гатчинского замка царила действительно полная непринужденность. Царская семья проводила время не в мраморных раззолоченных чертогах, устроенных в тех же резиденциях в иные, более пышные эпохи, а в тесных комнатках с низкими потолками, самый вид которых располагал к буржуазной уютности. Со своей стороны Чарльз Хис буквально обожал своих суверенов, видя именно в этой их простоте свидетельство душевного благородства, искренности и всего того, что ему было особенно по душе. Но, разумеется, Хис при этом меньше всего задумывался над тем, насколько такая атмосфера годилась для воспитания будущего императора-самодержца, насколько мог насквозь пропитавшийся ею человек быть затем подготовлен к тому, чтоб играть наиболее тяжелую и опасную из всех жизненных ролей, роль, требующую змеиной мудрости и… чисто актерской выправки.
Я только сказал, что Хис был акварелистом; он даже был членом императорского «Акварельного общества». Но акварельки Хиса были особого рода. Начать с того, что он мог изготовить дюжину их в один вечер, не вставая с места. Это были все виртуозно набросанные и «залитые» пейзажики, в которых повторялись одни и те же мотивы, а именно те впечатления, которые он когда-то получил в горных местностях своей родины. Покрытые лесами скалы и холмы, бурные потоки, зеркальные отражения в озерах, и все это заволоченное туманами, через которые здесь и там пробивается хмурое солнце. Формат этих изделий был обыкновенно крошечный (выставлял он их по нескольку в одной раме), и чаще всего Хис пользовался для них светло-серым бристолем. К сожалению, при всей миловидности, а порой и эффектности этих картинок, во всех них слишком явно сказывался известный раз навсегда усвоенный прием, известный трюк. Ничто не свидетельствовало о каком-либо вдумчивом отношении Хиса к искусству; со временем такой простоватый маньеризм приедался и переставал вызывать к себе доверие. Царские дети с самых ранних лет именно на таком вздоре (или еще на сентиментальных картинках в «Graphic» и в «Illustrated London News») учились понимать изящное. Немудрено, если в них так и не зародилось и не выработалось какое-либо серьезное отношение к искусству. Они были склонны на все художественное творчество глядеть через очки доброго дяди Чарльза; для них искусство осталось невинным и пустяковым баловством.
Но вернемся к вечеру у Сабуровых. В сущности, это был если и не совсем заурядный, то все же очередной монденный праздник, каких в каждом сезоне было несколько, но для меня после долгого периода известного отшельничества он действительно означал какое-то мое возвращение к светской жизни. И не то, чтоб я стал с этого вечера вообще каким-то завсегдатаем салонов; после нескольких подобных выездов мне такой способ тратить время наскучил чрезвычайно. Однако кое-что в жизни «монда» (т. е. высшего света) меня притягивало, и я нет-нет в нее окунался. Во всяком случае, я перестал ее дичиться и сторониться. Больше всего меня пленил тон (еще тогда царивший вполне) хорошего общества, который я после нескольких промахов до некоторой степени и усвоил. Мне нравились также некоторые отдельные личности, с которыми было приятно встречаться и которые в силу своей воспитанности как-то лучше и быстрее схватывали разные интересовавшие меня вопросы.
Самый вечер у Сабуровых прошел блестяще. «Империалы», или «высочайшие», явились в значительном количестве, и это придало собранию большую торжественность.
Мне показалось, что я попал на какой-то куртаг Екатерины II, когда явилась сама древняя великая княгиня Екатерина Михайловна (как-никак прямая внучка Павла I и правнучка великой императрицы) и когда она, стоя среди гостиной в ожидании открытия праздника, принимала по очереди выражения высокопочитания разных допущенных до ее особы лиц. Был и я представлен ее высочеству, и я удостоился милостивой улыбки и даже какого-то вопроса. Рядом с ее величественной фигурой, одетой в старомодное желтое платье с массой кружев, стояла ее дочь принцесса Елена Георгиевна, впоследствии вышедшая замуж за принца Саксен-Альтенбургского. В другом конце гостиной — высокий, белокурый великий князь Константин Константинович — «августейший поэт К.Р.» и президент Академии наук — беседовал с двумя профессиональными поэтами — князем Церетели и графом Голенищевым-Кутузовым. Сенсацию произвел еще приход трех черногорских княжон (воспитывавшихся в те годы в Смольном институте), из которых одной было суждено стать итальянской королевой. Тетя Леля сияла счастьем — праздник удался на славу, народу собралось гибель.
Без особого запоздания началось и то, что составляло главную приманку праздника. Вслед за «высочайшими» толпа гостей двинулась в зал и расселась на золоченых креслах и стульях (многие же остались стоять и даже не уместились в зале) перед завешанной алым бархатом сценой, на которой стали возникать в соответствующих стильных обрамлениях одна за другой «живые картины». Прелестная брюнетка Безобразова предстала в образе крестьянской девушки с картины В. Каульбаха «Дикая розочка», пышная блондинка графиня Блудова до полной иллюзии напоминала «Лавинию» Тициана; не дрогнув, она продержала золоченое блюдо с (картонными) фруктами в течение многих минут, так как пришедшая в восторг публика требовала, чтоб ей еще и еще показали эту картину. В «Святой Цецилии» (по Рафаэлю) особый успех выпал на долю могучей фигуры господина Столыпина, изображавшего св. Павла, а серафическое личико художника Коли Бруни как нельзя более подошло к роли юного св. Иоанна. Но эффектнее всего получилась картина «Пастораль» (по Буше), в которой так милы были в своих пастушеских робронах две хорошенькие девушки. Одна из них, графиня Комаровская, мне особенно понравилась; мне даже показалось, что я чуточку в нее влюбился…
Каждая картина сопровождалась музыкальным номером, причем, если память мне не изменяет, при появлении Лавинии старинную итальянскую арию спела сама принцесса Елена Георгиевна, которая обладала действительно прекрасным голосом и которая с мастерством заправской певицы специализировалась на Бахе и других самых строгих классиках. И небольшие антракты между картинами были заполнены музыкой. В роли одного из таких антрактовых забавников выступил сын А. Г. Рубинштейна, симпатичный, но, кажется, довольно беспутный малый, Яшка Рубинштейн. Он лихо или томно пел цыганские романсы под собственный аккомпанемент на гитаре. Мой пуризм, однако, не мог одобрить вторжение такого вульгарного, уличного элемента в столь блестящий ансамбль. А между тем именно Яшке выдался наиболее шумный успех и, вероятно, наиболее искренний. Кажется, вечер закончился танцами, но, так как я не танцевал, то мне этот финал не запомнился.
ГЛАВА 6 Высшее общество. Мое увлечение Вагнером
Праздник у Сабуровых оттого и оставил во мне такое яркое впечатление, что это было в первый раз, что я оказался в «свете» и провел даже несколько дней в его особой атмосфере. В этом же 1889 году мне выдался случай еще увидеть вблизи высшее общество, мало того — царский двор и самого царя. В середине июня я в Петербурге был свидетелем одного из последних торжеств в духе и в масштабе великолепных придворных празднеств XVIII века. Праздновалось бракосочетание брата государя, великого князя Павла Александровича, с принцессой греческой Александрой Георгиевной. На сей раз свадебный обряд был совершен в Казанском соборе, и туда при развертывании церемониала, установленного еще при императрице Елисавете Петровне, были доставлены высоконареченные, прибывшие в сопутствии всей царской родни из Петергофа морем и высадившиеся на Английской набережной. Оттуда свадебный поезд проследовал по главным улицам столицы — по Большой Морской и по Невскому проспекту.
Узнав об этом маршруте высочайшего въезда, я попросил папу дать мне возможность полюбоваться таким небывалым зрелищем, и он устроил меня в одном из окон в музее Григоровича — в доме «Общества поощрения художеств». В смысле видимости нельзя было найти что-либо лучшее. Нескончаемая процессия протянулась у самых наших ног; силе впечатления способствовало то, что Большая Морская — улица не очень широкая. Одно было неприятно — это духота, что воцарилась в довольно низкой зале, в которой набралось с полсотни таких же любопытных, как я, причем окна, несмотря на жару, запрещено было полицией открывать из всегдашнего опасения покушений. Пришлось в таких условиях высидеть три часа (на ожидание ушло первых два), и под конец это показалось довольно тяжким.
Самое шествие было задумано с намерением вызвать впечатление предельной роскоши, представляя собой сплошной поток золота: длинный ряд золотых карет, золотых ливрей, золотых мундиров; в шествии участвовало несметное количество действующих лиц и еще в пять раз больше статистов. И, однако, не могу сказать, чтобы в целом зрелище получилось вполне удавшимся. Произошло нечто аналогичное с тем, чему десять лет до того я был свидетелем при погребальном шествии императора Александра II. Как тогда, так и на сей раз шествие не тянулось (как рисуют на картинках) одной стройной и непрерывной лентой, а оно то и дело тормозилось, происходили остановки, иногда и очень длительные. Одна часть наезжала на другую, и только благодаря мастерству кучеров, конюхов и скороходов удавалось избежать сцепок и путаницы. Вид самих парадных карет, иногда прекрасно расписанных и всегда густо раззолоченных, сверкавших на солнце своими зеркальными стеклами и увенчанных букетами перьев, — производил волшебное впечатление, и еще прекраснее были ровно ступавшие белоснежные лошади в богатейших сбруях, которых вели под уздцы ливрейные слуги в белых париках. Но я бы сказал, что и эти исторические, баснословно роскошные экипажи производят в музеях большее впечатление, фантазия там добавляет то, чего вот здесь в действительности не оказалось, и это несмотря на яркий свет и на безоблачную лазурь.
Прямо смешными казались налаживавшие порядок церемониймейстеры, скакавшие взад и вперед вдоль поезда (из них далеко не все были хорошими наездниками) и довольно жалкий вид являли старые камергеры и гофмейстеры, которые с непривычки должны были чувствовать себя крайне неуютно, сидя верхом на исполинских конях…
Через два или три дня должен был состояться парадный спектакль в Мариинском театре. Папа в качестве члена Управы получил место в ложе, предоставленной группе лиц, стоявших во главе городского самоуправления. Но ему не хотелось среди летнего отдыха облачаться в мундир и подвергаться этому испытанию, и, благо билет не был именным, он его предложил мне. Сначала я отказался, так как собирался гостить на даче у Скалонов в Финляндии, но затем все обернулось иначе, и я все же на спектакль-гала попал.
Дело в том, что мне сразу же не по вкусу пришлось пребывание у моих друзей. Не понравилось уже то, что я должен был разделить крошечную спальню с самим Колей и с его братом, еще менее, что, вернувшись среди дня с прогулки, я нашел на предназначенном мне диване огромного грязного пса. Не понравился мне и самый хмурый, чахлый, убийственно однообразный финский пейзаж. Требовалось пройти версты три, чтобы наконец добраться до какого-то обрыва, с которого открывались довольно живописные дали. Ночь все же я там провел, но громкий храп двух братьев и назойливое гудение комаров не дали мне заснуть. Встал я сонный, вялый, в скверном настроении, и тут «вспомнил», что мне необходимо быть к следующему вечеру обратно в городе, а до того я должен был еще заехать к другим друзьям — к Фену, жившим в это лето тоже в Финляндии в верстах пятнадцати от Скалонов. И Коля, и его матушка несколько удивились такой мгновенной перемене программы и стали уговаривать меня остаться, но я настоял на своем и силу сопротивления нашел как раз в надежде, что я еще поспею в Петербург к празднику.
К Фену в Усть-Кирке я добрался к ночи, наняв финский тарантас, и застал там многочисленное и развеселое общество. Справляли чье-то рождение или именины. Подъехав к крыльцу очень привлекательной дачки, я услыхал звуки рояля и неистовый топот танцующих; из кухни неслись соблазнительные запахи. Меня, которого вся компания собравшейся молодежи знала как большого затейника и забавника, встретили восторженно и сразу засадили на смену maman Фену за игру вальсов и мазурок. После раннего и очень вкусного ужина опять плясали, играли в салонные игры и снова плясали. Так и не заметили, как надвинулась и разразилась гроза. И вдруг над самыми головами раздался оглушительный удар грома, после чего что-то тяжелое рухнуло на землю. То была вековая липа, которая легла рядом с дачей, образовав своими ветвями и листвой род непроходимой чащи. Еще милостью божьей она не свалилась на самый хрупкий старенький домик, иначе она раздавила бы его и нас погребла бы под обломками. Никому после того не захотелось продолжать пляски, но веселье все же продлилось — в новой форме. Оставшимся ночевать гостям мужского пола постелили матрацы и сено в гостиной, а дамам предоставили диваны и составленные стулья в соседних комнатах. Но не скоро все заснули, завязались разговоры, шутки, споры, из соседних комнат звучал почти непрерывный смех. Лишь когда вставшее солнце осветило комнаты, все по команде повернулись, каждый на другой бок, и в течение трех часов предались, но уже не ночному, а дневному отдыху. С утренним поездом я уехал, и вот на всем пути почти до самого Петербурга я был поражен зрелищем ужасных последствий пронесшегося урагана. На версты и версты по обе стороны железной дороги земля была усеяна соснами — точно какому-то великану пришло в голову разбросать много, очень много коробок колоссальных спичек.
Вечером того же дня, облекшись во фрак (сшитый на бенефис Цукки) и напялив папин старомодный цилиндр, я отправился пешком без пальто в Мариинский театр, до которого, как уже известно, было от нас рукой подать. Контроль у входа я миновал благополучно благодаря папиному пригласительному билету, а раз попав внутрь театра, я уже без труда поднялся до ложи Городской управы, где и воссел среди папиных коллег, с которыми я почти со всеми был знаком. У каждого из этих убеленных сединой господ на плечах лежала тяжелая серебряная цепь — знак их достоинства, а на фраках и мундирах были натыканы звезды, кресты и медали; тем более странным должен был казаться мой юный вид и нагота моей одежды.
Не успели все рассесться, как оркестр заиграл «Боже, царя храни», поднялся занавес, и выстроившиеся на сцене артисты и хор присоединились к оркестру. Это означало, что государь и государыня вошли в среднюю ложу, но наша ложа была над ней, и от нас то, что в ней происходило, не было видно. Зато весь партер и все бывшие в боковых ложах теперь стали спиной к сцене и лицом к царской ложе. Гимн завершился троекратным «ура», после чего начался спектакль.
От самого представления, однако, у меня не осталось никакого определенного воспоминания. Кажется, был дан акт из «Жизни за царя» (или из «Руслана») и какой-то балет, зато незабываемое впечатление произвело на меня то, чему я был свидетелем в фойе во время антракта. Тут я увидел в непосредственной близи русский двор, о котором светские хроникеры говорили, как о чем-то сказочно-роскошном. Увы, такое близкое с ним ознакомление не пошло ему на пользу. Состав этой густой и толкавшейся в разные стороны массы не отличался ни красотой, ни элегантностью, ни величественностью, ни какой-либо породистостью. Большинство присутствующих состояло из согбенных под бременем лет сановников и из большей частью маленьких, толстеньких, а частью из тощих и комично высоких старых дам. Не спасали ни золото мундиров, ни орденские ленты, ни удивительно расчесанные бороды и бакенбарды (многие царедворцы еще придерживались моды времен Александра II), ни бриллианты и жемчуга, лежавшие на иногда и очень объемистых, но серых от пудры и абсолютно не прельстительных персях. И держала себя эта архивельможная масса совсем не так, как подобало бы носителям высших чинов и представителям знатнейших фамилий! Все довольно бесцеремонно толкали друг друга, особую же сумятицу производили те, что пробивались к буфету, тянувшемуся во всю ширину фойе вдоль окон. У самых же столов происходило настоящее побоище, до того всем хотелось выпить бокал шампанского или отведать царских гостинцев!
И вдруг все остановилось, притаилось, и в наступившей тишине резко раздался удар об пол прикладов часовых, охранявших вход в среднюю царскую ложу. Двери ложи распахнулись, выбежали церемониймейстеры с длинными тросточками, и за ними появился государь, ведя под руку новобрачную. Тут мне посчастливилось: в коловороте, получившемся от того, что надо было дать дорогу высочайшему шествию, направлявшемуся к зале, примыкающей к левой боковой царской ложе (там было сервировано вечернее угощение), я был оттерт до ступеней лестницы, поднимавшейся в верхние ярусы. Оттуда немного сверху стало особенно хорошо все видно. И тут я впервые увидал Александра III совершенно близко. Меня поразила его громоздкость, его тяжеловесность и — как-никак — величие. До тех пор мне очень не нравилось что-то мужицкое, что было в наружности государя, знакомой мне по его официальным портретам (один такой портрет висел в актовом зале казенной гимназии, другой в большом зале Городской Думы). И прямо безобразною казалась мне на этих портретах одежда (мундир) государя — особенно в сравнении с элегантным видом его отца и деда. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, ее грубая простота, и хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всем этом забывалось, до того самое лицо государя поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд его светлых (серых? голубых?) глаз. Проходя под тем местом, где я находился, он на секунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю то, что я тогда почувствовал от встречи наших взоров. Этот холодный стальной взгляд, в котором было что-то и грозное и тревожное, производил впечатление удара. Царский взгляд! Взгляд человека, стоящего выше всех, но который несет чудовищное бремя и который ежесекундно должен опасаться за свою жизнь и за жизнь самых близких! В последующие годы мне довелось несколько раз быть вблизи императора, отвечать на задаваемые им вопросы, слышать его речь и шутки, и тогда я не испытывал ни малейшей робости. В более обыденной обстановке (при посещении наших выставок) Александр III мог быть и мил, и прост, и даже… уютен. Но вот в тот вечер в Мариинском театре впечатление от него было иное, — я бы даже сказал, странное и грозное.
Высочайшее шествие шло (довольно быстрой поступью) парами. Если я не ошибаюсь, вторую пару составляла императрица Мария Федоровна под руку со своим братом — королем эллинов Георгием. За ними следовали члены царствующих домов России, Греции, Дании и разные иностранные принцы. Пробыв за вечерним чаем с полчаса, высочайшие тем же порядком вернулись в среднюю царскую ложу, и при этом втором проходе я мог уже более внимательно вглядываться в отдельные лица. Особенно меня тогда поразила матовая бледность прелестного лица и юных плеч новобрачной, что-то трогательное, точно обреченное было в ее выражении. Это придавало Александре Георгиевне совершенно особое, трогательное обаяние. Замыкали шествие знакомые мне по вечеру у Сабуровых сыновья великой княгини Екатерины Михайловны герцоги Мекленбург-Стрелицкие — долговязый и симпатичный Георгий и младший брат его, весь какой-то сжатый, замкнувшийся Михаил.
С помянутым только что герцогом Георгием я вскоре после того вошел в личный контакт, и рассказом об этом случае я закончу свое повествование о том, как «я вернулся к светской жизни».
Альбер был очень ласково принят при дворе великой княгини Екатерины Михайловны; он часто там бывал, обедал и завтракал. И вот ему вздумалось угостить у себя на даче (в Ораниенбаумской Колонии) ответным обедом старшего из сыновей великой княгини. Его королевское высочество (так величали в России герцогов Мекленбургских) «милостиво приняло приглашение», а я как раз тогда гостил у брата — Мария Карловна была за границей вместе с моей бывшей (и будущей) невестой, ее сестрой Атей — и таким образом провел целый вечер в обществе этого члена императорской фамилии. Для тогдашних моих настроений это был весьма характерный случай, я был действительно счастлив и даже вошел в некоторый транс; я что-то уж очень много говорил, переплетая русскую речь с французской, и, несомненно, представлял собой довольно смешное зрелище. Герцог Мекленбургский не был для меня тогда какой-то «королевской особой третьего ранга», для меня это был «подлинный высочайший», — внук брата высокопочитаемого мной (по примеру отца) Николая I и прямой правнук Павла. Особый ореол придавало Георгию Георгиевичу то, что зимой в Петербурге он тогда еще жил вместе с матерью в самом грандиозном из всех дворцов (после Зимнего) — Михайловском (ставшем впоследствии Русским музеем императора Александра III), а летом — в сказочном Ораниенбауме, — к которому я питал с раннего детства прямо-таки трепетное чувство. (Я уже упоминал, что я даже боялся Ораниенбаумского дворца, центр которого был увенчан гигантской княжеской короной, а на двух концах его длинного фасада торчало по башне с каким-то очень странным куполом.) И вдруг принц, живший в этом волшебном замке, оказался моим vis-a-vis за столом моего брата, я мог к нему обращаться, беседовать с ним. Осмелев, я даже с ним заспорил (что должно было особенно раздражать моего брата!).
Георгий Георгиевич Мекленбургский (носивший в семейном кругу имя Жоржакса) вырос в музыкальной атмосфере, созданной еще его бабкой, знаменитой меценаткой великой княгиней Еленой Павловной, у которой когда-то запросто (и не запросто) бывали (и играли) и Лист, и Антон Рубинштейн, и все выдающиеся, известные на весь мир виртуозы и композиторы. Георгий Георгиевич был сам хорошим пианистом, ему же принадлежала заслуга создания и содержания первоклассного квартета камерной музыки, носившего его имя и пережившего на несколько лет своего основателя. Однако Георгий Георгиевич ничего, кроме немецких классиков, не признавал, я же тогда переживал первые месяцы своего бешеного увлечения Вагнером, считая всегда своим долгом ломать копья в честь своего кумира. Напротив, для Жоржакса Вагнер, хотя и был немцем, однако продолжал быть представителем неприемлемой «музыки будущего», а в «Кольце нибелунга» он признавался, что ничего, кроме шума, не слышит. Этого я никак не мог вынести…
Должен еще прибавить, что тогдашнее мое дерзновение можно объяснить той атмосферой интимности, которую распространял вокруг себя герцог. Этот очень высокий, но скорее на немецкий лад немного неуклюжий офицер с длинным лошадиным лицом, со светлыми свисавшими усами, был само добродушие. Впечатлению добродушия способствовала еще и его чуть затягивавшаяся на гласных, обладавшая легким акцентом русская речь. Что-то мило-комическое было и в его военной выправке, которой противоречил его добрый из-под стекол золотого пенсне взгляд близоруких глаз. Чувствовалось, что ему милее всего на свете домашний уют и семейная обстановка. Лишь временами он вспоминал, что он принц, что ему надлежит подтянуться, напустить на себя важность. У него, как и у брата Михаила Георгиевича, установилась в Петербурге репутация очень недалекого человека. Однако впоследствии, сделавшись более или менее своим человеком в доме Мекленбургских, я мог убедиться, что Жоржакс, при некоторой своей (тоже очень немецкой) наивности, человек далеко не глупый, что он был более на европейский лад образован, нежели многие его собратья, наши коренные великие князья.
При этом можно еще вспомнить, что русские люди часто не умеют различать настоящей сути и настоящего достоинства немцев. За глупость и тупость они охотно приникают известную германскую «косолапость», gaucherie, столь противоположную непринужденности французов и англичан. В Жоржаксе не было и тени лукавства и того, что теперь назвали бы снобизмом. Мне думается, что именно благодаря своему простодушию и доброте он был как-то особенно счастлив в своей семейной жизни, бесконечно более счастлив, нежели большинство людей его круга. Сочетавшись морганатическим браком с одной из сестер Вонлярских, Наталией Федоровной, состоявшей лектрисой при его матери, Георгий Георгиевич прожил двадцать лет в полном согласии со своей супругой, которая создала ему очаровательный домашний очаг; графиня Карлова была самой приветливой и приятной хозяйкой дома; их дети — сын и три дочери (одна из них скончалась в юных годах) получили образцовое воспитание, но не как принц и принцессы, а как простые смертные. (Супруга герцога Георгия была возведена в графское достоинство и получила имя по названию одного из богатейших имений наследников великой княгини Екатерины Михайловны — «Карловка» — графини Карловой. Это же имя и титул носили, как слышно, и ее дети, лишь позже, во время войны, Наталия Федоровна получила наименование герцогини Мекленбург-Стрелицкой.)
Я только что упомянул о том, что в эту эпоху переживал бешеный (или буйный) период своего увлечения Вагнером. Возникло это увлечение как-то сразу и под действием впечатлений, полученных от тех спектаклей, на которых я сподобился присутствовать во время Великого поста 1889 года в Мариинском театре, где тетралогия «Нибелунгов» исполнялась полностью — первоклассными немецкими артистами в составе антрепризы Неймана и под управлением первоклассного дирижера Карла Мука. Нейман ручался, что его спектакли в точности воспроизводят байрейтские постановки, еще самим Вагнером установленные, и эта верность Байрейту сказывалась даже в том, что начало каждого действия возвещалось фанфарами со сцены и в фойе и что театр погружался в темноту перед тем, чтобы раздвинулся занавес, а опоздавших в зрительный зал не пускали. Эти новшества возбуждали едва ли не больше толков, нежели самые представления в целом.
Что касается меня, то я прозевал момент, когда можно было абонироваться на один из четырех циклов, а когда спохватился, то оказалось поздно — несмотря на весьма высокие цены, все до последнего места было разобрано. Выручил милый друг дома В. С. Россоловский, который, несмотря на свою германофобию (чисто «нововременской» окраски), запасся местом в двух абонементах. Увидев мое горе, добряк Зозо уступил одно из этих двух мест, но то было не в первом, а в четвертом, последнем абонементе. Такое запоздание имело свою хорошую сторону. За время, пока шли первые циклы, Альбер, побывав на двух из них, запомнил все главные лейтмотивы и все самое характерное в приемах Вагнера. Теперь в его импровизации вплетались и эти новые для меня элементы, а то в вольной передаче он воспроизводил целые сцены: лесной шум, шествие богов к Валгалле, полет валькирий, заклинание огня, пение рейнских наяд и т. д. Слушая чуть ли не каждый день игру брата, я запомнил как отдельные фразы, так и целые куски, и это мне затем помогло лучше усвоить то, что меня особенно поразило в оркестре и в пении. Когда же занавес в последний раз опустился после пожара Валгаллы в «Гибели богов», я чуть что не плакал, сознавая, что теперь надолго окажусь лишенным тех потрясавших все мое существо наслаждений, которым я отдавался в течение четырех незабываемых вечеров моего первого знакомства с «кольцом нибелунга».
Наступило это неописуемое наслаждение с самого момента, когда загудела чудесная квинта, с которой начинается «Золото Рейна», и когда потекли арпеджии, так изумительно передающие ровное, вечное течение Рейна. И как раз случилось нечто, что, хотя и явилось минутным нарушением нужного настроения, вызываемого музыкой, однако все же усугубило то состояние какого-то мистического радения, которое овладело мной и значительной частью публики. Еще не кончились переливы, как вдруг откуда-то с галерки раздался неистовый, на весь зал, вопль. Кто-то не выдержал, с кем-то сделался припадок кликушеской истерики. И вот что курьезно — с тех пор каждый раз, когда я слышал музыку «Золота Рейна», я как-то ждал повторения того же не предвиденного автором добавления к его партитуре.
Всего в подробности я не стану описывать. Скажу только, что по-настоящему восторг мой был вызываем только оркестром и (в меньшей степени) пением, но вовсе не зрелищем. Таковое было вполне доброкачественно с технической стороны и, может быть, оно вполне отвечало требованиям Вагнера — тому, что показывали с самых его дней в Байрейте, но оно нисколько не соответствовало моим ожиданиям, о чем, казалось мне, так ясно и определенно говорит музыка. Что же касается этого вопроса — насколько эта постановка удовлетворила бы Вагнера, то на это не следовало бы вообще обращать особое внимание. Весьма возможно, что сам гениальный в музыке Рихард плохо разбирался в пластических художествах. Ведь и его венценосный поклонник король Людвиг II Баварский был весьма безвкусным человеком, доказательством чего служат его замки и дворцы, на которые истрачено столько миллионов и положено столько труда и старания. Дивно чувствовал Вагнер природу — и дремучий лес, в котором живет змей Фафнер, и прекрасную дикость рейнских берегов и т. д., и все же он мирился с тем, что по его заказу сочиняли профессиональные декораторы и что было выдержано в духе банального академического романтизма.
Не более отрадное впечатление производили действующие лица. Слушать иных было приятно, но видеть их всех было тяжело. Разве не ужас эти «пивные бочки» с подвешанными бородищами и с рогатыми шлемами на головах? И это должно представлять Зигмунда, Гундинга, Гунтера! Разве этот клоун с рыжим вихром на голове может сойти за бога огня Логе? Разве этих полногрудых с перетянутыми талиями и с выпяченными бедрами дам можно принять за Фрейю, Зиглинду, Брунгильду, за дочерей Рейна? Тогда же я возмечтал создать идеальную вагнеровскую постановку, однако когда мне эта задача выдалась в 1902 году, то меня самого не удовлетворило то, что мной было измышлено! Правда, кое-что мне удалось сочинить как-то ближе к музыке, к тому, что навевает музыка, и, во всяком случае, эти мои сценические картины были поэтичнее того, что мы увидали в Петербурге в 1889 году, или того, что я видел на разных немецких сценах, которые оставались верными байрейтским традициям, но все же это было не то. Гораздо ближе удалось подойти к Вагнеру моему сыну в его вагнеровских постановках в Милане и в Риме.
Запоздалое знакомство с Вагнером в 1889 году совершенно переработало мой музыкальный вкус. Я пробовал воспроизводить на рояле запомнившиеся фрагменты «Нибелунгов», но эти намеки и сувениры только меня раздражали своим любительским убожеством. Самому же разбирать клавиры, которыми я тогда обзавелся, мне, музыкально безграмотному, было не по силам. Тут очень пригодились друзья Валечка Нувель и Митя Пыпин. Хоть и они были неважными пианистами, однако читать с листа умели довольно бегло. Они проигрывали мне то, что меня особенно пленило, по чем я с ума сходил, а я вслушивался и многое усваивал почти дословно. Кое-что после того мы играли в четыре руки. Бывало и так — Валечка сидел за роялем, я за фисгармонией. Выходило эффектно, но… и окончательно огорчительно для моего папочки, так как он эту «музыку будущего» никак не мог принять к сердцу и… к уху!
И до чего же я тогда одурел в своем восхищении от Вагнера! Еще самой ранней весной я перебрался на дачу к брату Альберу (благо в тот год мне не надо было думать об экзаменах), и там целыми днями бродил в одиночестве по мшистым болотистым местам, расположенным вокруг Петергофа и Ораниенбаума, вдыхая таинственные запахи оживающей природы, распускающихся березок и влажной зелени, распевая про себя или во все горло темы из «Валькирии» и «Зигфрида». Моментами при этом меня одолевала тоска, что все это я теперь испытываю один и без той прелестной подруги, с которой я привык делиться всеми своими увлечениями… и с которой, мне казалось, я расстался навсегда… Зато когда наш роман (через два года) возобновился, — с какой радостью я втянул и Атю в новооткрытый мной мир. Она же умела прекрасно разбирать и проигрывала мне и самые трудные места вагнеровских опер.
ГЛАВА 7 Семейное
1890 год, ознаменованный в моей личной жизни окончанием гимназии и поступлением в университет, памятен еще по нескольким происшествиям первейшей для нашей семьи важности.
В семейном кругу главнейшим событием была кончина дяди Кости Кавоса весной 1890 г., о чем я уже упомянул в первой части этих «Воспоминаний». Смерть дяди произошла молниеносно, дочь его Оля, жена моего брата Михаила, была вне себя от горя, но смерть боготворимого отца открыла перед ней и ее мужем довольно блестящие горизонты. Дела дяди были в полном порядке, и наследство, оставленное им, исчислялось почти в миллион золотых рублей. На одни проценты с такого капитала можно было, не затрагивая его, жить широко и даже не без известной пышности. Но Оля и Миша не любили пышности. Они переехали в квартиру дяди и только пожелали, чтобы к ней, уже достаточно просторной, были присоединены пять или шесть комнат из квартиры над ними. Пришлось снова побеспокоить и выселить доктора Реймера. Оля и Миша более по-модному отделали парадные комнаты, причем комната рядом с передней была использована под внутреннюю лестницу в верхнюю половину. Эта лестница столярной работы была построена по рисунку папы и могла в качестве удобства считаться образцовой. Помнится, как именно в этом лестничном двухэтажном покое происходил однажды свирепый спор между, с одной стороны, мной и Сережей Дягилевым, с другой — кузиной Олей и ее учителем пения синьором Пане. (Ольга не признавала русской музыки, мы же как раз тогда сделались ярыми ее поклонниками.)
Тогда же вскоре Миша и Оля приобрели в Бобыльске близ Петергофа большой участок земли на самом берегу моря, примыкавший с востока к владению нашего брата Леонтия, а с запада выходивший прямо в чащу парка царской дачи. На этом участке они построили себе по проекту Леонтия большой летний дом, разбив вокруг сад с множеством цветов, а немного в стороне — большой огород, в котором произрастали чудесные ягоды и отборные овощи. Наконец они обзавелись собственными лошадьми и экипажами, Мишенька купил себе и новую парусную яхту.
В остальном же их жизненный обиход остался прежним. Оба супруга были экономны, Мишенька же даже с небольшим уклоном в сторону скупости. Олечка, считавшая себя безнадежно некрасивой, мало тратила на туалеты, и приемы их ограничивались одними родственниками, к которым несколько позже, когда дети Кока (Константин) и Кика (Ксения) подросли, присоединились их товарищи и подруги.
Воскресные званые обеды Миши и Оли продолжали устраиваться в очередь с нашими и носить тот же характер, какой был заведен дядей. При значительной изысканности блюд, вин и закусок, эти обеды носили тот же солидно-буржуазный стиль. Заведовала хозяйством по-прежнему тетя Катя Кампиони. И так же, как при дяде Косте — мужская половина гостей после обеда забиралась в кабинет, ставший теперь Мишенькиным, а дамы рассаживались по диванчикам и мягким пуфам в будуаре тети Кати. Молодежь предпочитала пребывать в соседней прелестной угловой круглой комнате. За обеденным столом продолжал заседать, кроме родных, плотный, весь какой-то гладкий плешивый перс-магометанин Мирза Казем-бек, самый ласковый из когда-либо мне встречавшихся людей (он был сослуживцем дяди Кости по министерству иностранных дел). По-прежнему споры на политические и культурные темы начинались с самого супа, но они утратили свою остроту, так как главного заводилы — дяди Кости — среди нас больше не было.
Некоторым новшеством обедов Миши и Оли было почти несменяемое присутствие на них супругов Дехтеревых, т. е. нашей кузины Софьи Цезаровны и ее супруга Владимира Гаврилыча. Нельзя сказать, чтобы эта пара представляла собой очень гармоничный подбор. Сонечка была само изящество, не лишенное известной прециозности. Напротив, ее супруг представлял собой образчик чего-то дикого и первобытного. С виду он напоминал великанов из «Золота Рейна». Огромный, сутулый, ступавший медвежьей походкой, обросший девственной черной бородой и лохматыми волосами, чуть подслеповатый, в очках, он говорил, как-то шлепая губами, с необычайным апломбом. Возможно (не мне судить), он и был тем светилом науки, каким он старался казаться и за кого несомненно его принимала влюбленная в него жена, но злые языки (а их всегда немало среди родных) отзывались о «Гаврилыче» с иронией. И, кстати сказать, такое же отношение (возможно, что лишенное всякой справедливости) к нему было и у молодого поколения Философовых, которые за многие годы знакомства успели его хорошо изучить. Он когда-то «ходил в народ» и поэтому принадлежал к людям, пользовавшимся особым расположением Анны Павловны Философовой. Сама же знаменитая патронесса освободительного движения и на склоне лет продолжала видеть в Дехтереве героя, каковым он ей представлялся, когда она писала восторженные о нем письма Тургеневу. Она переслала даже писателю записки своего протеже, а писатель возьми да и используй их для довольно ядовитой характеристики одного из выведенных им революционных типов (Кисляков — в романе «Новь»), Этот же культ Дехтерева сблизил нашу Сонечку с Анной Павловной; после смерти мужа она даже сделалась чем-то вроде ее секретаря или адъютанта.
На фоне нашей родни супруги Дехтеревы (и особенно он) представляли собой нечто весьма красочное и курьезное. Как это ни странно, с моими ближайшими подругами детства — с младшими дочерьми дяди Сезара Машей и с Инной — я с момента кончины дяди, летом 1883 года, встречался редко, а у них на дому, пожалуй, и ни разу не был. Инна вышла замуж очень рано за аккуратненького полковника Главного штаба Дашкевича, а Маша в начале 90-х годов внезапно скончалась в Неаполе, причем ходили слухи, что она приняла раствор из серных спичек. На этот ужасный поступок милую, поэтичную, когда-то так легко смеявшуюся девушку будто бы толкнул все усиливавшийся недуг — глухота. В общении с Машей и Инной я находил величайшее удовольствие, но старшую сестру Соню сначала недолюбливал, так как считал ее гордячкой и болезненно не переносил, «когда она корчила из себя гувернантку»; а теперь, став двадцатилетним молодым человеком, я как-то заинтересовался ей и ее мужем и стал довольно часто у них бывать. Пожалуй, меня притягивало к ним то, что их обстановка являлась частью когда-то столь мне нравившейся квартиры дяди Сезара. В зале у Дехтеревых стояла та же крытая светло-серым атласом мебель, в будуаре висела на стенах прелестная серия больших, рисованных модным художником Беллоли портретов всех членов семьи, в столовой громко тикали большие часы буль с качавшимся маятником в виде Аполлона на своей колеснице, на вычурных венецианских зеркалах Тьеполо-сын изобразил ряд «похищений» и т. д. Впрочем, и общество, собиравшееся у Дехтеревых, было довольно интересное. Оно состояло из разных знаменитостей — литераторов, художников и музыкантов.
Особенно мне запомнился вечер, который был ими дан в честь поэта Полонского и который был украшен превосходной певицей итальянской оперы госпожой Ферни-Джермано. Приглашая на этот фестиваль, Владимир Гаврилыч обещал особое удовольствие от того, что можно будет слушать прославленную артистку (действительно лучшую из когда-либо мной слышанных Кармен) в трех метрах от фортепьяно. Должен, однако, сознаться, что я лично от такой чрезмерной близости (стоя у самого аккомпаниатора, я переворачивал страницы нот) большого наслаждения не получил; напротив, было даже довольно неприятно слышать, как певица запасается воздухом, наполняя им свою объемистую грудную клетку. То, что исчезало на сцене, здесь, в трех метрах, производило впечатление кузнечных мехов… В то же время мне с моего места было хорошо видно, как неразлучные друзья — Философов, Нувель и Дягилев умирали от смеха, прячась один за другого. И не то, чтобы они не ценили пение итальянской дивы (напротив, и они были ее поклонниками), но просто таково было ребяческое обыкновение в нашей компании — надо всем потешаться и непременно заражать друг друга смехом, особенно тогда и там, где это было совсем не к месту.
Помнится, как совсем неприлично мы (я и Дима) себя однажды вели на одном гастрольном спектакле Эрнесто Росси. Тут наш безудержный смех дошел до такой степени, что нам пришлось покинуть зал Малого театра, так как негодование соседей на нас приняло угрожающий характер. Причиной же нашей потехи было то, что Росси привез с собой набор ужасающих провинциальных лицедеев и карикатурно уродливых старушек-актрис. Одни шамкали роли, другие из кожи лезли выказать свой темперамент. Макдуф, тот даже в патетический момент грохнулся со всей силы на пол и завопил истеричным голосом. Увы, и сам Росси, считавшийся величайшим актером своего времени, не показался нам на высоте своей славы. Будучи весьма почтенных лет, он, видимо, щадил свои силы, ступал с осторожностью, да и говорил самые страшные вещи таким тоном, точно это были какие-то обыденности. Возможно, что при этом те или иные фразы были тонко продуманы и оттенены — так, по крайней мере, уверяли знатоки, но для того, чтобы оценить эти тонкости, мое знание итальянского языка было в те дни недостаточным.
Вернемся к вечеру в честь Полонского у Дехтерева. Когда лакей доложил, что «господин Полонский приехали», то Дехтерева обуял какой-то восторг, и эта громадная фигура стала метаться из комнаты в комнату, возвещая, что «наш маститый поэт прибыл»; затем он кубарем скатился по внутренней лестнице в нижнюю переднюю и вернулся оттуда, бережно ведя и обнимая Якова Петровича, которому это, видимо, только мешало свободно пользоваться костылями. Полонскому было приготовлено золоченое кресло в первом ряду стульев, и хозяева усадили его с выражением чрезвычайного счастья. После этого начался церемониал представления одного за другим разных лиц. Подвели и меня; однако, услыхав мое имя, он не сразу признал в этом бородатом студенте того Шурку, который когда-то прыгал у него на коленях и требовал, чтобы он рисовал ему солдатиков и лошадок. Это было время около 1874 г., когда Полонский дружил с Альбером и часто бывал у нас в Петергофе. Между прочим, я отлично помню его сидящим в английском парке у каскада под специальным зонтиком и пишущим рядом с моим братом тот же мотив.
Не могу расстаться с живописной фигурой Дехтерева, не рассказав еще про один казус, показывающий, какое грандиозное впечатление производила его наружность. Это было в Висбадене в 1894 году, где мы случайно съехались с семьей брата Миши и с Дехтеревым. За табльдотом в отеле «У ангела» нашими соседями были потешный профессор College de France фон Бенлов и его супруга. Старичок любил занимать публику рассказами про то, чему он был свидетелем за день, и вот однажды он явился к абендброту в большом возбуждении. Он только что, зайдя в нашу излюбленную кондитерскую, которую он прозвал «местом встречи избранных», был потрясен видом какого-то великана-бородача. Бенлов решил, что это какой-либо валахский князь, а двух сопровождавших его дам он счел за любимых жен этого господаря (почему-то профессор причислил валахов к магометанскому вероисповедению). При этом Frau Professor заметила, что у одной из этих жен в ушах были небывалой величины бриллианты. По проверке оказалось, что то был наш Владимир Гаврилыч, а альмеи — мои обе кузины — Соня Дехтерева и Оля, жена моего брата. У последней были серьги хорошей воды, однако они показались огромными только в связи с впечатлением, полученным от «валахского князя».
ГЛАВА 8 «Спящая красавица»
Кажется, я уже не раз в этих записках упоминал о том впечатлении, которое на меня произвела «Спящая красавица» Чайковского. Теперь необходимо остановиться на этом моем увлечении, так как с него начался во мне поворот в отношении русской музыки; от полного ее неведения и даже какого-то презрения это увлечение меня привело к восторженному поклонению.
Премьера «Спящей красавицы» состоялась в последние дни 1889 году или в самые первые 1890 года. В то время, с самых дней Цукки, я перестал посещать балет и не был в курсе того, что делалось в этой области. В то же время я продолжал разделять предрассудок, общий для нашей семьи, относившейся вообще с пренебрежением к русской музыке. Брату Леонтию, а вслед за ним и мне, казалось, что Чайковскому было не под силу создать что-либо достойное там, где блистали Адан и особенно Делиб. Как мог отважиться русский композитор взяться за сказку Перро? И вот, такой предрассудок получил как будто известное подтверждение в том, что «Спящая красавица» была встречена холодом на генеральной репетиции. Леонтий присутствовал на ней, и ему, как и большинству собравшихся, музыка показалась мало мелодичной, слишком сложной и сумбурной, а главное не танцевальной. Ходил даже слух, будто артисты отказывались под нее танцевать, до того она представлялась им непонятной.
В «Спящей» была занята вся труппа, и, кроме того, две итальянские звезды первой величины: синьорина Брианца и синьора Чекетти. Костюмы, сшитые по рисункам самого директора Всеволожского, отличались роскошью, и лучшие наши театральные художники написали эффектные декорации, из которых особенно понравилась движущаяся панорама. Все это не помогло. Рассказывали даже, что сидевший в первом ряду кресел (а не в своей боковой ложе) государь не удостоил Чайковского ни единым словом, что он повернулся спиной к Всеволожскому и сразу по окончании балета отправился к выходу. Такое неодобрительное отношение царя неминуемо должно было привести Всеволожского к подаче в отставку, а самый балет должен был бы быть снят с афиши. Обо всем этом было много разговоров… Однако все обернулось иначе.
Ни на репетиции, ни на премьере я не был, и в первый раз я увидел «Спящую», вероятно, на втором представлении. Во всяком случае, запомнилось, что то был утренник на новогодних каникулах, и это позволило мне с Димой Философовым побывать на спектакле. И что же, я должен сознаться, что это первое впечатление от «Спящей», если и не было для меня каким-то откровением, то все же я покинул театр с таким чувством, точно я побывал на очень грандиозном пиру. То, что я увидал и услышал, показалось мне, во всяком случае, достойным внимания, а относительно некоторых кусков музыки я как бы ощутил род предвкушения, что, пожалуй, они могут оказаться мне совсем по вкусу. Я просто не решался поверить тому, что тогда уже зародилось в тайниках души. В то же время мне очень захотелось снова и поскорее побывать на «Спящей» и главное — снова прослушать эту музыку.
И вот во второй раз — я поверил своему счастью… Возможно, что здесь помогло то, что я сразу обзавелся клавиром нового балета, и мои друзья-пианисты — Нувель и Пыпин — проигрывали мне все, что меня особенно заинтересовало. Главные темы, главные моменты музыки запомнились, и очень многое выяснилось. Тут-то оказалось, что музыка Чайковского не только хороша и мила, а что это то самое, что я всегда как-то ждал. И уже на втором спектакле не зрелище, не танцы, не спектакль, не исполнители меня пленили, а покорила меня музыка, нечто бесконечно близкое, родное, нечто, что я бы назвал своей музыкой. Словом, я влюбился в музыку Чайковского, а сам Петр Ильич (в нашей компании было принято его называть более фамильярно: «дядя Петя») стал мне самым близким человеком, хоть я и не решился познакомиться с ним лично.
Теперь я уже не пропускал ни одного представления «Спящей» и как-то умудрился (на Масленой, когда кроме вечерних спектаклей шли и утренники) побывать на этом балете четыре раза на одной неделе. Кроме того, я теперь слушал Чайковского где только можно, и в концертах и в домашнем исполнении. То же увлечение «Спящей» помогло мне вскоре после того полюбить и всего «Евгения Онегина», к которому я до того относился с недоверием. Я знал только отрывки оперы, и мне казалось, что она не так уж далека от Массне и от Амбруаза Тома, а эти композиторы, достоинства коих я не отрицаю, перестали к тому времени быть моими любимцами.
Анализируя теперь тогдашнюю мою одержимость «Спящей» я усматриваю, что в основе ее менее всего лежали лирико-мелодичные элементы, включая сюда и музыку знаменитой панорамы и лейтмотив феи Сирени. Напротив, я не уставал слушать (да и сейчас не устал бы) антракт между картиной охоты и картиной «пробуждения», а также всю партию феи Карабос. Это все — подлинная гофмановщина, эта музыка вводит в тот фантастический жутко-сладостный мир, который с такой полнотой отразился в рассказах моего любимого писателя. Мир пленительных кошмаров, мир, существующий у нас под боком и все же остающийся недоступным. Эта смесь странной правды и убедительного вымысла всегда особенно меня притягивала и в то же время пугала. Ее я почувствовал еще тогда, когда брат Иша рисовал мне свои странные истории, или когда Альбер импровизировал свои маленькие рассказики, которым музыка придавала полную убедительность. Нельзя сочинить «гнусную» музыку Карабосихи, не испытав над собой власти какой-то злобной нечисти. Не удалось бы придать этой музыке и какой-то злобной шутливости, что сообщает ей особую инфернальную остроту. Точно так же Чайковский не создал бы гениальной музыки «антракта», если бы он не запомнил бы то сладостное томление, которое испытываешь в детстве в полудремотной горячке, когда постепенно погружаешься глубже и глубже в небытие, не переставая улавливать точно из далекой дали доносящиеся отклики окружающей действительности…
Сколько и кроме того рассыпано в партитуре «Спящей» разнородных красот, начиная с бодрого марша в прологе и кончая танцами «сказок»! Всего не перечислишь. И как все это сделано, как звучит, какая во всем звуковая цветистость, как все оркестровано! Кроме того, «Спящей» присуща еще одна черта (ее же я нахожу в «Пиковой даме» и в «Щелкунчике») — это то, что когда-то было нами окрещено уродливым словом «эпошистость» и что, не найдя другого выражения, мы затем называли не менее уродливым словом «пассеизм». Петр Ильич несомненно принадлежал к натурам, для которых прошлое-минувшее не окончательно и навсегда исчезло, а продолжает как-то жить, сплетаясь с текущей действительностью. Такая черта представляется ценнейшим даром, чем-то вроде благодати; этот дар расширяет рамки жизни и благодаря ему и самое жало смерти не представляется столь грозным. Мысль о смерти не покидала Чайковского, он знал толк в этом (вспоминаю только четвертую часть VI симфонии). Смерть не переставая стояла за его спиной, такое близкое соседство и мучило его, отравляло радость бытия, но и в то же время его не покидало совершенно определенное знание, что не все со смертью кончается, что за гробом жизнь продолжается. И вовсе не какая-то отвлеченная «идея» жизни, нечто бесформенное и бесплотное, а, напротив, нечто вполне ощутимое. И это реальное ощущение потустороннего манило его. Его тянуло в это царство теней; ему чудилось, что там, вдали от насущных забот, как-то даже свободнее и легче дышится; там возобновится общение с самыми для нас дорогими, там могут произойти новые встречи несравненной ценности. Мало того, в этом царстве теней продолжают жить не только отдельные личности, но и целые эпохи, самая атмосфера их.
И Чайковскому было дано вызывать самую атмосферу прошлого чарами музыки. Удача в воссоздании атмосферы Франции в дни юного Короля-Солнца в «Спящей красавице» такова, что лишь человек, абсолютно глухой к зовам минувшего, может оставаться равнодушным. Вся сцена охоты, все игры и танцы придворных в лесу, а также все обороты музыкальных фраз, характеризующие самого принца Дезире, обладают подлинностью, которая вовсе не то же самое, что остроумная подделка под старину или какая-то стилизация.
Это же касается в значительной степени и музыки последнего действия «Спящей красавицы», оканчивающегося апофеозом под меланхолические аккорды песенки «Vive Henri IV», якобы послужившей когда-то темой для королевского гимна. Удивительной силы достигает Чайковский в торжественном марше в начале акта (сбор гостей, прибывших на свадьбу Авроры и Дезире), а в сарабанде стиль Люлли углублен до чрезвычайной степени. Я лично сам наделен этим даром проникания в прошлое; по собственному опыту я знаю, до чего это сладостно. Но в отношении Петра Ильича у меня в те дни возникло чувство особой признательности. Благодаря именно ему мой пассеизм особенно обострился, Чайковский как бы открывал передо мной те двери, через которые я проникал все дальше и дальше в прошлое, и это прошлое становилось моментами даже более близким и понятным, нежели настоящее. Магия звуков рождала убеждение, что я как-то возвращаюсь к себе, что я вспоминаю с особой отчетливостью, что когда-то было со мной, чему я был свидетелем.
Но не одним только этим своим колдовством пленила меня музыка «Спящей красавицы», но и всем тем, в чем Чайковский оставался просто самим собой и давал полную волю своему затейливому и поэтичному воображению. Благодаря этой свободе излияния ему удались такие безусловные шедевры, как помянутые танцы некоторых фей, как прекрасное па-де-де Авроры и Дезире в лесу, как марш сказок, как сценки Красной Шапочки и Волка, Мальчика-с-пальчика, как большое па-де-де Синей птицы, как соло принца Дезире, открывающего финальный пляс. Все это носит отпечаток личного, столь своеобразного вкуса Чайковского, и в то же время все сливается в одно целое. До сих пор, слушая музыку «Спящей» хотя бы на рояле, я испытываю те же чувства, какие я испытывал в дни своей юности, когда эта музыка была только что рождена. При этом я не без меланхолии отдаю себе отчет в том, насколько вся эта прелесть находилась тогда в соответствии с состоянием всей моей тогдашней телесной и духовной природы и насколько, увы, нынешнее мое состояние восьмидесятилетнего старца представляет собой нечто несравненно менее отрадное. Ведь я уже сам стою на пороге царства теней.
В смысле постановки «Спящая красавица» далеко не во всем находила мое одобрение, хотя несомненно, это был результат очень больших и хороших координированных художественных усилий. Особенный успех у публики имела декорация, точнее, лента декораций, составлявшая движущуюся панораму. Она была мастерски написана Бочаровым; однако я находил, что ей недостает фантастики. Это было чем-то, что слишком часто появлялось в те времена на сцене, когда требовалось представить лесные чащи и лунные ночи. Наконец, в декорациях последнего действия и апофеоза профессор Шишков обнаружил, что ему чужд стиль Версаля и его праздников. Напротив, художник Иванов превзошел себя и в смысле изображения, создающего впечатление реальности, и в смысле мастерства техники в декорации сцены пробуждения. В сущности то были две декорации, из которых первая представляла собой погруженную в ночную мглу опочивальню Авроры; тусклая луна пробивалась через окно, заросшее паутиной, а в огромном роскошном камине едва тлели уголья; в полумраке трудно было разглядеть архитектурные детали, выдержанные в духе французского Ренессанса. И вдруг, как только принц прикладывался к руке спящей принцессы, комната заливалась солнечными лучами, проникавшими в малейшие закоулки. Все статуи в нишах оживали в сложной игре рефлексов, а в камине уже весело пылал огонь. (Через год тот же Иванов создал в «Пиковой даме» свой второй шедевр, а именно справедливо прославленную «Спальню графини», но, к сожалению, то были последние достойные работы русского самородка. В дальнейшем Иванов уже не создавал чего-либо подобного, и объяснялось это тем, что он все более стал предаваться пьянству. Тем же пороком страдал и Бочаров.)
Многое можно было критиковать и в костюмах, в значительной части сочиненных самим директором И. А. Всеволожским. Шокировала некоторая пестрота колеров, составленных человеком, лишенным настоящего чувства красочной гармонии. И все же никак нельзя сказать, что первоначальная постановка «Спящей» была лишена прелести и в этом отношении. Особенно удачной надо признать основную затею Всеволожского, согласно которой тот принц, которому было суждено разрушить столетнее сонное оцепенение, отождествляется с личностью самого юного Луи-Каторза, в дни царствования которого и появились сказки, собранные Шарлем Перро. Благодаря перенесению второй половины балета в 1660-е годы (в обстановку, более близкую к нам), получалось особенно острое ощущение того, что летаргический сон, сковывавший на столетие весь двор Флорестана XXIV, окончился возвращением всех к действительности, удивительно, однако, изменившейся. Казалось бы, эта поэтическая мысль, лежавшая в основе первоначальной постановки и самого создания балета, должна была бы быть сохранена как неотделимая черта «Спящей красавицы», тем более, что с остроумной и поэтичной затеей Всеволожского были заодно и композиторы и балетмейстер. Однако при следующем же возобновлении балета на той же сцене Мариинского театра, всего через двадцать лет, в дни управления В. А. Теляковского, художник Коровин пренебрег этим принципом. Да и Л. Бакст, создавший блестящую постановку «Спящей» для Дягилева в Лондоне в 1922 году, недостаточно последовательно отнесся именно к этой пленительной задаче.
Вполне на высоте оказался в «Спящей» престарелый балетмейстер Мариус Петипа. Мало того, именно эта его постановка является прекрасным увенчанием всего его творчества. И надо надеяться, что сочиненные им сцены и танцы не будут забыты, а напротив, будут продолжать служить примером и образцами для всех постановщиков, коим выдастся честь воссоздания на основе музыки Чайковского хореографии этого балета. Богатство и разнообразие плясовых и драматических моментов здесь таково, что одно перечисление и характеристика их заняли бы слишком много места. Опять-таки очаровали меня танцы «Спящей» не только остроумием и изяществом, но и своей выдержанной стильностью — там, где в задачу Петипа входило воссоздание давно минувшей эпохи. Несомненно, Петипа сильно помогло его французское происхождение и та школа, которую он сам прошел (в дни, когда французский балет мог еще с полным правом гордиться своими традициями, восходящими до XVII века). Тот же французский стиль лежал в основе и всей нашей балетной академии. Благодаря балетмейстерам-французам — Дидло, Перро, Сен-Леону и Петипа, а также по-французски воспитанному Иогансону — этот стиль поддерживался в танцевальном училище в течение целой сотни лет и вплоть до нашего времени. И вот кульминационной своей точки этот стиль достиг в постановке «Спящей красавицы», удачу которой поэтому нельзя, пожалуй, считать какой-то личной заслугой одного Петипа, ибо она явилась итогом всевозможных творческих исканий, направленных к одному идеалу.
Подробно я не стану говорить об исполнителях. Дело в том, что как ни изящен в своей царственной роли принца был Гердт, как ни блестяще исполняла свою роль совершенно юная и очень миловидная Брианца, как ни уморителен был Стуколкин (в роли гофмаршала Каталабютта), как ни кошмарен Чекетти в роли Карабос и он же — обворожителен в танце «Голубой птицы», как ни хороши были десятки других танцоров и танцовщиц, изображавших фей, крестьян, гениев, царедворцев, охотников, персонажей сказок и т. д., однако все личное их мастерство и прелесть каждого из них сливались в красоте ансамбля…
Восхищение «Спящей красавицей» вернуло меня вообще к балету, к которому я было охладел, и этим загоревшимся увлечением я заразил всех моих друзей, постепенно ставших настоящими балетоманами. Тем самым создалось одно из главных условий того, что через несколько лет подвинуло нас самих на деятельность в той же области, а эта деятельность доставила нам мировой успех. Едва ли я ошибусь, если скажу, что, не будь тогда моего бешеного увлечения «Спящей» (а до того моего увлечения «Коппелией», «Жизелью», «Дочерью фараона» с Цукки), если бы я не заразил своим энтузиазмом друзей, то и не было бы «Ballets Russes» и всей порожденной их успехом «балетомании». Хорошо ли это или дурно — другой вопрос, разрешаемый для каждого согласно с его вкусом. Впрочем, я должен здесь высказать глубокое сожаление, что во многих случаях эта мания приняла вовсе когда-то непредвиденные и нежеланные формы. И еще я должен пожалеть, что как раз мой близкий друг и в значительной степени мой ученик оказался инициатором тех (с моей точки зрения) ересей, которые превратили балет в модное кривляние в какое-то состязание по части самого недостойного эпатирования. Куда девались те идеалы, с которыми мы предстали в 1909 г. на суд усталой, блазированной, уже созревшей для снобизма парижской публики?..
ГЛАВА 9 Левушка Бакст
В 1886 г. Альбер перебрался из третьего этажа нашего дома в четвертый, благо оттуда выехала женская гимназия Гедда, и построил себе еще специальную мастерскую над крышей. Это ателье было довольно обширно и состояло из двух половин, соединенных аркой. Кроме того, к нему примыкала еще комната, откуда был выход на черную лестницу. Другой ход вел в мастерскую прямо из передней, по узкой лестнице с перилами кованого железа. Первые два года жена Альбера, Мария Карловна, продолжала жить в одной квартире с мужем, но осенью 1889 г., ввиду готовившегося развода, покинула ее. Альбер прожил в этой квартире до самого момента, когда он летом 1924 г. навсегда покинул родину. Поднявшись как-то раз в ателье к Альберу — это было в марте 1890 г., — я встретил там одного незнакомого мне молодого человека. Он попал к Альберу в качестве друга детства Марии Шпак, на которой мой брат собирался жениться, но которая из-за своего слабого здоровья проводила зиму в Крыму. Альбер отрекомендовал мне своего нового знакомца как талантливого художника, но я на эту рекомендацию не обратил серьезного внимания, так как Альбер иначе вообще никого из художников не величал. Наружность господина Розенберга не была в каком-либо отношении примечательна. Довольно правильным чертам лица вредили подслеповатые глаза-щелочки, ярко-рыжие волосы и жиденькие усики над извилистыми губами. Вместе с тем, застенчивая и точно заискивающая манера держаться производила если не отталкивающее, то все же не особенно приятное впечатление. Господин Розенберг много улыбался и слишком охотно смеялся. Вообще же было заметно, что он необычайно счастлив, что попал в дом к такому известному художнику, каким в те времена был мой брат.
Впрочем, и я едва ли произвел выгодное впечатление на своего нового знакомого. Как раз я только что тогда побывал на дневном спектакле мейнингенцев, и, как это бывало со мной каждый раз, когда я находился под каким-либо особенно возбуждающим впечатлением, я находился в состоянии своего рода транса. Я кривлялся, дурачился, произносил крикливым голосом озадачивающие речи, карикатурно имитировал пафос немецких актеров. Возможно, что господин Розенберг счел меня прямо за полоумного. Обменявшись, однако, несколькими фразами в более спокойном тоне, я удостоверился, что он очень интересуется искусством, и сразу тогда решил, что не мешает свести с ним более тесное знакомство: в те годы я буквально охотился за новыми членами нашего кружка, и при каждой новой встрече задавал себе вопрос — не может ли данное лицо стать нашим союзником, не поддастся ли оно просвещению в нашем духе?
Относительно Розенберга мне сразу показалось, что хоть я еще не знаю, какой он художник, хоть с виду он и очень скромный, вовсе не блестящий малый, все же он нам подходит. Не откладывая, я и пригласил его к себе на ближайшее собрание друзей, а Валечку и Диму предупредил, что придет некий молоденький (он был старше меня на три года) художник-еврейчик, что стоит им заняться и потому я их прошу не слишком его смущать, чтобы сразу не спугнуть. Последняя просьба была не лишняя. Оба моих друга отличались несравненно меньшей терпимостью, нежели я, а к тому же в своей компании они охотно распускались, и тогда невоздержанность их языка могла быть иногда и оскорбительной. Особенно Дима отличался этим дефектом: он с какой-то непонятной жестокостью озадачивал новичков колкими замечаниями и коварными вопросами. Вообще Дима a priori презирал всякого нового знакомого; в нем возникал вопрос — достойно ли данное лицо знаться с ним, с таким феноменом ума, остроумия и образованности, каким он себя (не без некоторого основания) считал.
Но все обошлось благополучно. Введение в наш кружок Левушки Розенберга произошло без какого-либо трения, и к концу первого же вечера он так освоился, что стал свободно высказывать свои мнения и попробовал даже поспорить с одним и с другим. Помнится, что какой-то художественный спор возник между ним и Скалоном, и я с удовольствием убедился в том, что в лице Левушки Розенберга мы, «идеалисты», получили подкрепление. Ясно было, что и ему претят теории материалистического и утилитарного уклона и что он — художник в душе. Кроме того, меня тронуло, с какой жадностью Розенберг разглядывал иллюстрации в журналах и в книгах, причем некоторые его замечания свидетельствовали об его вообще вдумчивом отношении к искусству. Правда, тут же обнаружилось, что его художественное образование оставляло желать лучшего. Он, например, не был знаком с целым рядом наших тогдашних кумиров — с Беклиным и Менцелем во главе, а об английских прерафаэлитах имел самое смутное, чисто литературное представление. Что же касается до современной французской живописи, он абсолютно отрицал значение импрессионистов, о которых, впрочем, имел одно только теоретическое представление — по роману «L’Oeuvre» («Творчество») Золя. Напротив, Левушка придавал преувеличенное значение разным модным художникам как русским, так и иностранным — К. Маковскому, Семирадскому, Фортуни, Мейсонье, Жерому, Фламенгу, Маккарту и даже Зихелю. Для нас же все эти мастера были пройденными вехами.
К дружескому отношению к Левушке Розенбергу у нас примешивалась и доля жалости. Он поведал мне и Валечке, как трудно ему живется. Оставшись без средств после внезапной кончины отца — человека зажиточного (биржевого деятеля), успевшего дать детям приличное начальное воспитание, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтоб не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и еще совсем юного брата. Кроме того, он не желал бросать Академию художеств, в которой состоял вольноприходящим учеником. Эти занятия в Академии брали у него немало времени, а на покупку необходимых художественных материалов не хватало и вовсе средств. Значительную поддержку Розенберг находил в лице старинного знакомого нашей семьи А. Н. Канаева и его подруги жизни Александры Алексеевны, которые по доброте душевной взяли на себя и воспитание Марии Викторовны Шпак, оставшейся после кончины своих родителей круглой сиротой (теперь Мария Викторовна была невестой Альбера). В доме Канаевых Левушка был принят как сын. Он там бывал почти ежедневно, и Канаевы изо всех сил старались достать ему художественные заказы и уроки. Так, через Канаевых он познакомился с каким-то издателем популярных книжек (вернее, брошюр), для которых он сделал несколько рисунков пером. Мне запомнились два таких рисуночка — один изображал отца Иоанна Кронштадтского, пользовавшегося славой праведника и чудотворца, другой — довольно ловко скомпонованную сцену — Иоанну д’Арк на костре. Эти воспроизведенные цинкографией рисуночки были, однако, подписаны не Л. Розенберг, а Л. Бакст, чему Левушка давал довольно путаное объяснение — будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника, не то дяди, не то деда. (Я и сейчас не обладаю достоверным объяснением имени «Бакст», которое Левушка со дня на день предпочел фамилии Розенберг. Последняя значилась у него в официальных бумагах. Едва ли в данном случае действовала встречавшаяся иногда в еврейском быту адаптация дедом внука, что делалось главным образом для того, чтоб внуку избежать военной повинности.) Путал Левушка что-то и про свое «отчество». Так вдруг, он попросил адресовать письма к нему не на имя Льва Самойловича, а Льва Семеновича, а затем, через еще несколько месяцев, он снова вернулся к «Самойловичу»… — вероятно, найдя это имя более благозвучным.
Левушка Бакст был первый еврей, с которым я близко сошелся, и некоторое время он считался единственным евреем в нашем кружке, так как А. П. Нурок, примкнувший к нам в конце 1892 г., решительно отрицал свое иудейское происхождение, всячески стараясь выдавать себя за англичанина, благо его отец был автором известного учебника английского языка. Нурок, впрочем, был крещеный еврей, тогда как Розенберг-Бакст остался (до самой своей женитьбы на православной) верен религии отцов, отзываясь о ней с глубоким пиететом и даже с оттенком какого-то «патриотизма». Послушать его, так самые видные деятели науки и искусства и политики в прошлом были все евреями. Он не только (вполне по праву) гордился Спинозой, Дизраэли, Гейне, Мендельсоном, Мейербером, но заверял, что все художники, философы, государственные деятели были евреями, раз они носили библейские имена Якова, Исаака, Соломона, Самуила, Иосифа и т. д. (однако почему-то он не включал в эту категорию и всех Иванов, которые, однако, тоже носили библейское имя Иоанна). На этом основании Левушка в евреев произвел и всех трех Рейсдалей, и Исаака ван Остаде и т. д., да и в принадлежности к еврейству Рембрандта он не сомневался на том основании, что великий мастер жил в еврейском квартале Амстердама и что среди позировавших ему людей было много иудеев. Одного из таких раввинов Рембрандта Левушка в те времена как раз копировал в Эрмитаже и не уставал любоваться не только красотой живописи, но и величественностью осанки этого старца.
Принадлежность к еврейству создавала Левушке в нашем кругу несколько обособленное положение. Что-то пикантное и милое мы находили в его говоре, в его произношении русского языка. Он как-то шепелявил и делал своеобразные ударения. Нечто типично еврейское звучало в протяженности его интонаций и в особой певучести вопросов. Это был, в сущности, тот же русский язык, на котором мы говорили (пожалуй, даже то был более грамматически правильный язык, нежели наш), и все же в нем одном сказывалась иноплеменность, экзотика и принадлежность к востоку. Что же касается до оборотов мысли, то кое-что в этом нам нравилось, а другое раздражало, смешило или злило. Особенно раздражала склонность Левушки к какому-то увиливанию — что-то скользкое, зыбкое. Уличив его несколько раз в очень уж явной лжи, мы стали эту черту в нем преследовать насмешками. Сначала он всячески оправдывался и отнекивался, но когда его припирали к стене, то с обезоруживающим благодушием он сознавался, а то и каялся. Вообще он допускал, чтоб приятели позволяли с ним всякие вольности, и уже благодаря этому между нами и им интимно дружеские отношения установились очень скоро. Не прошло и трех месяцев с начала нашего знакомства, как уже все были с Левушкой на «ты» и он был признан равноправным членом нашей компании, а осенью того же 1890 г. он даже удостоился занять должность спикера в нашем пиквикианском «Обществе самообразования» — должность, дававшую ему, между прочим, право трезвонить в специальный колокольчик. Однажды для водворения тишины и порядка он дозвонился до того, что бронза колокольчика дала трещину, в чем, кстати сказать, можно найти косвенное указание на то, до какой напряженности и ярости доходили наши прения.
В ту же осень Левушка затащил меня как-то к Канаевым, и я вскоре повадился бывать у них столь же часто, как и он. Тянуло нас к себе, однако, не столько общество самих хозяев, сколько то, что там за поздним чайным столом мы находили всегда одну и ту же очень приятную компанию. Кроме того, для нас приманкой была масса книг с превосходными фотографическими воспроизведениями издания 70-х и 80-х годов, посвященных в значительной степени парижскому «Салону» и вообще современной французской школе живописи. Эти книги принадлежали не Канаевым, а даме, снимавшей у них две комнаты. То была небогатая, не очень казистая с виду, но в высшей степени милая вдовица, Мария Николаевна Тимофеева. Ей эти книжные сокровища достались по наследству от мужа, который в течение многих лет служил главным приказчиком в большом книжном магазине Мелье (впоследствии Цинзерлинга) в доме Голландской церкви на Невском. Да не подумают, что сама госпожа Тимофеева пленила нас красотой, а изучение ее книг служило только предлогом, чтоб быть в ее обществе. Правда, она была женщиной не старой и при этом на редкость приятной и уютной, однако ни она не претендовала на обладание какими-либо женскими чарами, ни мы таковых в ней не примечали. Все же ее присутствие, ее тихий, скромный нрав создавали особую атмосферу теплоты, и к тому же приятно было изредка поделиться с ней художественными мнениями, так как Мария Николаевна была и очень культурной особой.
Совершенно в другом смысле нас притягивал к чайному столу Канаевых другой ежевечерний гость: режиссер русской оперы Геннадий Петрович Кондратьев. Его, по-видимому, влекла не одна потребность уюта, а то чувство, которое он питал к хозяйке дома. Хозяина, по правде говоря, мы с Бакстом не особенно долюбливали — уж очень нудно было слушать его то плаксивую, то хвастливую болтовню, неприятно было глядеть на его зоб и на его жидкую, нечесаную бороденку. Но если и существовали какие-то сделки внутри этой супружеской пары, то видимость взаимных отношений между тетей Шурой и Геннадием оставалась вполне благопристойной, разве только иной раз уловишь, как Геннадий схватит на ходу ее руку и прильнет к ней жадными, беззвучными поцелуями. Впрочем, Кондратьев славился вообще своим страстным и сладострастным нравом. Несмотря на свою длинную седую бороду, придававшую ему сходство с персонажами на древнеперсидских барельефах (между собой мы его называли Камбизом), он был необычайно предприимчив с подвластными ему, как всемогущему режиссеру императорской оперы, хористками. Ходили упорные, слухи, что Геннадий никому из них проходу не дает и что даже установлен порядок вроде того, что существовал у средневековых баронов в отношении своих вассалов.
Чаепитие у Канаевых, к которому собирались эти завсегдатаи (и мы оба среди них), начинались очень поздно — часов около одиннадцати, и затягивались до трех-четырех часов утра. И так изо дня в день круглый год, или, по крайней мере, в течение всего зимнего сезона. Возможно, что столь поздний час был учрежден как раз для Кондратьева, который только и мог выбраться из театра по окончании спектакля (причем ему надлежало протащиться на извозчике около трех верст), но заведенный для оперных вечеров порядок действовал и для всех других вечеров недели, для тех, в которые в Мариинском театре шли балеты и на которых присутствие Геннадия не требовалось. Во всяком случае, все к этому порядку привыкли, никто не протестовал и даже находили что-то особенно приятное в таких ночных собеседованиях. Ночной образ жизни был вообще в большом обыкновении у петербуржцев. Редко кто из интеллигенции (не говоря уже о «монде») ложился раньше трех часов ночи, зато редкий человек тех же кругов поднимался раньше одиннадцати утра. Скверная то была привычка. Ею я заразился еще тогда, когда четырнадцати-пятнадцатилетним мальчишкой проводил вечера «наверху» в обществе моей обворожительной belle-soeur и ее друзей. Это шло вразрез с обыкновением моих родителей, у которых существовало правило удаляться на покой в одиннадцать и вставать в восемь.
Среди разных моих воспоминаний заседания у Канаевых принадлежат к самым приятным. В них было нечто совершенно особенное, чего я с тех пор нигде не находил и что в то же время было характерно для всего нашего российского быта. В довольно просторной столовой в три окна, обставленной лишь самыми необходимыми вещами, за длинным столом, покрытым далеко не свежей скатертью, заседала довольно пестрая компания. Председательствовала у большущего самовара Александра Алексеевна Алексеева, тетя Шура. Рядом с ней (но уже на длинной стороне стола) не сидел, а восседал живописнейший персонаж — горбоносый, длиннобородый маг — Кондратьев; слева от него устраивалась маленькая, сутуловатенькая, конфузливая и смешливая М. Н. Тимофеева, не перестававшая что-либо шить, штопать и вязать для своих девочек; угол стола рядом с ней занимали мы с целым ворохом добытых из шкафа Марии Николаевны роскошных изданий. По другую сторону стола на свое традиционное кресло, кряхтя, опускался дядя Саша, а между ним и тетей Шурой места предназначались для каких-либо случайных гостей. Все это освещала висячая керосиновая лампа. Разглядывая картинки и шепотом обмениваясь замечаниями, мы все же с жадностью прислушивались к тому, что рассказывал Кондратьев о манившем нас театральном мире. Эти свои рассказы о том, что происходило не только на сцене, но и за сценой, или что ему вспоминалось из его богатого приключениями прошлого, Геннадий пересыпал анекдотами, которых у него был неисчерпаемый запас и которые он с мастерством умел подносить.
Хозяин дома выходил из своего кабинета около полуночи и на время нарушал общее блаженное настроение. Борясь с одышкой, Канаев, бывало, понесет что-либо ужасно нудное и никому не интересное или станет с раздражением спорить плаксивым голосом. Будучи профессиональным педагогом, он усвоил себе привычку во все вкладывать нечто поучительное и назидательное, и это нас раздражало. (Канаевым принадлежал находившийся в нижнем этаже того же дома, на углу Графского и Троицкой, магазин, носивший характерное название «Мастерская учебных пособий и игр».) Еще более это раздражало тетю Шуру, которая вдруг не выдержит и резко оборвет супруга (они не были повенчаны, мешала какая-то история с затянувшимся разводом), после чего обиженный дядя Саша, сопя и охая, поднимался и демонстративно удалялся к себе. И тогда симфония чаепития снова возвращалась к мажорному ладу.
Геннадий Петрович не только представлял собой нечто очень выдающееся среди данного собрания, но он был вообще одной из самых живописных фигур тогдашнего артистического мира Петербурга. У меня с Левушкой развилось к нему своего рода поклонение. Но действовала не одна эстетическая оценка, но и известная корысть. Ведь от Кондратьева зависело нас допускать на сцену (что в императорских театрах было строжайше запрещено для посторонних), а закулисный мир, как я уже не раз упоминал, меня манил с неудержимой силой. Манил он и Бакста. И вот однажды сам Геннадий, раздобрившись, пригласил нас зайти «посидеть поболтать» в его режиссерскую комнату. Когда же мы в ней оказались, то уж было совершенно просто пройти из нее тут же на сцену. После нескольких таких посещений мы стали в кулисах Мариинского театра своими людьми, перезнакомились со всеми артистами, обменивались приветствиями с машинистами, с осветителями, с бутафором и даже с пожарными. Правда, мое первое знакомство с закулисным миром произошло еще тогда, когда благодаря Левоту я мог делать свои наблюдения с высоты колосников и лишь раза два Левот брал меня с собою вниз, но это делалось на самые короткие моменты. Левот боялся, как бы ему не влетело от начальства. Кондратьев же был сам начальством и, раз он нас допускал, то кто же мог бы этому препятствовать?
На чем, в сущности, основана эта притягательная сила кулис? Отчего так манит людей, не причастных к театру, проникнуть в это запретное царство? Несомненно действует уже то, что, попадая за кулисы, ощущаешь какую-то редкую и лестную привилегированность. Однако во мне и в Баксте говорило не только это, но несомненно и своего рода призвание — то, что мы оба чувствовали себя рожденными для театра. На то, какую роль для меня играл театр с самого детства, я не раз здесь указывал, но, вероятно, театр играл немалую роль и в прошлом Левушки, бывшего на три года старше меня. Если в своих воспоминаниях, появившихся в каком-то парижском журнале в 1920-х годах, Бакст многое и приврал (вроде того, что его малюткой нянчила на руках сама Аделина Патти), то все же несомненно, что он довольно рано заделался театралом. Но увлекался он тогда исключительно оперой и драмой, тогда как в балете Бакст (игравший впоследствии такую первопланную роль в «Ballets Russes» и придавший ему столько красоты и блеска!) не бывал вовсе и даже относился к этому роду театральных зрелищ с предубеждением, как это и полагалось в юношах того поколения, которое росло в эпоху «социально-утилитарного уклона». Левушка даже недоумевал, почему часть его новых друзей допускает самое существование такого нелепого, легкомысленного и даже предосудительного зрелища. То ли дело серьезная опера или драма! Потребовалось лет пять, чтоб под нашим влиянием радикально изменилась такая его точка зрения.
Совпал этот поворот с бурным пробуждением чувственности, когда наш целомудренный, стыдливый, как девственница, Левушка, красневший от малейшей сальности, побывал в Париже (это произошло в 1892 г., то была первая и очень краткая экскурсия, длившаяся не больше двух недель) и там, благодаря профессиональным гетерам, он впервые познал прелесть «бесстыжей Афродиты». Он как-то среди дня забрел на Монмартре в какой-то подвальный кабачок и там прелестные особы, облаченные в адвокатские талары на голое тело, напоили его шампанским и, выманив у него несколько франков, почли своим долгом его просветить. Рассказывал он про этот случай со смехом, но первое время и не без печали, скорбя о потери своей невинности…
До сих пор, однако, я ничего не сказал о своем новом друге как о художнике. Рекомендации Альбера, что-де Розенберг очень талантлив, я, повторяю, не придавал большого значения; но не произвела выгодного впечатления и та картинка Левушки, к которой он меня подвел на выставке работ академических учеников и на которой в духе Владимира Маковского был изображен пьяный факельщик, плетущийся после похорон по осенней слякоти. Правда, картинка была довольно ловко написана, но уж очень меня огорчило безвкусие в выборе сюжета. (Не больше доверия я почувствовал и к другой картине того же времени, которую я тогда не видал, но которую Левушка мне описал во всех подробностях. То была вариация на тему «Неравный брак». Изображала картина сидящих на садовой скамейке, где-то на Островах, двух супругов; муж — совсем уже старик, жена в полном расцвете молодости и красоты, с выражением уныния на лице. Поодаль — элегантная коляска, запряженная парой лошадей, ждала момента, чтоб доставить господ в их печальный дом.)
В момент же нашего знакомства Левушка трудился над большой картиной, которую я тоже не пощадил своей критикой. Изображена была молодая дама с лицом тети Шуры среди сумрачного пейзажа. Сразу становилось ясным, что она убита горем (отдаленно она напоминала «Неутешное горе» Крамского) и что она готова на самый отчаянный поступок; на какой именно — указывали рельсы железнодорожного пути и дымок приближающегося поезда, а лежавшее у ног несчастной разорванное письмо намекало на то, что привело ее к решению покончить с собой. Картина имела уже законченный вид, и несомненно, Левушке пришлось пережить немало терзаний, прежде чем внять моим убеждениям бросить ее и не посылать на академическую выставку, к которой он ее готовил.
Вообще же и я, и друзья первое время скорее ценили в Левушке приятного, очень начитанного собеседника, нежели художника, а о том, чтоб он мог сделаться когда-нибудь знаменитым, нам никак не могло бы прийти в голову. Однако уже в первое лето моего знакомства с ним я имел случай наглядно убедиться в его необычайной талантливости. Мы оба — и он, и я — гостили в течение нескольких дней у брата Альбера в Ораниенбаумской Колонии: целые дни мы гуляли, играли в крокет и вообще тунеядничали, но погода испортилась, зарядил дождь, и пришлось сидеть дома, заняться чем-либо. Тут Левушке и вздумалось попробовать свои силы в акварели. В окружении Альбера, такого виртуоза живописи водяными красками, глядя на то, как легко и просто все у него выходит, все заражались желанием делать то же и так же. Для первого опыта Левушка попробовал написать с натуры розу, стоявшую в стакане воды на балконе.
То, что у него стало сначала получаться, имело беспомощный вид, и я уже про себя решил, что ему никогда не справиться с такой задачей. Но Левушка не бросил начатой работы и до тех пор корпел над ней, бесстрашно по нескольку раз смывая написанное и снова накладывал легкими мазками краски, что наконец он и одолел трудности. И то, что у него тогда получилось, было не только похоже на натуру, но и представляло собой известную техническую прелесть. В то же время это было и нечто вполне отличное от приемов Альбера — нечто более сложное, более осознанное. Я был в восторге, и, пожалуй, именно тогда во мне проснулась какая-то вера в Бакста. Самый же этот случай остался для меня поучительным, чем-то таким, что противоречило той заразительной легкости, которой я привык любоваться в работах моего брата и его приятелей.
Постепенно акварель становится излюбленной техникой Бакста, однако он для нее не бросает и масляной живописи. Так, оставив свою «Самоубийцу», он принялся за новую картину довольно крупного размера, с темой еще более в его глазах серьезной и значительной. Писал же он ее в той же мастерской, предоставленной ему в здании Академии художеств. (Предоставление на время пустовавших мастерских Академии не было чем-то исключительным. Однако все же для получения такой мастерской лицу постороннему требовалось известных протекций и заступничеств. Очевидно, какие-то связи у Левушки уже были, однако кто был этим покровителем, я не смог выяснить. Впрочем, при всей своей мягкости и кажущейся бестолковости, Левушка обладал одной драгоценной чертой, свойственной вообще его племени. Он мог выказать необычайное упорство в достижении раз намеченной цели. Когда нужно, он становился неутомимым в своих хлопотах, прятал самолюбие в карман и забывал о тех вспышках возмущенной гордыни, которая была ему вообще свойственна.) Задумал Левушка создать нечто, по его мнению, очень сенсационное — в духе реалистических картин из жизни Христа Джеймса Тиссо и Н. Н. Ге. В то же время он продолжал идти по тому же пути, который был ему намечен его учителем, почтенным художником Аскнази, мечтавшим о возрождении «высокого рода живописи» и о прославлении через него еврейства. Затеял Бакст выразить в лицах взаимоотношения Иисуса и Иуды Искариота. Последний в его представлении (создавшемся, вероятно, под влиянием каких-либо еврейских толкований Евангелия) превратился из корыстного предателя в принципиального, благородного противника. Левушка был уверен, что Иуда был не столько учеником Христа, сколько его другом — и даже ближайшим другом, под влиянием которого Иисус даже находился одно время и который видел в Иисусе некое орудие для своих религиозно-национальных замыслов. Лишенный личного обаяния, дара слова и заразительной воли, Иуда надеялся, что с помощью пророка-назарейца ему удастся провести в жизнь свои идеи. Одну такую беседу Христа с Иудой картина и должна была изображать. И до чего же мой друг огорчился, когда я стал его убеждать, чтоб он бросил и эту свою, на мой взгляд, нехудожественную затею! Главный мой довод заключался в том, что подобные темы вообще не подлежат изображению. Даже в случае полной удачи такая картина требовала бы пространных комментариев, без которых эти две полуфигуры (натуральной величины) в античных одеяниях, выделявшиеся на фоне восходящей луны — одна с лицом, поднятым к небу, другая — понуро глядящая себе под ноги, остались бы непонятными. Левушка же, убежденный, что он поразит мир своим произведением, пытался отстаивать свою идею и несколько еще времени продолжал работать над своей картиной. А там он и сам в ней разочаровался, и через год уж говорил о ней с иронией.
Как раз в этом же 1892 году я увлекался вошедшей тогда в моду игрой, состоявшей в собирании ответов на ряд вопросов, из которых иные были довольно каверзны и индискретны (нескромны). Мода эта пришла из Франции, и примерный список вопросов такой анкеты появился в «Illustration». К этому списку я прибавил еще несколько собственного изобретения и стал приставать с ними ко всем, получая иногда и очень интересные ответы. Один только дядя Миша Кавос решительно отказался, вышутил меня и ужасно меня этим огорчил. А как было бы теперь интересно перечесть эти документы! Что же сказал каждый из моих друзей? Что Философов, что Валечка, что Сережа Дягилев! Увы, все это потеряно, но ответ Бакста на вопрос «Чем вы желали бы быть?» был так характерен, что его ответ я запомнил. Он ответил: «Я желал бы быть самым знаменитым художником в мире». Он не пожелал быть лучшим художником или самым искусным, а так и заявил: «самым знаменитым». И что же, чего-то близкого к этому идеалу он и достиг, но в 1892 г. такое пожелание могло показаться довольно диким и смешным. Мы этим долгое время и дразнили Левушку.
Не малое значение для дальнейшей карьеры Левушки имели его усердные посещения «Акварельных пятниц», учрежденных Альбером. Первое время эти вечерние сборища художников происходили у моего брата на дому, но по мере их роста они сделались слишком обременительными для хозяйства, и тогда Альбер их перенес сначала в помещение архитектурного журнала «Зодчий», а когда стал руководителем акварельного класса Академии художеств, то он и эти «Пятницы» устроил в помещении своего класса. Новый вице-президент Академии граф И. И. Толстой был вообще расположен ко всякого рода новшествам, особенно если они носили несколько либеральный общедоступный характер, а кроме того, он очень благоволил Альберу, и поэтому он не только согласился на то, чтоб эти собрания происходили в Академии и чтоб на них были допущены посторонние лица, но он даже дал разрешение на то, чтоб эти сборища завершались товарищескими пирушками и чтоб за ними прислуживали академические сторожа. Вся организация этих академических «Пятниц» принадлежала Альберу, и первые годы он отдавался всей душой своей затее. Вскоре «Пятницы» приобрели большую популярность в художественном мире (сам президент Академии великий князь Владимир дважды удостоил их своим присутствием) и представили опасную конкуренцию более старинному художественному клубу, носившему название «Мюссаровских понедельников» по имени своего учредителя.
Помещение Акварельного класса представляло собой просторное и отлично освещенное зало в третьем этаже здания Академии. Середину зала занимали три стола, составленные покоем. За ними восседали наши главные акварельные знаменитости вперемежку с несколькими любителями. Каждый художник приносил с собой коробку красок, кисти и бумагу, и каждый старался за вечер (с 8 часов до полуночи) создать хотя бы одну картинку. (Из таких картинок устраивались периодически лотереи с благотворительной целью.) Наиболее эффектно работавших обступали разные «друзья искусства», пришедшие полюбоваться, как работают «настоящие» художники. Число их росло с каждым разом. На одном углу стола Альбер неутомимо импровизировал свои закаты, морские и зимние пейзажи, и иной раз он успевал напечь их три или четыре штуки за вечер. На другом углу, сочно посасывая сигару и при этом непрерывно рассказывая про всякие свои баснословные похождения, «русский Гюстав Доре» — Н. Н. Каразин набрасывал черной тушью и белилами то тянущиеся по степи караваны, то тройку, мчащуюся по занесенному снегом лесу; между ними тучный, обрюзгший Писемский, тоже с сигарой, с сонно-тупым видом изображал пером очередную «Опушку» с неизбежной елочкой; поодаль милейший старенький Адольф Шарлемань предавался давним оперным воспоминаниям, и из-под его кисти и карандаша рождались сцены из «Фауста», «Пророка» и «Гугенот». Это все были мэтры, не нуждавшиеся в дальнейших упражнениях глаза на изучении натуры, но вот немного в стороне на эстраде сидела или стояла модель (почти всегда женская), которую одевали в добытые из богатого гардероба костюмного класса всякие национальные и исторические наряды. Модель то представляла хохлушку, переходящую вброд воображаемый ручеек, а то это была заснувшая за ночной работой швея, или средневековая девица, мечтающая за веретеном, и т. д. Особенным успехом пользовались известная на весь Петербург профессиональная натурщица Ванда (излюбленная модель художника Боброва), а также совсем юная и очень миловидная портнишка, которую все называли по имени и отчеству — Елизавета Михайловна. Ее где-то нашел все тот же мой Альбер. Позже она стала на несколько лет его официальной метрессой. Увлекался ею и Бакст.
Эти «Акварельные пятницы» сыграли весьма значительную роль в карьере Левушки. Он не пропускал ни одной пятницы, однако вместо того, чтобы засесть за стол бок о бок со знаменитостями и изготовлять какие-либо пустяки, он заблаговременно выбирал себе выгодное место перед эстрадой и участвовал как в установке модели, так и в выборе для нее костюма. Эти этюды, которые Левушка делал даром с живой натуры, были для него полезным упражнением в только что им усвоенной акварельной технике. Кроме того, вышло так (едва ли намеренно с его стороны), что именно благодаря им он стал приобретать некоторую известность. Углубленного в работу, его всегда обступала кучка любопытных, и вот среди них оказался человек, который сыграл значительную роль в жизни Бакста, помог ему выбраться в люди. То был Дмитрий Александрович Бенкендорф, персона очень заметная как в петербургском монде, так и в парижском и лондонском.
Всюду Д. А. Бенкендорф, иначе говоря Мита, был принят и обласкан, и это несмотря на несколько темную репутацию. Про него ходили весьма предосудительные слухи, вплоть до того, что он будто бы оказался косвенной причиной гибели своей жены. Были ли эти слухи на чем-нибудь основаны, я не знаю, но во всяком случае государь Александр III был убежден в их достоверности; он не отзывался о Мите иначе как с презрением и решительно отклонял все домогательства о том, чтобы ему, Д. А. Бенкендорфу, было дано придворное звание. Напротив, брат государя великий князь Владимир и его супруга великая княгиня Мария Павловна души не чаяли в Мите, и он при их «малом» дворе был завсегдатаем, будучи великим специалистом по части всяких светских сплетен. Он же умел привести в хорошее расположение и самую скучающую компанию то удачным словечком, то рассказиком, поднесенным с очаровательным цинизмом и бесподобным мастерством. В таких случаях великий князь разражался зычным хохотом, а Мария Павловна ударяла Миту по рукаву и, приняв шаловливо-строгий вид, приказывала: довольно, довольно, Мита, это уже слишком.
И надо отдать справедливость Мите — он был, действительно, шармером. Сужу по собственному опыту. Временами я его часто видел то у Альбера, а то на тех же академических пятницах; позже я бывал у него, и несколько раз он бывал у меня. Каждая такая встреча с Митой была для меня своего рода лакомством. В описываемый период Мите было немного за сорок. С виду это был коротенький, дородный, холеный господинчик с темноватой, аккуратно клинышком подстриженной бородой, с кошачьими зеленовато-серыми глазами. Впрочем, он весь напоминал тихо мурлыкивающего кота. Ходил он легкими шагами, пузиком вперед, держа свои коротенькие ручки согнутыми в локтях — на манер ожидающей кусочек сахара собачки. Взгляд у Миты был масленый, ласковый, но и очень лукавый, изредка же он настораживался, и в глазах вспыхивали недобрые искорки. В общем Мита был благодушен, славный малый, но он мог быть и коварно мстителен, почему я и вся наша компания не прочь были верить рассказам об его темных заграничных проделках. Такие сладковато-ласковые люди часто таят в себе очень странные пороки, а припертые обстоятельствами, совершают поступки и весьма неблаговидные, а то и преступные. Склонный к ригоризму Александр III несомненно верил и худшим из рассказов о Мите, тогда как великий князь Владимир обладал достаточным запасом наплевательства, чтоб прощать приятелю его былые проделки, благо теперь он остепенился. Мита изрядно поправил свои финансы и вел жизнь достаточно солидную, свою же слабость к полу, не считающемуся прекрасным, он умел в достаточной степени скрывать. То была, кстати сказать, та эпоха, когда помянутая слабость начинала терять свой позорящий характер, а высшее общество начинало привыкать к мысли, что она не заслуживает инквизиторского преследования.
У Миты была еще и другая слабость. Он обладал природным вкусом, не бог знает какой высоты, но все же более изощренным, чем у большинства людей его общества. Этот вкус толкал его в очень благоразумных пределах на коллекционирование, благодаря чему квартира его (в верхнем этаже дома на Фонтанке напротив Инженерного замка) была одной из самых изящных в Петербурге. Она была обставлена хорошей мебелью XVIII в. и увешана тонко подобранными картинами, среди которых выделялись знаменитый портрет «Екатерины II на прогулке» Боровиковского, чудесный портрет (якобы) Марии Манчини Миньяра и отличный автопортрет Лагрене в пестром халате. Для всего этого пророненное слово «слабость» не вполне подходит, настоящая же слабость Миты заключалась в том, что он не только окружал себя красивыми вещами, но и сам пытался создавать «художественные ценности». Мало того, создавая таковые, он извлекал из созданного и материальную пользу. Имея довольно высокое мнение об его проницательности, я считал, что он не может не видеть, до чего безнадежно-немощно все то, что выходит из-под его кистей, но умница Мита знал в то же время, что у людей его круга хватит невежества, чтоб изготовленный им хлам принимать за нечто добротное. Во всяком случае, находились такие простаки, которые покупали подписанные им акварели, и даже за довольно крупные суммы. Среди них был и один великий князь, а именно генерал-адмирал флота Алексей Александрович. Иногда кое-что приобретал и великий князь Владимир, но это уж исключительно по дружбе.
Специальностью Миты были акварельные копии с самых знаменитых произведений живописи, а кроме того он изготовил целую серию портретов нижних чинов, бывших на особенно хорошем счету у высочайшего начальства — главным образом портреты матросов (он их делал, имея в виду генерал-адмирала). Свои же копии с картин Мита делал при помощи фотографий, полагаясь, что касается красок, на свою память. Таким образом, между прочим, оставаясь в Петербурге, он сделал две копии довольно большого формата со знаменитых фресок Дж. Б. Тьеполо в палаццо Лаббиа, и эти бездарные пародии на гениальнейшие произведения венецианца ему как раз удалось кому-то пристроить за довольно основательную сумму.
Все же, повторяю, Мита в глубине души не мог быть сам высокого мнения о себе. Он робел, приступая к непосильной задаче, и поэтому нуждался в помощи. Поэтому он и прибегал к сотрудничеству профессиональных художников. За последние годы при нем в качестве такого сотрудника состоял художник С. Ф. Александровский, специалист по великосветским портретам; под видом уроков, за которые Мита платил щедро, он заставлял опытного техника поправлять свои работы, после чего ставил свою подпись и отправлял этот продукт сотрудничества на выставку…
Но появляется на «пятницах» новый юный художник Розенберг-Бакст! Увидав, что возникает на бумаге у этого новичка, Мита, не долго думая, решает проститься со старым своим сотрудником и обзавестись новым — все под тем же предлогом уроков. Бакст, хоть тогда и голодал буквально, не сразу согласился (предложение показалось ему несколько предосудительным), но, побывав у Миты в его изящной и уютной квартире, покушав у него за завтраком вкусных вещей, приготовленных французским поваром, и выпив разных вин высоких марок, главное же, подпав под очарование беседы с остроумным хозяином и его ласкательных кошачьих манер, Левушка сдался. Бенкендорф засиял от счастья, помолодел. То-то теперь он обновится, то-то поразит всех яркостью колеров и мягкостью техники. И действительно, копии с картин и матросы, снабженные все той же подписью: «Д. Бенкендорф», стали более высокого качества. Лишь постепенно бездарность все более отваживавшегося ученика-мецената стала проступать сквозь поправки учителя. А может быть, дело обстояло и наоборот, что Левушке стала надоедать его недостойная роль, и он стал несколько отстраняться, заверяя своего ученика, будто тот делает замечательные успехи.
К этому моменту уроки Бенкендорфу успели оказать значительную пользу Баксту и не только в смысле тех денег, которые он зарабатывал (что сразу стало сказываться на всем его быте, — в том, что он переехал в довольно большую квартиру с мастерской и т. д.), но особенно в смысле приобретения более светского облика. Бенкендорф не скупился на советы, касающиеся одежды и манер, и он же свел Левушку с массой высокопоставленных или родовитых лиц. Уже через год после начала уроков Бенкендорфу удалось определить своего юного учителя на место преподавателя рисования при детях великого князя Владимира, а на лето Левушка даже получил казенную квартиру при даче великого князя в Царском Селе. Постепенно его тихий, скромный нрав завоевал себе симпатию как его воспитанников, так и их августейших родителей. Это царскосельское пребывание было началом его триумфального восхождения. Однако до достижения кульминационной точки Баксту пришлось еще пройти через ряд испытаний, иногда довольно мучительных, и среди них господствующее место занял бурный и страстный, на три года затянувшийся роман с особой, бывшей на несколько лет старше его.
Этот роман крайне тревожил почтенную матушку Левушки, и не менее он тревожил его ученика-мецената Миту. Оба они, т. е. госпожа Розенберг и Бенкендорф, в период кризиса этого романа то и дело навещали меня, чтоб излить свои жалобы на Левушку и просить меня пустить в ход все свое влияние, спасти заблудшего, вернуть его к семье и к последовательному труду. Но если бы даже мое влияние было настолько велико (в чем я сомневаюсь), чтоб подействовать на друга в начале его увлечения, то теперь уж было поздно пытаться что-либо сделать, так как Бакст с предметом своей страсти застрял во Франции, где одновременно он был занят и исполнением заказа великого князя Алексея — писанием картины «Встреча русских моряков в Париже». Оставалось урезонивать Левушку в письмах, но, спрашивается, когда подобный способ воздействия имел какую-либо силу? Тем менее можно было на то рассчитывать в данном случае, когда противовесом и самым красноречивым убеждением являлась все более разгоравшаяся страсть.
Роман с госпожой Ж., актрисой Михайловского театра, тем сильнее захватил Левушку, что он попал в цепкие руки этой Цирцеи, будучи еще новичком в любовных делах и не имея в них большого опыта. Она и постаралась его просветить и испортить по всем статьям. Кроме того, она связала его крепчайшими узами ревности и целой системой периодических разрывов, за которыми следовали самые пламенные примирения. Бедный Левушка за эти три года прошел через все круги эротического ада. После медовых месяцев в уединении бретонского захолустья, госпожа Ж. тащила Бакста в самый омут Парижа, после идиллий, в которых талантливая сорокалетняя артистка с мастерством разыгрывала роль невинной Хлои, она превращалась в неукротимую менаду и в подкупную гетеру. Левушку швыряло и мотало, как тонущего в разбушевавшемся море. Было с чего потерять голову, запутаться в компромиссах, и это тем более, что и в материальном отношении начались оскорбительные для его самолюбия испытания. Не имея месяцами никакого заработка, он оказывался в полной зависимости от своей любовницы, а косвенно и от тех, кто заботился об ее благосостоянии. Первые авансы, полученные от великого князя Алексея Александровича в счет уплаты за заказанную картину, были давно истрачены, а Мита, не желая поощрять глупости Бакста, не посылал, несмотря на мольбы, никаких подкреплений. Положение становилось отчаянным. В это время, осенью 1896 г., я с семьей поселился в Париже, и мы видели Бакста чуть ли не каждый вечер. Вблизи вся эта драма представлялась еще более нелепой и печальной, нежели издали. Бакст то и дело спохватывался, решал, что отныне все кончено, а через день он опять подпадал под чары Ж. или сдавался на ее убеждения. Кончилось все это тем, что она уехала на гастроли в Берлин, запретив ему следовать за ней, он же бросился ей вдогонку, и тогда разыгралась последняя сцена уже совсем во вкусе плохих пьес. Кажется, на Бакста отрезвляющим образом подействовало не столько то, что он застал Ж. на месте преступления, сколько то, до чего все это вышло глупым, пошлым. Финал тяжелой драмы в водевильном духе. Не слезы, не кровь, а смех…
Естественно, что среди всей этой бури писание «Приема русских моряков» подвигалось туго, а периодами и вовсе застревало. Первое время, поселившись в Париже ближе к месту действия своего сюжета, Бакст работал с увлечением, и тогда было сделано им много этюдов с натуры. Намеревался он создать нечто вроде массовых сцен Менцеля. На первом плане он поместил людей улицы — молодых, старых, подростков, занятых приготовлением к иллюминации; одни зажигали фонарики, другие их развешивали. Все было подернуто сизым тоном сумерек, тогда как в отдалении, мимо гигантской статуи Свободы, в свете иллюминации тянулся цуг колясок, в которых сидели адмирал Авелан и его свита. Эффект позднего вечера, сочетание последних лучей солнца со светом от фонарей и бенгальских огней было интересно задумано, но долго не давалось Баксту. Ему могло бы помочь ознакомление с импрессионистами, в частности с массовыми сценами Ренуара, но в те дни было не легко видеть произведения мастера, а с другой стороны, несомненно, что если бы Бакст дерзнул создать нечто в таком роде, то заказчик — великий князь — просто не принял бы подобной декадентщины, и тот же Бенкендорф отвернулся бы от своего погибшего протеже…
Все же еще через год картина с грехом пополам была окончена, привезена в Петербург и представлена великому князю. Успеха она не имела, большинство находило, что композиция плохо слажена, что все полно ошибок в рисунке, что общий тон какой-то непраздничный, что русских моряков почти не видно, а бросаются в глаза только какие-то пролетарии, мальчишки, бедняки, чуть ли не сброд. Все это не могло приободрить автора, и никаких дальнейших официальных заказов нельзя было ожидать в будущем. Но Левушке было сполна уплачено и даже что-то сверх условленной суммы, а картина, не допущенная в апартаменты высочайшего заказчика, нашла себе пристанище в Адмиралтействе, где она висит, за ненахождением другого более подходящего места, на лестнице, ведущей к помещению Морского музея. Здесь я ее после многих лет снова как-то увидел, и должен сказать, что если она и не произвела на меня впечатление мирового шедевра, то все же я ее нашел весьма и весьма достойной и интересной. Во всяком случае, это добросовестно продуманный и не без мастерства написанный исторический документ. Ближайшие друзья Бакста были обрадованы самым фактом, что он не осрамился, а вышел из испытания с честью.
Основу характера Левушки составляло известное благодушие. За него ему прощалось многое. Оно распространяло вокруг него определенную атмосферу уюта. С самых первых недель нашего знакомства именно эту его эманацию я почувствовал и оценил. Мне нередко случалось ссориться с Бакстом, но обыкновенно я первый начинал испытывать потребность в его обществе и получать, благодаря его присутствию, совершенно своеобразное настроение приятного покоя. Уютно действовала самая его наружность — мягко-огненный цвет волос, подслеповато поглядывающие из-за пенсне глаза, скромная манера держаться, тихий, слегка шепелявый говор. Особенно приятно было вызывать в Баксте смех — не громкий (чаще какое-то хихиканье, а не ржанье), но веселый и искренний. Его извилистая губа складывалась при этом в чрезвычайно потешную гримасу…
И не только внешние черты притягивали к Баксту, а в той же мере действовал его ум, который я не могу иначе охарактеризовать, как словом «прелестный». Мысли Левушки были всегда своеобразны и выражались в яркой картинной форме. Они как-то тут же возникали и точно изумляли его самого (черта типично еврейская). В них никогда не звучало что-либо доктринерское, школьное, заимствованное. Теми же особенностями отличались и его письма. Их у меня накопились десятки, если не сотни, иные из них необычайной длины — целые трактаты; и я не только радовался при получении каждого, но и испытывал особое удовольствие, перечитывая их по прошествии многих лет. Многообразие тем Бакста было чрезвычайным, и это нас связывало, так как и я человек многообразный, пестрый, всеядный. Левушка был и мастером рассказывать (без всякого нарочитого щегольства) про случившиеся с ним встречи или похождения; при этом в годы, когда в нем исчезли и последние следы юношеской невинности, он охотно задерживался на разных негодных для печати подробностях, не опасаясь этим оскорбить стыдливость друзей. Разве только Серов иной раз с неудовольствием крякнет и пробурчит: «А все же нельзя ли поскромнее?» Особенно же мастерски и воодушевленно он передавал свои художественные впечатления. В таких случаях можно было заслушаться. Но сам Левушка отнюдь не слушал себя, он бывал весь поглощен желанием заразить других своим восторгом.
Еще типичная черта Бакста — его рассеянность. Она приводила часто к потешным недоразумениям. Среди шумной общей беседы он, бывало, продолжает сидеть молча с совершенно отсутствующим видом, иногда что-либо набрасывая на случайно попавшейся ему под руку бумажке. Он действительно в такие минуты отсутствовал; мысль его витала где-то далеко, и возможно, что он сам себе в таких случаях рассказывал нечто, не имевшее ничего общего с темой общей беседы. Запомнился случай, как однажды за чайным столом в редакции «Мира искусства» спорившие друзья раскололись на два лагеря и одновременно обратились к Баксту, желая знать и его мнение. Но Левушка только обвел всех нас каким-то мутным взором и вдруг с великим недоумением вопросил: «Что-о-о? Египет?..» Это было совсем неожиданно, ибо в нашем споре и помину не было о стране фараонов. И каким же взрывом хохота закончился тогда наш спор, и как веселился, очнувшись от своего транса, сам Левушка! С тех пор слово «Египет», произнесенное на бакстовский лад с его интонацией, было лучшим средством охарактеризовать Левушку или попрекнуть его же за очередную рассеянность.
Наконец, великий шарм исходил и от всей необычайной художественной одаренности Левушки. Эту одаренность можно было наблюдать и в действии каждый раз, когда он бывал у меня или у Валечки, или в редакции «Мира искусства» — иначе говоря, чуть ли не каждый день. Талантливость неудержимо толкала его на творчество, и он чувствовал себя вполне по себе только когда был занят рисованием или акварелью, что не мешало ему принимать участие в общей беседе и даже в споре. У меня к его услугам был всегда полный набор художественных принадлежностей, в редакции он даже был по обязанности прикован к рабочему столу, где всегда ожидали его тушь, белила, кисть и карандаши. Однако рука чесалась у Левушки и тогда, когда он сидел у Валечки или у Димы, где никаких художественных приспособлений не водилось, и в таких случаях он удовлетворялся первым попавшимся лоскутком бумаги, на котором возникала всякая всячина — то, что ему взбредет на ум, или то, что безотчетно станет выводить сам собой карандаш или перо. Было в жизни Бакста несколько периодов, окутанных эротической одержимостью, и в эти периоды его рисунки бывали почти всегда посвящены прелести человеческого (преимущественно женского) тела. Это были своего рода упражнения, и такие упражнения находили затем отражение в его театральных костюмных эскизах. Но рисовал он от себя и головки, пейзажи, реже целые сцены, а то и всякие декоративные фантазии — вазы, блюда, мебель. Менее всего ему давалась архитектура, и особенно все, что связано с перспективой (как раз то, что мне и Жене Лансере давалось легче всего). Тут он путал, а иногда даже грешил непонятными абсурдами (но не было ли это уже как бы каким-то предчувствием или предсказанием того, что в дальнейшем привело всю передовую европейскую живопись к полному и сознательному отрицанию перспективы и вообще ощущения пространства?) Все остальное и хотя бы самая случайная и пустяшная прихоть кисти и карандаша Левушки свидетельствовали о необычайной природной технической его ловкости, а многое и об его чувстве красок.
Сказать мимоходом, он иногда прямо подражал в таких своих фантазиях знаменитому в те времена придворному художнику Михаилу Зичи. Это может показаться предосудительным с точки зрения ныне царящего вкуса, но, перефразируя слова Давида про Буше, я скажу: «Не всякому, кому хочется, удается стать Зичи» и если Теофиль Готье и перехватил через край в своих восхвалениях блестящего венгерца (с творчеством которого Тео познакомился в Петербурге), то все же Зичи остается бесспорно одним из самых удивительных виртуозов середины XIX в. В смысле мастерства как раз Зичи не столь уж уступает ни Буше, ни Фрагонару.
Очень характерно для Бакста еще то, что нашей дружбе не вредили те ссоры, которые происходили между мной и им. Да и происходили они редко (реже, чем мои размолвки с Дягилевым, с Нувелем), и носили всегда вздорный характер. Только одна наша размолвка рисковала стать чем-то окончательным и непоправимым. Это та, которая произошла из-за действительно совершенно удивительной провинности Левушки в отношении меня, когда он присвоил себе авторство того балета, который носит название «Шехеразады» и который был целиком, от начала до конца, сочинен и во всех подробностях разработан мной — в качестве драматического истолкования музыки Римского-Корсакова. Но замечательна в данном прискорбном случае не только та беззастенчивость, с которой было произведено, пользуясь моим отсутствием (и при поддержке Дягилева), присвоение чужой собственности, но и то, что после года мое возмущение против Бакста и Дягилева, остыло и я им обоим простил их гадкий поступок. Оглядываясь теперь назад на эту противную историю совершенно объективно и почти без горечи, я вижу именно в ней интересное свидетельство о наших взаимоотношениях. Осталось не вполне выясненным (мне было тошно в свое время копаться во всей этой гадкой чепухе), не явился ли в данном случае настоящим подстрекателем Сережа, который и вообще никогда не отличался примерной деликатностью и даже тем, что можно бы назвать твердостью в своих моральных принципах. Такое предположение об его роли как подстрекателя допускает та фраза, которую он мне бросил, когда на сцене «Парижской Оперы» я обратился к нему с недоуменным вопросом — почему в программе «Шехеразада» значится как балет Бакста: «Что же ты хочешь, Шуренька, у тебя есть твой балет („Павильон Армиды“), пусть же и у Левушки будет свой». В таком случае провинность Бакста свелась бы к тому, что он по слабости согласился на предложенную Дягилевым комбинацию: он уступил. Приняв же обычную свою позицию безапелляционного вершителя судеб, Сергей воспользовался тем, что я по болезни в нужный момент отсутствовал из Парижа, и сделал Баксту своего рода подарок — ему, Дягилеву, ничего не стоивший.
Самая тогдашняя ссора с Бакстом из-за «Шехеразады» (весна 1910 года) носила своеобразный характер. Вернувшись из Парижа в Лугано, я написал Дягилеву письмо с заявлением, что прекращаю с ним, а следовательно, и с Бакстом всякие деловые сношения, иначе говоря, я покидаю наше общее дело. Мне это было очень больно, но я предпочитал такой способ реагирования, вместо того, чтоб выносить сор из избы. Однако уже осенью того же года, поддавшись увещеванию Сережи и Стравинского забыть обиду и принять ближайшее участие в создании балета на тему русской масленицы («Петрушки»), я сменил гнев на милость и вернулся на дружеское лоно. Лично с Левушкой примирение (без каких-либо объяснений) произошло затем в Петербурге весной 1912 года, куда он приехал на короткую побывку. Тут произошел крайне прискорбный и позорный для русских порядков казус. Бакста административным образом в двадцать четыре часа выслали из пределов России. Что было причиной, заставившей царскую полицию прибегнуть к такой мере, так и осталось невыясненным. Возможно, что причиной было то, что Левушка, перешедший в 1902 году в христианство, дабы получить возможность соединиться браком с любимой женщиной, поспешил после развода с ней вернуться к религии своих отцов. Во всяком случае, мера была принята внезапно, причины не объявлены, а все хлопоты об ее отмене (причем в хлопотах участвовала сама великая княгиня Мария Павловна) остались тщетными. Бакст был принужден удалиться, причем он дал себе клятву никогда больше в Россию не возвращаться…
О ссоре, произошедшей между мной и Левушкой по поводу того, что он без моего разрешения (и, вероятно, по наущению все того же Дягилева) переписал портрет фокусника на декорации 2-й картины «Петрушки», не стоит распространяться. В этой размолвке я был больше виноват, нежели он, но в свое оправдание могу привести то, что в тот день, когда я, увидав на репетиции видоизмененный портрет, в бешенстве покинул театр, я был болен (у меня нарывала опухоль на локте), у меня был жар, и, кроме того, я был переутомлен последними приготовлениями к спектаклю. К тому же по существу я был прав, но не прав я был в выборе той формы, в которой вылилось мое негодование в объяснении по этому поводу с Серовым. Можно ли, однако, говорить о выборе, когда у человека 39° и он находится в состоянии крайнего аффекта.
Во всяком случае, и эта ссора не имела дальнейших последствий, и когда много лет спустя, в 1923 году, я выбрался из Советской России в Париж, Бакст был до последней степени мил и нежен со мной и с моей женой. Будучи тогда на зените своей славы, он даже оказал нам на первых порах некоторую материальную помощь. К крайнему нашему горю, уже в следующем году, в декабре, милый Левушка, которого мы когда-то считали мнимым больным (о чем еще будет речь ниже), после многих месяцев тяжелого недуга скончался.
Еще несколько слов об отношениях между Левушкой и Сережей. За последние годы, и особенно после постановки в Лондоне «Спящей красавицы» в 1922 году, Левушка находился в открытой, непримиримой распре с Дягилевым, но думается мне, что на сей раз причина лежала в том, что Дягилев стал все круче изменять тому направлению, которое легло в основание всего дела русских спектаклей за границей. Новое направление, заключавшееся в том, чтоб во что бы то ни стало эпатировать буржуа и угнаться за последним словом модернизма, в высшей степени претило Баксту. Но и мне такой поворот в деле, которое когда-то было моим, казался возмутительным. Возникло же оно главным образом благодаря тому, что в годы моего вынужденного пребывания в России с 1914 по 1923 г. я совершенно утратил свое влияние на моего неверного друга и был безгранично огорчен, убедившись в том, что он разрушает то самое, что при нашем участии и по нашей инициативе он соорудил и что имело такой грандиозный успех во всем мире.
ГЛАВА 10 Университет
Вернемся к моему пребыванию в университете, куда я поступил осенью 1890 г. Если бы меня серьезно спросили, что, в сущности, побудило меня к этому шагу, то я затруднился бы ответить. Более всего тут действовал установленный обычай. «Надлежало получить права» для определения затем на государственную службу, а существование людей нашего круга вне государственной службы как-то не мыслилось (если они не имели какой-либо художественной или иной специальной профессии). И я собирался служить, но вовсе не потому, что чувствовал призвание к какому-либо роду службы, а потому что надо же было куда-то приткнуться. Мысли же о свободной художественной карьере как таковой я оставил с самого того момента, когда, разочарованный, я в 1887 году покинул Академию. Как раз за эти же годы созрело решение в правительственных сферах, что пора в корне реорганизовать Академию, пришедшую в полный упадок. Собирались всевозможные комиссии специалистов и просто умных голов, но главная надежда возлагалась на графа Ивана Ивановича Толстого, пользовавшегося репутацией человека с уклоном в сторону известного либерализма. Ему и было поручено руководить работами по составлению нового академического «Устава».
И у нас в доме, в папином кабинете часто происходили теперь заседания, посвященные тому же вопросу академической реформы. Естественно, я был очень заинтересован, не питая, впрочем, особого доверия к тому, что такие обсуждения и словопрения могли бы привести к чему-либо хорошему. Не особенно мне импонировал сам И. И. Толстой, с которым я и раньше встречался у своего двоюродного брата Жени Кавоса. Иван Иванович был необычайно мил и любезен, он очень симпатично картавил, у него была приятная, круглая, слегка смахивающая на традиционного китайца физиономия с висячими черными усами, но все, что он говорил, было проложено легкой иронией, под которой чувствовалось не то какая-то внутренняя разочарованность, а не то просто пустота. Это был тип благожелательного барина-дилетанта, ничего, в сущности, в искусстве и во всей психологии творчества не понимающего, но как-то привыкшего искусство уважать. Простота же Толстого, если и была искренней, а не напускной, в моих глазах являлась скорее минусом. Я уже тогда понимал значение силы воздействия на других, заключенной в известную представительность. Роскошь быть общественным деятелем «в халате» мог себе позволить разве только какой-либо гений, который и самой распущенности умел бы придать известный декорум (скажем, на манер Потемкина). Но Иван Иванович не был гением, а к тому же в вопросах искусства он сам себя признавал профаном, хоть и сотрудничал с Кондаковым в составлении издания «Русские древности».
Все же преобразование Академии, связанное с именем И. И. Толстого, оказалось в сравнении с дореформенным ее состоянием чем-то благотворным. Затхлый воздух, скопившийся в классах и в мастерских, обновился, какие-то надежды ожили, какие-то иллюзии расцвели, а все это много значит. Всего важнее было то, что взамен прежних ископаемых, проеденных молью старых профессоров, к делу преподавания были привлечены новые силы, подлинные живые художники с самим И. Е. Репиным во главе. Ученики воспрянули духом, и многие таланты окрылились, определились ярче. В этом по прошествии нескольких лет я мог убедиться на примере моего друга Константина Сомова, а также на примере Ф. А. Малявина и А. П. Остроумовой. Что же касается меня, то в самый тот момент, когда, окончив гимназию, я оказался на перепутье и мне надлежало выбрать дальнейшую дорогу, о реформе Академии только начинали говорить. Одно обещание чего-то нового и хорошего не могло повлиять на мой выбор.
Спрашивается еще, почему, поступая в университет, я выбрал именно юридический, а не какой-либо иной факультет? Почему, например, я не предпочел историко-филологический, в котором, казалось бы, я мог бы найти для себя больше интересного? На это настоящих причин не имелось, но уже достаточно было того, что все мои школьные друзья поступили именно на юридический факультет, да и все студенты, с которыми я за последнее время общался, были тоже «юристами». Было бы странно, если бы при отсутствии определенного иного жизненного плана я отделился бы от них и ушел бы куда-то в сторону. Ведь и Философов, и Нувель, и Калин, и Скалон, вместе с присоединившимся к нам в 1890 году Дягилевым, поступая на юридический факультет, не следовали какому-либо призванию, а подчинялись все той же рутине. Так полагалось. Считалось, кроме того, что и тем, кто вовсе не собирались посвятить себя специально юриспруденции, не бесполезно для жизни приобрести познания, преподававшиеся на юридическом факультете, что предметы, изучаемые на нем, служат продолжением все того же общего образования, а диплом, полученный на государственном экзамене юридического факультета, отворял все двери — иди служить куда хочешь. Наконец, не последним соображением было для нас то, что самые занятия на этом факультете не требуют полной отдачи себя, а нам хотелось иметь как можно больше времени в своем распоряжении. Мы так были увлечены тем хаотическим, но все же интенсивным самообразованием, которое давали нам чтение, посещение музеев, театров, концертов! Да и наши постоянные встречи с их обменом мнений, с их спорами, много значили. Я и сейчас считаю, что главную пользу (или даже единственную реальную и несомненную пользу), которую нам принесло пребывание в университете, мы извлекли не из тех наук, которые мы слушали без особого рвения (с каждым семестром все менее и менее прилежно), а из того, что у нас теперь оказалось столько досуга. Эта уйма свободного времени дала нам возможность осмотреться, самоопределиться, понять, куда нас действительно тянет.
Нельзя отрицать и того, что и из некоторых предметов, наименее судейских и наиболее общих, мы почерпнули для себя пользу несомненную. Эти познания дисциплинировали наше мышление, познакомили нас с различными философскими системами. Если до того мы ознакомились, благодаря классическому образованию, с Платоном, с Аристотелем, то теперь мы узнали и Декарта, и Локка, и Лейбница, и Канта, и Гегеля, и Шопенгауэра. Меня особенно влекло к первым трем, некоторые из друзей больше увлекались тремя последними, к которым прибавился Ницше — настоящий бог молодежи того десятилетия.
Историки С.-Петербургского университета характеризуют описываемую эпоху как время его упадка, и причину того они усматривают главным образом в реакционной политике правительства. Таково было и мнение большинства студентов. Профессора в их представлении разделялись на покорных ставленников ненавистного правительства и на тех, кто сумели, несмотря на всякие препоны, отстоять в значительной степени свою независимость. Правда, эти прогрессивные профессора были вынуждены несколько скрывать свое истинное свободомыслие, но отгадывать было все же легко то, чего они не договаривали. Это отгадывание превращалось даже у верных слушателей в своего рода излюбленную игру. Профессора, которые отваживались более прозрачно высказывать независимость своих убеждений, пользовались особенным фавором, иногда и не столь заслуженным по существу. В мое время таким любимцем у студентов был приват-доцент Исаев, читавший курс политической экономии — предмет сам по себе занимающийся всякими довольно каверзными вопросами, касающимися народного благосостояния. А. А. Исаев пользовался огромной популярностью. Этот нестарый, рыжебородый, близорукий, плешивый ученый иначе не проходил по знаменитому бесконечному коридору университета, как окруженный толпой своих поклонников, а аудитории, в которых Исаев читал, наполнялись заблаговременно — до того, что в них запоздалым и пролезть было трудно, а пролезшим приходилось стоять, а не сидеть.
Но как ни популярен был и как ни достоин был А. А. Исаев такой популярности, все же не он являлся настоящей славой юридического факультета моего времени, а являлись таковыми профессора Сергеевич, Дювернуа, Мартенс, Фойницкий и Коркунов. Их аудитории не брались с бою, но внимание, с которым слушались их лекции, свидетельствовало о степени того высокопочитания, которым они пользовались, и это несмотря на то, что они как раз были совершенно чужды политике. В полном смысле слова прекрасными были лекции Сергеевича, читавшего историю русского права. Эти лекции излагались из года в год в тех же выражениях, по одной и той же установленной системе и даже с теми же эффектными паузами перед наиболее примечательными сообщениями. И тем не менее, они приковывали внимание — до того все, что рассказывал Сергеевич, было колоритно, с таким тонким мастерством были подобраны примеры, иллюстрирующие те или иные явления. Из лекций Сергеевича я, кажется, не пропустил ни одной, а на экзамене показал, что предмет мною вполне усвоен.
Сергеевич был и с виду весьма замечателен. Его некрасивое, но характерное лицо сохраняло всегда несколько горделивое или брезгливое выражение; его плотная и все же стройная фигура, облаченная в отлично сшитый вицмундир, и даже тот плавный, закругленный жест, которым он то и дело без настоящей нужды снимал и вытирал очки или поправлял черный, безупречно повязанный галстук, все это складывалось, в связи с плавной, довольно медленной, но отнюдь не усыпляющей речью, в нечто своеобразно пленительное. Слушать Сергеевича было наслаждением, и приятно было глядеть на лектора. Самый предмет, который он читал, до странности оживал; становился интересным даже для тех, кто раньше вовсе не интересовался бытовым прошлым России.
Дювернуа, с которым я познакомился на втором курсе, читал гражданское право. Он представлял противоположность Сергеевичу. Это был старый господин с бритым, очень французистым лицом, напоминавшим каких-либо министров Реставрации. Читал он с жаром, часто увлекавшим его в сторону от основной темы, но как раз эти отступления были особенно интересными. Дювернуа пользовался большим авторитетом если и не среди наиболее прогрессивного студенчества, то среди тех, кто поступил в высшее учебное заведение с тем, чтоб действительно усвоить нужные для юридической карьеры знания. Однако он не был любим студентами. Он и мало кого допускал до себя, а на экзаменах был неприятен, придирался и охотно резал.
Я воздержусь от подробной характеристики других профессоров, да и что сказать о такой бездарности, как Ефимов, читавшем римское право (его чисто формальное отношение к предмету выражалось, между прочим, в том, с какой, я бы сказал, циничной снисходительностью он относился к зачетным работам, которые требовались от студентов для перехода с первого на второй курс. И я использовал эту снисходительность, написав род пересказа своими словами того, что говорил Фюстель де Куланж в своем классическом труде «La cite antique» про военную казну — род сберегательной кассы для легионеров), как Бершадский — профессор энциклопедии права, излагавшем семинарской скороговоркой массу путаных сведений о самых глубоких философских системах, наконец трудно что-либо сказать и о таких маститых ученых с «европейским именем», но довольно тусклых лекторах, как Мартенс и Фойницкий. Зато необходимо выделить еще Н. М. Коркунова, ибо самая его личность представляла значительный интерес, а то, как он преподавал свой предмет, будоражило умы и возбуждало страстные споры — особенно среди тех студентов, которые видели в своем пребывании в университете род подготовительного стажа для политической агитации прогрессивного, иначе говоря, революционного характера. Коркунов пользовался настоящей ненавистью среди именно этих беспокойных элементов, но в данном случае эта ненависть не сопровождалась презрением. Коркунова никак нельзя было причислить к разряду «выслуживающихся продажных холопов». Он был убежден в своих взглядах, которые тогда почитались за ретроградные, но в которых теперь можно скорее усмотреть нечто более передовое, нежели взгляды тех, кто слепо верил в спасительность конституции и дарования русскому народу парламентского режима в английском вкусе. Коркунов был убежденным монархистом и имел мужество не скрывать этого. Тем самым и среди коллег его положение было обособленным. Он был одинаково далек как от безусловного рабьего преклонения перед существующим режимом, так и от его слепого и нелепого неприятия. Коркунов говорил об органической формации и росте государственных установлений, о том, что каждое государство создает свой режим по своему образу и подобию и что вообще идеальных систем не существует, что и система, представляющая многие дефекты, может оказаться подходящей для данного места и для данного народа. Такие и подобные мысли лежат (если я правильно их запомнил) в основе и его талантливо составленных книг — в «Сравнительном очерке государственного права» и в «Русском государственном праве». Но слушать Коркунова было еще поучительнее и интереснее, нежели его читать. Он говорил совершенно просто, без подчеркивания, без пафоса, но его внутренняя убежденность сообщала его изложению большую силу. В частности, мне и моим друзьям Коркунов оказал ту пользу, что мы, благодаря ему, получили лучшее обоснование нашему, еще в гимназии начавшему образовываться credo. Только теперь в ясную систему с отчетливой формулировкой стал складываться наш консерватизм, и только теперь я осознал, что я по природе консерватор с монархическим уклоном. Тогда же окончательно выработался во мне и самый «идеал монарха», идеал, помогавший мне разбираться как в историческом прошлом, так и в современных российских и мировых обстоятельствах.
По-новому, более сознательно я теперь стал относиться и к царствующему государю, оценивать самую его личность. Многое, что я, зараженный почти поголовным фрондерством русского общества, находил когда-то в правлении Александра III уродливым и даже возмутительным, стало теперь казаться необходимым или неизбежным. И обратно, если и раньше меня отталкивала от себя вся незрелая и часто просто глупая («снобистская», сказали бы мы сегодня) революционность, то теперь она представлялась мне преступной, фатально, неминуемо ведущей ко всякой мерзости запустения. Надо прибавить, что тогда же (и только тогда) я решил познакомиться с некоторыми творениями Достоевского, в которых я тоже нашел (рядом со всем парадоксальным и двусмысленным) настоящую пищу для своего миросозерцания.
Разумеется, Александр III не был идеальным государем. Ограниченность его интеллекта, примитивность, а то и просто грубость его суждений, его далеко не всегда счастливый выбор сотрудников и исполнителей — все это не сочетается с представлением идеального самодержца. Наконец, его ограниченный национализм выливался подчас в формы мелочные и очень бестактные. И уж никак нельзя считать за нечто правильное и подходящее то воспитание, которое он дал своим детям, и особенно своему наследнику. Их слишком настойчиво учили быть прежде всего людьми и слишком мало подготовляли к их трудной сверхчеловеческой роли. Александра III заела склонность к семейному уюту, к буржуазному образу жизни. И все же несомненно его слишком кратковременное царствование было в общем чрезвычайно значительным и благотворным. Оно подготовило тот расцвет русской культуры, который, начавшись еще при нем, продлился затем в течение всего царствования Николая II — и это невзирая на бездарность представителей власти, на непоследовательность правительственных мероприятий и даже на тяжелые ошибки. Проживи дольше Александр Александрович — этот «исполинский мужик» или «богатырь», процарствуй он еще лет двадцать, история не только России, но всего мира сложилась бы иначе и несомненно более благополучно.
Главной, наинужнейшей для самодержца чертой Александр III обладал в полной мере. Он был крепок, он умел держать и сдерживать, он имел на вещи свое мнение, а его простой здравый смысл выработался на почве глубокой любви к родине. При этом он был честен, прост и в то же время достаточно бдителен, чтоб нигде и ни от кого Россия не терпела ущерба. Без кровопролитных войн, даже без особенных угроз, он, озабоченный тем, чтоб сохранить в добром состоянии вверенную ему Богом страну, являл в семье прочих государей и правителей некую твердыню — надежную для друзей, грозную для врагов. Не его вина, если Судьбе или Промыслу угодно было одновременно с ним вызвать к вершению дел мирового значения такую прямую противоположность ему, какой явился Вильгельм II. Не его вина и в том, что вековая дружба с соседом, с Германией, дружба, скрепленная столькими семейными союзами, дружба, на которой было построено все равновесие Европы, была нарушена отказом юного, нелепо тщеславного германского императора (вступившего на престол в 1888 году) возобновить лучшее и сколь мудрое создание Бисмарка — договор о взаимной поддержке обоих государств. Нельзя винить Александра III и в том, что после этого чреватого последствиями разрыва (и как прямое следствие его) он согласился на демонстративное сближение с Францией. Проживи он еще несколько лет, Александр III сумел бы, вероятно, провести свой корабль между вновь возникшими опасностями, действуя своим авторитетом, своим престижем. Но рок готовил России, Европе, Миру иное — и этот тяжелый рок стал выявляться с момента, когда мощную, богатырскую его фигуру, его гранитную надежность сменила личность его сына. Николай II был милым человеком, но и слишком обыденным человеком, полным добрых намерений, но лишенным способности их проводить в жизнь. И главное — Николаю II не хватало и особых данных, которые только и позволяют играть с достоинством роль главы и вождя исполинского государства… Вот я и снова не утерпел, чтоб не остановиться на моем отношении к режиму, к монархии, к самой личности монарха, но эти вопросы занимали и волновали нашу компанию в сильнейшей степени. Меньше всего — Дягилева.
Вернемся теперь к моему рассказу об университете и, в частности, о профессоре Коркунове. Карьера этого замечательного ученого обещала быть блестящей, однако и здесь вмешалась превратная судьба. Любовная история, окончившаяся публичным скандалом, заставила Коркунова подать в отставку и покинуть университет. Вскоре после того в нем стали обнаруживаться признаки помешательства. Те годы, которые ему осталось жить, он провел с сильно померкнувшим сознанием и, как я слышал, в нужде. В последний раз я его увидал в 1901 или в 1902 году в помещении редакции моих «Художественных сокровищ России». Несчастный, жалкий человек решился сам прийти просить, ссылаясь на стеснительные обстоятельства, сделать ему скидку на подписной цене. Он был в восторге от всего, что появлялось в созданном мной сборнике и от того, «с каким чисто европейским вкусом» (его слова) он издается. Но до чего мучительно было мне видеть его потухший взор, некогда сверкавший воодушевлением, и это серое, изнуренное недугом лицо. А главное — слышать этот робкий, почти заискивающий говор. Я приглашал Николая Михайловича заходить, когда ему вздумается, однако он этим приглашением не воспользовался, и этот визит был первым и последним.
Еще несколько слов об университете как о здании. Входя в него, я не испытывал того же душу поднимающего трепета, который неминуемо каждый раз меня охватывал, когда я вступал в чудесный, многоколонный вестибюль Академии художеств и подымался по одной из двух лестниц, ведших в бельэтаж. Все же и здание университета издавна привлекало мое внимание, и это уже вследствие того анекдота, который папа рассказывал про его постройку при Петре Великом и который, может быть, не лишен исторического основания. Будто царь-преобразователь, уезжая в чужие края, повелел Меншикову строить это здание, в котором должны были поместиться все двенадцать коллегий-министерств, вдоль по набережной Невы, являясь продолжением зданий Кунсткамеры. И вот, великому негодованию Петра не было пределов, когда, вернувшись, он увидел, что Коллегии возводятся не вдоль берега, а перпендикулярно к нему, вследствие чего получилась совершенная нелепость. Эта самая значительная из построек в новой столице, долженствовавшая, по мысли царя, служить ее главным украшением, встала узким, невзрачным боком к реке, тогда как весь его внушительный фасад протянулся куда-то в сторону. Но фундамент был уже заложен, стены наполовину выведены, и оставалось только отдубасить виновника (Меншикова). Заодно попало и архитектору-иноземцу (Леблону).
Все же и в настоящем своем виде здание коллегий, в котором со времени Александра I помещался университет, представляло собою с площади величественное целое, испорченное лишь тем, что во всю его длину расположен за решеткой сад, деревья которого заслоняют значительную часть здания. В дни моего детства и молодости университет красили в сплошной кирпично-красный цвет, и это если и не было особенно оригинально, то все же подчеркивало величавую однообразную громадность здания. Позже (по моему же совету) его стали красить в красный и белый цвет (по примеру современного ему Петергофского дворца), но надо сознаться, что такая окраска, не прибавив особенной живописности, нарушила то, что в этой архитектуре было благородно-горделивого.
К сожалению, внутри, кроме одного (не особенно интересного) кабинета, ничего от прежнего убранства и расположения не осталось. Необходимость устроить обширные аудитории и лаборатории, а также актовый зал и связать все части посредством общего коридора изменила весь первоначальный план. Но как раз этот коридор, тянущийся по надворной стороне с одного конца здания до другого, сообщал университету своеобразный характер. В течение дня (пока в аудиториях шли лекции) в этом коридоре происходило своего рода гуляние юношей, одетых в одинаковые черно-зеленые мундиры с синими воротниками и золотыми пуговицами. Здесь происходили встречи, завязывались знакомства, возникали споры. Вследствие непомерной длины этого прохода далекие фигуры можно было едва различать, а вследствие сравнительной узости коридора в нем часто получались заторы и толкотня. В этом же коридоре происходили, несмотря на строжайший запрет, студенческие сходки. Мне особенно запомнилась одна, центром которой был черномазый болгарин, который, взобравшись на подоконник, оттуда держал свою речь, точнее, вопил на корявом русском языке призывы вести борьбу за свободу соединенными силами всех славянских народов. В этом же коридоре я случайно угодил в самую гущу внезапно откуда-то возникшей манифестации явно революционного характера, окончившейся вызовом полиции и казаков.
В раздевальне университета царил довольно курьезный порядок, наблюдение за которым было поручено особым контролерам — педелям. Каждому студенту было отведено особое место под номером: вешалка-крючок для пальто, а над ней отрезок полки, на которую клалась фуражка, портфель, книги и т. п. Педели то и дело обходили ряды вешалок и делали у себя отметки, кто из студентов явился, а кто отсутствует. В точности я не помню, какие санкции грозили недостаточно радивым; но, во всяком случае, нежелательно было попасть в число таких абсентеистов, и для избежания этого существовал простейший способ. Стоило повесить пальто и положить фуражку на полку, затем немного пофланировать по соседству в ожидании того, что педель сделает свою отметку, и тогда можно было без опаски покинуть университет, не побывав ни в одной аудитории и не прослушав ни одной лекции. Сторожа, на обязанности которых было охранение нашего участка в раздевальне, поощряемые щедрыми на-чаями, подавали украдкой знак, что-де контроль прошел. Систематически предаваться такому отлыниванию мы, однако, стали лишь на третьем курсе, тогда как первые два года посещали университет усердно и не только слушали своих профессоров, но в своей жажде просвещения посещали и аудитории других факультетов, находя особенное упоение в таком энциклопедическом приобщении к наукам.
Таким образом, мы побывали и на ряде лекций популярного профессора иностранной литературы, маститого, украшенного библейской бородой П. И. Вейнберга. (Казалось очень странным, что этот глубоко серьезный, с оттенком какой-то характерно иудейской грусти старец, родной брат очень любимого комического актера Александрийского театра, главной специальностью которого были рассказывания со сцены перед занавесом еврейских анекдотов в антрактах между действиями или в конце спектакля. Диалоги в этих рассказах передавались на уморительном «жидовском» жаргоне, смеси идиша с русским. Зал покатывался со смеха и требовал еще и еще новых рассказиков. С виду актер Вейнберг был разительным контрастом своему ученому брату. Это был стройный, очень подвижной человек, всегда одетый во фрак.)
Стал я было посещать и лекции Н. П. Кондакова, происходившие в помещении библиотеки, в очень интимной обстановке и при весьма ограниченном стечении слушателей. Отправляясь на первую, я мечтал, что вот услышу нечто дух подымающее, вроде легендарных лекций Грановского или Тэна. Вместо того на всех трех лекциях нашего знаменитого ученого, на которых я побывал, речь шла (в довольно неуклюжем изложении) лишь о микенских древностях и происходил подробнейший разбор разных чаш, кубков и других откопанных золотых предметов. Получив тогда отвращение от подобного гробокопательства, я закаялся ходить на лекции маститого Никодима Павловича и тогда же оставил последние помыслы перебраться на историко-филологический факультет. Археология не была тогда в моем вкусе; мне она казалась областью прямо противоположной искусству. Позже я лучше изучил пользу от досконального изучения хотя бы и очень невзрачных с первого взгляда предметов. Да и к самому Кондакову я исполнился величайшего уважения. Какой светлый ум, какая глубокая ученость, какое чувство прекрасного скрывались под оболочкой сухости и даже какой-то тупости. Но в те все еще полуребяческие времена, в 1890 году, в тех бурных настроениях, в которых я пребывал, я требовал от науки, от искусства нечто совершенно иное — более трепещущее, сразу зажигательное.
Кончал я университет весной 1894 года. Как это ни странно, я как раз за свои студенческие годы убедился, что я художник и что должен остаться художником. Я поверил в себя. Не посещая никакой специальной школы, я, однако, самостоятельно все ревностнее занимался рисованием и живописью, а также пополнением своего художественного образования. По окончании университета я уже считал, что искусство в той или иной форме будет моей основной профессией. Но оставалось еще претерпеть всю длительную и изнурительную пытку государственных экзаменов. Зачем я пошел на это тяжелое испытание, раз я уже не собирался воспользоваться теми правами на службу, которые эти экзамены давали? Вглядываясь в свое прошлое в целом, я вижу, что и те бессмысленные мучения имели все же свой смысл. Получив права, я как-то успокоился, я точно запасся талисманом, который в нужный момент мог бы использовать; а ведь известно, что в том и заключается сила талисмана, что он дает большую уверенность в себе; чувствуя себя вооруженным, человек не боится вступать в борьбу с теми или иными, даже и самыми грозными силами.
Но действительно, эти экзаменационные мучения были до того ужасны, что и до сих пор я вспоминаю о них с содроганием. Мало того, в течение нескольких десятков лет один из моих самых страшных кошмаров был тот (повторявшийся каждую весну), в котором я оказывался в актовом зале перед столом профессора-экзаменатора. При этом я каждый раз с ужасом констатировал, что ровно ничего по данному предмету не знаю. Экзаменационная пытка была для меня тем более мучительной, что от благополучного экзамена зависела вся ближайшая программа моей жизни. В этом 1894 году минуло уже три года с того момента, когда наш роман с Атей возобновился, и теперь мы официально были признаны женихом и невестой. Наша свадьба была назначена тотчас по окончании университета, студентом же я ни за что не желал вступать в ряды семейных людей. Как мне, так и Ате это казалось чем-то смешным и даже уродливым. С другой стороны, нашему терпению, после стольких лет ожидания, наступал конец, и откладывать соединение дольше представлялось невозможным. Нужно было во что бы то ни стало экзамены сдать и их выдержать. И вот такое ощущение абсолютной необходимости отчасти подстегивало меня, прибавляло мне мужества, а отчасти оно же наполняло меня ужасом, лишавшим аппетита и сна… А тут еще моя невеста в апреле заболела. Я зубрил дни и ночи в состоянии какого-то угара, и все же некоторые предметы я успел только «просмотреть» (это были второстепенные предметы, и экзаменаторы по ним относились с известной снисходительностью к экзаменующимся, некоторых они никогда на своих лекциях и не видали).
Слава Богу, все сошло благополучно, но два раза я подходил к самому краю пропасти. В первый раз то было на экзамене международного права, которое у нас читал важный член министерства иностранных дел и европейское светило профессор Мартенс. Предмет меня лично интересовал, и я знал его довольно хорошо. Получив билет по такому вопросу, который я особенно толково усвоил, я подошел к экзаменационному столу без страха и ответил без запинки. Но надо же было Мартенсу пожелать выяснить, кроме того, мои познания по политической географии. Этот добавочный вопрос коснулся того, в каком порядке расположены между собой балканские государства, которое из них на юге и которое на севере? И тут я позорно оскандалился. Я вообще «братушками» не интересовался вовсе, и для меня эти проклятые Балканы представлялись какой-то ничтожно малой величиной, не стоящей внимания. За такое отношение я чуть было и не поплатился. Услыхав, что Болгария лежит на западе от Сербии, а Румыния на юге от Болгарии, Мартенс уже взялся за карандаш, чтобы поставить в графе против моей фамилии страшное слово «неудовлетворительно», которое означало бы общий мой провал, но тут я так взмолился и изобразил такое отчаяние, что этот человек, имевший репутацию неумолимой строгости, смилостивился, и я, к своему безграничному облегчению, увидел, что он выводит желанное «удовлетворительно».
Но международное право я действительно знал, а вот в учебник торгового права я и не заглядывал. Я был уверен, что это не имеет значения — ведь кроме тех студентов, которые себя готовили к данной специальности, никто даже не пытался узнать, что в сущности это такое. С другой стороны, всем было задолго до экзаменов известно, что достаточно бойко проболтать первые четыре строчки доставшегося билета, как уже профессор отпускал студента с хорошей отметкой. Вызубрить же наизусть именно данные четыре строчки можно было успеть, пока экзаменовался коллега-предшествующий, так как в том столе, за который разрешалось присесть, чтоб подготовиться, лежал этот самый учебник — стоило только его открыть на нужной странице и вызубрить полсотни слов. Но тут случилось со мной нечто совершенно идиотское. Я перепутал номер своего билета и вызубрил (сидя за столом) не то, что нужно. Обнаружив, что я отвечаю не по тому билету, который я вытащил, профессор остановил меня и попросил отвечать что мне полагалось… Наступила минута абсолютного молчания, профессор предложил другой вопрос, я и на него не нашел что ответить, а весь мой вид доказывал, что я вообще ровно никакого понятия о торговом праве не имею. Попросил я было отпустить меня к столу, но это вышло как-то уж очень цинично, и профессор даже обиделся. Тем не менее, и он смилостивился и не срезал, а с выражением крайней брезгливости поставил спасительное «удовлетворительно». Я же, неблагодарный, даже не запомнил фамилии этого благодетеля.
Таким образом я окончил университет далеко не блестяще, но я его окончил, что только и требовалось. Теперь я оказался полноправным гражданином Российского государства — кандидатом на штатную должность не то 14-го, не то 12-класса. Мог бы поступить в то или иное министерство (протекции нашлись бы всюду), но этим лестным преимуществом я не пожелал воспользоваться, зато уже меньше чем через месяц — 29 июня 1894 года, я стоял перед алтарем в церкви св. Екатерины на Невском, рядом с той, которую я выбрал себе в подруги жизни восемь лет тому назад, и добрый патер Шумп нас венчал при стечении всей нашей родни.
ГЛАВА 11 Сережа Дягилев
Теперь пора представить еще одного из членов нашей основной дружеской группы — как раз то лицо, которому выдалась первопланная роль не только у себя на родине, но — без особого преувеличения — и в мировом масштабе. Я говорю о Сергее Павловиче Дягилеве.
Мое первое знакомство с ним произошло в начале лета 1890 года, как раз когда только что миновала экзаменационная пора окончания гимназии. Я еще оставался в городе (готовясь к своему заграничному путешествию), оставался перед переездом на дачу и Валечка, но Дима Философов отбыл в свое родовое Богдановское. От него мы перед отъездом и получили поручение встретить его двоюродного брата, который на ближайших днях должен был прибыть из Перми, где он только что окончил гимназию. Этот Сережа Дягилев собирался затем осенью поступить вместе с нами в Петербургский университет. Первым увидал Сережу Валечка, ибо как раз в это время семья Нувелей перебралась с другого конца Галерной улицы и поселилась в том же доме, где жили Философовы (номер 12) — ровно над ними. Сережа же остановился в пустой квартире своих родных и, приехав, не откладывая, поднялся к Нувелям, о чем Валечка меня тотчас же известил.
На худенького бледного Диму этот кузен вовсе не был похож. (Анна Павловна Философова была родной сестрой отца Сережи Павла Павловича Дягилева, когда-то в молодые годы служившего в самом аристократическом полку — в Кавалергардском, но затем вышедшего в отставку вследствие того, что материальное положение семьи, когда-то более чем зажиточной, сильно пошатнулось, что и принудило Павла Павловича поселиться в провинции — в Перми. Мать Сережи, урожденная Евреинова, умерла в родах, и Павел Павлович был теперь, с 1874 года, женат на Елене Валериановне, рожденной Панаевой — дочери строителя «Панаевского» театра. От этого второго брака родились еще два сына, но они, так же, как и их родители, перебрались в Петербург лишь в следующем году, когда Павел Павлович снова поступил на военную службу и получил, в чине генерал-майора, какой-то полк, стоявший в Петергофе. Сережа весь первый год прожил у Философовых, а с осени 1891 года поселился вместе с братьями на особой квартире тоже на Галерной — ближе к «Новому Адмиралтейству».) Он поразил нас своим цветущим видом. У него были полные, румяные щеки и сверкавшие белизной зубы, которые показывались двумя ровными рядами между ярко-пунцовыми губами. Каждый раз, когда он смеялся, вся внутренность его «пасти» раскрывалась настежь. Смеялся же Сережа по всякому поводу. Вообще было видно, что он в высшей степени возбужден сознанием, что он в столице, в то же время радовался своему знакомству с ближайшими друзьями его двоюродного брата, с которым он состоял в усердной переписке. Резюмируя впечатление, произведенное Сережей, скажу, что он показался нам славным малым, здоровяком-провинциалом, пожалуй, не очень далеким, немного приземленным, немного примитивным, но в общем симпатичным. Если же мы с Валечкой тогда же сразу решили его принять в нашу компанию, то это исключительно по родственному признаку — в качестве кузена Димы. Будучи одних лет с последним, Сережа был моложе меня на два года и на год моложе Валечки. Впрочем, наши впечатления носили самый поверхностный характер, ибо, устроив какие-то свои дела в Петербурге, Сережа через день уже отбыл в деревню.
Воспоминание об этой первой встрече с Сережей Дягилевым наводит меня и на другое, относящееся к ранней осени того же года. Это свидание происходило в летней обстановке. Вернувшись раньше других из Богдановского, Сережа пожелал вместе со мной навестить Валечку, проживавшего тогда с матерью на даче в Парголове. Но Валечку мы не застали дома, он был где-то на прогулке, и тогда мы отправились его искать немного наобум. Стояла гнетущая жара, и мы скоро вспотели, устали и явилось непреодолимое желание прилечь. Выбрав место посуше, мы и растянулись на траве. Лежа на спине, поглядывая на безоблачную лазурь, я решил использовать представившийся случай и более систематически познакомиться с новым другом. Такие товарищеские допросы были у нас вообще в ходу, а я им предавался с особым рвением, движимый все тем же прозелитизмом и желанием расширить круг единомышленников. Надлежало выяснить, насколько новый приятель нам подходит, не далек ли он безнадежно от нас, стоит ли вообще с ним возиться? Что касается Дягилева, то я уже знал, что он музыкален, что он даже собирается стать певцом, что он сочиняет, но знал я и то, что музыкальные взгляды Сережи не вполне сходятся с нашими. Правда, он боготворил Глинку (отец его обладал прекрасным голосом и знал всего «Руслана» наизусть), правда, он ценил Бородина и Мусоргского, но тут же он был способен увлекаться всякой итальянщиной и не разделял наших восторгов от Вагнера…
И вот эта серьезная беседа на траве нарушилась самым мальчишеским образом. Лежа на спине, я не мог следить за тем, что делает Сережа, и потому был застигнут врасплох, когда он навалился на меня и принялся меня тузить, вызывая на борьбу и хохоча во все горло. Ничего подобного в нашем кружке не водилось; все мы были «воспитанными маменькиными сынками» и были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода «физических упражнений», особенно же драк. К тому же, я сразу сообразил, что толстый крепыш Сережа сильнее меня и что мне несдобровать. Старший рисковал оказаться в униженном положении. Оставалось прибегнуть к хитрости — я и завопил пронзительно: «Ты мне сломал руку». Сережа и тут не сразу унялся; в его глазах я видел упоение победой и желание насладиться ею до конца. Однако, не встречая более сопротивления и слыша лишь мои стоны и визги, он оставил глупую игру, вскочил на ноги и даже заботливо помог мне подняться. Я же для пущей убедительности продолжал растирать руку, хотя никакой особой боли на самом деле не испытывал.
Этот случай остался мне памятен навсегда. Он приобрел даже характер известного символа. В своих отношениях с Сережей я часто вспоминал о нем, как в тех случаях, когда он снова подминал меня под себя (но уже в переносном смысле), так и тогда, когда мне удавалось получить реванш и победителем оказывался я. Взаимоотношения известной борьбы продолжались между нами в течение многих последующих лет, но я бы сказал, что именно это соревнование придавало особую жизненность и остроту нашей дружбе и отзывалось благотворным образом на нашей деятельности. Многие годы я был в некотором роде ментором Сережи, одним из его интеллектуальных опекунов.
Благодаря этому мое отношение к Дягилеву осталось очень отличным от моего отношения к прочим друзьям. К Сереже в периоды его «послушания» и «прилежания» во мне просыпалось (и годами жило) чувство чисто менторской нежности. В эти периоды я был готов на всякие жертвы, на всяческое добровольное «самостирание» — лишь бы помочь развернуться во всю ширь любимому и самому яркому своему ученику, лишь бы он мог осуществить наиболее полно мои же собственные самые заветные планы и мечты. Но вдруг получался заскок. Сережа становился предателем в отношении этих самых планов, или же его пользование мной получало оттенок беззастенчивой, слишком циничной эксплуатации. Он клал меня на лопатки, а я принимался на время ненавидеть его лютой ненавистью, видеть в нем злейшего обидчика.
Очень характерны были в наших отношениях именно эти размолвки, раздоры, ссоры. Этих ссор (если бы я потрудился подвести им итог) было по меньшей мере пять очень серьезных. Иная ссора длилась месяцами, я расставался с ним «навсегда», «выходил в отставку» (из какого-либо общего дела), я слышать ничего больше не хотел о Дягилеве, ставил ему в вину всякие промахи и неудачи. А затем наступало примирение, и часто в самый такой патетический момент Сережа плакал настоящими слезами, плакал, ибо, при всей своей безудержной энергии, он был сентиментален и болезненнее других переносил распри между друзьями. Сережа не сразу стал вполне нашим. Кузен Димы был принят в компанию, но только по признаку этого родства. Иной раз казалось, что этот юнец и молодец совсем к нам не подходит, и тогда включение Дягилева в нашу компанию как бы оставалось на ответственности Димы, который очень хотел, чтобы мы его жаловали. Мы же сдавались на Димины доводы и готовы были простить новичку то, в чем сказывался известный его провинциализм. Шокировало нас и его тогдашнее явное безразличие к нашим чисто эстетическим и философским разговорам. В качестве близкого к Диме человека, он был раз навсегда допущен на наши собрания, а когда мы всей компанией собирались в театр на особенно сенсационную премьеру (или, в теплую пору, пикником выезжали за город), то Сереже передавалось приглашение присоединиться к нам. Но все мы постепенно привыкли к тому, что на него не следует рассчитывать. Во время наших словопрений он начинал откровенно клевать носом, в театре он сразу от нас отделялся, а пикники он просто игнорировал. Все это ставилось на счет его провинциальной недозрелости или на счет его фатовства. Впрочем, первые два года он держал себя среди нас более чем скромно, и лишь на третий год у него появились замашки, которые вызывали дружеские замечания и упреки. Особенно стал он нас тогда бесить в театре, где он проходил по партеру, как-то задрав свою огромную голову, еле здороваясь, и что особенно злило, он тут же дарил приятнейшими улыбками и усердными поклонами тех знакомых, которые занимали в обществе или по службе видное положение. Этот стиль он сохранил именно в театре почти на всю жизнь.
Сфера, лучше всего еще в самом начале нас сближавшая, была музыка. Несколько лет он тешил себя надеждой, что из него выйдет превосходный певец и что, кроме того, он одарит историю музыки рядом замечательных произведений собственного сочинения. Для своего голоса (баритона) он брал уроки у артиста итальянской оперы Котоньи, по теории музыки он пользовался наставлениями Римского-Корсакова. Пением он угощал нас у себя или на семейных вечеринках у Философовых. Но мы не любили этих его выступлений. Голос у него был сильный, зычный, но какого-то пронзительного тембра (возможно, что он годился бы для сцены, но в комнате казался невыносимым), пел же Сережа с излишним пафосом. Не одобрили мы и сочиненную им в подражание Мусоргскому «Сцену у фонтана» (на те же слова Пушкина из «Бориса Годунова»), Это было нечто довольно хаотичное, во что некстати вплеталась отдававшая итальянщиной мелодия.
В области изобразительных художеств. Здесь Дягилев гораздо дольше оставался на положении (и в самосознании) ученика. Не будучи одарен каким-либо талантом к рисованию, к живописи, к скульптуре (он никогда и не пробовал своих сил в этих отраслях), Дягилев и сам считал себя если не полным профаном, то все же любителем, дилетантом (в итальянском понимании слова), и мнения авторитетов среди его ближайших друзей-художников — мое, Бакста и Серова — являлись для него абсолютными. Все же и здесь он готовил нам сюрпризы. Какими-то скачками он перешел от полного невежества и безразличия к пытливому и даже, страстному изучению, причем он как-то вдруг приобретал компетентность в вопросах, требовавших значительной специализации. (Так, например, он как-то несколькими взмахами заделался знатоком русского искусства XVIII века и создал в своей книге о Левицком настоящий памятник. Обстоятельства не позволили ему, к сожалению, издать свои исследования и о других больших русских мастерах — о Боровиковском, Рокотове, Шибанове и Семене Щедрине, а между тем он и на собирание архивных данных, касающихся их, уже потратил немало времени.) Впрочем, и после того, что он приобрел посредством упорной работы в этой области нужные сведения, он продолжал нуждаться в наших одобрениях, тогда как в музыке он обходился без этого.
Еще в университетские годы Сережа в обществе кузена Димы, оказывавшего на него огромное и плодотворное действие в смысле его умственного развития, совершил две поездки за границу. Впечатления были довольно смутные, но важно было уже то, что он знакомился с Западом и с тех пор он все определеннее поворачивался лицом к Франции, к Италии, к Германии и к Англии, причем и последние следы провинциальности начинали стираться. Постепенно он приобретает облик того Дягилева, каким он выступил, когда вполне осознал (вернее, почувствовал) свою миссию. Таким созревшим Дягилевым знали его все, кто впоследствии входил с ним в общение, все, кто вступал с ним в сотрудничество, кто видел его во время творчества.
Именно на вопросе о творчестве надо остановиться, ибо творчество и есть основа и смысл его существования. При этом все же трудно определить, в чем именно это его творчество заключалось. Картин Дягилев не писал; за исключением нескольких (очень талантливых) статей, он не занимался писательством, он не имел ни малейшего отношения к архитектуре или к скульптуре, а в своем композиторстве очень скоро совершенно разочаровался; запустил он и пение. Иначе говоря. Сергей Дягилев ни в какой художественной области не был исполнителем, и все же вся его деятельность прошла в области искусства, под знаком творчества, созидания. Я совершенно убежден, что и при наличии всех представителей творческого начала в искусстве (в музыке, в литературе, в театре), при участии которых возникли выставки «Мир искусства» и в течение шести лет издавался журнал того же наименования, при наличии тех, кто принесли свои таланты на дело, ныне вошедшее в историю под названием «Дягилевские русские спектакли», и т. д., я убежден, что и при наличии всех этих сил, ни одна из названных затей не получила бы своей реализации, если бы за эти затеи не принялся Дягилев, не возглавил бы их, не привнес бы свою изумительную творческую энергию туда, где художественно-творческих элементов было сколько угодно, но где недоставало главного — объединяющей творческой воли.
У Дягилева была своя специальность, это была именно его воля, его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный человек «начинал хотеть», всякое дело «начинало становиться», «делаться». Самые инициативы его выступлений принадлежали не ему. Он был скорее беден на выдумку, на идею. Зато он с жадностью ловил то, что возникало в голове его друзей, в чем он чувствовал зачатки жизненности. С упоением принимался он за осуществление этих не его идей. Случалось, что я, Бакст, Серов делали усилия, чтобы заразить Дягилева идеей, явившейся одному из нас, и что в ответ на это он проявлял полную инертность. Мы обвиняли его в лени (смешно сказать, но больше всего попадало этому неустанному делателю от нас за лень), как вдруг через день (а то и через час) положение оказывалось опрокинутым. В глазах только что не верившего Сережи загоралась радость делания, и с этого момента он сразу принимается выматывать у того, кто предложил идею, все, что нужно для ее реализации. Взяв навязанное дело в руки, он его превращал в свое, и часто с этого момента инициаторы, вдохновители как-то стушевывались, они становились ревностными исполнителями своих же собственных затей, но уже понукаемые нашим вождем.
Поездка по чужим краям, которую Дягилев совершил (на сей раз один) летом 1895 года, означила важный этап на его жизненном пути. Эта поездка ознаменовалась, между прочим, тем, что он посетил ряд знаменитостей в художественном, в литературном и в музыкальном мирах — как это сделал другой русский путешественник сто лет тому назад — Карамзин. За это Дягилеву попало от друзей, увидавших в таком «турне по знаменитостям» признаки все того же фатовства (теперь мы сказали бы — снобизма). И, вероятно, действительно Сергей наперед радовался, как он нас всех поразит своими встречами и беседами с Золя, с Гуно, с Массне, с Менцелем, с Беклиным, с Пюви де Шаванном и т. д. Однако, лучше вникнув впоследствии в натуру Дягилева, я понял, что не одно тщеславие или праздное любопытство толкало его, а какая-то потребность входить в личный контакт с людьми, его страстное желание почувствовать человека. Как многие другие подлинные деятели, Дягилев читал мало, и ему совершенно было незнакомо упоение чтением; читал он больше для осведомления, а не для удовольствия или размышления (философские статьи, которыми наполнено столько страниц «Мира искусства», Сергей наверное не читал, а довольствовался пересказом их Димы). Писать же письма он просто ненавидел, и за все время нашей многолетней дружбы у меня накопилось всего штук тридцать его писем, да и то, за несколькими исключениями, это все коротенькие записочки — напоминания, понукания. Но такое воздержание от эпистолярного обмена происходило не от лени или пустоты, а именно от какой-то потребности входить в личный контакт с людьми. Эта же потребность находилась в зависимости от присущего ему дара познавать людей, а познав, пользоваться ими.
Дягилев был большой чаровник, настоящий шармер. Если он что-либо желал получить, то было почти невозможно устоять против его натиска, чаще всего необычайно ласкового натиска. И вот удача таких натисков основывалась на его изумительной интуиции, на поразительном угадывании людей, на ощущении не только их внешних особенностей и слабостей, но и на угадывании их наиболее запрятанных дум, вкусов, желаний и мечтаний. С самым беспечным видом, точно мимоходом, невзначай, он добивался нужных ему сведений, признаний и особенно тщательно спрятанных тайн. Он, которому было лень прочесть роман и который зевал, слушая и очень занимательный доклад, способен был подолгу и внимательно изучать автора романа или докладчика. Приговор его был затем разительно точен, он всегда отвечал правде, не каждому доступной.
То же путешествие 1895 года означает решительный поворот в отношении Сергея к искусству. Только с этого момента он сам как бы начинает претендовать, чтобы с ним считались и как с ценителем художественного творчества. Для того, чтобы оправдать эту претензию, им были сделаны за последние годы особые усилия нас как-то догнать, а то и перегнать. Теперь же за границей он носился из одного музея в другой, из одной мастерской в другую, увлеченный этим желанием оказаться впереди. Мы, мечтатели и исполнители, предпочитали любоваться тем, что нас интересовало в музеях или на выставках, не входя в личное общение с создателями всего того прекрасного. Действовала и боязнь показаться навязчивым, а еще больше опасение, как бы не разочароваться. Напротив, Дягилев, будучи одних же лет с нами, находил смелость проникать и к самым прославленным художникам, входить с ними в разговоры. При случае он и выманивал у них за самые доступные цены превосходные вещи (по большей части этюды, наброски, рисунки). Таким образом, за эти полтора месяца странствия по Европе ему удалось приобрести довольно эффектное собрание, и теперь он мог вполне сойти в наших глазах за начинающего серьезного любителя.
Чтобы импонировать заграничным людям, Сережа довольно удачно разыгрывал большого барина, путешествующего вельможу. Не щадя денег (он как раз вступил в распоряжение наследства, полученного от матери, этого наследства хватило года на три), он останавливался в лучших отелях, разъезжал по городу в закрытом экипаже, одевался с большой изысканностью, вставлял в глаз не нужный ему монокль, не расставался с превысоким цилиндром, а на своих визитных карточках проставил Serge de Diaghileff, тогда как никому среди нас не приходило в голову вставлять частицу «де» перед нашими фамилиями, хотя иные и имели на то такое же право. Кое-что в выработанных им манерах нас шокировало своим привкусом выскочки, но для заграничных людей он был окружен ореолом какого-то заморского, чуть ли не экзотического барства — настоящий русский боярин.
Этюды Кившенко, Лагорио, картина Ендогурова, купленная когда-то по настоянию Бакста, — словом то, с чего началось коллекционирование Сережи, теперь было сослано в задние комнаты, к нянюшке, к лакею Василию, а вместо них на стенах новой квартиры, снятой на Литейном проспекте (в доме № 45), повисли целых три портрета Ленбаха, два рисунка Менцеля, несколько этюдов Даньяна Бувре, несколько рисунков Либермана (один рисунок Либермана Сережа привез мне в подарок), прелестная женская головка Пюви де Шаванна, мастерские акварели Ганса Бартельса и Ганса Германна, большая картина Людвига Дилля и др. Ему только не удалось выманить что-либо у Беклина, о чем он очень скорбел.
Только что помянутые имена художников указывают на то, чем тогда увлекались мы — передовая молодежь в России — и что продолжало составлять фундамент нашей эстетики. Может поразить отсутствие имен импрессионистов, а между тем в те годы можно было еще приобрести за сравнительно доступную сумму и Ренуара, и Дега, и Писсаро, и Сислея, и Сезанна, а начинающие тогда художники — Вюйяр, Боннар, Руссель — шли просто за гроши. Но как я уже сказал выше, если еще имена импрессионистов мы знали понаслышке или по воспроизведению в книге Мутера, то о более современных нам художниках мы имели самое смутное представление исключительно по рассказам нашего нового друга француза Шарля Бирле. Характерно, что когда мы увидали на выставке французского искусства в Петербурге первого Клода Моне (то была картина из серии «стогов»), то мы все совершенно опешили — до того это было ново. И все же мы имели основание считать себя передовыми ценителями искусства — по сравнению с той провинциальной косностью, что вообще царила у нас (и особенно в Петербурге). Прибавлю тут же, что если в музыке и в литературе русские люди шли тогда нога в ногу с тем, что создавалось на Западе, если иногда они оказывались и далеко впереди, то в пластических художествах русское общество в целом плелось до такой степени позади, что и наиболее свежим элементам стоило особых усилий догнать хотя бы арьергард европейского художества. С другой стороны, культ передовитости как таковой (чем отличаются теперешние времена), этот снобизм как таковой, расползающийся, как проказа, по свету, тогда еще не проявлялся. Двадцать лет спустя Дягилев заделался в Париже каким-то суперснобом, ему казалось, что он не только догнал то, что было самого передового, но что он далеко забежал вперед. Но в 1895 г. он уже потому мог временно успокоиться на том, чего он тогда достиг, что даже названные, столь безобидные приобретения, сделанные им за границей, возбудили среди его родных и знакомых вопли негодования и бесконечные насмешки. С одной стороны, друзья его хвалили и поощряли на дальнейшее, с другой стороны, громадное большинство людей своего круга он озадачил и возмутил.
С этого момента можно сказать, что Дягилев, полный своих заграничных впечатлений, только что окончивший свои годы учения (он весной, годом позже нас, сдал и государственные экзамены, подготовившись к ним с какой-то баснословной быстротой), Дягилев был, наконец, принят в нашу компанию на вполне равноправных началах. Тогда же он, воодушевленный этим, стал ощущать и свое настоящее призвание, не зная, однако, в какой именно сфере и в какой форме это призвание может проявиться сначала. Именно тогда его творческие силы, не находившие себе выхода в чисто художественном производстве, сосредоточились все же на вполне художественных, но не требовавших профессионального участия, задачах. Тут Дягилев и обнаружился в роли творца, решившего произносить «да будет» там, где его друзья только говорили: «Как хорошо было бы, если бы стало…»
ГЛАВА 12 Русские оперы
Я рассказал о том впечатлении, которое на меня произвела музыка «Спящей красавицы» и как с того момента я стал ярым поклонником Чайковского. Постепенно (и очень скоро) это поклонение распространилось и на всю русскую музыку. Своей же вершины оно достигло в течение ноября и декабря того же 1890 г., на премьерах бородинского «Князя Игоря» и «Пиковой дамы» Чайковского. Точной даты первой я не запомнил, я только уверен, что счастье услышать «Игоря» предшествовало счастью, которое мне выдалось 7 декабря 1890 года, когда я познакомился с новой оперой Чайковского «Пиковая дама».
Не раз уже в течение этих записок я касался того равнодушия, которое я обнаруживал в отношении ко всему национально-русскому. В качестве продукта типичной петербургской культуры я грешил если не презрением, то известным пренебрежением и к древней русской живописи, и к характерной русской архитектуре (тут, во всяком случае, не может быть речи о каком-либо влиянии моего отца, который был большим знатоком и поклонником древнерусского зодчества. Построенная им в шереметьевском поместье, селе Высоком, церковь принадлежит к наиболее удачным попыткам возродить ту формальную систему, что царила в России при первых Романовых) и к древнерусской литературе. Что касается последней, то едва ли в этом не была виновата гимназия и то, что нас, совершенно незрелых мальчиков, заставляли любоваться древними былинами, «Словом о полку Игореве», строгим языком летописей, бойкостью и остроумием переписки Грозного с князем Курбским и вообще всем тем, что предшествует эпохе Петра I. Это неуклюжее и просто бездарное навязывание в гимназии только усугубляло мое пренебрежение. И вот благодаря опере Бородина пренебрежение сменилось пытливым интересом, за которым последовало лучшее понимание и, наконец, восхищение.
В «Князе Игоре», созданном любителем (но каким подлинно гениальным любителем!), законченном и исправленном специалистами, имеется несколько несоответствий. Это произведение русской музыки неоднородно во всех своих частях, и не всюду в нем выражается подлинно русский дух. Бородин, как один из начинателей, естественно не всюду выдерживает тот стиль, что был ему подсказан, навеян древней поэзией; моментами он уступает формальной системе, созданной мастерами западного оперного искусства. (Подобных промахов меньше у Римского-Корсакова и вовсе нет у Мусоргского. Но в данный период я был плохо знаком с ними.) Зато какое глубокое волнение испытываешь, слушая в прологе музыку, иллюстрирующую сбор в поход княжеских дружин, охваченных сверхъестественным ужасом перед небесным знамением солнечного затмения. До чего трогательна скорбная песня Ярославны в тереме и ее же плач на стенах Путивля. Как заразительно передана тревога в ее сцене с боярами и как ярко очерчена личность злодея Галицкого, каким русским простором веет от хора a capella крестьян в последнем действии. А что сказать про обе половецкие картины: про песенку, с которой начинается первая и которую так божественно пела Долина, про танец половецких девушек и про заразительное беснование большого общего пляса перед шатром Кончака.
После премьеры я уже не пропускал ни одного спектакля «Игоря», оставляя без внимания убожество, а местами и безвкусие тогдашней, докоровинской постановки. Благодаря одним звукам гениального провидца-дилетанта я переносился за семь веков назад в удельную Русь и начинал ощущать какую-то близость по существу всей этой далекой древности, все тесное родство ее с Россией наших дней. Для меня, завзятого западника, эта русская старина становилась близкой, родной; она манила меня всей своей свежестью, чем-то первобытным и здоровым — тем самым, что трогало меня в русской природе, в русской речи и в самом существе русской мысли.
В то же время я через свое увлечение «Князем Игорем» почувствовал связь той древней домонгольской России к издавна милой моему сердцу Европе. Сколько нам вдалбливали в голову, что удельная Русь не имела ничего общего со строем феодального средневековья Запада. Я принимал это на веру, и для меня русские князья с их дружинами были чем-то совершенно противоположным «моим» баронам, «моим» рыцарям. Древние русские люди представлялись мне какими-то дикарями или они казались мне темными, жалкими рабами кочевников, а вовсе не гордыми и благородными властителями. И как раз в опере Бородина противопоставлен с удивительной убедительностью мир европейский, христианский и мир азиатский, и как ни красочно и поэтично выражен этот последний, все же чувствуется, насколько ближе к сердцу самого композитора (несмотря на его монгольское происхождение) этот мир христианской восточной Европы, нежели мир степных язычников. Я вполне сочувствовал князю Игорю, нарушающему клятву, данную хану, и предпочитающему уйти от всех сладострастных соблазнов, от сказочных красавиц-невольниц, от всей пряной роскоши ханского двора, чтобы вернуться к родным теремам, к чуть печальной, но сколь милой скромнице-княгине.
Я здесь упоминаю лишь вскользь о своих тогдашних чувствах, навеянных слушанием «Князя Игоря». Слова вообще слишком все определяют и отдают рассудочностью, на самом же деле то, что я тогда испытывал, было чем-то свободным, непосредственным и необычайно сильным. Я впитывал в себя стихию этой новой для меня музыки, не отдавая себе тут же отчета в том, что она для меня значит и какую со временем я извлеку из нее для себя пользу. О, какое это было счастливое время! Как вообще счастлив человек, когда, обладая всеми силами молодости, он приобщается к чему-то, в чем он узнает нечто чудесно близкое своей душе, нечто издавна вожделенное и что должно его вывести на большой простор, беспредельно расширить его горизонт.
После бурного увлечения «Спящей красавицей» я с особым нетерпением ожидал премьеру новой оперы Чайковского. О ней задолго до спектакля ходили разноречивые слухи. Премьера эта назначена была уже в ноябре, но с исполнителем главной роли, с Н. Н. Фигнером, для которого была собственно и заказана опера, случилось несчастье (он сломал себе ключицу), вследствие чего пришлось отложить премьеру на несколько недель. Но Фигнер поправился, и на афишах появилась ожиданная дата.
Билетом я обзавелся заблаговременно, да и все прочие друзья должны были быть в этот вечер в театре. Рядом со мной сидел Валечка, поближе к оркестру Дима Философов и Сережа Дягилев, за нами оба Сомовы, где-то обретался Митя Пыпин и Пафка Коребут. В первых же рядах, по соседству с братьями Стасовыми, восседал дядя Миша Кавос, а также его приятель Анатолий Половцев. За день или за два Пыпин раздобыл, прямо от издателя, не поступивший еще в продажу клавир, но, проиграв музыку дома, он остался недоволен ею, и, придя вечером ко мне, даже всю оперу в целом охаял, делая исключение только для арии Лизы на Зимней Канавке («Ночью и днем»), «Это еще туда-сюда, — конфузясь бормотал милый Митя, — а остальное все повторение уже слышанного; да и чего еще от Чайковского ожидать, он исписался, выдохся, он повторяется!» То же твердили большинство причастных к музыке людей как в Петербурге, так и в Москве. Такое брюзжанье всегда сопровождает творческий путь выдающегося, а тем паче гениального художника — пока он не займет прочного места на Парнасе. Культ же Чайковского только еще начинался, и даже сам композитор не давал себе полного отчета, до чего он нужен своему народу, какое огромное значение он для него имеет. В передовых музыкальных кругах Чайковскому вредило то, что он оказался как-то в стороне от «кучки», а серьезные ценители уже тогда превыше всего ставили «кучкистов» и считали своим долгом относиться к Чайковскому как к какому-то отщепенцу, к мастеру, слишком зависящему от Запада. Это отношение унаследовало от них большинство французских музыкантов, пребывающих в полном непонимании того, что составляет самую суть музыки Чайковского.
Известное настроение неприязни или недоверия отчетливо ощущалось и на премьере «Пиковой дамы». Аплодировали любимым артистам, но не было бурных оваций по адресу композитора: его не вызывали с обычным у нас в таких случаях неистовством. Напротив, мне хорошо запомнились антрактные разговоры в коридорах Мариинского театра и в фойе; в них слышалось все, что угодно, кроме восторга, или хотя бы одобрения. Когда я, обезумев от восторга, бросился по окончании I акта к нашему семейному арбитру дяде Мише Кавосу, в надежде найти сочувствие, я услыхал только ироническую фразу: «Ходовецкий, да и только!», намекавшую на то, что толпа гуляющих в Летнем саду напоминала гравюры знаменитого берлинского иллюстратора. Во время же сцены в спальне графини у меня даже возникла маленькая ссора с Валечкой, так как мне показалось, что он недостаточно реагирует. В частности, он ничего не понял в хоре приживалок, шепнув мне с досадой: «Ну, это уже совершенно глупо», тогда как именно это «сдавление» старушками своей вернувшейся с бала благодетельнице сразу показалось мне особенно удачной находкой. Ничего так не вводит в ужас всей следующей сцены, как эта ласковая, заискивающая, чуть плясовая по ритму песенка, в которой, однако, уже слышится нечто погребальное — нечто похожее на причитание плакальщиц. Надо, впрочем, отдать справедливость Валечке (которого я тут же в гневном шепоте обозвал дураком и болваном), что после сцены смерти графини он отказался от своей презрительной позы и в дальнейшем вполне разделял мое восхищение.
Я не стану разбирать всю оперу и описывать спектакль во всех подробностях. Скажу только, что если мной и овладел тогда какой-то угар восторга, я все же не со всем был согласен. Меня, например, огорчила героическая ария Елецкого (великолепно спетая красавцем Яковлевым); позже я ее оценил как несколько ироническую характеристику несчастного любовника, и я не одобрил ту «итальянщину» (самое бранное у нас тогда выражение), в которой Лиза на Зимней Канавке выражает свое отчаяние («Так это правда со злодеем»), К тому же неуместный стиль этой арии Медея Фигнер подчеркивала тем, что она не пела ее, а как-то «голосила» на простонародный лад — чего будто бы требовал сам Петр Ильич. Большой публике единственно что действительно понравилось, это — пастораль. Ее даже пробовали бисировать; мне же (кроме божественной сарабанды пианиссимо, чудесно поставленной Петипа и с бесподобным мастерством станцованной) эта интермедия показалась довольно поверхностной, чуть приторной имитацией Моцарта. Но стоит ли говорить о таких подробностях, когда «Пиковая дама» содержит столько совершенно изумительных и бесподобных в своем роде красот? Все начало оперы: хор нянек и кормилиц, баллада Томского, клятва Германа (под раскаты грома), выход императрицы на балу, помянутая сарабанда — все это чудесно подготовляет к дальнейшему. А затем идут уже совсем исключительные во всей музыкальной литературе сцены: в спальне графини, в казарме, на Зимней Канавке.
Зоилы и умники находили, что сюжет нелеп и что он не подходит для оперы, что на каждом шагу встречаются промахи против хорошего вкуса; поклонники же Пушкина обиделись на то, что автор либретто Модест Чайковский самовольно перенес сюжет в иную эпоху, нежели та, которую избрал для своего рассказа великий поэт. Вообще, что только тогда ни говорили, ни шипели! Особенно же меня бесили отзывы прессы своей сдержанностью, в которой сквозило полное, почти презрительное неодобрение. Один лишь критик Финдейзен сочувственно и даже не без восторга разобрал новую оперу, но его статья, если память мне не изменила, появилась в виде брошюрки несколько позже и прошла незамеченной.
Несомненно, что сам автор знал, что ему удалось создать нечто прекрасное и единственное, нечто, в чем выразилась вся его душа, все его мироощущение. В музыку он вложил все свое понимание самой сути русского прошлого, еще не совсем канувшего в вечность, но уже обреченного на гибель. Он был вправе ожидать, что русские люди скажут ему за это спасибо, а вместо того ему пришлось выслушивать все те же придирки или то снисходительное одобрение, которое оскорбляет хуже всякой брани.
Что же касается меня, то в мой восторг от «Пиковой дамы» входило именно такое чувство благодарности. Через эти звуки мне действительно как-то приоткрылось многое из того таинственного, что я чувствовал вокруг себя. Теперь вдруг вплотную придвинулось прошлое Петербурга. До моего увлечения «Пиковой» я как-то не вполне сознавал своей душевной связи с моим родным городом; я не знал, что в нем таится столько для меня самого трогательного и драгоценного. Я безотчетно упивался прелестью Петербурга, его своеобразной романтикой, но в то же время многое мне не нравилось, а иное даже оскорбляло мой вкус своей суровостью и казенщиной. Теперь же я через свое увлечение «Пиковой дамой» прозрел. Эта опера сделала то, что непосредственно окружающее получило новый смысл. Я всюду находил ту пленительную поэтичность, о присутствии которой прежде только догадывался.
Впрочем, значительная часть заслуги в этом выявлении поэтичности петербургского прошлого принадлежит заказчику-вдохновителю Чайковского — директору театров И. А. Всеволожскому. Не будь в этом старом подлинном вельможе лично сентиментального отношения к Петербургу, то москвич Чайковский, пожалуй, и не проникся бы в той же степени поэзией невской столицы. Это Всеволожский пожелал, чтобы первый акт происходил в Летнем саду, чтобы бал был настоящим екатерининским балом, чтобы в спальне графини все говорило об отживающем великолепии елисаветинской эпохи, чтобы в сцене в казарме чувствовалась сугубая унылая казенщина, вторжение в которую потустороннего начала представляется особенно потрясающим. Наконец, и перенесение места действия предпоследней картины в один из самых типичных и романтических пейзажей Петербурга — к Зимней Канавке, к подножию того дворцового перехода, который напоминает венецианский Мост Вздохов — эта своего рода чудесная находка принадлежала также Всеволожскому. Однако Чайковский все ему подсказанное усвоил всем своим художественным чутьем, благодаря чему опера, не переставая быть иллюстрацией или инсценировкой рассказа Пушкина, стала чем-то характерным для него — Чайковского.
Меня лично «Пиковая дама» буквально свела с ума, превратила на время в какого-то визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого. Именно с нее начался во мне уклон в сторону какого-то культа прошлого. Этот уклон отразился затем на всей художественной деятельности нашего содружества — в наших повременных изданиях — в «Мире искусства», в «Художественных сокровищах России», а позже и в «Старых годах»; он же выявился в наших книгах — в дягилевской монография Левицкого, в моей монографии Царского Села. Вообще этот наш пассеизм (еще раз прошу прошения за употребление этого неказистого, но сколь удобного термина) дал вообще направление значительной части нашей творческой деятельности. Своим пассеизмом я заразил не только тех из моих друзей, которые были уже предрасположены к этому, как Сомов, Добужинский, Лансере, но и такого активного, погруженного в суету текущей жизни человека, как Дягилев. И вот еще что: если уж «Пиковую даму» Пушкина можно считать «гофмановщиной на русский лад», то в еще большей степени такую же гофмановщину на петербургский лад надо видеть в «Пиковой даме» Чайковского. Для меня вся специфическая атмосфера гофмановского мира была близкой и понятной, а потому я в «Пиковой даме» обрел нечто для себя особенно ценное.
Музыка «Пиковой дамы» получила для меня силу какого-то заклятия, при помощи которого я мог проникать в издавна меня манивший мир теней. Для многих (пожалуй, для громадного большинства) этот мир представляется чем-то фантастичным, ирреальным, отошедшим, исчезнувшим навсегда, для меня же (особенно в те времена) он представлялся чем-то еще живущим, существующим. Сколько мне пришлось слышать в течение моей жизни обвинений в том, что увлечение прошлым есть нечто болезненное, чуть ли не порочное; иные считают такое «перенесение в прошлое», за нечто, подобное сумасшествию. Однако этот самый пассеизм не только привел к созданию целой отрасли науки: к истории, но он вызвал к жизни несчетное количество прекраснейших произведений искусства и литературы…
Последние годы гимназии я мало и не особенно усердно занимался художественным творчеством. Это была пора, когда я ревностно изучал искусство, с особенным любопытством и возбуждением посещал выставки и музеи, но сам я редко брался за карандаши и кисти. Лишь иногда на меня что-то находило, и тогда возникали разные исторические фантазии, навеянные спектаклями или чтением исторических романов де Виньи, Дюма, Гауфа, Мериме, Гюго, Вальтера Скотта и др. Большей независимостью отличались несколько отдельных картин, из которых одна изображала мрачный рыцарский замок среди белого зимнего пейзажа, другая грандиозную виселицу, выделяющуюся на фоне вечереющего неба, третья — монастырь, расположенный далеко над долиной могучей реки.
В общем, насколько мне помнится, эти тогдашние мои опыты были довольно беспомощны. Не хватало ни знаний, ни технического опыта. Но вот с особой силой проснувшийся под действием моего восторга от музыки культ прошлого подзадорил меня к тому, чтобы с большим упорством продолжать уже начатое, а иное начинать сызнова. Так я три раза принимался за картину, в которой захотел выразить свое увлечение XVIII в., в частности эпохой императрицы Елисаветы Петровны, эпохой, не пользующейся вообще особым уважением историков, к которой я, однако, с отроческих лет питал особое влечение. Выше я уже рассказал о том, что я буквально влюбился в ее портрет, на котором художник Каравакк изобразил восьмилетнюю девочку в виде маленькой, совершенно обнаженной Венус. Этот портрет красовался в «диванной» петергофского Большого дворца, а на другой стене этой же комнаты висел в затейливой раме ее же портрет, но уже в виде императрицы (он был писан французом Л. М. Ван Лоо). Вся эта комната с окнами, выходившими на столетние ели, обладала исключительным шармом. Помянутая же моя композиция (мне так и не удалось довести ее до конца) представляла царицу и ее блестящий двор на фоне павильона «Эрмитаж» в Царском Селе. (Другим отражением моего помешательства на Елисавете было составление целиком измышленной мной реляции, или рассказ «очевидца», о вступлении на престол Петровой дочери. Эту реляцию, выдав ее за найденный в бумагах отца подлинный манускрипт, я прочел 25 ноября 1892 г. своим друзьям, поверившим достоверности моего «документа», после чего был сервирован у нас в зале при зажженных люстре и всех канделябрах довольно роскошный ужин, а во главе стола на кресле был водворен портрет Елисаветы I, что означало, что ее императорское величество удостоило нас своим присутствием.)
«Пиковую даму» я услышал и увидал в декабре 1890 года, более же усердно я принялся за свои живописные фантазии с лета 1891 года, когда уже произошло мое воссоединение с Атей. Увлечение Чайковским и возобновление нашего романа как-то чудесно окрыляло меня. Моя возлюбленная всецело разделяла мои восторги от музыки и всюду сопутствовала меня в прогулках по излюбленным местам Петербурга — по аллеям Летнего сада, по Островам, по той эспланаде, что выдается полукругом в Неву перед фасадом Биржи, по парку Екатерингофа. Будучи глубоко музыкальной натурой, Атя переживала не менее сильно, нежели я, упоение русской музыкой, и в частности Чайковским. И то, что обе ее сестры, будучи профессиональными музыкантшами, не разделяли ее увлечения, создавало для нее (следовательно, для нас обоих) род прелестной духовной обособленности. Эту потребность в уединении, которая вообще свойственна влюбленным, мы находили теперь особенно в музыке; у нас был свой отдельный мир и как бы специально для нас созданная и нами только вполне оцениваемая музыка. И эта музыка (не только «Пиковой дамы», «Спящей красавицы», «Евгения Онегина», «Князя Игоря», но и многого другого) как-то всегда сопровождала нас, мы ее не переставали слышать внутри себя, где бы мы ни были.
ГЛАВА 13 Смерть мамочки
Самым ужасным, самым печальным днем моей молодости было 11 апреля 1891 года, когда я потерял самого любимого и меня больше всех любившего человека — мою мать.
В общем мама пользовалась хорошим здоровьем. За весь период в двадцать лет, который я имел счастье прожить с ней, она ни разу не болела серьезно, и я не помню ее лежащей подолгу в постели, а неизбежные в петербургском климате гриппы и другие простуды она переносила на ногах, не оставляя дома ни на единый день без своей самой внимательной заботы. Полушутя она приписывала такое благополучие тому, что она не слушает докторов и как можно меньше лечится, а лекарства, прописываемые домашним врачом, если и покупались, то тут же, не раскупоренные, отставлялись в висячий шкафик над ее рабочим столом. И замечательнее всего, что и доктор, бывавший у нас чаще в качестве папиного племянника, нежели врача (кузен Леонтий Леонтьевич был лет на тридцать старше меня. Это был очень милый, очень отзывчивый человек, он считался отличным практиком), был с ней заодно. Он сам не очень верил в науку медицины и поощрял лечение домашними средствами. С годами это философическое отношение к своей профессии стало переходить в откровенный скептицизм, в безразличие и просто в вялость. Он и у нас стал бывать редко, и доверие к нему пошатнулось. Впрочем, это случилось позже, тогда как в описываемое время «дядя Люля-доктор» еще продолжал быть нашим домашним лекарем, и в его обязанности входило наблюдение за здоровьем всех родственников, обитавших на улице Никольской. Это было удобно для него, так как он сам жил в близком соседстве, занимая казенную квартиру в доме Казанской части («у Львиного мостика»), при которой он состоял участковым врачом.
Мамино недоверие к медицине, поддерживаемое до известной степени философией дяди Люли-доктора, не мешало ей прибегать к разным испытанным простейшим средствам — компрессам, припаркам, гоголь-моголю, лимонаду, настойке из исландского мха, горчичникам и т. п. Периодами она увлекалась и гомеопатией, не обращаясь, однако, к пользованию врачей этого толка, а вычитывая в печатном лечебнике названия средств, полагающихся в случаях разных заболеваний: аппетитные прелестные флакончики, наполненные белыми крупинками или бесцветными каплями, всегда красовались на полке помянутого шкафика. Кроме того, особым доверием пользовалась некая панацея, носившая громкое название «Жизненный эликсир», что приготовлялась по столетнему рецепту провизором Шуппе на Екатерингофском проспекте. Снадобье это продавалось в бутылочках старинного фасона с этикетками, напечатанными еще при Александре I. Окрашен был эликсир в темно-коричневый цвет, а на вкус он напоминал лакрицу. Моему романтизму нравилось, что было таинственного в этом и что напоминало чудодейственные напитки, о чем говорится в сказках или романах Александра Дюма-пэра.
Но вот с осени 1890 года мамочка стала прихварывать; ее начал мучить неотвязный кашель, становившийся все более надрывистым. Временами ее без видимой причины знобило или бросало в жар. Сидя как-то рядом с ней в театре, я обратил внимание на какой-то странный шумок, вырывавшийся помимо ее воли не то из гортани, не то из груди. Это было что-то вроде легкой икоты и нечто во всяком случае новое для меня и почему-то очень меня встревожившее. Мамочка сердилась, когда я спрашивал, что она при этом испытывает, хотя для меня было несомненно, что этот непроизвольный звук ее беспокоит. По настоянию папы, Люля-доктор несколько раз заходил; внимательно выслушивал маму, но ничего ненормального не находил, если только он не скрывал того, с чем уже не в силах был бороться.
Запомнился мне и такой случай (уже в феврале 1891 года), и не столько сам по себе, сколько потому, как мамочка на него реагировала. В своем упоении «Пиковой дамой» я настоял на том, чтобы была взята семейная ложа, и я заставил маму пойти на этот спектакль. В ложе кроме нее и меня сидели брат Миша и его жена и еще кто-то из родных. Я был убежден в том, что музыка произведет свое действие даже на таких профанов, как моя кузина и бэль-сёр Оля, и заставит ее отказаться от общего всей семьи предрассудка против русской музыки. Но я ошибся: Оля стала с первой же сцены все критиковать и даже отпускать по адресу постановки и артистов едкие замечания, что, разумеется, в высшей степени меня злило. А тут еще на беду, с половины спектакля соседнюю ложу наполнила шумливая компания, которая уже без всякого стеснения довольно громко стала издеваться и над певцами, и над музыкой, никак иначе не реагируя на происходившее на сцене. Не раз я прерывал идиотскую болтовню свирепым шиканьем, но это не помогало. Но вот во время сцены в казарме Оля обернулась ко мне с одним из самых нелепых иронических замечаний, и тут я не выдержал. Я не помню, что я ей ответил — то была, вероятно, какая-то грубость, которую я прокричал на весь театр, а чтобы еще более подчеркнуть свое негодование, я бросился вон из ложи и, опрокинув стул, со всего размаху хлопнул за собой дверкой. Это как раз совпало с моментом, когда на сцене под напором ветра распахивается окно и слышится дребезжание разбитого стекла. Мой поступок был выходкой балованного, не умевшего владеть собой юнца, и все кончилось на следующий день моими извинениями и полным примирением с Олей и Мишей. Немало бывало подобных моих вспышек в те годы, и я бы не запомнил этой, если бы не тихие упреки мамы и особенно ее фраза: «Ты меня так напугал, что у меня внутри точно что-то оборвалось…» Когда всего через три недели после этого с мамочкой случился первый припадок удушья, то я невольно с ужасом подумал, не был ли тот испуг если не основной причиной ее тяжкого заболевания, то, во всяком случае, чем-то, что ускорило кризис.
Самый же кризис произошел в среду на первой неделе Поста. В этот вечер я обедал у бабушки Кавос и, возвращаясь на извозчике по черной оттепельной слякоти, почему-то, поровнявшись с церковью Спаса на Сенной, определенно почувствовал, что меня дома ожидает какая-то беда. Вид этого храма внушал мне вообще какие-то необъяснимые мрачные мысли и предчувствия, на сей же раз такое же предчувствие нашло себе сразу подтверждение, как только, заметив, что в спальне родителей свет, я прошел туда. Папа уже спал, но мама, лежа на правом боку, не спала, причем она прерывисто, часто и с трудом дышала. Глаза ее были открыты и выражали ужас. На мой вопрос, что с ней, она с трудом проговорила: «Это ничего, ванна была очень горячая, вот и сделалась одышка». Но не успел я пройти к себе, как услыхал, что в спальне родителей поднялась суматоха, послышались спешащие шаги Кати, какие-то восклицания поднятых прислуг, захлопали двери. Маме сделалось совсем худо, она задыхалась. Надо было тотчас же ехать за доктором (телефоны еще не были в ходу). Я и поехал, с трудом найдя в столь поздний час (было около часу) извозчика.
Люлю-доктора (переехавшего в это время со своей прежней квартиры на площадь за Казанским собором) я поднял с постели. Едучи с ним обратно, я пытался выведать, считает ли он мамино заболевание очень серьезным, но Люля-доктор дремал и, уткнув нос в шубу, отвечал одним мычанием. Маму мы застали сидящей на постели. Ее поддерживали муж и дочь. Она пыталась вздохнуть, глотнуть воздуха, но это не удавалось ей. Уже были использованы разные домашние средства — ножная ванна, растирание, горячий компресс, — ничего не помогало. Не помогли и лекарства, прописанные доктором, за которыми я слетал в ближайшую аптеку у Харламова моста (одна аптека в те времена в Петербурге — да вероятно и во всей России — на ночь не закрывалась. Ночью аптеку можно было легко найти благодаря стоявшим в окнах стеклянным вазам, которые, освещенные изнутри, служили как бы фонарями и светящейся вывеской). Обожаемая мамочка ужасно страдала, но мучились и мы, обступавшие кровать, сознавая свое бессилие ей помочь. Наконец, часам к семи кризис стал проходить, дыхание постепенно восстановляться. И как только она смогла произнести несколько слов, она поспешила заверить, что теперь ей «совсем хорошо» и ей стыдно, что она нас потревожила…
В те годы у меня была привычка иногда заглядывать в будущее, в чем, впрочем, я видел и нечто греховное. И на сей раз я прибегнул к своего рода гаданию; я открыл папин красный шкаф, стоявший в моей спальне, вытащил один из томов «Архитектуры» Гелабода и раскрыл его наугад. Каков же был мой ужас, когда передо мной предстала таблица, на которой изображен был гроб под балдахином, окруженный свечами! Вероятно — средневековый реликварий, заключавший в себе останки какого-либо святого, но я увидел в этом прямой и безнадежный ответ на мой вопрос. В ту минуту я отказался поверить ему, однако через пять недель гроб с телом нашей обожаемой действительно стоял в соседней зале.
Недуг, которым мама захворала, был грудной жабой, и эта болезнь считалась семейной особенностью Кавосов. От нее скончались и мой дед, и двоюродные братья мамы: Альберт и Камилло, и оба брата мамы — дядя Ваня, живший в Тифлисе, и год назад дядя Костя. Недели через две последовал второй припадок, и с этого момента мы с растущей тревогой стали ждать третьего, который считался неминуемо роковым. Но сама больная и теперь отказывалась от серьезного лечения. Как только ей казалось, что ей лучше, она переставала принимать предписанные лекарства и, мало того, отказывалась соблюдать и самую элементарную осторожность. Уже на следующий день после второго припадка она поднялась с постели и взялась за свои обычные занятия — за шитье, за уборку, а иногда она даже проходила и на кухню.
Всего за два дня до кончины я был чрезвычайно обрадован! То был вторник на Вербной, а у мамы был старинный обычай в эти дни будить нас посредством стегания вербным пучком, причем полагалось приговаривать: «Верба хлест, бьет до слез». Так и на сей раз мама меня, заспавшегося до 11 часов, разбудила таким способом. При этом меня поразило и веселое выражение ее лица, и то, что она с утра была одета в свое выходное платье, застегнутое у ворота любимой моей брошкой в виде цветка анютины глазки. Видимо, она чувствовала себя прекрасно, совершенно здоровой, необычайный же парад ее туалета объяснялся тем, что Леонтий прислал ей свою открытую коляску с предложением воспользоваться приятной солнечной погодой и прокатиться. Это был ее первый выезд после многих недель безвыходного сидения взаперти, и она этому по-детски радовалась. День был действительно на редкость ясный, на небе ни облачка. За последние дни стало вообще так тепло, что у нас в зале и в папином кабинете накануне были выставлены зимние рамы, и теперь, когда открывали для проветривания окна, то в комнаты проникал могучей струей тот особый, сильный и сколь вкусный воздух, в котором так ярко сказывается наступление нашей северной весны. Увы, не исключена возможность, что именно этот дивный воздух, самая дурманящая сила его произвели на организм мамочки слишком резкое и прямо-таки роковое действие.
Вернулась мама со своей получасовой прогулки вдоль набережной Невы если не разбитая, то и не приободренная. От утренней радости, во всяком случае, не оставалось и следа. За завтраком обнаружилось, что у нее совсем пропал аппетит, а после завтрака она сразу пожелала лечь в постель. К вечеру же она почувствовала себя настолько худо, что пришлось послать за доктором. Весь следующий день она пролежала, а в четверг 11 апреля она хоть и поднялась, оделась, но ее вид ясно говорил, что ей сильно неможется. Она то прикладывалась на диван в кабинете папы, то бродила тихими шагами по комнатам. Несколько раз она заглядывала и в мою комнату. Чувствуя по всему телу ощущение мурашек, она просила меня ее растирать. Все это заставило папу созвать часов около трех консилиум. Был призван по совету Люли-доктора известный доктор Гримм и еще какой-то врач — специалист по сердечным болезням. В это время меня не было дома, мне надо было побывать в университете (где уже начинались переходные экзамены с первого на второй курс), и я только по возвращении узнал о результатах совещания. Врачи нашли положение больной чрезвычайно серьезным — можно было ожидать худшего, если не на днях, то через несколько недель, едва ли месяцев. Однако в близкий исход я никак не мог поверить, а раз допускалась какая-то отсрочка, то пробуждалась и надежда, что за это время мамочка, окруженная особенно внимательным уходом, может еще и совсем поправиться. Меньше всего я мог допустить, что смерть уже на пороге, и не последние недели или дни, а последние часы сочтены. Растирая ее (ощущение мурашек все усиливалось), я пытался ее ободрить, но мама решительно отклоняла эти уверения, а в глазах ее, блуждавших по комнате, появилось совершенно новое выражение какого-то ожидания или прислушивания. Вспомнился мне и разговор, происходивший у нас дней за десять до того, когда мама чувствовала себя (после второго припадка) недурно. Как раз тогда в Малом театре шли гастроли Элеоноры Дузе, и весь город обсуждал ее понимание разных ролей. Кто-то особенно восторгался знаменитой актрисой в роли «Дамы с камелиями», подробно описывая, как она проводила сцены смерти. Мама с большим интересом слушала, а бабушка, заметив это, предложила ей место у себя в ложе на это самое 11 апреля. В ответ мамочка только грустно улыбнулась и промолвила: «Что мне ходить смотреть, как умирает Дузе, когда я сама вам это скоро представлю».
Мамочка, видимо, вполне сознавала свое положение, но не смерть ее пугала, а ее заботило, что станется без нее с нами — с горячо любимым мужем, с Катей и ее детворой, а главное — со мной, недорослем. Она то и дело произносила фразы, долженствовавшие нас подготовить к этой разлуке, вроде: «скоро меня не будет с вами», «мне недолго осталось жить» и т. д. Когда я протестовал или принимался ее разубеждать, она (совершенно искренне) говорила, что устала, что она будет рада успокоиться. При этом она едва ли верила в загробную жизнь, однако никогда прямо о том не заговаривала, щадя религиозные чувства мужа и детей. Утомили же мамочку непрестанные заботы за всех нас; устала она от всего того, что выстрадало за других ее любвеобильное сердце.
Случалось, что мама произносила такие же фразы и раньше, но когда угроза кончины придвинулась вплотную, когда она заболела тем недугом, который ее свел в могилу, то эти предчувствия получили большую отчетливость. Забота же о близких обострилась в чрезвычайной степени. Она хорошо знала полную деловую беспомощность папочки и поэтому спешила привести в порядок те дела, которыми она лично заведовала. Дяди Кости, ее главного советчика, при ней уже не было, но теперь помогли советами ее зять, М. Я. Эдвардс, и наш свойственник, архитектор Фурман (который был женат на дочери дяди Лулу — старшего брата отца). В частности, свою заботу обо мне мама недели за две до кончины выразила в том, что она пожелала заплатить те долги, которые я понаделал — исключительно на почве книгомании. В книжных магазинах Эриксона на Вознесенском и Вольфа в Гостином дворе я забирал книги пудами, не имея сил устоять перед соблазном войти в обладание того или иного труда по истории искусства — особенно тогда, когда такой труд был богато иллюстрирован. Счета в обоих магазинах выросли до таких сумм, что мне становилось все более и более стыдно в них признаться, особенно ввиду того, что на свои прихоти я получал вообще гораздо больше, чем все мои товарищи. Но в этом (последнем) разговоре мама добилась-таки того, что я покаялся в своих грехах, и, слегка пожурив меня, она тут же выдала мне на руки всю сумму, присовокупив, чтобы я вперед, когда ее не будет, был более благоразумным. Увы, эту ее просьбу я не исполнил и от данного порока не избавился и по сей день.
Как ужасно я ошибся, когда истолковал приговор консилиума в оптимистическом смысле, воображая, что перед нами еще несколько месяцев совместной жизни с мамой, а там, Бог даст, она и совсем поправится. Вечером того же дня мамы уже не стало…
Она продолжала лежать одетая на диване в кабинете. Было около девяти часов; казалось, что мама тихо отдыхает, вся же остальная семья собралась в соседней столовой вокруг чайного стола, причем я был занят разглядыванием только что полученной от Вольфа книги. Все говорили полушепотом, чтобы не будить маму, не прерывать ее благотворного сна. И тут-то уютную тишину прорезал дикий, какой-то свирепый вопль. Это не был крик, а это был нечеловеческий звук, более всего похожий на тот, что получается, когда разрывают полотно. Все обомлели и не знали, что подумать. Но сомнения не оставалось, звук исходил из кабинета, его произвела наша тихая, терпеливая, выносливая мамочка! Звук выражал какое-то чудовищное страдание. И все поняли, что это Смерть расправляется со своей жертвой; Смерть душила нашу обожаемую, и не было никаких средств помочь, отогнать страшную гостью. Когда мы ринулись в кабинет, то мамочка была еще жива, и она с выражением ужаса на лице обвела нас глазами… после чего как-то съежилась и затихла. Мамы с нами более не было.
И как странно, что, переживая этот самый трагический момент своей жизни, точнее, свой первый действительно трагический момент, я все же не утратил сознания того, что вокруг меня происходит. Я даже успел удивиться тому, что это так, и что мои глаза не наполняются слезами, тогда как у меня на плече рыдала сестра Катя. Мне казалось, что я как-то отодвинулся в сторону и гляжу на какую-то сцену, прямо до меня не касающуюся. В этом было что-то мучительное и уродливое. Я бы хотел, чтобы меня одолело горе, но эта реакция медлила явиться — я точно весь окаменел. И вдруг блеснула мысль — а что, если еще не все потеряно, если еще можно вернуть к жизни мамочку. Скорей доктора! Ближайшего!.. Я как раз случайно запомнил адрес какого-то доктора на углу Торговой и Мастерской, к нему я и помчался пешком, не теряя ни минуты, даже на то, чтобы одеть пальто. Но доктор, услыхав мой рассказ, промолвил: «очевидно, смерть от удара». Все же он уступил моей мольбе и последовал за мной. Но ни малейших признаков жизни не оставалось, и тело успело остынуть. Та, которая меня родила, частью которой я когда-то был, наша обожаемая, столь отзывчивая, столь заботливая, столь любящая и жизненная мамочка — была теперь бездыханным трупом.
И сразу, как только доктор констатировал несомненную смерть, мамой стали распоряжаться, как какой-то вещью. К счастью, то выражение, которое несколько исказило ее милые черты в момент смерти, сгладилось… Поразило меня, что, как шестнадцать лет до того, когда умер брат Иша, папочка и теперь не плакал, а между тем для него кончина верной и обожаемой подруги жизни означала конец всякого земного счастья. И как тогда, папа и теперь, вероятно, чтобы отвлечься, сразу занялся устройством последнего ложа мамочки, на сей раз в зале. Уже через час его Камилунза, одетая в шелковое сиреневое платье (перешитое из перекрашенного подвенечного) лежала на большой доске, положенной на два табурета и задрапированной простынями, а в головах папа и на сей раз установил большое скульптурное распятие, висевшее обыкновенно в спальне. В ногах горели в бронзовых шандалах свечи.
Тут произошла еще одна раздирающая сцена. Кто-то из близких (вероятно, Женя Лансере) съездил в Малый театр, чтобы сообщить бабушке печальную весть. Как раз на сцене Элеонора Дузе переживала горькую судьбу Маргариты Готье, и драма близилась к концу! Бабушке не суждено было увидеть этот конец — мама сдержала слово: она показала нам, «как умирают». На звонок приехавших из театра отворил дверь я. Но бабушка не сразу вошла, а как-то попятилась и замахала на меня руками. «Нет, нет, — приговаривала она, — это неправда, она жива. Камиль не могла умереть!» Когда же она убедилась, видя наш сокрушенный вид, что больше ни надежд, ни сомнений нет, она резко повернулась, точно собираясь пуститься в бегство, а затем в полуобмороке опустилась на подоконник лестничного окна и там зарыдала…
Мне было приятно, если вообще что-либо могло быть в такие минуты приятно, что вместе с бабушкой прибыл ее внук, сопровождавший ее в театр, Сережа Зарудный. Несмотря на разницу лет между нами, мы за последние годы очень сблизилась. За семейными обедами я норовил всегда оказаться рядом с ним. Видимо, и он был заинтересован своим молодчиком кузеном. Он недавно окончил Правоведение и теперь уже состоял на службе. В наших беседах будущий прокурор сказывался в том, что Сережа охотно переходил на тон своего рода допроса, задавая мне иногда и очень недискретные, смущавшие, а то и злившие меня вопросы. С другой стороны, эта его манера располагала меня сводить нашу беседу на темы более задушевного или даже покаянного характера, это отвечало моей тогдашней потребности выяснять себя, изливаться… Некоторое преимущество Сережи перед моими друзьями заключалось в самом факта его близкого родства — в том, что он знавал меня «всегда», с незапамятных времен и в нашей, обычной для обоих семейной обстановке. И вот в этот ужасный… самый ужасный из пережитых мной вечеров, появление Сережи оказалось если не утешением, то каким-то отводом. Пока шли печальные приготовления, пока мамочку, при жизни не терпевшую посторонней помощи, мыли и одевали, я с Сережей удалились в мою комнату и завели привычную беседу. И на сей раз он не совсем бросил свой прокурорский тон, не обошлось и без свойственных ему (или вообще русским людям?) бестактных расспросов; он не уставал доискиваться, как именно все произошло, в чем именно выразилась агония, как отнеслись к смерти папа и мы все. И вот даже наименее тактичные вопросы оказывали на меня своего рода благотворное действие, они помогли мне излиться, мой подробный рассказ Сереже как бы заменил те слезы, которые так и не явились в облегчение давившему меня горю.
Когда мы снова увидали мамочку, то она уже лежала в зале; черты ее лица приняли свойственное ей выражение какой-то ласковой сосредоточенности. Казалось, что она спит и тихо радуется тому, что ей грезится. Это выражение запечатлела и фотография, снятая на следующий день, и та гипсовая маска, которую сформовали с нее наши знакомые скульпторы Обер и М. В. Харламов. В самый вечер кончины мамочки меня поразило еще одно обстоятельство, носившее определенно таинственный характер. Проходя полночи по столовой, я по привычке взглянул на циферблат больших стоявших в углу часов, и к удивлению своему увидел, что стрелки показывали без двадцати девять — иначе говоря, часы остановились в ту самую минуту, когда мамочка испустила последний вздох…
Из моего приготовления к переходному экзамену, который был назначен на ближайший понедельник, разумеется, ничего не могло выйти, и я решил обратиться лично к профессору Вредену, не сделает ли он, ввиду столь особенного случая, исключение для меня, не отложит ли мой экзамен на несколько дней? С этой просьбой я и отправился к нему в субботу под вечер на дом (жил он где-то на Загородном или на Звенигородской), рассчитывая на то, что этот добродушный шутник, забавлявший аудиторию смешными анекдотами и отличавшийся большой снисходительностью на экзаменах, отнесется ко мне благосклонно. Вреден выслушал меня с видом полного сочувствия, однако отложить мой экзамен отказался, так как это было бы против всех правил. При этом, однако, он обнадежил меня, что «это будет не так уже страшно…» В понедельник, едва успев еще раз пробежать его учебник, я пошел в университет в полном смятении (это было в самый день похорон, но теперь я забыл, побывал ли я в университете утром до полудня или часов около четырех, уже после погребения). Но Вреден сдержал слово: он предложил мне такие вопросы, на которые и человек, никогда ничего о политической экономии не слыхавший, сумел бы все же что-нибудь ответить; да он и не дожидался моих ответов, а сам за меня проговаривал все то, что нужно, делая вид, что он как бы проверяет мой ответ про себя. Я был готов обнять старика.
В субботу вечером, в сумерках, состоялся вынос. Мамочка уже лежала в гробу все такая же ясная, ласковая; никаких признаков смерти не обнаруживалось. И даже не побледнели два крошечных родимых пятнышка наверху лба у самых волос, одно синенькое, другое красное; я эти пятнышки знал с самых ранних лет и ежедневно целовал их по очереди, когда мучил маму своими ласками. Около восьми часов при большом стечении людей (пришли и все мои друзья) пэр Лагранж отслужил полагающуюся службу и произнес надгробную речь. Дядя Миша Кавос был от нее в восторге. Он не уставал повторять одну и ту же фразу: «Непобедимо то войско, в котором и простой солдат способен с таким достоинством нести свою службу». На меня же этот образец церковной элоквенции не произвел того же впечатления — уж очень чувствовался в нем под оболочкой простоты и почти грубости известный прием. С виду же пэр Лагранж, высокий, худой, с предлинной седой бородой, был очень эффектен, он скорее напоминал своим видом капуцина, нежели доминиканца.
В половине девятого повезли маму в церковь св. Екатерины по столь мне знакомому пути, по которому я с мамой часто ходил — через Поцелуев мост, мимо казарм Флотского экипажа (где еще продолжали жить родители Ати), мимо реформатской церкви, которую я с той же Атей посещал когда-то каждое воскресенье, мимо магазинов, в которых мама покупала мне облюбованные игрушки, мимо величественного дворца Строганова, мимо Казанского собора.
Две ночи гроб с мамой простоял в особой капелле при церкви св. Екатерины, в понедельник же 15 апреля состоялось погребение. Утром была получена телеграмма от Альбера из Каира, куда он отправился тотчас же после того, что в Крыму обвенчался с М. В. Шпак. Альбер умолял отложить похороны до его возвращения, но уже было поздно отменить все распоряжения. Отпевание происходило в церкви, куда мама меня водила на уроки катехизиса пэра Женье. Наша многочисленная родня и еще более многочисленные знакомые почти заполнили храм; вокруг гроба, заваленного цветами, служили в своих траурных облачениях три священника, а хор Мальтийской церкви под мощные громы органа исполнял прекрасный «Реквием» Гуммеля. Все получилось торжественно и благолепно, но, пожалуй, не во вкусе той, во имя которой происходила вся эта помпа, и мне точно слышались ее попреки: «Зачем все это? К чему все эти бесполезные траты?» Все же я лично был доволен, что так почтили нашу дорогую мамочку, что папочка отказался на сей раз от своей обычно утрированной скромности, дабы всенародно выразить свою любовь к верной, но покинувшей его (согласно его убеждениям, не навсегда) подруге.
Стояла солнечная, почти летняя погода, но по Неве все еще неслись льдины Ладожского озера, с грохотом ударявшиеся об каменные устои Литейного моста. За гробом шла густая толпа, которая почти не разредилась до самого Выборгского кладбища, а в подвальное помещение кладбищенской церкви, где в левом приделе находится (находится ли еще?) наш фамильный склеп, лишь одна треть провожавших смогла проникнуть. Плиты, прикрывавшие самую могилу, были уже отвалены, рядом лежали кучи земли и песка, а прямо под ногами зияла темная дыра, в глубине которой едва виднелись металлические гробы — один — Ишин — довольно большой, и два детских, в которых покоились умершие в младенчестве моя сестра Луиза и моя племянница Катя Лансере. Когда-то голая задняя стена склепа теперь была украшена недавно прибывшим из Италии мраморным узорчатым алтарем, изваянным по рисунку папы в готическом, итальянского типа стиле; середину его занимала копия на фарфоре с фрески Беато Анджелико, исполненная сестрой Катей. Папа и теперь не плакал, но несомненно ему хотелось бы, не откладывая, лечь туда же; жизнь ему должна была отныне казаться жестоко одинокой и какой-то бессмысленной. Увы, те же чувства владеют теперь мной, ибо и меня 30 марта 1952 года покинула обожаемая моя Атя…
ГЛАВА 14 Воссоединение с Атей
Первые месяцы после нашей разлуки (в феврале 1890 г.) мне было очень тяжело. Несмотря на несколько навязанных себе увлечений, я все же мысленно и в душе часто возвращался к той, которая в течение трех лет была моим сердечным другом и с которой, будучи еще совершенно юным, я серьезно думал соединить свою жизнь. Постепенно все же рана зарубцевывалась, и осенью 1890 г., после ряда случайных встреч с Атей то в театре, тс у ее сестры Маши, мне казалось, что ее общество я ощущаю не иначе, нежели общество ее сестер или других дам. Как раз в ноябре я решил окончательно «ликвидировать это прошлое» и уничтожить всякие его следы, а в первую же очередь — нашу переписку. Как Атины письма ко мне, так и мои к ней — все находились у меня; мы не бросали и малейшей записочки, считая, что когда-нибудь нам доставит особую радость все это перечесть. Ну а тут я решил, что все это прошлое прошло окончательно.
Писем было много. Особенно пространными были те, которыми мы обменивались в периоды, когда мы почему-либо встречали затруднения для личных свиданий. Усилению переписки способствовали и ссоры, особенно те, которые носили более серьезный характер и все же кончались миром. Надлежало тогда или ей или мне (смотря, кто из нас первый сознавал свою вину) объясниться, и эти объяснения доверялись бумаге. Но таких объяснительных и пространных посланий было не так уж много; главным образом переписка состояла из коротеньких, в несколько слов заметок, сопровождавших обыкновенно посылку какой-либо книги. Бывало и так — не успею я вернуться домой после нескольких часов, проведенных с милой, как уж потребность снова с ней побеседовать одолевала меня в такой степени, что я исписывал несколько листов, и снова дворник Аким, получив двугривенный за труд, шагал с одного конца Никольской до другого, с тем же приказом не уходить, пока «барышня не напишет ответа».
Всю эту корреспонденцию я и решил уничтожить, но предварительно мне захотелось снова заглянуть в это прошлое, и поэтому, прежде чем бросить письмо в пылающий камин, я его перечитывал. Естественно, что это лучше личных встреч стало вызывать в памяти всю прелесть нашего романа, все родство наших душ и сердец. Вначале я думал посвятить закадычного друга Валечку в это минувшее и прочесть ему наиболее характерные из этих писем — благо мы оба тогда увлекались «Новой Элоизой», «Опасными связями» и другими эпистолярными романами. Но чем глубже меня трогало то, что я читал, тем меньше я чувствовал желание посвящать в этот замкнутый интимный мир кого-либо постороннего. Показалось даже, что это было бы своего рода профанацией. Тщетно любопытный Валечка напоминал мне о таком обещании, я находил всякие предлоги, чтоб откладывать прочтение, и так я своего обещания и не сдержал.
В эту осень 1890 г. я раза три видел Атю то у ее сестры, моей бывшей belle-soeur Марии Карловны, то у другой ее сестры, Сони Вальдштейн, но эти встречи ничем особенным в моей памяти не запечатлелись. Первая же моя встреча с ней одной произошла как раз вскоре после того, что я сжег последнюю партию наших писем. Эта встреча, хоть и не успела привести к какому-либо значительному обмену мыслей, все же запомнилась мне как нечто чреватое последствиями. В самом факте, что это произошло на студенческом балу (точнее, на концертном отделении, предшествовавшем танцам), что я, никогда раньше таких общественных увеселений не посещавший, на сей раз, неизвестно почему, все же на этот вечер отправился, можно при желании узреть некий перст судьбы. Попал же я на бал в качестве студента-распорядителя, не сумев отказаться от этой навязанной каким-то товарищем обязанности. Со своей стороны, и Атя, которая тоже не имела обыкновения посещать общественные балы, явилась на концерт просто потому, что жила у сестры в доме, соседнем с залом Дворянского собрания, и ее чем-то заинтересовала программа концерта.
Я заметил Атю, стоя на верхней площадке лестницы, где нам, распорядителям, надлежало встречать и отводить на места особенно почетных гостей. Именно за такую почетную гостью я счел свою бывшую невесту и провел ее в первый ряд кресел. Атя была в тот вечер необычайно мила; ей очень шло скромное, но элегантное платье, привезенное ей из Парижа. Я был чрезвычайно (себе на удивление) обрадован ее неожиданным появлением и, усадив ее в первом ряду, сам присел на соседнее место. Никаких дальнейших намерений у меня не было, но почему-то мне стало сразу как-то особенно приятно на душе. И Ате, как она мне потом рассказывала, эта встреча, при всей своей неожиданности, оказалась приятной. Она ласково отвечала на мои расспросы и делилась впечатлениями от того, что мы слушали. Все же после первого отделения она объявила, что уходит, я же (все при том же отсутствии дальнейших намерений) вызвался ее проводить, причем, ввиду близости Атиного дома, не счел нужным, несмотря на январский холод, надеть пальто. Беседа наша во время этого перехода продолжалась не более трех минут, и мы ничего не успели друг другу сказать особенно интересного, но все же ответы Ати наполнили мне душу каким-то знакомым, но давно не испытанным ликованием, а вернувшись в зал, дальнейшее присутствие на балу показалось мне вдруг бессмысленным, и я под предлогом нездоровья отказался от дальнейшего исполнения своих распорядительских обязанностей.
В течение зимы 1890–1891 г. я посетил Марию Карловну раз пять и раза три побывал у Вальдштейнов, но готов поклясться, что эти посещения вовсе не были вызваны желанием встретить там Атю, просто мне было там, среди с детства близких людей, по-домашнему приятно. С другой стороны, несомненно, что присутствие Ати придавало этим посещениям особую прелесть. Теперь она уже год как находилась на службе в том же «Съезде железных дорог», в котором служил ее зять Вальдштейн, и это он ее туда и определил. Почти весь служебный персонал в «Съезде» состоял из дам и барышень очень приличного общества, самая же служба — сверка каких-то ведомостей, была вовсе не трудная. Ате эта служба была по вкусу, тем более, что она помещалась в доме Жербиных, в котором жили и Вальдштейны, в двух шагах от ее теперешнего жилища (в доме Бодиско на той же Михайловской площади). Жалованье было скромное, но позволяло ей иметь, живя на всем готовом у сестры, кое-какие собственные карманные деньги и одеваться на свой счет. Впрочем, последний вопрос не должен был ее особенно беспокоить. Модницей она никогда не была, а гардероб великой франтихи Марии Карловны, с которой она была одного роста, был к ее услугам. Все, в чем старшая сестра разочаровывалась (а разочаровывалась она очень быстро), поступало в распоряжение младшей. К тому же, Мария Карловна нежно любила Атю и, будучи натурой широкой, выражала свою любовь во всевозможных щедротах.
Я не был посвящен в то, чем была Атя занята вне службы, я только знал, что она теперь увлекалась пением и между прочим разучивала партию Анды. Раза два она и ее партнер Густя Вальдштейн, обладавший несколько петушиным тенорком, при участии еще кого-то в роли Амонасро, угощали меня «Сценой на Ниле», причем я заметил, что у Ати если не сильный, то все же приятный тембр и очень тонкий слух.
Насколько в этот период я все еще был далеко от мысли, что наш роман может возобновиться, показывает то, что, когда Мария Карловна (это было, вероятно, в середине марта) с веселым видом предложила поздравить Атю, объявив, что «она у нас невеста», я в ту минуту никакого укола не почувствовал и пожелал счастья своей бывшей невесте совершенно искренно.
Вероятно, однако, где-то в подсознательном эта весть прошла не даром, и там, в глубине моего «я», возникла тогда же тревога. Возможно даже, что там стал вырабатываться целый план действия. Роль свахи в этом предстоящем браке сыграла Мария Карловна, откопавшая во время одного из своих посещений Москвы (куда она ездила по своим музыкальным делам) какого-то богатого и не старого инженера по фамилии Сергеев, мечтавшего обзавестись семьей. Этот Сергеев недавно приезжал в Петербург специально чтоб познакомиться с предполагаемой невестой; Атя ему очень понравилась, и он сразу сделал официальное предложение; и Ате он «не показался противным», и под влиянием сестры она дала свое согласие. Тут же была отпразднована помолвка, выпито шампанское, и жених подарил невесте колечко, после чего будущие молодые обменялись поцелуями. На обороте своей фотографической карточки, поднесенной тогда же невесте, Сергеев написал подобающее посвящение, причем, однако, Атя была названа Анной Карловной и обращение было к ней на «вы». На карточке был изображен молодой господин лет тридцати пяти с маленькой светлой бородой и типично русским лицом. Мне он показался скорее симпатичным, и я подумал тогда, что Атя может найти с ним свое счастье, обеспеченное к тому же очень крупным состоянием. В глазах же Марии Карловны эта партия представлялась, разумеется, куда более завидной, нежели брак с необеспеченным художником.
Но вот подсознательное все же этого дела так не оставило. Не прошло и полной недели со смерти мамочки, как некая необъяснимая сила толкнула меня в объятия бывшей возлюбленной, и когда я говорю про силу и про то, что она толкнула, то это не фраза, а сущая и простая правда. В невыносимой своей тоске по мамочке я, естественно, искал утешения и надеялся, что найду таковое в обществе Ати и ее сестер, и потому в среду 17 апреля я и отправился к Марии Карловне, но, не застав никого дома, прошел к Вальдштейнам. Совершенно случайно туда же зашла и Атя, и тут я почувствовал странную радость, ту же радость, которую я уже испытал, заметив ее в толпе подымающихся по лестнице Дворянского собрания. Когда Атя предложила кончить вечер у Марии Карловны, я охотно за ней последовал.
У Марии Карловны к тому времени собрались гости, но они сидели в столовой, и там шел очень оживленный разговор. Мне же, в моем печальном настроении, было не до шума и веселья, и потому, отказавшись от чая, я сел на оттоманку в соседней полутемной гостиной, куда ко мне, на ту же оттоманку, подсели с одного боку Атя, с другого наша общая племянница Мася. (Марии Альбертовне Бенуа, старшей дочери моего брата и будущей супруге Н. Н. Черепнина, было в том году четырнадцать лет. Она жила у матери, куда год тому назад самовольно перебежала через весь город. Случилось это вскоре после того, что она и ее сестра Камилла были взяты их отцом из Смольного института, в котором обеим сестрам уж очень не понравились некоторые царившие там нравы.) Из хорошенькой девочки Мася за эти два года превратилась в прелестную отроковицу. Она нежно любила свою юную тетушку, да и ко мне питала, по старой памяти, очень дружеские чувства. Таким образом мы трое, рядом сидевшие, были связаны между собою какими-то родственными и духовными узами, и мне в моем настроении только это и было нужно. Тихо беседуя, я чувствовал, как горестная мука, сжимавшая мое сердце, начинает слабеть, как от меня удаляется тот могильный холод, который леденил все мое существо за последние шесть дней. Не могу вспомнить, о чем мы говорили и как долго длилась наша беседа, но первой встала Мася, и тогда, испытывая известную неловкость дольше оставаться вдвоем с Атей, поднялся и я. Тут и случилось «роковое». Все еще без какого-либо сознательного плана я нагнулся к Ате, она потянулась ко мне, и наши уста слились в долгом поцелуе. При этом не было сказано ни слова, но мы оба сразу почувствовали, что снова соединены, что две разрозненные половинки сомкнулись, что наша продлившаяся два года разлука кончилась… Уходя, я еще только успел шепнуть Ате, что на следующий день, в такой-то час, буду ее ждать у ее дома.
Странное дело, я и теперь еще не вполне сознавал свое счастье; во мне водворился лишь удивительный покой, точно я испил какого-то целительного зелья, которое разлилось по всему моему душевному составу. Эту умиротворяющую гармонию я особенно ясно ощутил, когда уже лежал в постели. Все последние дни моменты засыпания были особенно мучительны. Потушив лампу и закрыв глаза, я долго пребывал в отвратительном полубредовом состоянии, то погружаясь на несколько мгновений в черное небытие, то снова возвращаясь к действительности, одинаково беспросветной. Или еще меня посещали кошмары, один хуже, страшнее другого, и я просыпался в холодном поту. В эту же ночь после поцелуя я заснул сразу и в следующие вечера, стоило мне обратить свои думы к Ате, как возобновлявшееся было полубредовое состояние переходило в блаженный покой и отдохновение.
Наше первое условное свидание прошло все в прогулке. Мы оба были вне себя от радости, что снова нашли друг друга, но никаких планов на дальнейшее не делали. К чему было заглядывать в будущее, когда самое главное совершилось, и наше воссоединение наполняло нас предельным счастьем? Атя в подробности, но в шутливом тоне, рассказала о своей помолвке, о своем симпатичном женихе, в нескольких словах коснулась и того, что происходило с ней за истекшие два года. Не скрыла она и своих мимолетных и совершенно бесцветных увлечений. Я не пожелал отставать от нее в своей исповеди и (должен покаяться) кое-что приврал, так как явилось желание немного расцветить рассказ про свое, в общем довольно-таки тусклое существование. Однако, разумеется, ни я ей, ни она мне никаких упреков за эти (в общем довольно невинные) признания не сделали. Мы не имели на то ни малейшего права, так как, расставаясь, даровали друг другу полную свободу. Одно наиважнейшее решение было все же принято Атей тут же и по собственной инициативе. Она решила объявить Марии Карловне, собиравшейся на ближайших днях везти ее в Москву знакомиться с семьей жениха, что она от поездки отказывается. Мария Карловна попробовала было протестовать, но Атя выказала на сей раз непоколебимую твердость, и Маша, рассердившись, оставила ее в покое и поехала одна. Все же, когда она вернулась дней через десять из Москвы, то стало немыслимо дольше скрывать создавшееся положение. Возмущению, что Атя собирается упустить чудесную партию, которую она ей подыскала, не было пределов.
В конце мая обе сестры, а вместе с ними и Атя, переселились на дачу — на Крестовском Острове. Я и туда несколько раз ездил. Однако предпочитал видеться с моей «новонайденной» в Летнем саду; через него как раз лежал ее путь от службы (отпуск кончился) до пристани того пароходика, который ее доставлял на Крестовский. О, эти чудесные прогулки в Летнем саду!
Постепенно мы изучили каждую аллею, каждую статую, каждое дерево. После «Пиковой дамы» Летний сад стал для меня чем-то родным; теперь я уже знал и все его прошлое, он населился для меня милыми призраками, а такое население окружающей действительности тенями было чем-то свойственным как мне, так и Ате. Любимой нашей аллеей была та, что тянется вдоль Лебяжьей Канавки, отделяющей Летний сад от Марсова поля. Часы за часами уходили, а мы все еще не могли нагуляться и наговориться. Лишь когда долгий весенний вечер начинал заметно темнеть, мы спохватывались, и Атя почти бегом устремлялась к пароходику. Среди всего того, что мы считали особенно важным друг другу сообщить, значительное место занимали всякие художественные впечатления, Атя в подробностях рассказывала мне о своей первой заграничной поездке, я ей рассказал про свое путешествие по Германии. Но особенно меня тянуло скорее поделиться моими музыкальными, живописными и литературными увлечениями. Очень многое среди этого было чем-то совсем новым для моей подруги. Мой культ Беклина только начинался в момент нашей разлуки, и совсем новостью для нее было мое увлечение Вагнером, а также Чайковским, Бородиным и вообще русской музыкой. Без конца я описывал красоты «Спящей красавицы», «Пиковой дамы» и «Князя Игоря»; ничего из всего этого Атя не видела и не слыхала, — приходилось отложить ознакомление с этим до осени, когда театры вновь откроются.
Впрочем, я как-то привез на Крестовский клавиры к «Спящей» и «Пиковой», и там за разбор их я засадил Марию Карловну, как музыкантшу более опытную, но ни она, ни Соня не оценили этой музыки и даже стали над нами насмехаться. Я приносил с собой в Летний сад и охапки книг, и мы тут же на какой-либо укромной скамейке их разглядывали. По воскресеньям мы посещали Эрмитаж или Музей Академии художеств. Часть художественных книг Атя увозила с собой для лучшего ознакомления. Очень были удивлены и возмущены сестры, увидав как-то в Атиных руках желтенький томик из серии «Ругон-Маккаров» Золя. Предубеждение против Золя и его «порнографии» было в те дни еще так велико, что даже совсем взрослым барышням и дамам было предосудительно читать его романы.
Сейчас тогдашнее наше действительно бешеное увлечение Золя может показаться странным. Когда я теперь иногда пробую прочесть столь меня волновавшие его книги, то очень скоро становится скучно, и скучно главным образом потому, что слишком видно, как это сделано, приемы, ухищрения. Это мешает верить автору. Его мастерство заслоняет самую рассказываемую историю, а герои получают характер марионеток; слишком видна их вымышленная с какой-то целью природа. Но в те времена, хотя я и считал себя совершенно зрелым знатоком жизни, все же я слишком мало и плохо знал ее. И так был благодарен Золя за то, что он меня систематически с ней знакомит, что никаких таких недостатков я в нем не замечал. Вся наша дружеская компания разделяла мой восторг от Золя, и надо признать, что он нас познакомил с великим множеством вещей и обстоятельств. Нам нравились и самые его шаблоны и клише. Их легче было усвоить, нежели сложное, субтильное плетение Бальзака, Флобера или Стендаля. Нам импонировал и самый принцип творчества Золя, его проповедь натурализма и ничем не прикрытой правды. Во имя такой программы можно было простить и некоторые бросающиеся в глаза преувеличения, часто и безвкусные. Всего охотнее мы прощали пресловутые длинноты Золя — ведь они продлевали наслаждение от чтения его романов. (Путаную генеалогию «Ругон-Маккаров» мы выучили наизусть; нам опять-таки нравилось то, что перед нами не выхвачен один какой-то фрагмент жизни, а каждый раз представлен целый мир, целый общественный класс, в общей же сложности — «вся культура нашего времени». Любимыми нашими романами были «Добыча», «Накипь», «Творчество». К ним прибавился «Человек-зверь», особенно же сильное впечатление произвел «Разгром».)
Были мы ему благодарны и за его проповедь в пользу передового искусства, но тут покамест приходилось верить ему на слово, что, впрочем, не мешало этой нашей вере быть пламенной. Что же касается нашего другого культа — Беклина, то ныне никак нельзя себе представить, какое ошеломляющее действие в свое время производили его картины. Их, по крайней мере, мы видели в прекрасных воспроизведениях; я же лично видел их и в оригиналах во время своего путешествия по Германии. С тех пор искусство Беклина удивительно устарело, оно как-то выдохлось, испошлилось именно благодаря тому успеху, который оно имело во всех слоях общества и не только в Германии. Я помню, например, что И. Е. Репин мне как-то раз (в 1891 или 1892 году) заявил: «А знаете ли, Александр Николаевич, ведь это, пожалуй, самый великий художник нашего времени!» Враги Беклина видят именно в этом всеобщем успехе Беклина доказательство какой-то низменности его искусства. Но в таком случае все, что теперь (в 1950-х годах) имеет равный тому успех — все, начиная с тех же импрессионистов и кончая Пикассо, Руо, Шагалом и прочими богами нашего времени, все это, тоже пользующееся успехом еще более распространенным, должно тоже подвергнуться переоценке и сдаче в архив.
Я должен, во всяком случае, признать, что Беклин открыл глаза на самую жизнь природы. И не в том смысле, что он олицетворил всякие ее элементарные силы, а в том, что он как-то понял дерево, листву, воду в разных ее состояниях; он нашел новые интенсивные краски для неба, для скал, для листвы, для далей, для изображения простора.
Сколь многое, увы, он же сам затем портил своими топорными мифологическими фигурами, и — что еще хуже — своим чересчур германским юмором. Но те картины, в которых этих искажений и такого проявления дурного вкуса нет (их наберется десятка три — что очень много), остаются истинными жемчужинами, полными подлинной поэзии. Недаром мы находили тесное родство между ними и стихийной музыкой Вагнера.
Характерно для нашего увлечения Беклином то, что тогда я затеял сделать в довольно большом формате копию акварельными красками с той картины Беклина, воспроизведение которой я случайно увидел в каком-то увраже и с которой в 1888 году и началось мое знакомство с мастером. Это был знаменитый, ныне вконец испошленный «Остров Смерти». (Я так и вижу ироническую улыбку читателя при напоминании об этой картине, ставшей «убранством любой швейцарской». Должен сознаться, что я вооружился здесь особым мужеством, чтоб сделать подобное признание.) Свою копию я делал не с оригинала, который находился в частном собрании, а с небольшой репродукции в немецком журнале «Искусство для всех». При этом я старался избежать того, что мне запомнилось от варианта на ту же тему, виденного мною в Лейпцигском музее (отчасти для этого я и заехал в 1890 г. в Лейпциг). Меня огорчило в этой картине что-то уж слишком нарядное — как в сочности красок, так и в виртуозной технике. Это щегольство нарушает основную строгую и печальную поэзию этой как-никак удивительной и даже гениальной, но, повторяю, испошленной композиции. Напротив, в своей копии я старался подчеркнуть уныло-безнадежную мрачность всего. Работая над ней, я до того вжился в этот сюжет, что мне начинало казаться, будто я сам побывал на этой одинокой скале, будто я изведал все закоулки ее, будто вдыхал терпкий, смолистый запах этих черных кипарисов, будто слышал гудение ветра в их густой листве. Характерно и то, что я именно эту свою работу, вставленную в черную рамку, поднес тогда же моей возлюбленной, что было встречено ее родными с полным недоумением. Им показалось, что я просто сумасшедший: кто же, обладающий здравым смыслом, сделает такой подарок своей даме сердца? Вообще и во всяких других наших тогдашних увлечениях близкие люди постарше видели что-то донельзя нелепое, больное и уродливое. Мой культ Беклина, равно как и мой культ Вагнера, почитался не то мальчишеской блажью, не то позой. Великой радостью зато было для меня то, что в совершенно равной степени разделял мой восторг милый Артюр Обер и вполне одобрял меня в данном случае дядя Миша Кавос. О мнении Репина я уже упомянул.
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и бесповоротно отказывается от этого брака. Однако, как это ни странно, мы сами между собой все еще не касались вопроса, который, казалось бы, находился в прямой зависимости от нашего воссоединения. Мы вообще избегали говорить о нашем общем будущем; видимо, мы были до того проучены теми стеснениями, которые мы на себя наложили, едва выйдя из отроческого возраста, что теперь всячески остерегались повторять подобную ошибку. Все же по прошествии двух месяцев мы этого вопроса коснулись, и, естественно, что ответ у обоих был один и тот же: жить мы друг без друга не можем, и мы навсегда должны принадлежать друг другу.
Эта наша негласная помолвка произошла перед одним из самых восхитительных видов в окрестностях Петербурга. Нагулявшись по той части петергофского парка, который расположен вокруг павильона Озерки, закусив в сторожке при «Двуглавом орле», мы отдыхали теперь на лавочке одной из крестьянских изб, что тянулись сплошным рядом по гребню невысокого холма. Это было 8 июня 1891 года. Стоял восхитительный тихий, теплый вечер. Восточный небосклон был покрыт нежно-розовыми облаками, но они не сулили ни грозы, ни дождя, а, казалось, расположились только для того, чтобы наполнить картину каким-то сладостным и радостным обещанием. Дали, расстилавшиеся на много верст вокруг, были частью освещены лучами низкого солнца, частью тонули в прозрачной голубоватой тени. Совсем на горизонте блестел купол Исаакия, ближе возвышалась папина готическая башня Петергофского вокзала, за ней из-за густых масс зелени горели золотые маковки Большого петергофского дворца. Наконец, у наших ног расстилались луга и зазеленевшие поля. Вероятно, во всей деревне никого не оставалось — все, и стар и млад, ушли на полевые работы. Нигде никто не показывался, ниоткуда не доносилось ни говора, ни криков, ни даже лая собак. Тишина казалась завороженной, точно все было нарочно для нас устроено. И в этом одиночестве среди необъятного простора, перед бесподобной красотой природы, в окружении всей нами любимой поэзии прошлого, мы (пока только для себя) объявили себя женихом и невестой, дав от всего сердца обещание, что будем навеки принадлежать друг другу.
Я уже рассказал про определенно несочувственное отношение родни Ати, главным образом ее сестер, к возобновлению нашего романа. Но и на моей стороне подобное же несочувственное отношение привело к нескольким столкновениям, из которых особенно мучительными были ссоры, произошедшие между мной и моими двумя старшими братьями. Главным поводом к этим ссорам было то, что я не пожелал отправиться в Финляндию на рождение папочки 1 июля. Альбер и Леонтий справедливо обиделись за нашего отца, и это манкирование было, не без основания, приписано моему нежеланию расставаться с Атей. Дело в том, что на сей раз Альбер поселил на лето папу и Катю с ее семейством поблизости от той дачи, которую он сам снял в Финляндии, в местечке Пуумала, и это было довольно далеко; чтобы туда добраться, требовался целый день, и столько же взял бы обратный путь с неизбежной ночевкой. И вот на такой долгий срок я никак не в силах был разлучиться с той, которую я только что тогда снова обрел и с которой проводил счастливейшие дни.
Вина моя усугублялась тем, что как раз за несколько недель до дня папиного рождения все наши обитатели Пуумала пережили тяжкое горе, явившееся как бы отголоском еще более ужасного горя-смерти нашей мамочки. Не прошло и двух месяцев с того дня, когда Альбер женился на Марии Викторовне Шпак, как она скончалась от скоротечной чахотки. Несомненно, что трагичную развязку ускорила та быстрая смена климата, которой подверг свою жену Альбер, желавший поспеть на погребение мамы, и потому прямо из Каира, не останавливаясь нигде, он примчался в Петербург. И прибыли они в самый опасный момент, а именно, когда плывущий ладожский лед вызывает полосу резкого холода. В такие дни и совершенно здоровые люди заболевают, а для слабых грудью эта полоса часто бывает роковой… Уже в первые дни по приезде молоденькая жена Альбера, с которой я тогда и познакомился, производила тяжелое впечатление своим серым цветом лица и темными пятнами под впавшими глазами, горевшими лихорадочным блеском. Когда же молодые переселились в еще более суровый и сырой климат Финляндии, то болезнь приняла сразу характер безнадежности, и уже через четыре недели Мария Викторовна угасла. В альбомчике, в который папа, верный своему обыкновению, заносил в тонких акварельках жизнь в Пуумале, одна такая картинка изображала тот печальный момент, когда гроб Маруси перевозили на лодке с острова, на котором находились дачи, к тому острову, где было русское кладбище и православная церковь. Альбер при всей своей влюбленности был приготовлен к такой утрате и перенес ее спокойно, но на нашего отца, который успел оценить кроткий, тихий нрав своей новой невестки, смерть ее произвела удручающее впечатление. Уже потому мне следовало навестить своего отца в день его семидесятивосьмилетия. Это тем более следовало бы сделать, что то было в первый раз, что традиционное празднование его рождения происходило без нашей мамочки.
Уступая упрекам и увещеваниям Альбера, Леонтия, Зозо Россоловского, я все же через два дня после объяснения с братьями эту поездку в Пуумалу совершил. Будь я в ином настроении, я, несомненно, оценил бы это интересное путешествие по незнакомым и довольно живописным местам. Самая дачка, занятая моими родными, этот выкрашенный в красный цвет домик, стоявший среди елок на холме у самого озера, был очень живописен. Но магнитное притяжение Ати действовало так сильно, что я ко всем прелестям северной природы отнесся равнодушно и уже к вечеру второго дня настоял на том, чтобы мне отправиться в обратный путь; надлежало поспеть к свиданию, назначенному в 10 часов утра в Летнем саду. К великой своей досаде, я как-то прозевал последний пароход, и тогда пришлось ехать на почтовых. Перебравшись на лодочке на противоположный берег узкого в этом месте озера, я дальше должен был всю ночь трястись на двухколесной таратайке, причем приходилось будить среди (еще белой) ночи почтовых смотрителей и угрюмых чухонских ямщиков, отчего они не делались менее угрюмыми. Раза два мне пришлось более получаса застрять на почтовой станции, пока раздобывали лошадь, пасшуюся где-то в лесу. Потерянное время наверстывалось затем бешеной быстротой, с которой мчалась повозка, причем я был поражен тем, что финн-возница не только не тормозил на спуске под гору, но, напротив, гнал лошадей вовсю, и это для того, чтобы с разбега взять следующий подъем. Так как вся местность от Пуумалы до Вильманстранда перерезана холмами, то от подобной езды получалось ощущение, похожее на морскую болезнь. В Петербург я прибыл разбитым, но увидав счастливую улыбку своей сходящей с пароходика возлюбленной, забыл всякую усталость…
Как бы неодобрительно ни относились обе наши родни к возобновлению нашего романа, это прямого влияния на наши встречи не имело. Я, совершеннолетний студент, мог распоряжаться своим временем как мне было угодно. После двух очень неприятных разговоров с Альбером и с Леонтием, я других столкновений с ними больше не имел, папочка же, верный своему правилу, в сердечные дела своих детей не вмешивался. Не так легко жилось моей бедной Ате. Осенью Мария Карловна, ставшая невестой зажиточного инженера Б. Е. Эфрона, переехала из дома Бодиско в очень просторную квартиру на Морской (в верхнем этаже дома князя Львова), где Ате была предоставлена большая комната, выходившая двумя окнами на улицу. Сначала здесь мои почти ежедневные приходы терпелись, и мы даже с Атей музицировали, но затем Мария Карловна имела со мной серьезный разговор, в котором она повторила все нам давно известное — о немыслимости и безумии нашего брака, о том, что я гублю будущее ее сестры, а через несколько дней от нее последовало и прямое запрещение посещать ее дом, причем об этом был дан наказ и швейцару. Когда я через день все же попытался пройти мимо этого величественного и гордого старца, украшенного предлинной белой бородой, то он преградил мне дорогу, и я с позором должен был удалиться. Дней через пять явилось и запрещение бывать у родителей Ати, продолжавших жить в своей казенной квартире; и такое же запрещение пришло от сестры Сони. Нам оставалось видеться либо на улице, либо в разных общественных местах — музеях, театрах, на концертах, на выставках. Уличные свидания были сносны (а то и приятны), пока стояла сравнительно теплая погода, но когда пошли осенние дожди, а там грянули и морозы, то мы натерпелись немало всяких мук…
Оглядываясь на те столь далекие времена, становится прямо непонятно, как мы смогли вынести в течение более года столь жестокий режим. Особенно плохо нам пришлось в январе и в феврале 1892 года, когда в течение нескольких недель стояли небывало лютые морозы. Все же, несмотря на стужу в 25 и в 30 градусов, мы продолжали ежедневно встречаться, но больше получаса не выдерживали, хоть оба и были закутаны так, что только носы выглядывали у меня из-за высокого мерлушкового, повязанного башлыком воротника, у Ати — из-за обмотанных вокруг шеи и головы шалей. Совсем скверно приходилось мне, когда она задерживалась на службе, и мне приходилось топтаться на месте у решетки Михайловского сквера, откуда я мог наблюдать за дверью в «Железнодорожный съезд». Добрая память осталась у нас обоих о тех свиданиях, которые происходили тогда в польском ресторане на Михайловской улице, где за недорогую плату мы получали очень вкусный обед. К сожалению, музеи и выставки можно было посещать только по воскресеньям и праздникам: в будни же Атя задерживалась на службе до четырех, до пяти часов, когда и выставки и музеи были уже закрыты, а «польская пекарня» бывала часто до того переполнена, что не находилось ни единого свободного мёста.
Поздней осенью 1892 года Атя, наконец, покинула дом сестры Маши и перебралась к родителям в их новое помещение (папа Кинд вышел тогда в отставку). С этой квартирой на Канонерской у Покрова, состоявшей из четырех поместительных комнат, у меня также связаны самые добрые воспоминания. Начать с того, что первыми над нами сжалились именно добрейшие родители Ати, и они согласились меня принимать. В этом уютном обиталище тотчас же возобновились и наши чтения, и разглядывание иллюстрированных книг, и музыкальные занятия. Происходили эти собеседования в гостиной на издавна знакомом красном диване за не менее знакомым овальным столом, а на почтенном киндовском «флюгеле», на котором и Атя, и Володя, и Соня, и Маша учились под руководством их отца, Атя теперь мне играла клавирные переложения «Валькирии» «Зигфрида», «Гибели богов», «Мейстерзингеров», «Пиковой дамы» и «Спящей красавицы».
К сожалению, лето 1892 года выдалось из рук вон плохим, дождливым и холодным, и нам лишь крайне редко удавалось выбраться за город — в Петергоф, в Царское Село, в Павловск — и совершать наши маленькие пикники. Два таких неудачных выезда нам особенно запомнились. Во время одного, в Ораниенбаум, нас чуть не заели какие-то уж очень свирепые комары; во время другого я попал под чудовищную грозу и добрался из Царского Села в Павловск к нашим новым друзьям Десмондам промокший до костей. Пришлось совершенно раздеться, и пока мои вещи сохли у плиты, я разгуливал в арабском бурнусе, привезенном хозяином дома, милейшим Ромюлюсом, из Алжира. Ати это бедствие не коснулось; она была на службе, когда ненастье разразилось, а когда настал момент ехать на вокзал, оно миновало, Увидав меня в виде бедуина, она покатилась со смеха.
Грозу я вообще обожал с самого детства. Была у меня даже странная блажь разгуливать без зонтика по улицам, невзирая на молнии, ливень и бурю, — такой вызов природе соответствовал моим романтическим вкусам. Однако как раз в помянутую грозу, которая застала меня в Царском, я натерпелся такого страха, пока со всех ног, шлепая по лужам, мчался на вокзал, а молнии буквально сыпались (на следующий день стало известно, что тогда в Царском убито молнией несколько солдат), что в течение целых двадцати лет я затем не лучше какой-либо истеричной дамы чувствовал себя в неминуемой опасности, как только надвигалась гроза. А затем эта странная форма трусости прошла, и с тех пор я в грозу чувствую себя не иначе, нежели в иную погоду.
Раз я упомянул о Десмонде, то уместно будет рассказать здесь же об этом нашем новом приятеле. Зоил Валечка Нувель относился к Десмонду свысока, с пренебрежением, он его характеризовал «грядущим буржуа», ни во что не ставя тот большой интерес, который Ромюлюс выказывал в отношении художеств, театра и музыки. Валечка отчасти был прав, но это не мешало мне ценить в Десмонде искренность его увлечений и его трогательное стремление приобщиться к искусству. Мне нравилось в нем то, что он много путешествовал, изъездил почти всю Европу и даже побывал в Алжире и Тунисе, что тогда было еще редкостью. Свои впечатления он умел передавать увлекательно и со вкусом; наслаждался я и разглядыванием тех бесчисленных фотографий, которые он вывез из этих странствий. А вообще это был необычайно благожелательный, ласковый и хлебосольный господин, у которого было приятно бывать, встречая там самый радушный прием. Угощал он нас чудесными обедами, очень изящно сервированными, причем некоторые блюда он готовил сам, и я положительно нигде, даже в Италии, даже у бабушки Кавос не едал таких макарон, таких ньок или равиоли, какими он нас потчевал. Все это запивалось превосходным вином в сверкавших графинах богемского хрусталя (один такой графин я, о ужас, разбил), а заканчивался пир изумительным кофием по-турецки. При всех своих увлечениях, гастрономических и эстетических, Десмонд оставался тем, чем он был, т. е. солидным, деловым банковским служащим. В смысле художественных суждений он звезд с неба не хватал и лишь умеренно одобрял то, от чего мы приходили в дикое неистовство. Поглядывая с улыбкой на нас, он не без малой зависти восклицал: «Уж эта молодежь, уж эта молодежь!»
Познакомились мы с Десмондом через Бирле. И вот теперь необходимо представить и этого нашего друга, нашего закадычного друга, сыгравшего не только в моей личной жизни, но и в жизни всего нашего кружка весьма значительную роль. Замечательно, впрочем, что сам Бирле не догадывался, что он представляет собой для своих «русских друзей», с которыми его свела сущая случайность. Да и дружеское наше общение в своем первом периоде (единственно важном) продолжилось тогда неполных два года.
Познакомил же нас с Бирле другой наш близкий друг, скульптор Артюр Обер, имя которого уже не раз упоминалось в этих записках, но о ком подробно я собираюсь еще поговорить в другом месте. Здесь будет достаточно сказать, что этот чудесный человек был на тридцать лет старше нас и что он был один из первых, кто в тяжелый период нашей «отверженности» стал нас принимать у себя. Он знал мою невесту еще маленькой девочкой и всегда относился к ней с большим и нежным вниманием. Дела Обера за последние годы очень поправились, он даже обзавелся прислугой, которую научил хорошо готовить на французский лад. Кухню его мы с Атей оценивали даже, пожалуй, чрезмерно. Я, по крайней мере, так наедался и так напивался дивным домашним хлебным квасом, что после каждого такого в честь меня и Ати Карловны устроенного пиршества еле дышал. Вечер заканчивался музыкой. Напялив очки, Артюр садился за пианино и играл нам произведениях своих любимцев — Шумана и Мендельсона. Что за очаровательные, ни с чем не сравнимые то были часы!.. Как я до сих пор благодарен за них милейшему Оберу!
Но вернемся к Бирле. Встретив осенью 1891 года в одном французском семейном пансионе этого другого милейшего человека, Обер сразу исполнился к нему симпатией и решил его познакомить со мной. Это и был Mr. Charles Birle, занимавший какой-то незначительный пост во французском консульстве. Он всего только за несколько недель прибыл в Петербург, но уже начинал убийственно скучать в своем одиночестве. Бирле был еще совсем молодым человеком (кажется, он был старше меня на два года), и всего год, как он, окончив парижскую «Школу права», вступил в «дипломатическую карьеру II ранга». Испросив как-то у папы разрешения, Обер привел Бирле прямо к вечернему чаю к нам, и уютность нашей семейной обстановки так подействовала на Бирле, что он отбросил свойственную ему застенчивость и выказал себя очень интересным собеседником. Мне же он сразу понравился чрезвычайно, и я решил его использовать.
Я уже упоминал, что в те времена во мне жила страсть вербовать подходящих нам людей. Далеко не все такие завербованные оставались затем в нашем основном тесном содружестве: иных отпугивал свирепствовавший среди нас двух взаимного персифлажа, другие оказывались просто неспособными разделять ту массу далеко не всегда систематизированных, а часто и противоречивых интересов, которые являлись чем-то вроде нашего духовного обихода. Однако вот этот новичок-француз, несмотря на то, что он не говорил и трех слов по-русски, сразу подошел вполне. Правда, нрава он был скорее медлительного, злословию и насмешкам не предавался; темперамента был флегматичного с некоторым расположением к меланхолии, но, к приятному нашему удивлению, Шарль оказался в полном смысле «художником в душе», да и не только в душе, ибо он обладал несомненным и очень тонким дарованием, а технически был даже более подготовлен, нежели того можно было ожидать от дилетанта. В дипломаты он попал по семейной традиции (его отец состоял консулом где-то на юге Италии), уступая требованиям родных; на самом же деле он терпеть не мог своей службы и мечтал о том, чтобы совсем отдаться искусству.
И вот уже после пяти посещений Шарль так освоился, так слился с нами, что перешел со всеми на «ты» и просиживал у меня (или у Нувеля) целые вечера до двух, до трех часов утра. При этом он не требовал, чтобы им занимались или хоть из внимания к нему беседовали по-французски. Далеко не все среди нас могли свободно изъясняться на этом языке. Бакст тогда только начинал лопотать несколько слов (и с каким потешным коверканьем!), немного свободнее говорил Сережа Дягилев, Сомов же стеснялся своего дефектного произношения, а Калин и Скалон, если и читали французских авторов в оригинале, то неспособны были выразить и простейшую мысль по-французски. Только Дима Философов, Нувель и я могли без труда поддерживать с Бирле разговор. Он же довольствовался и тем, что часами разглядывал какие-либо книжки или, за компанию с Бакстом, акварелировал. Когда мы, более опытные во французском языке, втягивали его в беседу, то она оказывалась не только занятной, но и поучительной… Бирле принадлежал, при всей своей скромности и чуть робкой манере держаться, к людям, для которых художественная жизнь Парижа не имела тайн. Он был вполне современен, в курсе литературных и художественных течений, а в своем «изгнании на берега Невы» он всячески старался не терять связь с метрополией, выписывая несколько передовых журналов и покупая все появлявшиеся литературные новинки, что появлялось нового у Мелье или у Виоле (на Малой Конюшенной).
Как и вся французская молодежь тех дней, Бирле (в отличие от нас) бредил поэзией. Имена Бодлера, Малларме и Верлена были для него священны. Но кроме того он увлекался Метерлинком, Гюйсмансом, Швобом, Сар-Пелладоном и еще всякими младшими богами. Он и нас познакомил с их творениями, в частности заразил меня и Нувеля своим культом Верлена. Напротив, нашего увлечения Золя он не разделял — это было до него пройденным этапом. В живописи он был пламенным адептом импрессионизма и символизма, и еще до того, что мы сподобились увидать хотя бы один образец заглазно и на веру почитаемых художников, мы, благодаря Бирле, получили о них довольно правильное, но исключительно теоретическое понятие. Между прочим, помнятся наши споры о Ренуаре, о последней его манере (по тогдашнему счету). Вообще Ренуара мы были готовы принять в душу, но такие картины, как «Две девочки у рояля» или «Парижская дама с дочкой», нас оскорбляли беспомощностью почти любительского рисунка и особенно своей кукольностью.
Напротив, Шарль возвел в принцип, что если кого принимаешь, то принимаешь целиком и безоговорочно. Он сердился, если кто-либо позволял себе хотя бы частично критиковать одного из его кумиров, и как раз одним из таких кумиров был Огюст Ренуар. Впервые я тогда познакомился с этой чисто французской манерой безусловного признания. Под этим часто кроются коммерческие расчеты картинных торговцев, и не это ли постепенно привело общественное мнение в Париже до самых диких абсурдов или же до вящей растерянности в художественных оценках? Но в те времена на французском Парнасе все еще занимали почетные и, как казалось, навеки обеспеченные за ними места такие великие люди, как Мейсонье, Бугро, Жером, Лефевр, Бонна, Бенжамен-Констан, а среди корифеев помоложе — Боннар, Каррьер и особенно Даньян Бувре. Они почитались за представителей преславной французской школы и отличались строжайшей выдержкой, самым добросовестным отношением к задаче и твердым знанием своего ремесла. Рядом с такими хранителями традиций, с такими устоями имели свою законную основу и всякие смельчаки, мятежники и искатели. В свою очередь, не только для самих практикующих живописцев, но и для критики продолжали что-то означать такие выражения, как «правильный рисунок», «красивое письмо», «правдивые краски», «законченность» и «преодоление трудностей». Но как раз тогда же, в начале 90-х годов, в художественной оценке стало проглядывать и известное своеволие, все более крепнущий протест против стеснительных правил, а также интерес к любому чудачеству, к юродству и к дилетантизму.
Меня, да и всех нас эти веяния, с которыми нас знакомил наш новый друг из Парижа, очень тревожили. При всем нашем стремлении к свободе вдохновения и при всем отвращении от тупой школьной выучки, от мертвой академической схоластики, мы все же стояли за то, чтобы в основу художественного творчества ставилось самое строгое отношение к ремеслу, а главное — абсолютная искренность и честность. Для воспитания моего вкуса недаром прошло то, что я с детства видел многие образцы высшего качества, а в лице своего отца имел пример настоящего мастера. Для парижанина же Бирле подобные заветы, законы, традиции уже тогда представлялись чем-то ненужным и отжившим. Оценивая же того или другого художника, он его брал целиком, стараясь вникнуть в то, что представлялось ему его существом, остальное же ему казалось неважным.
Сам Шарль Бирле лично был нам приятен и мил; мы почерпнули из общения с ним много для нас нового и волнующего. Благодаря ему мы тогда в несколько месяцев очень развились и сильно подвинулись, созрели. Но, кроме того, Шарль познакомил нас с помянутым Десмондом, а Десмонд, в свою очередь, ввел в нашу компанию того человека, который в дальнейшем играл немалую роль среди нас и даже явился одним из столпов нашего «Мира искусства». То был Альфред Павлович Нурок — одна из самых курьезных фигур, встреченных мной за всю мою жизнь. При первом знакомстве Нурок показался мне прямо-таки жутким, даже несколько инфернальным, опасным. Тому способствовало его фантастическое лицо, с которого можно было написать портрет Мефистофеля. Манеры его были юркими, порывистыми и таинственными, говор его, как по-русски, так и по-французски, по-немецки и по-английски, при всей своей безупречной правильности, обладал определенно иностранным акцентом (на всех четырех языках) без того, чтобы можно было определить расовое или национальное происхождение этого акцента. Его воспаленные глаза глядели через острые стекла пенсне, а с уст не сходила сардоническая улыбка. К этому надо прибавить то, что Нурок старался всячески прослыть за крайне порочного человека, за какое-то перевоплощение маркиза де Сада. И, несмотря на это, Нурок не только заинтриговал меня, но и пленил.
Пленил он меня сразу тем, что оказался поклонником моих литературных и музыкальных кумиров: Гофмана и Делиба. Постепенно же я научился понимать всю сущность этого загадочного человека. Его можно было полюбить за одну его, тщательно им скрываемую, доброту, за его человечность, гуманность, а кроме того, и он исповедовал тот культ искренности, который лежал в основе всего моего художественного восприятия. Впрочем, вне музыки и литературы Нурок предстал перед нами в качестве полного профана и таким он и остался. Его просто не интересовали вопросы пластических художеств, а когда что-либо и заинтересовывало, то всегда под таким увлечением чувствовалась литературная подоплека. Все же именно ему мы обязаны знакомством с творчеством Обри Бердсли, который в течение пяти-шести лет был одним из наших властителей дум и который в сильной степени повлиял на искусство (и на все отношение к искусству) самого среди нас тонкого художника — Константина Сомова. Впрочем, и Бердсли пленил Нурока какой-то своей литературщиной. Типичному декаденту Нуроку нравился в английском художнике тот привкус тления, та одетая во всякие кружева и в мишуру порочная чувственность, что просвечивает в замысловатых, перегруженных украшениями графических фантазиях Бердсли. То же пленило в Бердсли Оскара Уайльда. Кстати сказать, Уайльд был рядом с маркизом де Сад, с Шодерло де Лакло и с Луве де Кувре одним из главных авторитетов Нурока. (Откликом тех увлечений, которые в нас поощрял Нурок, было то, что Дягилев в своих посещениях Франции в 1897-м и в 1898 году, совершавшихся со специальной целью ознакомиться с последними явлениями на Западе, счел долгом заехать в Дьепп к Уайльду, где, кроме него лично, он застал Бердсли и ближайшего друга последнего, молодого, необычайно изощренного художника Кондера. Последнего мы тоже в те годы очень ценили.)
С момента, когда в 1892 году подошел к нам Нурок, наш будущий штаб был сформирован. Редакция «Мир искусства» начала свое существование шесть лет до того, что был затеян и появился в свет наш журнал, носящий название, ставшее затем нарицательным для всей деятельности нашей группы. Но, разумеется, в те годы (1892–1894), о которых я теперь рассказываю, мы еще не думали о каких-то групповых общественных выступлениях; для этого мы были слишком молоды, и, несмотря на решительность наших суждений и всей нашей независимой манеры держаться, мы внутри себя сознавали, что нам еще далеко до какой-либо зрелости. Многое уже хотелось высказать и даже прокричать, очень не прочь мы были так или иначе выступить на арену, многое в современном русском искусстве казалось нам неприемлемым, но, при продолжающейся хаотичности основных убеждений, мы опасались, что нам не хватит духовных сил вести полезную во имя наших принципов борьбу.
Более отчетливую форму получило наше художественное вожделение благодаря толчку, полученному извне. Таким толчком явилась книга, начавшая выходить выпусками с февраля 1893 года.
То была «История живописи в XIX веке» Рихарда Мутера. Первый же выпуск, присланный мне на просмотр моим поставщиком Л. М. Вольфом, произвел на меня впечатление какого-то откровения. Так об искусстве, об истории искусства до тех пор никто не говорил. Так просто, свободно и смело. Но и один подбор иллюстраций был весьма показателен и вызвал во мне особое волнение. Не только современное, но и старинное искусство получало в освещении Мутера новую жизнь, новый смысл. Да и граница между прошлым и настоящим как-то стерлась. Придя в неистовый восторг от новинки, я тотчас же уведомил своих ближайших друзей — Валечку и Диму — о таком счастье, и оба поспешили тоже на эту книгу подписаться. С этого момента мы трое (и все причастные к нам) стали ждать появления каждого нового выпуска с растущим нетерпением (выпуски появлялись приблизительно каждый месяц, всего выпусков было десять, составивших три толстых тома), а когда очередной выпуск появлялся, то мы его проглатывали в один присест, а затем делились впечатлениями и комментировали прочитанное с крайним возбуждением. Надо, впрочем, тут же сказать, что книга Мутера показалась откровением не только нам, художественной зеленой молодежи отсталого Петербурга, но успех ее был прямо-таки мировым. «История живописи в XIX веке» была очень скоро переведена на многие языки, и всюду она порождала страстные толки; всюду старики были возмущены ею, ее жестокими переоценками, всюду молодежь приходила от нее в восторг. Постепенно с нее началось изменение самого тона художественной критики. Она же дала общественному мнению по вопросам современного искусства род нити Ариадны, новые мерила и новые формулировки.
Все сказанное может сейчас показаться преувеличенным — главным образом потому, что многое, что казалось тогда дерзким новаторством, теперь превратилось в какие-то общепринятые и уже более не спорные истины. Мутера, как и многих новаторов и пророков, успели за эти годы позабыть; он уже перестал служить каким-то оракулом и верховным арбитром. Мало того, самую тогдашнюю «передовитость» оставили далеко за собой другие, несравненно более дерзкие последние крики моды… Но в то время книга Мутера произвела поистине впечатление разорвавшейся бомбы. Сколько еще совсем недавно спокойно восседавших на Парнасе художественных божков были растревожены, сколько их стало вопить и требовать величайшей кары за подобное посягательство против самых утвержденных репутаций. Главное обвинение, которое предъявляли Мутеру, заключалось в каком-то искании скандала, в однобокости, в игнорировании заслуг, в пристрастности. Теперь же эта книга может показаться слишком объективной и даже местами недостаточно решительной — «компромиссной». Мне книга Мутера помогла, во всяком случае, разобраться в себе — недаром же я с того и начал свою историко-критическую деятельность, что принял известное участие в работе самого Мутера.
Случилось это так. К первому же выпуску «Истории живописи в XIX веке» был приложен обстоятельный конспект всей книги. Текст готовившихся выпусков был разделен на главы по школам, странам и направлениям. И вот, хотя я и не отличался примерным патриотизмом, я все же возмутился за Россию, за русское художество. Среди глав, посвященных живописи различных европейских государств, глава, которая была бы посвящена русской живописи, просто отсутствовала. Это представлялось тем более несправедливым, что были намечены главы, посвященные не только скандинавским школам, но и польской. Между тем для меня не могло быть сомнения, что школа, давшая таких мастеров, как Левицкий, Кипренский, Брюллов, Бруни, Иванов, Венецианов, Федотов, Репин, Суриков и т. д., — была по меньшей мере равноценной со школой, гордящейся Яном Матейко, Веруш-Ковальским и Иосифом Брандтом. Как раз тогда же в наших с Атей частых посещениях музеев мы часто захаживали в «Циркуль» Академии (под «Циркулем» в Академии художеств подразумевался ряд зал, расположенных кругом с окнами на прекрасный академический двор. Здесь были собраны картины русских художников.) или в те два эрмитажных зала, где также еще висели избранные произведения русской живописи (здесь рядышком занимали всю стену два гигантских полотна: «Последний день Помпеи» и «Медный змий»; по другим же стенам красовались несколько Айвазовских и К. Маковских и т. д.). Многие из этих картин отечественных художников затрагивали в нас особые струны, иные из них возбуждали нас, пожалуй, даже больше, чем современные им чужеземцы. В них отражались культура, быт и вкусы более нам близкие. Того же рода волнующее удовольствие испытывали мы и на выставках, особенно на Передвижной, где рядом с Репиным нас трогали и восхищали произведения Крамского, Левитана, Сурикова, Серова и Нестерова. (Как раз из-за последнего у меня с Атей и с друзьями возникали ожесточенные споры. То, что было болезненно истеричного и в то же время слащавого в картине, изображавшей св. Сергия Радонежского в лесу, я лично охотно прощал художнику за умилительную радость, которой была полна картина, и за что-то душистое, что было передано в пейзаже; в этом уголке мшистого сырого леса с его хрупкими березками и елочками. Напротив, уже тогда я не выносил Васнецова и всю его напускную святость, весь его дутый драматизм.)
Итак, я очень обиделся за Россию, усмотрев странный пропуск в программе книги Мутера. Предположив, что автор просто не располагал достаточными сведениями по истории русской живописи, я и возымел смелую мысль предложить ему свои услуги по собиранию таковых. Никому из друзей я о том не обмолвился, а сочинил письмо Herr Doktor’y и послал его в Мюнхен, не питая больших надежд, что удостоюсь ответа. Ответ, однако, последовал сразу, а содержание его показалось мне совсем удивительным. Мутер попросту каялся в своем полном незнании русской живописи, но не просил у меня сведений, а предлагал мне самому написать эту недостающую главу, да еще сулил мне за то денежное вознаграждение. Я был вне себя от смущения и… страха. Сначала я думал даже отказаться от такой, казалось мне, непосильной задачи, но Атя убедила меня испробовать свои способности. Она была уверена, что задача мне по плечу и что я с ней справлюсь вполне. После недели колебания я послал Мутеру свое согласие, причем обещал доставить и текст и иллюстрации.
С этого момента я совсем ушел и подготовительную работу. Работа же предстояла огромная. Надлежало, во-первых, основательнее и более систематично ознакомиться с предметом — и это при крайне ограниченном количестве трудов по русскому искусству. Надлежало приобрести кое-какие книги, а иные книги, ставшие библиографической редкостью, раздобыть у букинистов. Что же касается таких исследований, мемуаров и брошюр, которые невозможно было купить и за большие деньги, то многие из них нашлись в богатой библиотеке Академии художеств, где я встретил величайшую отзывчивость в лице ее библиотекаря Ф. Г. Бернштамма. Дело затянулось до лета. Переходные экзамены с III на IV курс были уже позади (или их вовсе не было, сейчас не могу вспомнить), и поэтому я мог все свое время отдавать данной работе. Несколько месяцев ушли на то, что я готовился, читал, делал выписки, посещал еще и еще художественные хранилища, с обновленным вниманием всматриваясь в самые произведения; а затем, приблизительно с середины июля, я приступил и к самому писанию своей главы. Сначала я собирался писать по-русски, с тем, чтобы потом или самому перевести написанное или поручить другому, но во время хода работы я до того осмелел, что стал писать прямо по-немецки. При этом мне очень облегчало задачу мое увлечение книгой Мутера и не только ее содержанием, но и ее стилем; я как бы заразился от Мутера самой манерой излагать мысли, «преподносить вещи». Да и вообще вся работа оказалась превосходной школой. Ведь если не считать классных сочинений, за которые учителя меня похваливали, если не считать моих лекций в нашем дружеском кругу, — это был мой первый писательский опыт.
Рукопись поспела к сроку (кажется, то было 15 августа), Атя, превосходно знавшая немецкий язык, мне все исправила, после чего я не без трепета упаковал свою работу и отправил заказной посылкой. Одновременно, в отдельном ящике я отослал Мутеру и иллюстрации числом около тридцати. Раздобыть их стоило мне едва ли не больше труда, нежели составление текста. В продаже тогда почти отсутствовали воспроизведения с интересовавших меня картин, и даже знаменитых «Бурлаков» я нашел лишь в фотолитографии с авторского рисунка пером. Что же касается до Левицкого, Боровиковского, Кипренского, Венецианова, как раз моих любимцев, которым я посвятил восторженные строки, то с них не существовало ни одной фотографии или иных каких-либо репродукций. Выручил милый Зозо Россоловский, который тогда по-любительски занимался фотографией (в то время и это было редкостью) и который вызвался мне сделать несколько снимков. Не помню, почему я не обратился тогда к своему кузену Жене Кавос, который уже несколько лет как занимался художественной фотографией и даже устроил у себя в доме целую лабораторию. Удобнее всего это было произвести в помянутом академическом «Циркуле», в летние месяцы совершенно пустовавшем. После нескольких опытов Зозо справился с задачей удовлетворительно, и снимки с произведений Левицкого, Венецианова, Орловского и Кипренского были приложены к остальным.
Вскоре был получен и ответ от Мутера, да еще с приложением целых двухсот марок гонорара! Это был мой первый литературный заработок. Однако я все еще продолжал хранить в тайне от друзей свой дерзновенный поступок. Наконец, в октябре появился выпуск с главой о русской живописи и в заглавии его стояла строка (единственная в этом роде во всей книге): «При участии Александра Бенуа. С.-Петербург». Сенсация среди друзей получилась грандиозная; сюрприз удался вполне. Особенно был поражен Дима Философов, который, в качестве сына знаменитой общественной деятельницы, был падок до всего, что носило оттенок общественности. Он поздравил меня в торжественных выражениях, в которых на этот раз отсутствовал и малейший намек на иронию. В этом моем выступлении он увидел начало какого-то моего или нашего служения культуре. Мне даже думается, что этот мой опыт явился подзадоривающим примером как для него самого, так и для Сережи Дягилева, тогда как до той поры ни тот, ни другой ничего еще самостоятельного не затевали.
В общем, я был безмерно счастлив таким исходом моей рискованной затеи и чувствовал себя триумфатором. Долю огорчения я все же испытал. Мне было досадно, что Мутер выкинул весь конец моей статьи, все то, что я говорю о новейших явлениях в русской живописи. Особенно же был обидно, что не осталось и следа моего тогдашнего восторга от Нестерова; тогда как меня тянуло высказать публично оценку его творчества. Видно, у немецкого историка не хватило доверия к своему самозванному сотруднику; он мог заподозрить, что под моим восхвалением кроется дружеская услуга — попросту кумовство. Взамен этой купюры Мутер развил параграф о В. В. Верещагине, несомненно потому, что то был единственный русский художник, о ком он имел хоть кое-какое представление. Смешным и безвкусным оказалось и вступление к главе о русской живописи, самовольно «для красоты» и для местного колорита им прибавленное. То была какая-то якобы народная сказка слащаво-сентиментального характера.
Припоминаю еще, что за все последние месяцы между мной и Мутером шла усердная переписка. Несколько раз я позволил себе критиковать высказываемые им мнения о художниках или выражать недоумение по поводу тех или иных пропусков… От своего издателя Георга Гирта он мог узнать, что я еще зеленый юнец. Но едва ли он догадался эту справку навести и, судя по тону его ответов, он до конца принимал меня за человека скорее почтенного. Любезным выражением его удовлетворения моей работой явилась та премия, которую он счел своим долгом мне прислать, считая мой гонорар недостаточным. То была серия отличных гелиогравюр с картин одного из моих любимых романтиков — Морица Швинда. О моей любви к этому мастеру я ему писал.
Удача моего первого опыта окрылила меня на дальнейшее. Я тогда же предложил Зозо Россоловскому, исполнявшему в те годы обязанности одного из редакторов «Нового времени», написать что-либо для его газеты о современных художественных течениях. Зозо отнесся к этому сочувственно и взялся переговорить с А. С. Сувориным. Однако когда я ему вручил довольно длинный фельетон на тему об импрессионистах, то Зозо не решился его представить на суд своего принципала — до того эта проба пера показалась ему и смелой и незрелой. Надо вспомнить, какими не то что отсталыми, а просто невежественными отзывами кормила наша самая распространенная газета публику при участии усердного, но совершенно безличного компилятора Ф. Булгакова и, если и талантливого, то все же бессовестного обскуранта Буренина. Я, впрочем, сразу тогда утешился, а нынче должен скорее благодарить судьбу за свою неудачу. То, что я тогда состряпал об импрессионистской живописи, с которой я не был знаком в оригиналах, было несомненно чем-то весьма незрелым и легкомысленным.
ГЛАВА 16 Родственники. Империалы. Эрмитаж
В то же лето 1893 г. наступает, наконец, долгожданная перемена в отношениях моих родных к нашему роману. Очевидно, в них постепенно исчезли последние сомнения в серьезности наших чувств, и взамен того получилась уверенность в том, что такое постоянство является залогом нашего будущего счастья. Первые шаги к тому, чтобы принять Атю в лоно нашей семьи, были сделаны без какого-либо домогательства с моей стороны. Создалось к тому же несколько странное положение. Я уже год, как снова стал бывать каждодневно у родителей Ати, многие наши знакомые, и среди них милейшая патриархальная семья Сомовых, принимали нас как жениха и невесту, а мы все еще не представляли собой нечто определенное в официальном смысле. Вражда Монтекки и Капулетти — семей Бенуа и Кинд — продолжалась как бы по инерции.
Первый решительный шаг к выходу из этого положения был сделан моей беспредельно доброй и сердечной сестрой Камиллой Эдвардс, и так как мы оба питали к ней чрезвычайную нежность, то это было нам особенно приятно. Мы снова очутились под ее кровом, за ее гостеприимным столом, точно и не было всех минувших лет. Мы оценили и то, что мы снова на милой Кушелевке, там, где, будучи еще двенадцатилетними детьми, мы впервые стали обращать внимание друг на друга, там, где продолжало жить распространяемое Эдвардсами особенно нам близкое «диккенсовское настроение». Да и день выдался необычайно приятный, солнечный, мягкий с необычайно легким воздухом. Сад, расположенный между террасой дома и прудом, был полон благоухающих цветов, под тентом террасы восседали бабушка Кавос, как всегда, в отличном настроении, видимо, довольная, что может приветствовать Атю, к которой она всегда выказывала сердечную симпатию близкой родственницы. Вслед за Эдвардсами нас пригласили к себе (все еще до моего отца и сестры Кати) брат Миша и его жена Оля. Туда, в Петергоф к завтраку и на весь день мы предпочли, по традиции, отправиться не поездом, а на пароходе — по гладкому, как зеркало, морю. И тут мы тоже испытали особое удовольствие, когда оказались «нераздельной парой» в этом самом Бобыльске, в котором у нас впервые заговорило более определенное влечение друг к другу. Но каким совершенно иным выглядел теперь Бобыльск. Сколько на территории, некогда занятой одними рыбацкими избами и огородами, выросло за десять лет богатых дач, и как раз самой нарядной среди них была только что отстроенная Мишенькина дача. Сам он встретил Атю после пяти лет, точно они расстались накануне, у Ольги же в выражении ее симпатии к будущей бэль-сёр было что-то радостно взволнованное, пожалуй, даже нотка известной истеричности. Благодаря жившему в ней чувству протеста в отношении всяких людских несправедливостей, ей, вероятно, было особенно по душе, что она может одна из первых исправить такую несправедливость, тогда как жившая рядом на даче жена Леонтия Мария Александровна не подавала все еще вида, что она готова изменить свое отношение к нам.
День в гостях у Миши и Оли прошел в угощениях, в прогулках, в катании на парусной яхте, а на Старопетергофский (до чего же знакомый!) вокзал нас доставили наши родные в собственном ландо. Вернулись мы в Петербург полумертвые от усталости, что, однако, не помешало нам прежде, чем разойтись, еще час бродить вдоль по тем каналам, которые оцепляют весь наш квартал. Была чудесная белая ночь.
Вообще, что может сравниться в своей прелести с нашими тогдашними прогулками по Петербургу? Или — с моими вечерними посещениями Ати. Для того, чтобы дойти от нашего дома до того дома на Канонерской, где жили родители Ати, не требовалось больше десяти минут. Перейдя через Крюков канал и пройдя домов пять-шесть по Екатерингофскому проспекту (наш дом тоже выходил одной стороной на Екатерингофский), я подходил к тому месту, где для сокращения пути я переплывал на ялике узкий Екатерининский канал, и тогда оказывался почти у начала Канонерской. Самое это переплытие имело в себе что-то мило-стародавнее. Обслуживали его трое мужиков: седой старик и два молодца; все трое ютились в крошечной избушке, построенной на одном из двух плотов, служивших пристанями; все трое были неизменно в красных рубашках и босые. После 11-ти вечера, когда я шел обратно домой, перевозчики уже спали; приходилось постучать в оконце избушки, и тотчас же выходил полусонный парень, он помогал мне вступить в свою лодочку (пестро раскрашенную), а затем достаточно было одного сильного толчка багром, чтобы отчалить от одной пристани и подплыть к противоположной. Плоты стояли у сходов, устроенных в гранитной набережной. Меня яличники принимали всегда (даже и в более поздний час) с особенным удовольствием, так как я платил не по тарифу (3 копейки), а награждая, не скупился на гривенники и пятиалтынные. Их промыслу был положен конец, когда как раз на месте перевоза, рядом с Эстонской православной церковью, был построен деревянный мост.
И еще раз, вспоминая наши тогдашние блуждания по соседним кварталам, я не могу не остановиться с умилением на всем том, что эти кварталы Коломны содержали в себе замечательного — начиная с чудесного собора Николы Морского, золотые маковки которого в белой ночи так торжественно блистали на фоне лиловатого востока, а высокая стройная колокольня тянулась в опрокинутом виде в тихо колеблющихся водах. Я подолгу мог любоваться, как это отражение колышется, плавно извивается, выпрямляется или дробится и распадается… Большой театр в это время уже не существовал (вернее, его ломали, и на месте этого «Храма Аполлона» воздвигалось уродливое здание Консерватории), но продолжал стоять нетронутым Мариинский театр, каким его построил дед. А как живописны были наши оба рынка: Литовский и Никольский с их бесчисленными аркадами, сводчатыми переходами и высокими красными крышами. Два из девяти мостов в нашем квартале, перекинутые через каналы — Крюковский, Екатерининский и Фонтанку, — все еще были украшены гранитными обелисками. Весной вся наша довольно пустынная и чуть провинциальная Коломна насыщалась дивно-горьковатым запахом только что распустившихся берез Никольского сада, а летом сладким, дурманящим ароматом цветущей липы.
Часто мы совершали и более далекое путешествие — до Биржи. На поросшей травой, полукругом выдающейся в Неву эспланаде вечером не бывало ни души, и лишь белые боги у подошвы двух ростральных колонн, казалось, охраняют порученное им пространство. И почему-то нам вдвоем вовсе не было страшно среди этой пустыни; в этот тупик (Биржевого моста еще не существовало) никто не заглядывал, а о каких-либо разбойниках или грабежах мы даже не помышляли — об уличных нападениях в те времена меньше говорили, чем в позднейшие, а страшный рассказ «Бездна» Леонида Андреева еще не был написан.
Лето 1893 г. стояло прекрасное (не то что ужасное предыдущее), и отчасти благодаря этому я стал все больше втягиваться в художественную работу. Если до того я довольствовался зарисовками карандашом, которые я затем дома раскрашивал по свежей памяти, то теперь я отважился работать красками непосредственно с натуры, причем я особенно тогда пристрастился к пастели, что помогало мне добиваться большей яркости красочных эффектов. Мои племянники Лансере (Жене было 18 лет, Коле 15) часто нас сопровождали, и с этих пор завязывается между ними и Атей та искренняя дружба, которая продолжалась бы до сего дня, если бы нас не разлучили ужасные мировые события. Иногда с их помощью и с помощью меньшего брата Ати Пети мы на наемном ялике спускались по Фонтанке до взморья.
При этом мы рисковали угодить под направляющиеся в Кронштадт и в Петербург большие заграничные пароходы, однако вид, открывавшийся от устья Невы на город, особенно под вечер, когда все заливалось оранжевыми лучами клонящегося к закату солнца, был так красив и фантастичен, что мы на подобный риск не желали обращать внимания. Как-то раз я умудрился сделать довольно тщательный этюд пастелью этого эффекта, несмотря на то, что нашу лодку все время крутило, относило в сторону, а волны, поднятые проходящими судами, ее немилосердно качали. Иногда и Женя принимался за карандаши и краски. С того времени все ярче начинает сказываться его исключительное дарование.
Не подвергаясь какой-либо опасности и в полном спокойствии можно было любоваться подобными же мотивами взморья и писать их, находясь на Лоцманском острове, лежащем у выхода в море Фонтанки. Селение на острове состояло из однообразных двухэтажных домиков, имевших в себе что-то голландское. В этих аппетитных домиках проживали присяжные лоцманы (откуда и название) и другие служащие морского ведомства.
Какая-то «заграничность» нас особенно притягивала. Да и вид с Лоцманского острова (на который можно было вступить, перейдя мост через речонку, отделявшую островок от материка) — был совершенно исключительной красоты как в пасмурные дни, когда морская гладь тонула в перламутровой мгле, так и тогда, когда здания Морской таможни, расположенной у конца Морского Канала, мягким силуэтом выделялись на фоне пылающего заката. Я обыкновенно устраивался на завалинке одного из этих лоцманских домиков, и почти каждый раз через его оконце, из-за горшков с геранью, за моей работой следили жадные детские глаза. Все это было очаровательным и напоминало уютные сюжеты немецких жанристов эпохи Biedermeier или иные прелестные акварели моего папы. Вокруг стояла удивительная тишина, нарушаемая лишь криками чаек и гудением далеких пароходов.
Именно тогда я снова стал считать себя заправским художником. Однако уже в предыдущий «бесплодный» период Альбер заставил меня принять участие в Акварельной выставке. Выставил я акварель большого формата, представлявшую уголок старинного немецкого города. То был не этюд, сделанный с натуры, а комбинация мотивов, запавших мне в душу во время моего посещения Франкфурта. Необычайный же размер я выбрал потому, что он должен был по моим расчетам привлечь внимание публики. Однако никто не пленился моим произведением, а что с ним сталось впоследствии, я не запомнил. На выставку следующего года я отправил девять акварелек, заключенных в одну общую раму, и на сей раз их крошечный размер послужил приманкой — шесть из этих картинок, изображавших опять-таки живописные городские виды, были проданы, и мне досталась сумма рублей в шестьдесят или восемьдесят. Созданы были все эти акварели с помощью фотографий, и разумеется, они никакой художественной ценности не представляли, мне же очень хотелось заработать довольно крупную сумму для покупки разных книг, на что не хватало тех денег, которые папа давал мне ежемесячно. Подобные же (совершенно недостойные) работы я выставлял в магазинах Аванцо и Беггрова, спрашивая за них от пяти до десяти рублей за штуку, и кое-что из всей этой макулатуры находило себе покупателей. Должен сознаться, что воспоминания о таких моих «художествах» не принадлежат к самому лестному в моем прошлом, и я не желал бы снова увидеть эти постыдные свидетельства моей «продажности».
Существенную пользу для своего художественного развития я вынес из выставки 1893 года, на которой я представил несколько фантастических композиций. Успеха они не имели, но я, благодаря им, лучше осознал свои недочеты. Между прочим, я с благодарностью вспоминаю ту беспощадную критику, которой подверг М. Я. Вилье мою «Пастораль». Тогда я попробовал с ним спорить, однако его замечания все же открыли мне глаза на то, что моя картина (род декоративного панно), в которой соединялись элементы XVIII века с элементами, взятыми у японцев(!), была не что иное, как самая безвкусная и ребячески претенциозная чепуха. Напротив, великий князь Константин Константинович эту же мою пастораль похвалил, усмотрев в ней то, что августейший поэт только и искал в живописи, а именно, известную «поэтичность». Его хвала — не только не уничтожила обидного впечатления, полученного от свирепой критики Вилье, но косвенно как бы послужила ей подтверждением. Уже тогда хвала людей, мало понимающих, меня скорее огорчала, нежели радовала.
Понимал ли вообще что-нибудь «К.Р.» в пластических художествах, на это трудно ответить. То, что он приобрел несколько превосходных вещей, в том числе прекрасное «Распятие» испанской школы, которое приписывали тогда Веласкесу, и Леготе, и Сурбарана, а также кошмарно-жуткую бронзу Обера, олицетворявшую «Бедствие», еще ничего не доказывает, ибо он же приобретал и самые ординарные «исторические» картины, он же поощрял доморощенного слащавого декадента-символиста Соломко. Скорее всего те удачи в приобретениях великого князя получались благодаря советам более тонких ценителей (в том числе Липгардта), тогда как «неудачи» отражали личный его вкус. Вспоминаю и то, как тот же великий князь Константин, глядя на врубелевского «Демона», воскликнул: «Будь я его отец, я бы выпорол этого художника». Он смутился, когда я ему сообщил, что Врубель почитается за одного из самых выдающихся русских художников, а к тому же он вышел из того возраста, когда получают порку.
Кроме поблажек моему самолюбию и небольших заработков от продажи акварелей эти выставки прельщали меня возможностью входить в непосредственный контакт с самим государем и со всей царской фамилией. Это было слишком интересно. Альбер извещал придворное ведомство о дне открытия очередной (бывавшей в начале года) выставки, после чего неизменно приходило сообщение, когда следует ожидать августейших гостей. Обыкновенно назначался канун официального публичного открытия выставки. «Империалы» (как было принято называть членов императорского дома) являлись все одновременно. Их встречали внизу у подъезда «Общества поощрения художеств» организаторы выставки (в том числе и мой брат Альбер). На первой площадке парадной лестницы их принимали президент Общества, принцесса Евгения Максимилиановна, и члены комитета, а затем после всяких приветствий все три группы подымались еще выше в выставочный зал; тут, перед входом в него, происходило представление высочайшим нас, грешных, людей помоложе и еще не знаменитых. На выставку 1891 года я явился в студенческой форме и, возможно, что вид моего мундира произвел не столь уже приятное впечатление на государя, вообще к студенчеству относившегося с известной подозрительностью. Однако, когда Альбер подвел меня к его величеству и рекомендовал по своему обыкновению, как своего необычайно талантливого брата, государь ласково улыбнулся, протянул мне свою огромную руку и произнес несколько ободряющих слов. После того мне было поручено давать пояснение императрице Марии Федоровне и великой княжне Ксении, но когда государь, шедший спереди, оказался перед моим «Франкфуртом» (Альбер обратил его внимание на эту картину), то он обернулся ко мне и предложил несколько вопросов. Эти вопросы высочайших бывали всегда более или менее одни и те же: «Когда вы это делали? Долго ли жили там-то и там-то? Что это, акварель или гуашь, вы долго писали эту картину?» и т. п. Мнений ни государь, ни государыня не высказывали, и лишь перед панно, занятым работами Альбера, они и все сопровождавшие рассыпались в восторженных комплиментах. Слышались восклицания: «Какая красота», «какая прелесть, совершенная природа». После чего императрица каждый раз просила оставить за ней три или четыре акварели Альбера.
Вообще выставка обозревалась империалами во всех подробностях и с большим вниманием, на что уходило час или полтора. Должен при этом сказать, что и все манеры императорской четы и то, что исходило из их уст, способствовало тем чувствам симпатии, которые несколько лет, как я уже питал к нашему государю. Они сменили во мне прежние, ребячески-революционные и весьма смутные чувства, приобретенные от чтения некоторых исторических романов, и отражали то либеральное фрондирование, которое было до некоторой степени модным в петербургском обществе. Общество продолжало дуться на Александра III, особенно за то, что он не даровал в свое время конституции, якобы уже лежавшей готовой к подписи на столе его отца в день цареубийства 1 марта 1881 года. Но я сознательно употребил здесь слово симпатия, намеренно воздержавшись от более подобающих в таких случаях выражений, вроде «высокопочитание», «благоговение» или еще «обожание». Александр III всей своей колоссальной статурой, голосом и особенно взглядом своих пронизывающих глаз вселял в людей, подходивших к нему при исполнении своих верноподданнических обязанностей, чувства трепета и даже страха, никак не совместимых с чувством симпатии. Однако во время посещений царем наших (столь безобидных) выставок, он умел показать другую сторону своей личности. Он становился тем любезным, внимательным, вовсе не суровым, а скорее благодушным человеком, каким знали Александра III его семья, ближайшие царедворцы и дворцовая прислуга. Поражала его чрезвычайная простота, абсолютная непринужденность, абсолютное отсутствие какой-либо позы, чего нельзя было сказать ни про его брата Владимира, ни, в особенности, про недоступного, высокомерного великого князя Сергея Александровича.
Случалось императору во время обозрения выставки и шутить или же он отвечал громким на весь зал хохотом на те остроты или маленькие потешные анекдоты, которыми его тешили наши специалисты по этой части: бонтонно-грубоватый Вилье и разыгрывавший из себя простачка, искусный маринист А. К. Беггров. На ужинах у Альбера тот же Беггров отличался неисчерпаемым запасом самых гривуазных, самых сальных анекдотов, которые он подносил товарищеской компании с особым смаком. Но Беггров обладал достаточным тактом, чтобы припасать для забавы государя и сопровождавших его дам шутки и словечки совершенно иного содержания и тона. Подносил же свои остроты этот неказистый с виду человек всегда кстати, точно невзначай и без того, чтобы выдать их заблаговременную отделку.
Из шуток самого государя мне запомнилась одна, которую он себе позволил произвести над особой своей троюродной сестры — принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Принцесса почти всегда была одета в костюм-тайер, иногда темно-синего, но чаще светло-серого или бежевого цвета. Этому полумужскому наряду полагалось иметь сзади раскрывающиеся фалды. И вот мы все были свидетелями того, как Александр III, самодержец всероссийский, осторожно подкравшись сзади к принцессе, ни с того, ни с сего раскрыл эти фалды и даже, манерно схватив кончиками пальцев, подержал их несколько секунд в таком положении. Спору нет, шутка эта была несколько дурного тона и какая-то чисто мальчишеская; вероятно, то была своего рода реминисценция тех невинных шуток, которые те же персоны шутили между собой лет сорок тому назад, когда они были детьми. Но Евгения Максимилиановна без всякого снисхождения отнеслась к ней. Обыкновенно очень бледная, она вся побагровела и буквально крикнула на государя: «Что за манеры? Стыдно!» И трогательно было видеть, как колосс самодержец после такой реприманды выразил свое раскаяние, и до чего он был сконфужен. Внизу перед тем, чтобы выйти на улицу и сесть с государыней в двухместные сани (с великолепным казаком на запятках), государь, прощаясь с обиженной кузиной, еще раз при всех нас, гурьбой обступивших, произнес фразу вроде: «Не надо на меня обижаться», на что принцесса только пригрозила ему пальцем, без тени улыбки на лице.
На акварельной выставке 1892 года мне снова выдалась честь водить императрицу и великую княжну Ксению. Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитой Биржи со шпилем, составленным из хвостов сплетенных между собой драконов. Не скрою, что при выборе такого мотива среди фотографий, привезенных из моего первого заграничного путешествия, у меня был расчет посредством именно этого вида привлечь внимание бывшей датской принцессы. И этот расчет вполне оправдался. Государыня Мария Федоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью. «С возраста самого нежного, сударыня», — был мой претенциозный ответ, вызвавший улыбку у обеих дам. Должен сказать, что я вообще был очарован императрицей. Даже ее маленький рост, ее легкое шепелявенье и не очень правильная русская речь нисколько не вредили чарующему впечатлению. Напротив, как раз тот легкий дефект в произношении вместе с ее совершенно явным смущением придавал ей нечто трогательное, в чем, правда, было мало царственного, но что зато особенно располагало к ней сердца.
Одета государыня всегда была очень скромно, без какой-либо модной вычурности, и лишь то, что ее лицо был сильно нарумянено (чего не могла скрыть и черная вуалька), выдавало известное кокетство — вечно женственное. Отношения супругов между собой, их взаимное внимание также не содержало в себе ничего царственного. Для всех было очевидно, что оба все еще полны тех же нежных чувств, которыми они возгорелись четверть века назад. Это тоже было очень симпатично. Характерно еще, что во время обхода выставки государь несколько раз подходил к жене, желая обратить ее внимание на то, что ему понравилось.
Менее выгодное впечатление производил цесаревич — наш будущий государь. Начать с того, что вид у него был маловнушительный и несколько простоватый. Форма преображенца не шла ему, и в ней он имел вид (то было общее мнение) «армейского офицерика». Рядом с отцом он казался маленьким, и его жесты отличались той развязностью, которая бывает у людей, попавших не в свое общество и желающих скрыть, что им не по себе. Он как-то резко поворачивался, как-то странно шаркал ногами, а его привычка водить пальцами по ряду пуговиц на сюртуке имела в себе оттенок назойливого тика. Цесаревич слишком явно скучал, показывал, что ему нет никакого дела до этих совершенно неинтересных картинок и до этих невзрачных господ, что пришли этими картинками торговать. При этом не надо думать, что такое отношение происходило от какой-то утонченности его вкуса. Он шел за отцом, но глядел по сторонам, а не на произведения художников, а к последним никогда прямо не обращался. Видно было, что для этого молодого человека посещение выставки настоящая повинность. Вероятно, его брали с собой родители насильно, и он соглашался сопровождать их только потому, что привык им повиноваться, или еще потому, что ему как раз в эти часы ничего другого более занимательного не предстояло.
Не более выгодное впечатление производил Николай Александрович и на улице, когда совершал свою ежедневную прогулку в санях или на дрожках. Иногда его можно было видеть в гусарской форме, но и она его не красила, а в том, что он как-то неестественно заносил голову в меховой шапке с высоченным султаном, было опять-таки что-то ребяческое и неубедительное. Эти «образы» не сулили в будущем, что нами будет править настоящий государь. Но это будущее казалось еще в начале 1894 года чем-то далеким, недосягаемым; ведь глядя на богатырскую фигуру Александра III, можно было быть уверенным, что государь обладает всепобеждающей выносливостью и железным здоровьем.
Участие на акварельных выставках особой пользы мне для художественного развития не принесло, если только не считать того чувства внутреннего стыда, которое я испытывал при каждом таком ежегодном испытании. Стыд этот, происходивший от сознания малого достоинства (а то и плохого качества) моих произведений, вызывал во мне, со все еще усиливающейся остротой, самокритику и желание к следующему году исправиться, сделать лучше. Более реальную пользу приносили мне работы, которые я не предназначал для показа публике и в которых я не искал одобрения признанных художников. Такими полезными работами были уже помянутые летние этюды с натуры, а также те копии со старых мастеров, которые я отважился делать в Эрмитаже как раз осенью 1893 года. Правда, я не исполнил за недосугом и половины намеченной себе программы: надлежало готовиться к государственному экзамену, но то, что я успел сделать, меня многому научило. Особенное старание и выдержку я приложил, работая над копией (пастелью) с изумительного «Портрета неизвестного» Франса Хальса (с тех пор проданного большевиками и ныне находящегося в Вашингтонском музее) и над копией (акварелью) с восхитительного «Берега Схвенингена» ван Гойена. Самый этот выбор уже показывал как известную зрелость моего вкуса, так и мое тяготение к искусству живому, непосредственному, правдивому. Но главное тут было не в воспитании вкуса и даже не в том, насколько самые работы мне удались, сколько в том, что в течение всей осени и первой четверти зимы я целые дни проводил в нашем чудесном музее среди божественных шедевров. Я как бы жил здесь в обществе Ван-Эйка, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Пуссена…
Ни с чем не сравнимы те наслаждения, которые я испытывал и тогда, когда был занят своей работой, и во время долгих передышек-перерывов, когда я прохаживался по залам. Эти наслаждения чередовались с моментами полного отчаяния. Но они усугублялись еще благодаря тому, что моя Атя, получившая много свободного времени вследствие ликвидации ее места службы, тоже решилась испробовать свои силы на копировании эрмитажных картин. И она себе выбрала Хальса, к которому у нас обоих был в то время особый культ. В нескольких шагах от меня Атя углем и итальянским карандашом воспроизводила на бумаге того же формата, как картина, «Портрет молодого человека» в цилиндрической шляпе, в котором иные желали видеть сына великого гарлемца (эта картина находится теперь в Вашингтоне). Атя до полного забвения увлекалась своей труднейшей задачей. Ее ободряло то, что у нее, несмотря на отсутствие красок, все же получалось нечто близкое к оригиналу, нечто сочное, сильное… Но сколько было еще в нас дурачества и ребячества, показывало то, что нам не только в высшей степени импонировало все окружающее нас дворцовое великолепие, но что нам казалось, что мы здесь у себя дома. Этому способствовало то, что, когда мы проходили по залам, дежурившие в каждой зале царские лакеи в своих красивых ливреях вскакивали со своих мест (со специальных, не золоченых стульев) и отвешивали по низкому поклону. Причиной такого ничем не заслуженного почета было проявляемое в отношении нас благоволение начальства.
Вообще Эрмитаж в те годы пустовал. В будни мы бывали обыкновенно чуть ли не единственными посетителями — во всем гигантском здании, насчитывавшем десятки обширных зал и кабинетов. Впрочем, одновременно с нами, в нескольких шагах от нас и в том же отделении большого зала Рембрандта работала над копией с картины великого мастера «Девочка с метлой» молоденькая, миловидная и очень симпатичная художница. Нас она порядком интриговала, и мы не без удивления следили за тем, с каким мастерством, с какой силой эта барышня справляется с задачей, едва ли не еще более трудной, нежели обе наши. Мы приветливо, но издали с нею раскланивались, но знакомиться не решались. Впоследствии же эта самая художница стала одним из наших самых близких друзей. То была чудесная наша Анна Петровна Остроумова, через несколько лет вышедшая замуж за своего двоюродного брата С. В. Лебедева — знаменитого химика.
Именно благодаря этой пустыне и царившей по всему Эрмитажу тишине мы могли всецело уходить в работу и сосредоточиваться на ней. Лишь изредка нас отрывало от нее проходившее по залам начальство: их было всего четыре человека, и промежутки между такими проходами исчислялись многими десятками минут. То были главный хранитель Картинной галереи, вообще довольно суровый, чуть даже надменный, но нам крайне благоволивший Андрей Иванович Сомов (отец нашего друга Кости), его помощники — милейший А. А. Неустроев и древний, крошечный, седенький аккуратненький, гладко выбритый старичок Тутукин, поступивший на службу в Эрмитаж чуть ли не еще при Николае Павловиче, и, наконец, с необычайно деловитым видом проносившийся большими шагами, долговязый гоффурьер (начальник над лакеями), фамилию которого я запамятовал. Его и Тутукина мы побаивались, ибо оба были порядочными болтунами и скучилами. Своими никчемными разговорами они отвлекали нас от дела, причем Тутукин считал еще своим долгом награждать нас своими старомодными советами, а гоффурьер бесил своим хвастаньем, перечислением своих заслуг и всякими сплетнями.
ГЛАВА 17 События 1894 года. Наша свадьба
В конце ноября 1893 г. папа, наконец, обратился ко мне с вопросом, почему я не привожу Атю к нам в дом? Под видом вопроса это было приглашение, но я не совсем был уверен в том, захочет ли Атя ему последовать: она могла затаить обиду на то пренебрежение, которое было ей оказано за эти два года. Однако Атя совсем просто выразила радость, что «все это недоразумение кончается», и уже на следующий день она снова появилась в тех комнатах, в которых она не была целых семь лет, с самого спектакля нашей «Дочери фараона». Папа встретил ее с обычной своей приветливостью, а Катя была прямо нежна и, видимо, растрогана. Тогда же (но все так же неофициально) было решено, что как только будущей весной я окончу университет и устрою свои дела с воинской повинностью, мы поженимся. В согласии родителей Ати на наш брак мы не сомневались. За исключением периода с конца 1891 года до середины 1892 года, когда для меня были закрыты их двери, Карл Иванович и Елизавета Ивановна относились ко мне с той же лаской, какую я встретил в первый же день моего появления у них.
Но вот так счастливо начавшийся 1894 год, суливший нам в близком будущем еще большую полноту счастья, принес нам и немало горя. Уже в январе мать Ати, любвеобильная, много в жизни настрадавшаяся Елизавета Ивановна (у нее когда-то, до Атиного рождения, за короткий срок умерло от скарлатины трое детей), стала жаловаться на недомогание, а в конце февраля эта неустанно хлопотавшая по хозяйству женщина слегла и через три-четыре дня ее состояние настолько ухудшилось, что пришлось допустить мысль, что очень скоро мы можем ее потерять. Свои страдания Елизавета Ивановна переносила с удивительным терпением, а за несколько часов до кончины она сама попросила пригласить пастора, чтобы причаститься. Когда на пороге гостиной, куда была переведена больная, появился священнослужитель и произнес сакраментальный вопрос: «Веруешь ли ты в Иисуса Христа?», Елизавета Ивановна, несмотря на свою слабость, приподнялась и с удивительной твердостью произнесла ответные слова: «Да, верую».
Почти сразу после причастия она впала в забытье. Все были в сборе. Часть окружала умирающую, другие расселись в столовой и в кабинете Карла Ивановича. Я пристроился к его письменному столу и по неисправимой моей привычке, не обладая способностью даже в такие минуты великого общего напряжения сидеть без какого-либо занятия, принялся за продолжение одной почти механической работы, а именно за нанесение на алфавитные фишки для какого-то своего каталога имен и произведений художников. При этом я почему-то себе сказал, что когда я дойду до «Острова мертвых» Беклина, то Елизаветы Ивановны не станет. Поэтому я нарочно медлил и по нескольку минут задерживался на каждой записи, когда же я дошел до этой страницы, на обороте которой, я знал, что увижу знаменитую картину, я долго ее не поворачивал. И в ту же секунду, когда все же повернул (прошло полчаса), из гостиной послышались возгласы Володи, его отчаянный призыв к матери откликнуться — и наконец его же рыдания, которым стал вторить плач всех прочих. Только Карл Иванович, я и Атя, хоть и были потрясены до глубины души, не находили себе облегчения в слезах. Однако в самый день похорон бедная моя невеста как раз в момент, когда служащие похоронного бюро внесли крышку гроба, почувствовала себя дурно, и я не успел ее поддержать, как она грохнулась в тяжелом обмороке на пол… И все же, очнувшись через четверть часа, Атя с не допускающей возражений твердостью заявила, что пойдет за гробом, и действительно, опираясь на мою руку, она прошла пешком весь далекий путь от Покрова до Смоленского кладбища, где у Киндов было семейное место, наотрез отказавшись сесть в одну из следовавших карет.
За этим большим горем очень скоро последовали (беда одна не ходит) другие испытания. Еще предыдущей осенью Атя лишилась места в «Железнодорожном съезде», где, благодаря родству с одним из начальствующих лиц (А. А. Вальдштейном), она чувствовала себя по-домашнему и где служба не была тяжелой. Пробыв затем часть зимы без заработка, она нашла себе новое место при Варшавском вокзале. Но тут условия работы были несравненно хуже. Проверка бесчисленных счетов, возня с ведомостями, исписанными мелкими цифрами, при этом недостаточное газовое освещение и ужасный воздух, — все это в связи с только что пережитым горем стало с каждой неделей все определеннее сказываться на Атиной нервной системе: возвращалась она со службы изнеможденная, и наконец на Страстной ее силы внезапно надорвались, и она заболела острым припадком нервной лихорадки.
Было страшно видеть, как бедная моя подруга в полузабытье быстро-быстро дышит, причем температура сразу поднялась до 40 градусов и больше недели затем держалась на 38. При этом полная потеря аппетита и состояние забытья. Она перестала сознавать, что происходит вокруг, и моментами даже меня она не узнавала. Кроме меня за больной ухаживала прислуга — прелестное существо карликового роста, чрезвычайно расторопная Дуня Турецкая, и через день навещала ее моя ангельски добрая сестра Камишенька. Я был вне себя от ужаса, тем более, что болезнь при столь тревожных симптомах все же не принимала определенного характера. С каждым днем Атя слабела и прямо на наших глазах угасала. Вспоминалась печальная развязка в некоторых романах, где юная героиня умирала накануне свадьбы. А я и ухаживать за больной так, как хотелось бы, не мог. Приближалась грозная пора государственного экзамена, от успешного исхода которого зависело все наше будущее — в первую очередь наш брак. Чтение и заучивание (в большинстве случаев убийственно скучных учебников) в гостиной киндовской квартиры рядом с той комнатой, в которой лежала и страдала Атя, естественно, не могли идти впрок, и я был принужден для своих занятий чаще оставаться дома, где меня каждодневно навещал верный Валечка, принимавший самое близкое участие в моей тревоге. С ним за компанию было менее томительно заниматься опостылевшими науками.
Только по прошествии трех недель наступил перелом в Атином состоянии. Сказался ли тут естественный ход болезни или же действительно помог рекомендованный нам кем-то молодой и необычайно энергичный врач — Цабель (сын знаменитого оперного арфиста), но жар стал спадать, нормальное дыхание восстановилось и появился аппетит. В основе лечения лежал возраставший с каждым днем прием мышьяка. Вспоминаю, как мы оба первые дни опасались этого средства, как я следил за тем, чтобы отнюдь не перелить хотя бы полкапли благотворного в данном случае, но вообще столь ужасного яда. Нечего было и думать, чтобы Атя вернулась на убийственную свою службу.
Но не успела она очнуться и немного окрепнуть, как стряслась новая беда. Ее отец, составивший себе порядочное состояние благодаря своим сбережениям и нескольким финансовым операциям, внезапно лишился всего. Выйдя в отставку после долголетней службы, Карл Иванович мог бы безбедно доживать свой век на то, что у него было накоплено, и на ту пенсию, которая ему полагалась после того, что он перешел в русское подданство, но стремление оставить после себя более значительное наследство заставило его послушать заманчивые советы сына Володи, состоявшего на службе в «Азовском банке» и считавшего себя великим финансистом. Сначала все шло как нельзя лучше. В несколько месяцев капитал удвоился, а там и утроился, и уже начинали реять в воображении отца и сына какие-то миллионы, как вдруг что-то подломилось, какие-то «вернейшие» бумаги оказались «дутыми», и все полетело в бездну. Никогда не забуду, как маститый, всегда бодрый, мужественный, с виду такой крепкий, несмотря на восьмой десяток, отец Ати, вернувшись после многих часов отсутствия к себе, мешком повалился на стул и стал плакать, приговаривая: «Я разорен, я все потерял, я банкрот, я стал нищим».
Непосредственное следствие этой катастрофы было то, что Карл Иванович не мог продолжать вести тот скромный, но достойный образ жизни, который он вел до этого дня. Надлежало отказаться от квартиры и переехать к сыну. Прелестное в своем роде гнездо было обречено на быстрое и полное разорение, а в зависимости от этого и моя Атя оказалась не только бесприданницей (что нас обоих мало трогало), но в буквальном смысле слова со дня на день без крова. Это заставило нас ближе подойти к вопросу о нашем окончательном и полном соединении, и поэтому, утешая Карла Ивановича в его беде, я тут же, взяв полагающийся церемонный тон, попросил руку его дочери — нечто такое, что уже годами подразумевалось и против чего никто не возражал. Свадьбу мы назначили в конце июня; к этому времени я уже кончил бы университет и устроил вопрос с воинской повинностью.
И вот относительно воинской повинности должен здесь признаться, что я не чувствовал к ней ни малейшего влечения. Если не считать моей детской страсти к солдатикам, если не принимать в соображение живущий во мне и по сей день чисто театральный интерес к красивым формам и к некоторым военным торжествам, то во мне не содержится и йоты воинского духа. Читая историческую повесть, глядя на спектакль, в котором действующие лица принимают участие в битве и выказывают чудеса доблести, я, пожалуй, способен преисполниться на несколько минут Марсовой ярости. Но уже в серьезных исторических трудах я не в состоянии преодолеть ту скуку, которая одолевает меня, когда начинаются описания баталий, и меня тогда тянет поскорей перейти от них к обстоятельствам мирного порядка. Ненавижу я также разные Галереи батальных картин, будь то в Версале, в петербургском Зимнем дворце, в Мюнхене или в Берлине. Такова уж моя природа, а если вспомнить об атавизме, то, вероятно, я эту натуру получил в наследство как от своих французских дедушек — миролюбивых хлебопашцев, так и от венецианских дедушек, занимавшихся науками, торговлей, ремеслами и художествами, но не прославившихся ни на полях брани, ни в морских боях. Мой отец и моя мать также были людьми, ненавидевшими вообще всякие распри и чуждавшимися споров. В частности, папа пребывал в каком-то состоянии полной объективности в политических вопросах, и для него, глубокого христианина, слово «враг» не существовало. Если же мне укажут, что один из моих родных дядей был военным, что его двое сыновей избрали себе военную карьеру, а один даже лишился рассудка от ранения на войне, если вспомнить, что и два моих брата, а также ряд племянников посвятили себя военному ремеслу, то на это я скажу, что, вероятно, все они и сосредоточили в себе ту долю военной доблести, что была уделена на всю нашу породу.
Как бы то ни было, но мысль, что мне придется служить, маршировать по команде, держать в руках смертоносное оружие — мне, никогда никакого оружия, кроме детских деревянных сабель и ружей, в руках не имевшему и даже к охоте питавшему такое же отвращение, как к войне, — что меня будут учить, как убивать и калечить моих ближних, — мысль эта представлялась мне до того чудовищной, что я совсем не зря грозился покончить с собой, если бы мне не удалось избежать воинской службы. Надо еще прибавить, что среди нашего довольно обширного круга знакомой молодежи я вовсе не был исключением. В частности, все мои ближайшие друзья питали одинаковые с моими чувства, и всем им удавалось так или иначе избежать воинской повинности. Единственным исключением был бедный Костя Сомов, который так-таки и угодил в солдаты, но это случилось вследствие свойственной ему апатии, не позволявшей искать какого-либо выхода из положения. Зато он и перенес долгое испытание, пребывая все время в таком унынии, в такой тоске, что надо было удивляться тому, как он выжил, как не сошел с ума, да и впоследствии он вспоминал об этом времени не иначе, как с полным омерзением.
В настоящее время, после того как почти век прошел с момента, когда всюду была введена воинская повинность, все человечество превратилось в подобие вооруженного лагеря, и каждый народ готов под тем или иным предлогом наброситься на соседа, теперь, когда проповедь милитаризма и патриотизма приобрела, не то из самозащиты, не то из политического или догматического фанатизма, исступленный характер, все только что сказанное может показаться странным и даже предосудительным. Призывы к участию в спасении, в защите отечества почти всюду породили целые системы духовного и физического воздействия (один спорт или скаутизм чего стоят), под действием которых самые миролюбивые юноши и даже девушки «рвутся в бой». В каждом государстве им вдалбливают некий символ веры, в котором требование жертвы собой во имя того или другого принципа превращено в непререкаемый абсолют. И строже всего такое кредо прививают ныне на нашей родине. Однако в дни моей молодости дело обстояло совершенно иначе. Полуторагодовалая Турецкая война, разные колониальные войны и учреждение воинской повинности не успели изменить естественное отношение русских людей к организованному смертоубийству — отношение, особенно ярко выразившееся в проповеди Льва Толстого. Проповедь его находила себе тем более живой отклик в душах молодежи, что произносил ее человек, бывший сам когда-то воякой и на личном опыте познавший как некоторые положительные стороны военного дела, так и все его определенно отрицательное. Очень характерны были наши споры на эту тему с Шарлем Бирле. Это был тоже в душе незлобивый, скорее очень миролюбивый человек, однако он не только стоял за общую воинскую службу, но вспоминал о времени, когда он сам тянул ее лямку, с каким-то умилением. Даже все плоские шутки в казармах, все практиковавшиеся там, подчас и очень жестокие, бримады, он готов был счесть за нечто милое и трогательное. В нас же эти его рассказы вызывали лишь недоумение, переходившее в отвращение.
После всего сказанного не покажется удивительным, что и я, и все мои друзья давно решили пустить в ход все, что могло бы повести к освобождению нас от такого временного порабощения, что уберегло бы каждого из нас от измены собственному основному «я». Те, кто обладал какими-либо физическими дефектами, радовался тому, а те, кто был освобожден от воинской повинности в силу разных льгот по семейному положению, вызывал в других нескрываемую зависть. У меня было мало шансов ускользнуть от беды. Все же лазейка без особенного труда нашлась; нашлась подобная же лазейка и у моих товарищей. Дальнейшее же произошло быстро и безболезненно. Я был почти уверен в успешном обороте дела и поэтому не очень трусил, когда явился на медицинский осмотр, происходивший в Городской думе; только было очень стыдно прогуливаться в костюме Адама по знакомым с детства думским залам и даже дать себя смотреть и ощупать каким-то чужим господам. Самый же осмотр был весьма поверхностный. Услыхав, что я не пригоден к воинской службе из-за «общего рахитизма», я был готов обнять и расцеловать незнакомого бородатого господина, произнесшего этот приговор с видом нарочитой суровости. Я был освобожден и лишь зачислен в ополчение 12-го разряда! А чтобы и этот разряд мог бы когда-нибудь быть призван, никому тогда и в голову не приходило. До меня, во всяком случае, в войну 1914–1918 годов черед действительно так и не дошел.
Как только я получил нужную бумажку об освобождении от воинской повинности, которую я присовокупил к правам (так в дальнейшем и не использованным), дарованным университетом, открылся путь, окончательно свободный от всяких преград, к нашему браку. Решено было, что до подыскания себе места службы я буду продолжать жить с женой у моего отца, поэтому забота об устройстве собственного гнезда была отложена. Зато мы сразу приступили к приготовлениям к самому высокоторжественному дню. Но и тут чуть было всего не испортила новая нагрянувшая беда. Едва силы Ати, благодаря решительному и усиленному режиму питания, предписанному доктором Цабелем, стали восстанавливаться, как она снова заболела и в довольно тяжелой форме. На сей раз то была злокачественная ангина. Однако никогда не унывавший Цабель поручился поправить дело к положенному сроку, и, назначив число 27 июня, я заказал золотые обручальные кольца с этим числом, выгравированным на внутренней стороне. (Заказал я их в той же ювелирной лавке в Гостином дворе, в которой мы с Атей купили в 1886 году по колечку с камнем, соответствующим тому месяцу, в котором она и я родились. Уже тогда мы про себя решили, что мы навеки соединены и принадлежим друг другу.) И вот, за три дня до этого срока Атя оказалась настолько слабой, что нечего было и думать ее вести под венец. Приходилось отложить церемонию и разослать свыше ста писем с извещением, что наше бракосочетание откладывается на два дня…
И, наконец, долгожданный день наступил. Стояла божественная летняя погода. Утром я съездил в церковь св. Екатерины, где патер Шумп меня исповедовал и причастил.
Исповедь, впрочем, происходила не в церкви, а в его просторной заставленной книгами келье, более похожей на зал. Меня поразило, что милый Шумп до такой степени успел привыкнуть ко всяким поблажкам светской суетности, что он придал и таинству исповеди чисто формальный характер, то была скорее уютная беседа. По дороге из церкви я заехал в большой цветочный магазин на Офицерской и заказал там роскошный букет, а в половине третьего я с Женей Лансере за этим букетом заехал. Он оказался таким громадным, что еле влез в дверку кареты. При этом нам обоим стало до того смешно, что до самого Невского мы затем не переставали, как мальчишки, прыскать и закатываться от смеха. Упоминаю об этом, так как этот «кризис» лучше всего выражал то радостное возбуждение, которое владело мной и которое вполне разделял мой девятнадцатилетний племянник и шафер. Впрочем, вид Женяки во фраке, который он напялил в первый раз в жизни — то был мой пресловутый фрак, заказанный еще в 1886 г. для бенефиса Цукки, — вид этого мальчика в таком церемониальном наряде был слишком необычайным и неожиданным.
Я не знаю, смеялась ли Атя, одеваясь с помощью родственных дам к венцу, но бедняжка, лишь накануне покинувшая постель, в которой она провела больше двух недель, еле держалась на ногах и прямо пугала своим видом, — до того лицо ее горело, и вся она дрожала мелкой дрожью. Я опасался, как бы ей и на сей раз не сделалось дурно. Однако все обошлось благополучно. В момент, когда мы с разных концов (она под руку со своим отцом) вступили в церковь, загремел традиционный «Свадебный марш» Мендельсона, уже перед алтарем горели свечи (электричество еще не было введено), а патер Шумп с двумя сослужащими в богатых золотых ризах ожидали нас у ступеней главного алтаря. А затем мы оба, преклонив колена за аналоями, были обвенчаны. Надлежало еще принять поздравления родственников и знакомых и расписаться в церковной книге. Рука Ати при этом до того дрожала, что вывела она подпись не своим прекрасным четким почерком, а какими-то неразборчивыми каракулями.
Забыл упомянуть, что вторым моим шафером был Артюр Обер, и мой приступ смеха возобновился, когда я увидел и этого своего пятидесятилетнего друга в старомодном (вероятно, с чужого плеча) фраке. Однако сам наш добрый чувствительный Оберон, такой охотник до смеха, на сей раз не смеялся, а крепился, чтобы не расплакаться; украдкой он смахивал навертывающиеся слезинки. Обер, принимавший самое сердечное участие в нашем романе, был безгранично счастлив, что все так хорошо кончилось.
Когда выходили замуж мои сестры (в 1874 и в 1875 г.), то у нас на дому устраивался бал, с которого молодые в известный момент «улетучивались». Перед этим и до начала танцев пили за их здоровье, кричали «горько», заставляли поцеловаться. Наемные и свои слуги разносили очень затейливые, специально свадебные конфеты на традиционных серебряных подносах-горках (их нанимали у Беррена). Но в 1894 году это был уже отживший обычай, да и время было летнее, а час бракосочетания выбран дневной — специально для того, чтобы дать возможность приехавшим с дач вовремя вернуться к себе.
Совершенно к вечеру очнулась освобожденная от подвенечного наряда Атя, вышедшая к обеденному столу в обыкновенном летнем платье. Оставалось всего человек десять, в том числе папочка, мои обе сестры, муж Камиллы, а также оба моих шафера, все же остальные разъехались по окрестностям — кто в Петергоф, кто в Царское, кто в Павловск. Первый вечер нашей супружеской жизни закончился поэтому в самой интимной обстановке, и на следующее утро нас покинули и папа, и Катя, и Женя. Мы остались в нашей пространной квартире совсем одни с двумя нашими старинными прислугами — Ольгой Ивановной и Степанидой. Спальней же нам служила бывшая «Зеленая» комната, что было особенно приятно потому, что она выходила на балкон, с которого открывался вид на златоверхий Никольский собор, самый же балкон был весь в цветах, и мы на нем под спущенной маркизой завтракали и обедали.
Окончание — во второй книге.
Примечания
1
Младший брат мамы Иван Альбертович Кавос жил почти безвыездно на Кавказе, и видел я этого красивого, полного, беспечного и, кажется, не очень задачливого дядю Ваню всего раза три в жизни. Умер он в сравнительно молодых годах около 1890 года, с его же вдовой я познакомился в Белграде только в 1930 году.
(обратно)



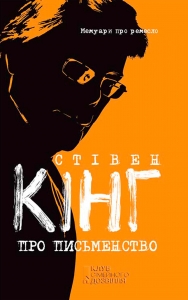
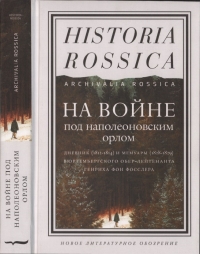
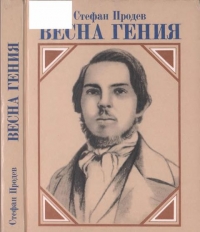
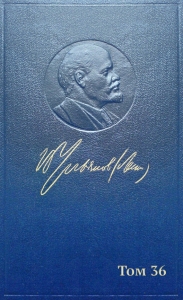
Комментарии к книге «Мои воспоминания. Книга первая», Александр Николаевич Бенуа
Всего 0 комментариев