Юрий Нагибин Недоделанный Рассказ
Мы встретились в парке старого бывшего подмосковного санатория. Почему бывшего? Потому что прежде между Москвою и помещичьей усадьбой, где расположился вскоре после революции санаторий, находились три большие деревни. А потом, неуклонно расширяясь, Москва впитала в себя эти деревни, продвинулась еще дальше в глубь пейзажа и превратила огромную территорию княжеского поместья с парком, каскадом прудов, домом-дворцом и многочисленными флигелями, конюшнями, церковью барочно-малороссийского стиля исхода семнадцатого века в часть города, далекую от его нынешних границ.
Здесь отдыхают, пестуют свои недуги заслуженные ученые, среди них бывают такие, что не решаются в морозы выйти на улицу и создают себе иллюзию зимней прогулки: надевают длинную шубу на лисе или хорях, ушанку, теплое кашне, валенки, перчатки на меху и, прочно упакованные, прогуливаются по длинному, устланному красной ковровой дорожкой коридору с окнами в узорчатой наледи.
Меня, семидесятилетнего, считают тут мальчишкой-шалопаем и чужаком. Последнее — справедливо: ученый я никакой. Но я мирюсь с малым моральным дискомфортом ради духа старинного барского дома, пропитывающего чуть тленный воздух, картин французских художников восемнадцатого века, обрамленных золотым багетом в гостиной, бильярдной с высокими диванами, живописью Кустодиева, Рябушкина, Остроумовой-Лебедевой на стенах и легенды, что в этой бильярдной, бывшей хозяйским кабинетом, умер в одночасье, схватившись за сердце, философ Владимир Соловьев, хотя все знают, что он умер не так эффектно — от уремии.
Когда темнеет, небо на западе, в стороне большой московской магистрали, становится исчерна-красным, и я до сих пор не разгадал этого явления. Может, скрытый лесом закат шлет свой отсвет в электрическое небо города? Щемяще-тревожен предночной час старого парка.
В этом парке с угольно-черными в воспаленном небе липами и случилась наша нежданная встреча. Он жил рядом, сюда ходил гулять. Мы не виделись пятьдесят лет, но я сразу узнал его, едва он обратился ко мне. В том, что он узнал меня, не было ничего удивительного, мое старение он наблюдал по телевизору. Он же изменился за полвека в пределах почти мгновенного узнавания. Сколько нужно, чтобы отпрянуть, округлить глаза и шумно выдохнуть:
— Блешка?!
Он засмеялся, совсем так, как смеялся полвека назад: взахлеб, во весь белый рот, заходясь до беззащитности, ибо отдавался смеху без остатка. Все такой же маленький, — нет, он, конечно, подрос с тех четырнадцати своих лет, но для взрослого мужчины остался маленьким, — ладный, плотно сбитый, круглолицый, черноглазый; исчерна-коричневые радужки — черные глаза бывают только в романсах — сохранили удивительный блеск, которому он и обязан своим прозвищем. Это прозвище дал ему я — нечаянно, ослышавшись. Товарищи называли его без затей «Олежка», что в скороговорке звучало «Лешка». Но блеск его глаз, сверк белых зубов навязали мне это «б». Я думал, что повторяю утвердившееся за ним прозвище, оказывается, стал его крестным отцом.
— Знаешь, я так и остался Блешкой для всех знакомых, — сказал он со смехом — Твоя коктебельская оговорка разнеслась со сказочной быстротой. Только у нас во дворе кличка не прижилась. У нас право на прозвище имел лишь один парень, ты его знаешь — Тимка Б-в. Его звали «Цыпа», а мелюзга, не имевшая права на такую фамильярность, величала почтительно «Цеппелин».
Есть люди, хорошие и содержательные люди, за плечами которых нет ни пейзажа, ни обстава — какая-то экзистенциальная пустота. А Блешка сразу распахнул мне два щемящих душу пространства: довоенный Коктебель с каменным торчком Серрюккая, с тамарисками и сухими колючими акациями, горьковатым черствым воздухом, блеском разноцветных камешков на песчаной дуге бухты после прибоя, с волошинским профилем, утопившим бороду в море, доверчивым бесстыдством коричневых обнаженных тел на диком пляже, с египетской тайной дремотных глаз и эбеновым загаром моей первой любви, с красивыми строгими мальчиками из пионерлагеря, ставшими жатвой близящейся войны, и московский двор знаменитого дома Герцена, что на Тверском бульваре, с приветливым садом, рыжим теннисным кортом за металлической сеткой, где неутомимо мелькали женственные веснушчатые плечи мужественного поэта Уткина и чугунные бицепсы зверобоя Пермитина; здесь, в низеньких флигелях, образующих каре, обитали писатели, в одном нашел недолгий приют Мандельштам, в другом терпел свою немилосердную жизнь Андрей Платонов и завивала горе веревочкой пулеметчица гражданской войны Дубенская, отпулеметившая на стареньком «ундервуде» повесть своих пламенных лет; отсюда черный воронок унес в гибель Константина Большакова, Ивана Жигу, Артема Веселого…
Но если Коктебель я знал в его тайне, то этот двор у стен Камерного театра был мне знаком лишь сражениями на корте и двумя не очень близкими приятелями, сделавшими для меня доступным местный теннис. Они не открыли мне глубинной жизни своего двора, не приоткрыли крышки Кощеева ларца, который хранился тогда в каждом старом московском доме. Такая редкость — сад во дворе, но мои приятели и вся дворовая вольница были к нему совершенно равнодушны, туда же, где они осуществляли свое земное назначение, мне не дано было заглянуть.
Оказывается, их главная, самая ценная жизнь творилась на чердаках и под землей. Подвал длинного одноэтажного флигеля, расположенного справа от главного корпуса, если смотреть от Тверского бульвара, являл собой громадное подземное озеро, не замерзавшее и в зимнее время. Сколотив плот, ребята выплывали на середину подземного озерца, чтобы распить бутылочку сладкой запеканки «Спотыкач» и под хмельной звон в башке грохнуть волжскую ватажную удалую песню. Озерко кишело крупными жирными крысами, водная жизнь превратила их в ондатр с перепончатыми лапами.
С чердака двухэтажного флигеля — во дворе налево — можно было по пожарной лестнице попасть в туалет Камерного театра, расположенный вопреки театральной традиции не в подземелье, а в небесах. А из уборной, обманув сонную бдительность ленивых билетерш, проникнуть в антракте на галерку. Ребята с десяток раз пересмотрели весь дивный таировский репертуар, но без первого действия.
Среди тех, кто плавал по крысиному озеру и пробивался к феерии «Жирофле-Жирофля» сквозь карболовую вонь уборной, у меня было два приятеля: Тимка и Юра. Олежка-Блешка был слишком юн для общения, это сейчас нас подровняла старость. Юра — сын пулеметчицы-романистки и легендарного комполка гражданской войны — являл внешнему миру отполированную до блеска гладь доброго малого, и ничего больше. На самом же деле добрый малый составлял лишь частицу куда более сложного комплекса глубокой и затаенной личности, приоткрывавшейся лишь изредка — в теннисе. Обычно он играл красиво и чисто, но без воли к победе, без азарта и напряжения. Его привлекала эстетическая сторона игры. Но порой что-то с ним случалось — всегда в игре против более сильного и слишком уверенного в себе теннисиста. Лицо его будто запиралось на замок, глаза суживались в темные щелки, губы сжимались, скулы рдяно костенели, и он беспощадно ломал противника. Юра благополучно прошел войну и после смерти матери уехал к отцу на Украину, где и канул — для нас. Моим постоянным теннисным партнером был его друг Тимка, которого в нашей летней компании, а мы отдыхали однажды вместе, в «Долгой Поляне» под Тетюшами, в глубине невероятного барского фруктового сада, прозвали заглазно «Недоделанный».
Это был странный парень: очень молчаливый, хотя с таким видом, будто вот-вот заговорит — он часто и бессмысленно открывал рот, как дети, страдающие аденоидами, но не издавал ни звука. Быть может, он готов был что-то сказать, но как-то пропускал момент. А может, ждал полной тишины, чтобы уронить свое царское слово, но такой тишины никогда не наступало в болтливой, шумной компании, где все перебивали друг дружку. Перебивать он не умел, как и смеяться, лишь слабое подобие улыбки изредка трогало его узкий рот. Безынициативный, он всегда делал то же, что и другие, но с опозданием на полтемпа, и непонятно, поступает он так по собственному желанию или из равнодушного подражания. Его участие в наших «утехах и днях» не окрашивалось ни радостью, ни азартом. В охотку ему был лишь теннис, он мог играть с утра до вечера без передышки, но опять-таки ждал, когда его пригласят. Хоть бы раз услышать от него горячее: сыграем?! Играл же очень хорошо, даже лучше Юры, но еще менее заинтересованно в результате. У Юры, как говорилось, случались моменты игрового ожесточения, желания наказать самонадеянного соперника, Тимка, с кем бы ни играл, как бы ни складывалась игра, оставался вареным судаком. У него была от природы поставленная техника игры, как бывает от природы поставленный голос у певца: никто не учил его пушечной подаче, изящнейшим смешам, мощным и точным драйвам. Но он никогда не тянулся за трудным мячом, не покидал задней линии, хотя в парных играх, где это неизбежно, виртуозно действовал у сетки. Ему нравился звук удара, чувство мяча на ракетке, старенькие белые брюки, всегда тщательно отутюженные, аккуратно заштопанная тенниска, тугость золотых струн, свободная красота игры и выключенность из обыденности. А выиграть-проиграть — какая разница?..
Хорошего роста, длинноногий и узкобедрый, с точными скупыми движениями, он вне игры казался неловким. Слишком прямил позвоночник, слишком тянул длинную шею, слишком широко разводил носки туфель при ходьбе, казалось, у него плоскостопие. Комически надменно горбился его большой слабый нос, неизменно разбиваемый в самом начале драки. Он не был драчлив, но первым кидался на защиту любого обиженного. Получив кровавое увечье в самом начале схватки, он недоуменно, словно такое с ним случилось впервые, покидал поле боя и начинал старательно заниматься своим кровообильным носом, высмаркивая его, охлаждая водой и разными металлическими предметами. Ничего не помогало, нос продолжал сочиться, затем круто пунцовел и распухал в пол-лица.
Однажды в «Долгой Поляне» мы распили — впервые в жизни — бутылку перцовой водки. Тимка тоже выпил — не больше других, но окосел в дугу. Он шатался, падал, орал, потом облевался. Взрослые тут же решили, что он тайный пьяница, хотя напрашивалось прямо противоположное: его организм не принимает алкоголя.
Никогда не высовываясь, он выпадал из компании и тем невольно привлекал недоброжелательный интерес: всякая особость, даже ущербная, раздражает окружающих. Его душевная жизнь оставалась скрытой. При всей тихости, пассивности, серости он производил впечатление человека, знающего себе цену. Мы же этой цены не знали, да и знать не желали. Он был очень беден даже на фоне всеобщего тогдашнего безызбытка, ветошно одет, белые резиновые тапочки воняли потом, но он принадлежал к высокой державе герценовского двора, и гордость перла из него… нет, не перла, совсем не перла, лишь угадывалась тончайшим аппаратом нашего подросткового демократизма. Плевать мы хотели на его знаменитый двор и его фанаберию. Строит из себя невесть что, а сам просто недоделанный. И, решив так без всякого сговора, мы успокоились в пренебрежительном расположении к нелепому, но, в общем-то, не вредному, компанейскому парню, которому бог малость недодал.
Это удобное и легковесное представление о Тимке перестало меня удовлетворять, когда я сделался завсегдатаем теннисной площадки и увидел его в родной стихии. Двор лучше знает своих героев, чем случайная летняя компания. И вскоре я почувствовал, что Тимка здесь — фигура.
В чреде долгих лет эти подробности подзабылись, но в уголке памяти теплился образ незадачливого, нелепого, но чем-то симпатичного парня по кличке «Недоделанный». Почему-то я числил Тимку среди не вернувшихся из боя. Он казался нежизнеспособным и для мирных дней со своим символически слабым носом, готовым истечь субстанцией жизни от малейшего ушиба, с птичьей поступью, длинной и незащищенной шеей и тупостью точных, но беспобедных отмахов у белой черты корта.
Разговаривая с Олегом, я вспомнил в числе других и о Тимке.
— А что, Недоделанный тоже не пришел с войны?
Он пристально посмотрел на меня.
— Ты о ком?
— О Тимке Б-ве.
— А где его так называли?
— В нашей компании, в «Долгой Поляне».
— Любопытно… У нас его так не звали. Вообще-то наш двор обходился без кличек, но у Тимки была — Цыпа.
— Ты так говоришь, будто его звали «Принц» или «Викинг».
— Цыпа — это от Цапы, а Цапа — сокращенное Цапля. Помнишь, как он ходил, вернее, выступал: ноги прямые, носки врозь, шея вытянута, нос торчит. Вылитая цапля — самая гонористая птица.
— По-моему, журавль гонористее.
— Жаль, мы с тобой не посоветовались. Мы, видать, плохо журавлей знали. И прозвали — Цапля. А малыши Цеппелином величали.
— А какая у него судьба?
— Знаешь, у него действительно была судьба. А ведь она не у каждого бывает. У меня была жизнь, а была ли судьба — не уверен.
— А что такое — судьба?
— Понятия не имею! — Он засмеялся. — Слышал такой перл казенного велеречия: судьбоносный? Его очень любят высокопарные и низкопробные чиновники от искусства и литературы. Но это не по делу. Судьба в моем представлении жизнь с поворотами, смелыми решениями, с неожиданностями, провалами и подъемами, с приходом к чему-то, не заложенному заранее в ячейку твоего времени. У меня был один-единственный поворот в жизни, когда из радиожурналистики меня волей ленинского комсомола перебросили в разведку. Это было в стороне от моих планов и надежд, но отказаться я не мог. И оттрубил там, кстати, весьма неромантично, до пенсии. Я вышел в отставку на другой день после своего шестидесятилетия еще перспективным полковником, но генеральские лавры меня не манили. И теперь наслаждаюсь свободой ничегонеделания. Можно ли применить ко мне слово «судьба»? По-моему, нет.
— А у Цыпы?
— У Недоделанного?
Мы обменялись Тимкиными прозвищами. Я понял, что Олега оскорбило слово «недоделанный», которым я оговорился, и он нарочно стал его применять — с ироническим подтекстом в адрес мой и других недоумков, превративших гордого Цыпу-Цеппелина в дурачка. Теперь я тщетно пытался исправить свою ошибку.
— У него была жизнь с такими крутыми поворотами, с такими безднами и вершинами, что хватило бы на троих… в подъезде.
— Он что окончил?
— Ничего. Ушел из восьмого класса на завод.
— Почему?
— Он считал, что вуз ему не светит. Ты же знаешь, его дядю посадили в тридцать восьмом и тогда же расстреляли.
— А я был уверен, что писатель Б-ков его отец.
— Нет, брат отца. А родного отца он не помнил. Был отчим, но где-то потерялся к тому времени. Может, тоже посадили. Они все жили у Тимкиного дяди: Тимка, его мать и кровная сестра.
— А дядя был женат?
— Нет. Он считал их своей семьей. А донжуанствовал на стороне. Весьма энергично. Но в доме бабы не появлялись. Тут он был строг.
— Превосходный прозаик! Стихи были куда хуже.
— Ты будешь смеяться, я его не читал.
— Как это может быть?
— У нас в доме жили Платонов и Мандельштам, так я их тоже до войны не читал. Когда же начал читать всерьез, книжек Тимкиного дяди было не достать. Его хоть переиздали в безумии нынешних свобод?
— Кажется, что-то переиздали. Не уверен. У меня есть его старые издания.
— Вспомнил! Тимка пошел на завод, чтобы помогать матери. Она работала врачом в районной поликлинике. Сам понимаешь, какие там заработки.
— И где он работал?
— На «Серпе и молоте». Очень скоро получил первую рабочую квалификацию формовщика. У него были хорошие руки да и головешка варила, хотя он казался недоделанным. А потом он попал на Финскую войну, прошел ее благополучно, даже не обморозился. Вернулся на завод, ну, а вскоре — Отечественная. Его призвали буквально в первый день, но не на фронт, послали в школу радистов-разведчиков. Видать, не разобрали, что недоделанный.
— Может, хватит?
Олег сделал постное лицо.
— В этой школе Тимку постигла первая любовь. Будущий разведчик полюбил будущую разведчицу, а она полюбила его. Все время обучения в школе они были неразлучны. У Тимки впервые появились свободные деньги, которые он размашисто прокучивал с Нюсей в «Арагви», «Москве», «Коктейль-холле» — эти кабаки работали на всю железку в прифронтовом городе, каким Москва оставалась почти до самого конца сорок первого. И, похоже, опять стала сейчас. Во всяком случае, она производит куда более разрушенное и гибельное впечатление, чем в пору немецких бомбежек и военных очередей. А потом, как поется в песне: «Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону». Ну, не совсем в другую, тоже на запад, но на другой участок фронта. Их пути во время войны больше не пересеклись. Остались добрые воспоминания, остался вздох. Ни тому, ни другой не вспало на ум, что это вовсе не конец, а начало, вступление к тем отношениям, которые растянутся на всю жизнь.
Ни о чем таком не думали молодые разведчики, а занимались своей боевой работой, требующей большой собранности, сосредоточенности и самоотдачи. Ты помнишь Тимку. Вот уж кто не был Паганелем. Его самоуглубленность, таинственность, у меня почему-то всегда на языке это слово, когда о нем идет речь, не приводили к отрешенности, рассеянности. Делая что-либо, он целиком концентрировался на своем занятии, допуская в поле зрения лишь нужное для дела. В цеху он видел глину, форму и стержни. Играя в шахматы — доску и соперника, в теннисе — площадку, противника и судью. Когда менялись марками, видел марки, того, с кем шла мена, и окружающих, ибо по ним можно понять: надувают тебя или нет. Когда гоняли голубей, Тимка охватывал небо, мечущиеся стаи, ловушку с откидной дверцей и гулюкающую возле нее голубку-заманщицу. Надо полагать, умение видеть необходимое сослужило ему добрую службу на фронте. Он не давал себя отвлекать ложной тревогой, мнимыми опасностями, сомнительными преимуществами и прочим мусором неспокойного, разбросанного сознания. Считалось, что он удачлив. Нет, спокоен, остроглаз, расчетливо нетороплив.
— А ты не можешь рассказать о каком-нибудь боевом эпизоде?
Олег долго метал в меня из темноты, павшей на осенний парк, быстрые взблески глаз.
— Ты это серьезно?
— Да… Что тебя удивляет?
— Ничего. Поздно вечером радист-разведчик Тимофей Б-ков в очередной раз пересек линию фронта. Он устроился в полуразвалившемся сарае на краю спаленной немецко-фашистскими захватчиками деревни К. Когда-то тут находился цветущий колхоз «Имени XVII партсъезда», а ныне лишь остовы сожженных изб чернели под хмурым небом. Отсюда отлично просматривался вражеский передний край. Опытный разведчик быстро разобрался в огневых точках противника, которые надо было подавить нашей артиллерии перед штурмом стратегической высоты. «Ну, погодите, фрицы проклятые, — прошептал молодой лейтенант, отличник боевой и политической подготовки, — ужо спросится с вас за наши порушенные села и города..»
— Хватит! Я все понял.
— Тимка говорил, что это нудная и тягомотная служба. Я, впрочем, думаю, что резидентом быть еще тоскливее. Единственно интересное — это переход линии фронта или заброс самолетом в тыл. Тут чувствуешь напряжение, все остальное рутина. Нравилось ему, когда его отправляли к партизанам, у них всегда было свиное сало. При этом он любил свою работу, она отвечала его характеру, несуматошному, обстоятельному, не любящему быстрой смены впечатлений. Разведка, как и служение муз, не терпит суеты. Помогало и то, что он лишен был воображения при крайней добросовестности и честности. Он никогда не передавал липы или приблизительных сведений, в штабах знали, что этому разведчику можно верить. За два с половиной года он схватил четыре ордена, медаль «За отвагу» и дослужился до капитана.
Неожиданно его отозвали в Москву для подготовки к новой, весьма ответственной работе. Ему пришлось пройти курс обучения, включавший легкое знакомство с «аргентинским» языком, как он потом говорил то ли в шутку, то ли всерьез. Впрочем, так можно сказать: аргентинский вариант испанского наверняка чем-то отличается от коренного языка, хотя бы произношением. Недаром Оскар Уайльд острил, что у англичан и американцев все общее, кроме языка. Тимкина бабушка по матери была обрусевшей немкой, он из дому знал немецкий, во всяком случае, нахально писал в анкетах, что знает язык. Возможно, это и навело на мысль переквалифицировать армейского разведчика. Юный полиглот обладал сильной механической памятью и без труда запомнил несколько «аргентинских» фраз.
У него была сложная и, на мой взгляд, малоубедительная легенда: бывший советский гражданин с оккупированных территорий после долгих странствий оказался в Аргентине, где ему повезло: вошел в бизнес по экспорту свежемороженого мяса. Прибыл в Бухарест для заключения сделок. Сейчас это звучит бредом, но в то взбаламученное время и не такое сходило. Исчез, видать, засыпался и попал за решетку наш резидент в Бухаресте, а с ним рухнули налаженные еще до войны связи. Тимка должен был все разведать и восстановить агентуру. Задание — будь здоров, особенно для зеленого новичка. Что это безграничное доверие, которое Тимка сумел внушить к себе, нехватка профессиональных кадров или просто бардак? Или, что более вероятно, сочетание всех трех факторов? Тимка не задавался лишними вопросами, у него было дело поважнее: сшить себе настоящую двубортную офицерскую шинель. Ты, наверное, помнишь: к этому времени весь средний комсостав, кроме немногих уцелевших кадровиков, носил солдатские шинели на крючках, кирзовые сапоги и зеленые ремни из какого-то эрзаца. А Тимке хотелось офицерского шика.
В Москве имелись старые портные, насобачившиеся шить шинели и кители. Тимка не постоял перед расходами и со сказочной быстротой стал обладателем великолепной офицерской формы: приталенная шинель с золотыми пуговицами, китель по фигуре из грубого габардина, к этому фуражка с лакированным козырьком, хромовые сапоги и скрипучие ремни. Коровьим колокольчиком звякали ордена. Было отчего закружиться голове. К сожалению, ему не пришлось покрасоваться в этом армейском великолепии. Его одели во все штатское — с иголочки — от узконосых туфель до фетровой шляпы. Тимка уверял, что и костюм, и рубашка, и пальто, и шляпа были с аргентинскими наклейками. После этого новоявленному джентльмену и мясоторговцу-оптовику предложили жениться.
Тимка было заупрямился, он не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям, но, увидев невесту, сразу заткнулся. Ведь известно, что «там, в далекой Аргентине, все женщины как на картине». Трудно было поверить, что это изысканное, томное, трепетное существо, рожденное для танго и кофе глясе, наша разведчица, к тому же со стажем. Выглядела она на восемнадцать, хотя была на три года старше Тимки. Бракосочетания не было, оно состоялось раньше, в далекой Аргентине, как явствовало из паспортов. К большому Тимкиному удовольствию, фиктивность брака не распространялась на супружеские отношения. Они не только не возбранялись, напротив, предписывались, иначе липовую пару в два счета разоблачат. Словом, в шпионской работе оказалось много приятного. Тем более что для вживания в роль им предстояло провести десять дней в гостинице, в одном номере с общей постелью. Сладкая жизнь обеспечивалась толстой пачкой денег. Пришел Тимкин звездный час.
Завтрак им подавали в постель, обедали и ужинали они в ресторане. Там к шашлыку полагалось «Кинзмараули», а к осетрине-фри — «Цинандали». Тимка на всю жизнь приобрел вкус к хорошим винам. Он научился танцевать, особенно преуспел в аргентинском танго.
В общем, молодожены не теряли даром времени, отпущенного им на адаптацию. И так вошли в роль, что Тимка готов был до конца дней притворяться мужем Люды, и та, похоже, не возражала против такого варианта.
В положенный срок их благополучно переправили в Бухарест. Не спрашивай как, я этого не помню, если вообще знал. У Тимки была своеобразная черта: неторопливо обстоятельный в рассказе, он не выносил вопросов, сразу замыкался с надменным видом и становился цаплей в кубе. То ли за вопросами ему мерещилось недоверие, то ли еще что-то обидное для его чести.
Они поселились в гостинице, и Тимка принялся завязывать деловые знакомства по мясному экспорту, на деле же прощупывать оборванные связи. Хотя до хлопковых эшелонов Рашидова было далеко, очковтирательство уже набирало силу, и Тимке стало казаться, что мощная агентурная сеть существовала лишь в пылком воображении исчезнувшего резидента, который, поднакопив московских деньжат, попросту смылся.
Аргентинский мясопромышленник недолго занимался своим бизнесом. Не прошло и недели, как его взяли, прямо на улице. И сделано это было идиллически просто: подошли двое, зажали с боков, втолкнули в машину — приземистого «хорхе» и повезли по оживленным улицам Бухареста, не заметившего, что одним прохожим стало меньше.
Ехали молча, только раз один из сопровождающих — оба были в штатском обратился к Тимке на каком-то непонятном языке. Поразмыслив, Тимка решил, что это аргентинский, и с обиженным видом преподнес ему по-немецки свою легенду, снабдив для убедительности описанием красот приютившей изгнанника латиноамериканской страны, почерпнутым из знаменитого танго. Тот выслушал небрежно, усмехнулся и одобрил Тимкино произношение.
После чего на чистом русском попросил его не строить из себя полиглота, обходиться родным языком.
Тимка замолчал и остальной путь мучительно думал о Люде, утешая себя сомнительной надеждой, что опытная разведчица сумела избежать расставленных сетей.
Наверное, ты мысленно готовишься к описанию допросов, избиений, пыток и нечеловеческого мужества Цыпы, который, проливая потоки крови из своего слабого носа, не проговорился ни единым словом. Читай шпионскую литературу, там ты все это найдешь, здесь же было иначе: никто его пальцем не тронул, вежливо и терпеливо просили рассказать все как есть, и Цыпа так же терпеливо, тупо, не теряя самообладания — у кого совесть чиста, тому нечего бояться, «лепил горбатого» про горькую судьбу беженца, Аргентину и мороженое мясо.
Ведущий допрос офицер — штатский костюм не скрывал военной выправки — тоже отличался завидной выдержкой. Он душевно просил Цыпу не тратить времени на пустое вранье: им отлично известно, кто он и с какой целью прибыл в Бухарест, так что допрос носит чисто формальный характер, а настоящие дела ждут их, когда кончится докучная, но необходимая официальная часть. Если он не настроен на серьезный разговор, то может ограничиться простым «да», подтверждающим сведения, которыми они располагают. А сведения их отличались абсолютной точностью: ФИО, воинское звание, боевые награды, фронты и части, в которых проходил службу, специальные учебные заведения, цель засылки в Бухарест — ни одной ошибки не было в этом формуляре. Тимку покоробило, что его семейное положение было определено как фиктивный брак с Крошиной Людмилой Петровной, капитаном, шпионкой, кавалером двух орденов Красной Звезды. Было ясно, что их заложили еще до приезда сюда, хватит ли у Людмилы сил, если ее возьмут, все отрицать? Думать об этом было страшно…
Я удивительно хорошо представляю себе Цыпу в эти далеко не лучшие минуты его жизни. Задумчиво-недоуменное лицо, приоткрытый рот, шея, ставшая длиннее на три позвонка, обиженный нос — что-что, а придуряться он умел. Впрочем, я не уверен, что это умение, иногда мне кажется, что дурак, особый русский дурак, который поумнее и похитрее иного умника, всегда сидел в Цыпе. Наверное, потому он и казался тебе недоделанным. Но офицера его вид не мог ввести в заблуждение, поскольку он знал всю Тимкину подноготную. И похоже, не без удовольствия наблюдал театр одного актера. Во всяком случае, не раздражался, не орал, не стучал кулаком, ибо знал, что этому лицедею деваться некуда.
Цыпа гнул свою линию. Он даже позволил себе горький упрек «Я думал, что кончились наши страдания, и ехал сюда с открытой душой накормить свежемороженым мясом союзников Германии».
— Напрасно вы думали, что ваши страдания кончились, — мягко сказал офицер. — Они только начинаются. Если, конечно, вы не перестанете валять дурака. Я думал, вы разумнее. В конце концов, от вас не требуется ничего фантастического, это неизбежный путь каждого провалившегося шпиона. Вы сохраните свою легенду и будете делать то, что вам поручили в Москве. Информацией мы вас обеспечим. Это не только сохранит жизнь вам и вашей очаровательной подруге, но поможет вашему устройству в том миропорядке, который мы установим после победы.
— Меня вполне устраивает торговля свежемороженым мясом, — нудно сказал Тимка — А передавать какую-то информацию я не буду, просто не умею, да и почему большевики должны меня слушать? Кто я такой? Они сразу поймут, что это фальшак.
— Не прибедняйтесь, — сказал офицер, — они знают ваш почерк. И хватит притворяться. Мы все равно вас заставим.
«Будут бить!» — понял Тимка и настолько превратился в цаплю, что чуть не взлетел.
Но бить его не стали, а угостили сигаретой и куда-то повезли в том же низко сидящем, расслабляющем «хорхе».
Они подъехали к воротам в кирпичной стене, поверх которой тянулась колючая проволока. Тюрьма. Его долго вели по длинному сводчатому коридору, мимо камер с зарешеченными окошками. Время от времени сопровождающий их надзиратель отпирал одну из камер, и офицер, кивнув на вытянувшегося в струнку узника, бросал небрежно: осведомитель вашего резидента номер такой-то. Тимка вполне равнодушно смотрел на худых, небритых, казавшихся на одно лицо узников, он не знал их, да и не был уверен, что они действительно те, за кого их выдает гестаповец.
Наконец они подошли к камере, которую открыли не то чтобы торжественно, но со значением. С койки поднялся тощий седо- и вислоусый старик, похожий на гоголевского сечевика.
— Вот тот, кого вы искали, — Илие Бучану, в миру Тарас Петрович Саенко. Прошу любить и жаловать. — Офицер осклабился, ввернув этот русский оборот. Он явно гордился своим чистым, чуть подмороженным, как мясо аргентинского негоцианта, русским языком.
Тимка и сечевик глядели друг на дружку без особого интереса. Сечевик, скорей всего, не понял, кто перед ним. Тимка же вел свою роль.
— Налюбовались? — спросил офицер. — Саенко оказался куда сговорчивей вас. Мы думали, что вы можете поработать в паре.
— Мне не нужен компаньон, — пробормотал Тимка. Теперь он понял, что влип безнадежно.
Кто его заложил? Неужели они взяли Люду и она раскололась? Не похоже на опытную разведчицу. Но почему они ее взяли? Легенда дурацкая, ему с самого начала казалось, что шефы перемудрили. Русский беженец из Аргентины, торговец мясом его лет — отдает бредцем. Но ведь жизнь полна бреда, неестественных ситуаций, чудовищных закрутов, диких совпадений; подозрительно по-настоящему, когда слишком гладко и правдоподобно, когда все швы сходятся. Так не бывает в нынешнем взбаламученном мире. Могло, могло занести русского парня в Аргентину, и мог он пристроиться к торговому делу. А зачем он себе-то морочит голову? спохватился Тимка. — Растерялся, пустил сок? Это уж последнее дело. Пустить сок можно, когда тебе выбьют зубы, но лучше до этого не доводить, а выкручиваться. Почему же Люда не выкрутилась? Неизвестно, что с ней делали, есть мера человеческому терпению. Она все-таки женщина… А почему он так уверен, что Люду взяли?..
В общем, Тимка заметался, хотя на челе его высоком не отразилось ничего. Неожиданно быстро офицер прервал лишенную тепла встречу двух провалившихся шпионов.
Они долго шли по внутренним переходам, поднимались на лифте, спускались на лестничный пролет, опять подымались, шли дальше, и Тимка понял, что они покинули тюрьму и теперь двигались другим помещением, похожим на обычный офис. Вдоль коридора были расстелены синтетические ковровые дорожки, глушившие шаги, по правую руку широкие незашторенные окна позволяли видеть небо и городские крыши, по левую руку мелькали безликие двери кабинетов. Им попадались военные в черной форме и фуражках с низким козырьком и штатские, все как один в темных роговых очках. Что это — сигуранца или гестапо?. Тимка любил звучные, щекочущие нёбо слова: сигуранца, коза-ностра, абитуриент, гверильясы, аркебуза, Трокадеро…
Офицер толкнул дверь и сделал знак, чтобы он входил. В кабинете было три одинаковых письменных столика, три одинаковых шкафа с папками, на столах зачехленные пишущие машинки «Рейнметалл». За дальним столиком работала, низко склонившись над бумагами и уронив волну светлых, чуть завитых волос молодая женщина в черном кителе. Тимку пронзило какой-то больной нежностью — у Люды была такая же пепельно-золотистая копна. Женщина подняла голову, резким движением откинула волосы.
— Ну вот, явился не запылился. Чего рот-то открыл?..
…- Тут откроешь! — сказал я. — Она была раньше завербована?
— Ну да! Засыпалась еще в начале войны. И работала на немцев.
— А он что?
— Ничего. Хоронил мысленно женщину, которую успел полюбить и которой верил, как самому себе. Зато она проявила большую активность. Предлагала сохранить все как есть, только поменять службу. Уверяла, что очень привязалась к нему, не хотела бы его терять. Понимаешь, эту страницу своей биографии Тимка всегда пробегал скороговоркой. По-моему, тут у него так и не зарубцевалось. В общем, разговора у них не получилось. Тимку снова куда-то увезли. Едва отъехали, началась бомбежка. Машину опрокинуло, хрястнуло, Тимку выбросило наружу. Он был весь в крови, но ран глубоких не оказалось, посекло лицо, шею осколками стекла. Его спутники не подавали признаков жизни. Тимку перебинтовали прямо на улице, от госпиталя он отказался и, как библейский пророк, побрел неведомо куда. Уже на окраине он потерял сознание, а очнулся в постели, в доме каких-то пожилых людей. Он упал возле их крыльца, они подобрали его.
Хозяин, фельдшер на покое, заверил Тимку, что с ним все в порядке, просто он потерял много крови. Говорили хозяева на ломаном русском, и Тимку удивило, как догадались они о его национальности. Ты же помнишь, в нем не было ничего характерно русского: продолговатый череп, длинное узкое лицо, большой горбатый нос, бурые увядшие волосы, глаза цвета расплавленного олова. Он счел нужным сообщить этим милосердным людям, что он прямиком из Аргентины, торгует свежемороженым мясом. Старики попросили его не волноваться: если бежавшему из плена русскому хочется считаться аргентинским торговцем, пусть так и будет.
Поступок этих старых людей остался для Тимки какой-то щемящей тайной. Они выхаживали, как родного, солдата вражеской армии, зная, что рискуют жизнью. А ведь они скрывали не солдата — шпиона, и эта мысль была так невыносима, что, едва окрепнув, Тимка поспешил оставить гостеприимный дом. Он ушел ночью, когда хозяева спали, и поплелся к фронту, избегая больших дорог и обходя населенные пункты. Все эти предосторожности не помогли, он нарвался на немецкий патруль. Его приняли опять же за беглого пленного, в чем он «честно» признался, избили и отправили в лагерь.
Через три недели он бежал, добрался до прифронтовой полосы и был снова схвачен. Немцы погнали колонну беглецов в тыл. За спиной слышался гул нашей артиллерии, и Тимкой овладела такая тоска, так захотелось к своим, что он принял невероятное по смелости и беспощадности к себе решение. Надо действительно быть недоделанным, чтобы додуматься до такого. Он заметил, что конвойные пристреливают упавших, если те подают хоть слабые признаки жизни, в противном случае лишь пристукивают — для верности — прикладом по голове. Берегут пули, видать, с боеприпасами у них неважно.
На марше Тимка хватил кулаком по своему большому, хрящеватому, слабому носу, размазал кровь по лицу, шее и груди и грохнулся навзничь на дорогу, закатив глаза. Через несколько минут на взлобье обрушился страшный удар, и черепушка разлетелась на куски.
Очнулся он в темноте. Чтобы открыть глаза, ему пришлось выгрести липкую массу загустевшей крови из глазниц. Голова трещала и гудела, но кости были целы. Он отполз с дороги, смыл кровь вонючей водой из лужи и попытался встать. Это ему не удалось. Он заполз в кустарник, свернулся калачиком и заснул. Когда проснулся, то оказалось, что он лежит в десятке метров от шоссе в засохшем, насквозь просматриваемом шиповнике. Почему его не обнаружили — непонятно. Пешеходы на шоссе были редки, но воинские грузовики и легковушки проезжали то и дело. Ему так долго не везло, что должно же было наконец повезти.
Вскоре он убедился, что действительно попал в полосу удач. Пока он пробирался к фронту, его с десяток раз могли схватить. Раз он устроился на сеновале заброшенного сарая, куда завернул на ночлег немецкий отряд. Солдаты варили на костре кулеш, жрали, пили, горланили песни, играли в скат, потом спали впокат с храпом и свистом, под утро ушли. Остатки кулеша они вывалили на пол. Тимка выбрал куски баранины и съел их. Уходя из фельдшерского дома, он взял лишь две кукурузные лепешки да грудочку мамалыги, у них самих было не густо. Его мучил голод, но зайти в деревню и попросить еды он не решался.
Другой раз он чуть не напоролся… Слушай, ты помнишь у Шкловского, кажется, в «Zоо»: небо было такое же, как в рассказе А. П. Чехова «Степь». Я неточно цитирую, возможно, он привел другой рассказ, но ты понимаешь, что я имею в виду. Тимка выходил из плена, как бессчетное число героев нашей художественной литературы об Отечественной войне. Поэтому не будем тратить на это время, которого у нас с тобой осталось так мало.
Стоит сказать вот о чем: вблизи фронта в полумертвом от потери крови, усталости и голода бедолаге проснулся разведчик. Он стал фиксировать мнемоническим способом все, что могло представить интерес для нашего командования: долговременные огневые точки противника, заправочные, склады, скопления техники. Тимка шел к фронту, а фронт накатывался на него. Встреча состоялась без цветов и поцелуев: на последнем рывке его обстреляли и чужие и свои.
Цветов не было и потом. Он, видимо, исчерпал куцый лимит удачи. Первое, что он услышал, оказавшись среди своих и слегка отдышавшись, был радостный возглас молоденького бойца:
— Шпиена поймали, товарищ старший лейтенант!
— Отправьте меня в особый отдел, — попросил Тимка.
— А ты думал, тебя куда отправят? — с непонятной злобой отозвался старший лейтенант. — На концерт самодеятельности?
Особист выслушал Тимкино донесение, велел изложить все в письменной форме, после чего подверг его придирчивому допросу. Тимка сказал твердо, что остальное он доложит в Москве. Больше всего Тимку удивило, что ему даже кружки чая не предложили. Это оказалось не самым большим его разочарованием. Вскоре он убедился, что свои перестали считать его своим. Подобные превращения удивляли людей куда менее прямолинейных и бесхитростных, нежели Тимка. Представляешь, каково было ему с его простотой и недоделанностью убедиться, что объективной реальности не существует?
Тимку отправили в Москву, а оттуда после нескольких вялых допросов в проверочный лагерь. Тех людей, которые засылали его в Бухарест, он не увидел, хотя просил свести его с ними. Что тут произошло — сказать трудно. Операция провалилась, проглядели девку, завербованную немцами. Естественно, Тимка тут ни при чем — он не выбирал себе напарницу. Может, его наказали за связь с врагом народа? Я, конечно, шучу, но случались шалости и похлеще. Если же всерьез: кому-то было выгодно избавиться от Тимки и поставить крест на провалившейся операции. Не исключено и другое, в том числе обычный бардак. Лень было разбираться в сложной, неординарной ситуации, куда проще стряхнуть неудачника в проверочный лагерь и забыть о его ненужном существовании.
Тимка никак не мог взять в толк, что ему не верят. Неужели он не заслужил доверия за все годы своей безупречной службы? Но я думаю, еще страшнее было бы для него узнать, что никто его ни в чем не подозревал и уж подавно не считал врагом. А будь на нем хоть малая вина, его давно бы расстреляли. Именно потому, что у него все чисто, он пользовался преимуществами проверочного лагеря, включая легкую, непыльную работу: заклеивать пакетики с презервативами.
Он клеил их чуть больше года, а в лето победы был отпущен на волю. Звание с него сняли, отобрали все награды, но Москвы не лишили. «Вернулся он домой без славы и без злата», в засаленном ватнике и тяжелых котах. Конечно, не так рисовалось ему возвращение воина-победителя, но ведь могло быть еще хуже.
Первое, что он сделал: забодал на Тишинском рынке свою роскошную шинель с золотыми пуговицами, китель и ремни. Сапоги оставил, самому пригодятся. Я ходил с ним на рынок и злился, что он, не торгуясь, отдал превосходные вещи в первые попавшиеся руки. Деньги сразу же потратил, купив матери шерстяную кофту, теплый вязаный платок, а сестре платье и босоножки. «Солдат не может приходить с войны без трофеев», — сказал он, дернув губой, и тем подвел итог своей войны.
Жизнь продолжалась, надо было помогать матери тянуть дом. Сестра кончала школу, хотелось дать ей высшее образование. Тимка прикинул разные возможности, и получилось: самое выгодное — работать истопником в котельной по месту жительства. Должность была вакантной, и, несмотря на множество претендентов, у Тимки имелись преимущественные шансы, поскольку за него был Степаныч, наш легендарный дворник, саженного роста, с раздвоенной, как у Александра III, бородой. Истопник — это мизерное жалованье и большой навар. Все очень нахолодались за войну, и, чтоб держался добрый жар, разве постоит кто за поощрением: денежным, продуктовым, водочным — хозяина домового тепла? Кроме того, в те давние времена в старых домах истопник был и сантехником, и слесарем.
У Тимки было одно замечательное свойство, возможно коренящееся в его недоделанности, которую ты тонко подметил: он сразу и полностью обретал ту форму, которую предлагали ему жизненные обстоятельства. В детстве он был олицетворением нашей дворовой вольницы, в юности стал образцовым пролетарием: пропил с бригадой первую получку, стал что-то выносить с завода и обмазывать солью край пивной кружки; в армии заделался военной косточкой, офицером не советского даже, а старого образца, как в фильмах о гражданской войне: оттягивал мизинец, беря стопку, и — локоть, поднося ее ко рту; представляясь дамам, щелкал каблуками, держал выправку, словом, форсил офицерщиной; здесь он быстро стал классическим истопником: грязным, нетрезвым, ленивым и необязательным. Он без стеснения брал трешки, пятерки и десятки, опрокидывал стопку на кухне, заедая корочкой в будни, блинцом на масленицу, куличом на пасху, не брезговал старым пиджаком или штанами, весь двор звал его душевно Никонычем.
Тимка имел столько от своих невдохновенных трудов, что его часто прихварывающая мать могла бы спокойно отказаться от грошовой зарплаты участкового врача, но она была из породы вечных тружениц. Семья жила в достатке, Тимкина сестра поступила в университет; и старая и молодая женщины были очень прилично одеты, ходили в театры и на концерты, но, конечно, мать Тимки, человек старых правил и воспитания, не была счастлива, видя, как опускается ее сын. Все эти рюмочки и кружечки, подношения от жильцов, грязная и тупая работа, отчуждение от прежних товарищей — с ним стало скучно — не могли не расшатать нравственный ствол его личности. Он был гордым по природе своей человеком, но сейчас отрухлявилась сердцевина.
Всякая профессия заслуживает уважения, только не в нашей стране. Где-нибудь в Германии истопник — это фигура. В спецовке, рукавицах, в кожаной фуражке, он опрятен, энергично деятелен, свято соблюдает часы завтрака и обеда, окружающие испытывают к нему почтение и считают за честь распить с ним бутылочку рейнского в соседнем кабачке после рабочего дня. А у нас истопник, водопроводчик, домашний слесарь — персонажи полукомические при всей их роковой важности в нашей непрочной жизни. Недаром их так любят эстрадные юмористы.
Тимка имел дело с каменным углем, поэтому был черен, как вельзевул, его ватник, с которым он не расставался ни зимой, ни летом, пропитался угольной пылью и какими-то смрадными техническими маслами, этот аромат хорошо сочетался с сивушно-селедочно-луковым выхлопом уст «пьяных, как дикий хмель». Он никогда не отличался красноречием, но был прекрасным собеседником, потому что умел слушать: он жил общими интересами, волновался за друзей, а сейчас ему все стало до лампочки. Я давно переехал из этого дома, но часто наведывался сюда, сохранив дружбу с ребятами. Хоть бы раз Тимка спросил, как я живу, что делаю, а на мои расспросы отвечал односложно: «Все нормально». Иногда мне казалось, что это и не Тимка вовсе, а какой-то самозванец, забравшийся в его шкуру. Как-то раз я видел, как он обслуживал пивом Шолохова.
Михаил Александрович время от времени появлялся в нашем дворе, он навещал умирающего от туберкулеза Андрея Платонова, которого нежно любил. Когда-то он помог Тошке[1], актированному по болезни, остаться в Москве, то был поступок не только милосердный, но и отважный по тем временам. Шолохов приезжал на сессии Верховного Совета или по другим государственным делам, но вместо заседаний шел к Платонову. Они выпивали, пока Платонов еще мог пить, в дальнейшем Шолохов или выпивал заранее, или под видом перекура — во дворе, чтобы не раздражать больного друга. Иногда он «давил малыша», но чаще пробавлялся пивом, за которым посылал Тимку, а сам беседовал с дворником Степанычем, отъявленным вралем, производившим впечатление правдивого, как сама Земля, народного человека. Шолохов — это неожиданная черта в нем — обожал сплетни. Впрочем, не исключено, что он любил сплетни только о писателях и писательских женах, а все другие на дух не выносил. Степаныч по роду своих занятий был кладезем всевозможных слухов, которые сам же придумывал. Попыхивая сигаретой, Шолохов жадно спрашивал:
— Ну а она что?.. Дальше-то что было?..
— Что дальше?.. — лениво тянул Степаныч, старательно заплевывая искуренный до фильтра чинарик, — он уже забыл, о чем врал. — Она ведь об этим не думала. Нешто могла она знать, что такой оборот выйдет?.. — Надсадный кашель сотряс богатырскую грудь. — Плесни-ка пивка, что-то в горле першит.
Но пиво кончилось. Шолохов достал из кармана мятую десятку и протянул маячившей рядом долговязой фигуре.
— Давай, родной, одна нога здесь, другая там.
Степаныч меж тем собрался с мыслями и, пока Тимка бегал за пивом, благополучно довел историю до конца.
Тимка невероятно ловко срывал зубами пивные закрывалки. Стакан имелся только для сказителя, Шолохов и Тимка тянули из горла.
— Ну, а Орест как? Неужто затих? — интересовался Шолохов, промокая руками усы.
Орест М. - половой гигант дома. Каждую неделю в его однокомнатной квартире происходили бурные сцены с криками, визгами, мордобитием, серной кислотой. За этим следовали доносы в партком СП. Редкое партийное собрание происходило без обсуждения половой жизни Ореста М.
— Орик-то?.. — соображал Степаныч. — Нешто такой затихнет? Намедни с четырьмя взаимодействовал.
— Брось, Степаныч, как можно с четырьмя? — ужасался и восхищался Шолохов.
— Варфоломеевская ночь!.. Да что такому кобелю четыре сюжета? У него эта штука с городошную биту.
— Не лепи горбатого, Степаныч, так не бывает.
— Цыпа не даст соврать. Цыпа, будет у Орика с городошную биту?
«Никоныч» для всего двора в глазах Степаныча, холившего его детство, оставался «Цыпой».
— Ага, — подтвердил Тимка, думая о чем-то своем.
Вот что странно. Шолохов великолепно изображал человеческие характеры, значит, присматривался к людям. А ведь Тимка не был рядовым истопником: слишком утонченная внешность, да и молод он был для своей должности, достающейся бойцовым людям, умудренным годами и борьбой за существование. Это сейчас в привычку, когда на месте лифтерши сидит бледнолицый бородатый философ с томиком Бердяева в нервной руке, а уборную чинит кандидат или доктор наук:, нацелившийся покинуть свою неисторическую родину. В ту пору прочен был социальный тип: истопник, как и дворник, — это судьба, а не просто род занятий. Тимка так вызывающе не подходил к своему месту, что должен был бы заинтересовать ловца человеков. Но Шолохов не сосредоточил на нем внимательного взгляда, да и вспоминал о его существовании, лишь когда кончалось пиво.
Мне долгое время казалось, что Тимка настолько привык к своей работе, образу жизни, вернее сказать, опущенности, что ничуть не страдает в образе котельного вельзевула, мол, все путем. Но однажды я крепко усомнился в этом.
Я уже говорил, что мы с матерью перебрались на новые квартиры. Прелесть новизны и несколько лучших жилищных условий вскоре минула, я свирепо затосковал по своему старому двору и ринулся туда со всех ног. Сентиментальное путешествие оказалось мало удачным. Из сверстников я не застал никого: «одних уж нет, а те далече», во дворе копошилась незнакомая мелюзга. Я облазил чердаки, даже в уборную бывшего Камерного театра проник, потолковал с дворником Степанычем, охотно рассказавшим мне обо всем, чего не было в пору моего отсутствия, затем пошел глянуть на подземное озерко.
Озерко было на месте, освещенное, как и прежде, таинственным, невесть откуда проникающим светом; посреди застыл наш рассохшийся плот, на нем сидел Тимка, погруженный в думу, он даже не заметил моего появления, а с края плота примостилась большая крыса, спокойно, мудро и благожелательно глядевшая на него. Было в этом что-то такое грустное и безысходное, что я не окликнул Тимку и тихо ушел. Да и что я мог сказать ему? Что-нибудь из «Мойдодыра»: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Если не можешь помочь делом, лучше помолчать.
Но нашелся человек, умевший делать, а не трепать языком, — Нюся — бывшая радистка-разведчица, первая Тимкина любовь. Она прекрасно отслужила войну, получила много боевых наград, в том числе высший польский орден, демобилизовалась, кончила театральный техникум и сейчас заведовала гардеробом в одном из главных московских театров. Она случайно услышала о Тимке, и в ней взыграло былое чувство. Так, во всяком случае, я думал, плохо зная Нюсю. Когда же узнал лучше, то мотивы ее поведения несколько усложнились, но об этом в своем месте.
Нюся — незаурядная женщина. Увидев вместо молодого, справного лейтенантика старого спившегося истопника (Тимка выглядел лет на десять старше своих лет), Нюся не только не отступила, а прямо-таки возгорелась спасительным пламенем. Может, у них ничего бы и не вышло, но в Тимкиной душе зазвучали давно умолкшие струны, и он, не колеблясь, пошел за своей избавительницей.
У Нюси не было жилплощади, не заслужила смелая разведчица и кавалер многих орденов хотя бы щели в общей квартире. Она то скиталась по общежитиям, то ютилась у подруг, то «гноила» угол у старушек. Сейчас одна ее приятельница уехала в длительную командировку, и «молодожены» поселились у нее. Прежде всего Нюся отмыла Тимку, постригла, одела во все чистое, затем свела в загс и, наконец, забрала из котельной, устроив его на весьма выгодную работу в бюробин. Помогли театральные знакомства и Тимкины остатки немецкого языка. Кажется, он вписал в анкету знание испанского и румынского За полиглота ухватились.
С этого времени Тимка перестал пить водку. Только сухие вина, иногда настоящее порто — бокал после обеда.
Он подошел ко второму, главному пику своей жизни. Первый подъемный момент, очень кратковременный, был отмечен пошивом офицерской шинели, которую он даже не успел надеть, второй растянулся на много-много лет. Он вобрал в себя и тот долгожданный час, когда ему было возвращено воинское звание и все награды с добавлением двух медалей: «За победу над Германией» и «За взятие Бухареста», хотя не Тимка брал Бухарест, а его там взяли. И тут Тимка вторично справил себе шинель — уже из генеральского сукна, китель и брюки из серого габардина, купил на толкучке офицерскую фуражку, ремни и кобуру от «ТТ». Не только в день Победы, но и по обычным воскресеньям он надевал форму и в таком блистательном виде прогуливался по улицам. То была полная компенсация за все муки. Я часто виделся с Тимкой и всегда испытывал радость при виде по-настоящему счастливого человека. До чего хорош он был, когда, угостив меня прекрасным обедом, приглашал к маленькому круглому столику попить кофе по-турецки из крошечных фарфоровых чашечек. Мне полагались коньяки, ликер, Тимка обходился стаканом порто.
Для него не было большего удовольствия, чем хорошо угостить друга. И опять он с удивительной пластичностью применился к новым обстоятельствам. Теперь это был отставной офицер какого-то привилегированного полка и крупный хозяйственник в тонком деле обслуживания иностранцев. Изящные, отточенные гвардейские движения, благоуханные кольца «Кента», нанизываемые на стержень я так и не освоил этого искусства, — многозначительное молчание с узкой неразвернутой улыбкой доброты и ублаготворенности. И удивительный взгляд любви, благодарности и доверия, который он время от времени обращал к Нюсе. Неужели это тот самый человек, который сидел с потухшим взором на плоту посреди подземного озера в компании мокрой крысы?
Желая воздать Тимке сполна за незаслуженные беды и несправедливости, жизнь подносила ему все новые подарки: у него родился великолепный сын, и возросшая семья переехала в двухкомнатную квартиру на Сретенском бульваре.
Он едва не вступил в партию. Но на собрании, когда его принимали, он взял обязательство воровать вдвое меньше и призвал к тому же всех коммунистов бюробина. Сам понимаешь!..
Он едва не вылетел с работы с волчьим билетом. Что с него взять недоделанный…
— Стоп! Я уже покаялся. Это мы недоделанные по сравнению с Тимкой.
— Только не надо его преувеличивать. Он был вполне бытовым человеком без каких-либо высших запросов. При своей физической храбрости, хладнокровии, исполнительности он мог сделать военную карьеру. Скажем, дослужиться до полковника. Дальше его не пустили бы. Для преуспевания в мирной жизни его боевые качества были ни к чему. Другими он не располагал. Но и не стремился выделиться. Лишенный честолюбия и каких-либо творческих тревог, он хотел лишь одного: чтобы его близкие жили спокойно и достойно. На это его способностей хватало. К тому же он опять начал играть в теннис и стал желанным партнером для клиентов бюробина. Он ведь играл не только хорошо, но строго по-джентльменски, без оголтелого желания непременно выиграть. И это еще больше укрепило его положение на службе. Но, видно, в горних сферах решили, что он не испил своей чаши до дна, да и вообще умиротворенное блаженство смертных раздражает богов.
Удар пришел с той стороны, где он считал себя наиболее защищенным. Нюся бросила его, ушла к другому. Этот другой был старинный Тимкин приятель да и мой тоже, бывший сосед по Тверскому бульвару, огненно-рыжий парень Гошка, любитель современной музыки и сам немного музыкант — играл на тромбоне в каких-то второсортных джазах. Они с Нюсей были знакомы лет сто и вдруг обнаружили, что жить друг без друга не могут.
— Мне бы хотелось знать об этом подробнее. И ради бога, не отсылай меня к «Мадам Бовари»…
— Я как раз хотел это сделать. Ну, скажи на милость, что я могу знать о таком интимном деле? Что нам вообще известно друг о друге, кроме грубых очевидностей? Я обалдел, когда услышал об этом. А Тимка обалдел подавно. У него надолго стал такой вид, будто его поместили под Царь-колокол, а потом дали по гулкой меди из Царь-пушки. От чар любви никто не застрахован. Но Нюся любила Тимку, как только можно любить творение своих рук. Она же в самом деле собрала его нацельно из мелких осколков. А он ее не просто любил — молился на нее, на редкость благодарная душа. У них был чудесный сын, дом полная чаша, прочный, но не отяжеленный быт, о чем еще мечтать? И ведь она столько лет знала Рыжего и разве что терпимо относилась к его веснушчатой роже, плоской веселости, постоянной озвученности легкой музыкой и неопрятной безбытности. Но, может, как раз этим он ее и достал. Нюся — жертвенная натура. Ей надо кого-нибудь спасать, иначе нет напряжения жизни, и любить надо только несчастненького. Таким был Тимка в пору, когда она вытащила его из котельной дома Герцена, но таким он давно перестал быть: довольный жизнью обыватель с запасливыми бурундучными щечками от пересытости. Конечно, она была привязана к нему, спокойным сердцем любила сына и дом, но все это не давало утоления жаждущей подвига самоотверженной душе. Другое дело — Рыжий, заброшенный, одинокий, неухоженный, некормленый, печальный тромбон. Надо сказать, что он всегда так жил, с тех пор как умерли вскоре после войны его родители, и ничуть не тяготился своим холостяцким разором. Вечно народ, вечно пьянка, музыка, треп, менялись девчонки, но не менялись простыни и наволочки, со стола сроду не убиралось, полы не мылись, а солнечный свет едва проникал сквозь заросшие пыльной шубой стекла. Все это его вполне устраивало, пока играла молодость, но на пятом десятке он захандрил: испарились надежды на славу и деньги, побаливала печень, в глазах появилась собачья грусть. Словом, он вполне созрел для спасения. Нюся приняла свой порыв к обездоленному за любовь и сожгла мосты. Она была искренна и всерьез верила, что силой своего чувства вернет любимому веру в свой талант и будущее.
Прошло немало времени, пока она поняла, что спасать-то некого. Ее страстный порыв был порывом в пустоту. У Рыжего, действительно, была увеличена печень, как у всех пьяниц, у него легко портилось настроение — обычная черта неудачников, считающих себя гениями, но в целом он был доволен своим безалаберным, пустым, не обремененным никакой заботой существованием. Все участники этой семейной драмы готовили на сливочном масле, кроме Рыжего, он жарил на маргарине, к тому же испорченном. Роман с Нюсей был нужен ему для самоутверждения, да и приятно сделать гадость заевшемуся приятелю. Тревожный рыжий пламень его волос над собачьей грустью нездоровых глаз долго морочил Нюсе голову, но в конце концов ей открылась правда и полное банкротство спасительной миссии Тимке было очень трудно без Нюси. Помог ему уцелеть сын, которому он себя целиком посвятил. Когда спасаешь другого человека, то и сам спасаешься им.
Посвятив себя целиком сыну, Тимка подорвал свое служебное положение. Слишком велика там конкуренция, слишком много желающих попасть на твое место, чтобы работать с прохладцей. Надо не только выкладываться до конца, но и быть осмотрительным, как слеза на реснице. Иначе скатишься. А Тимка и теннис забросил, чем нанес непоправимый ущерб своей репутации в дипломатических кругах.
Все свободное время он проводил с сыном. Помимо всего прочего, ему не хотелось, чтобы образ матери померк в его глазах, что вполне могло случиться, если б Тимка не стоял на страже. Повадившаяся в дом бабушка Бориса была тяжело оскорблена поступком Нюси и при всей своей сдержанности и тонком дореволюционном воспитании слишком красноречиво поджимала губы, когда речь заходила о грешной экс-невестке. Тимка бдительно следил, чтобы ее негодование не переступало этой черты.
Если ты когда-нибудь познакомишься с Борисом, то поймешь, что ничто еще не пропало, раз есть на свете такие молодые люди. Доброта, благородство, бескорыстие, сознательное нежелание признавать, что жизнь — не подарок, при ясном, спокойном уме, видящем низкую правду, но отвергающем ее ради правды высшей, — как это создалось и как сохранилось в нашей кромешной действительности? Воспитал его Тимка. А самого великого воспитателя вырастил двор и подвал с крысами, — ни у дяди, ни у матери не было на него времени. Откуда бы взяться воспитательской мудрости? А она была. Но может, это не мудрость вовсе, а естественная жизнь хорошей души, невольно, без искусственных усилий помогающей росту другой — юной и здоровой души? Словом, экзамен на отца он выдержал на пятерку.
На ту же отметку он сдаст экзамен на сына, когда тяжело, смертельно заболеет его мать. Побоку пойдет вся остальная жизнь, он станет сиделкой, нянькой до самого последнего вздоха, отстранив сестру от всяких хлопот. Но это случится много позже, а пока ему пришлось решать другую задачу.
Он узнал, что Нюся с Рыжим расстались. Финал оказался куда более жестоким, чем заслуживала слабая драматургия — из-за ничтожности одного из главных действующих лиц — этой житейской истории: Нюся попала в больницу с опасным заболеванием, требовавшим срочной и тяжелой операции. Когда я его спросил, что с Нюсей, он ответил коротко: «Нижний этаж».
Нюся на операцию не решалась. Фиаско с Рыжим лишило ее обычной воли и уверенности в себе. Она лежала в палате, никто ее не навещал, и ей казалось, что она слышит, как вытекает из нее жизнь. И, презирая себя за слабость, беспрерывно сочилась из узких глаз, как скала. Однажды сквозь слезный дым она обнаружила возле изголовья полу короткого белого халата, выше — китель с орденскими планками и ленточкой «за ранение», а еще выше — знакомый профиль с гордым носом и редко моргающие глаза цвета расплавленного олова.
Ты знаешь, Тимка был не речист, он не знал, как уговорить Нюсю на операцию, и надел военную форму и знаки регалий, чтобы напомнить бывшей разведчице о ее боевой молодости и бесстрашии. И эта наивная выдумка сработала. Нюся взяла себя в руки, согласилась на операцию, которая прошла успешно. Через три недели Тимка привез ее домой. Здесь ее ждало много цветов и возмужавший сын. Никаких объяснений по поводу случившегося не было, ни полслова, ни намека. Жизнь продолжалась, как в разбуженном поцелуем принца царстве спящей красавицы — с того движения, на котором когда-то оборвалась.
Старые связи помогли Тимке устроиться проводником на поезда, ходившие заграничными маршрутами. Это позволило ему продолжать изящную жизнь в промежутках между рейсами. И хорошие вина, и виски, и заграничные сигареты были по-прежнему к услугам его друзей. В домашних условиях ему не пришлось отказываться от тех аристократических замашек, которым научил его бюробин. Конечно, в рейсах, подметая веником вагонный коридор, прибирая в санузлах и разнося пассажирам чай в тяжелых подстаканниках, он вел более демократический образ жизни. Вновь неплохо наладившийся быт едва не рухнул, когда заболела мать и Тимка уселся к ее изголовью.
Но, видимо, он успел завоевать авторитет на железной дороге, его не только приняли назад, но и стали усиленно продвигать, совсем как Ивана Полозкова, с той разницей, что Тимкино возвышение никому не принесло вреда. Года через три он уже стал начальником поезда. Тимка не задрал нос, остался столь же доступен для старых друзей. Я, конечно, шутю, как говорил толстовский Брошка, а вот нешуточное: на заре туманной старости у Тимки появилась любовница, проводница международного вагона — по-неученому, спального вагона прямого назначения — по железнодорожной науке. Комсомолочка, тогда еще был комсомол, на тридцать лет моложе Тимки.
Эта связь тянулась много лет и в конце концов стала известна Нюсе. Случайно, потому что ничего в поведении Тимки не давало повода для догадки. Супружеских отношений между ними не было, но вел он себя как безукоризненный муж: никогда не опаздывал, никуда не исчезал, отпуск проводил дома, не являлся под шафе со следами помады и запахом чужих духов. Она спросила, действительно ли у него есть женщина. Тимка это спокойно подтвердил. «А как же я?» спросила Нюся. «Ты сама сделала наш брак свободным».
— Мне что — уйти?
— Тебе решать.
— Кому я нужна?
— Сыну… семье.
— Ждать, когда ты меня бросишь?
— Я тебя не брошу.
— А ту женщину это устраивает? — Он пожал плечами. Ту женщину это устраивало до самой Тимкиной смерти… Как это ни дико, но только сейчас дошло до меня, что я слушаю историю человека, которого уже нет.
— Так Тимка умер?
— Полтора года назад. Его похоронили на Введенском кладбище. Две женщины носят цветы на его могилу.
— Вот не думал, что ты рассказываешь мне историю покойника.
— Я рассказываю тебе историю не покойника, а живого человека, по-своему полно прожившего жизнь. А не сказал я, что Тимка умер, потому что до сих пор думаю о нем, как о живом.
— Признаться, финал твоей истории меня озадачил. Пропала цельность образа. Запоздалое галантное похождение что-то разрушило.
— Галантное похождение не может длиться пятнадцать лет. Связь пожилого человека, потом просто старика с женщиной из другого пласта времени заслуживает уважения. Тимка не простил Нюсе ее измену, душой не простил. Тут он был максималистом: за свою верность требовал такой же верности. Не заболей она, он никогда бы не вернулся к ней. Но сострадание, а главное, благодарность осилили нравственную догму, которая, конечно же, была и сильным, живым чувством. Он был человеком правил, но не моральным истуканом. Я уже говорил о его готовности подчиняться велениям жизни. Когда его бросили в грязь, он слился с этой грязью, любящая женщина привела его в чистый мир, он стал достоин ее усилий, она растоптала его скромное мужское достоинство, и он, расплатившись с ней за добро, счел себя внутренне свободным. Но он был нужен ей и сыну и не стал рушить семью. Пластичный человек, но не безвольный, не тряпка. А сыну своему он вскоре очень понадобился, жизнь еще раз решила проверить Тимку на прочность.
Боря окончил педагогический институт и пошел работать в интернат для брошенных детей. Вскоре он обнаружил среди них четырнадцатилетнюю девочку с таким милым и беззащитным личиком, что при виде ее у него обрывалось сердце. Она не была несчастнее других — такой же брошенный ребенок, не знавший ни матери, ни отца, с первым проблеском сознания обнаруживший свое полное одиночество в мире. Одиночество среди людей — ни единой родной, близкой души, одиночество среди вещей — ни об одной нельзя сказать «моя». Вообще-то она заслуживала сострадания не больше, а скорее меньше многих своих подруг некрасивых, угрюмых, неуклюжих, обобранных той привлекательностью, которая дарила ей симпатии окружающих. Эта девочка с узким личиком, огромными глазами и улыбкой чистой благожелательности к людям растапливала даже замороженные сердца низкооплачиваемого задубевшего персонала.
Нехорошо было выделять большеглазую девочку среди других, Боря мужественно носил маску полной беспристрастности, а наедине с собой мечтал: если б она была его дочерью!
Вскоре он обнаружил среди воспитательниц родственную душу — молодую женщину примерно его лет. Они часто разговаривали на профессиональные темы и однажды речь зашла об избирательной симпатии, на которую воспитатель не имеет права. Надя, так звали воспитательницу, призналась, что к одной из девочек старшей группы испытывает материнское чувство. И невозможность реализовать это чувство причиняет ей настоящую муку. И тут их осенила смелая мысль: соединить судьбы и удочерить девочек, которых они полюбили. Процедура удочерения чрезвычайно громоздка и длительна, словно кому-то нарочно хотелось усложнить это благое дело, куда проще взять на воспитание. Так и решили сделать: пожениться, взять к себе девочек и подать на удочерение.
Никаких препятствий задуманному не оказалось: девочки дали согласие. Боря с Надей расписались, путем сложных обменов превратили Надину однокомнатную квартиру в двухкомнатную, девочек полностью экипировали, к чему была привлечена легкая промышленность Бельгии — мобильный дед совершал в это время рейсы Москва-Брюссель и обратно.
Конечно, были разные опасения: сдружатся ли девочки, которые в интернате принадлежали к разным возрастным группам и не общались друг с дружкой, получится ли семья, или будут четыре человека, искусственно сведенные под одну крышу. Но девочки удивительно легко нашли общий язык, Борька привязался к Надиной дочке, а Надя — к Борькиной, и если что-то смущало, так это настороженное отношение девочек к родителям. Жизнь не могла научить их чрезмерной доверчивости, и Борька с Надей понимали, что им предстоит завоевать их души.
Нюся с самого начала была против этой смелой затеи и полностью устранилась от забот новой семьи. Она считала, что нельзя ставить телегу перед лошадью: сперва создать семью, потом врабатываться в любовь друг к другу. Зато Тимка оказался на высоте в качестве двойного деда. Его умение соответствовать обстоятельствам помогло и сейчас. К тому же его трогало слово «дедушка», срывавшееся с двух детских уст. Он сразу стал обслуживать внучек и, возвращаясь из очередного рейса с подарками, сразу спешил к ним. Они любили подношения, особенно старшая — модница и сластена. Младшая была как-то отвлеченней. Она всегда полуотсутствовала, погруженная в свои грезы. В ней шел беспрерывный внутренний диалог: она улыбалась застенчиво-жеманно, изгибая длинную шейку, надувая губы, словно сердилась, вдруг становилась хмуро-обиженной, и непонятно было, как эта сложная эмоциональная жизнь связана с окружающим. Она перестала быть тихой и печальной мышкой. Борька считал, что в ней пробуждается личность, устанавливается контакт с собственным, прежде задавленным «я», это важный и благой знак созревания человеческого существа.
Однажды дедушка явился к ним прямо из Брюсселя, нагруженный дарами, как санта-Клаус (если б дары были отечественные, я сказал бы, как дед Мороз). Входная дверь оказалась незапертой. Смущенный этим обстоятельством, санта-Клаус раскрыл нож с фиксатором и осторожно проник в квартиру. Из комнаты девочек слышались голоса, какая-то возня… Ты как-то говорил, что знаешь наизусть куски прозы Марселя Пруста. Помнишь сцену, где Рассказчик подглядывает в окна мадемуазель Вентейль?
— Помню, — сказал я, — только не наизусть… Боже мой!..
…Когда мы расстались с Олежкой, я пошел в библиотеку и взял первый том прустовской эпопеи «В сторону Свана». Вот эта сцена:
«М-лъ Вентейлъ вдруг почувствовала в вырезе своей красивой новой блузки укол поцелуя подруги; она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, вскакивая на стулья, размахивая широкими рукавами, как крыльями, кудахча и издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что м-ль Вентейль в изнеможении упала на диван, где ее заслонила подруга…»
— Тимка тоже вспомнил боженьку и опрометью кинулся из квартиры под издевательский хохот девчонок. Они слышали, как он вошел. Более того, они нарочно не закрыли дверь, чтобы их застали. Позже Тимка говорил, что удар автоматом по черепушке был детской шалостью по сравнению с этим потрясением. Ко всему еще он не знал, как поступить. Но ему не пришлось делать выбор. Через несколько дней сын вернулся домой. Оказывается, и он и Надя уже давно все знали, но рассчитывали на свой великий воспитательский опыт. А девчонки, смекнув, что их не выгонят, разнуздались окончательно. Возникла мысль расстаться со старшей, хоть маленькую спасти, но именно она оказалась закоперщицей. Ее в десятилетнем возрасте растлила методистка детдома. Пришлось девчонок отправить назад, и тут обнаружилось, что Борю с Надей ничего не связывает, кроме общего семейного эксперимента.
Борис ушел с работы. Месяца два он просидел дома в тяжелейшей депрессии. Тимка тоже бросил работу и, как в давние времена, стал сторожем сыну своему звучит по библейски, ты не находишь? Было пущено в ход все его красноречивое молчание, шахматы и пожухшие альбомы с марками. Он затащил Борьку назад в детство и как бы сказал: начнем сначала. И Борька начал: очнулся и опять пошел работать воспитателем, только в другой детский дом. Тимка потерял свое выдающееся место, но особо не тужил, устроившись бригадиром поездных электротехников на тех же рейсах.
Он исчерпал лимит горестей и закончил жизнь почти по Некрасову:
«Безмятежной аркадской идиллии Закатятся преклонные дни Под пленительным небом Сицилии В благовонной древесной тиши»,конечно, на советский лад. Сицилии не было, благовоний тоже, но покоя и радости он достиг. Борька женился на красивой, доброй девушке, родил отменного парня — Тимка стал дедушкой без дураков; сын не делал карьеры, скромно и деятельно служил своему единственному призванию, и милая умница жена не грызла его, что он не Кобзон. Тимка вышел на пенсию и наслаждался ролью патриарха, в которой был трогательно серьезен. Потом его разбил левосторонний паралич без потери зрения и речи. Сыну он сказал: «Не беда, битая посуда два века живет». Жене сказал: «Это конец. Никого ко мне не пускай. Не хочу, чтобы меня видели перекошенным». И замолчал. И через месяц его не стало, ушел во сне.
Но вот что выяснилось: не случайно он казался близко его знавшим человеком таинственным. У него была тайна. Помнишь, после изгнания Врангеля в Крыму было расстреляно три тысячи белых офицеров?
— Как я могу это помнить? Я под стол пешком ходил.
— Я оговорился. Знаешь ли ты об этом? Нет? Так знай. Среди расстрелянных был Тимкин отец. Эту тайну он хранил даже тогда, когда все стали орать о своих белогвардейских предках. Из странной гордости. Это была его память, его боль, его любовь к придуманному им прекрасному человеку: воину, храбрецу, аристократу, герою, сложившему голову за Русь святую. Он вжился в образ отца и как бы продолжал его судьбу. Отсюда его значительность, молчаливость, тяга к светскости, хорошему вину, изящному застолью, отсюда его бесстрашие, твердость, мужество. Он даже опустился в свой час по-офицерски — гордо ушел на дно, чтобы потом воскреснуть. Он — из этой замечательной и дурацкой песни: «Поручик Голицын, набейте патроны, корнет Оболенский, налейте вина», где в одной части смешались корнеты и поручики, кавалеристы и пехотинцы и где офицер набивает патроны, как нижний чин, — такой разор, такой предгибельный перепуг, такое великолепное и хладнокровное отчаяние и готовность погибнуть за Веру, Царя и Отечество…
Примечания
1
Сын Андрея Платонова, арестованный в 1938 г.
(обратно)

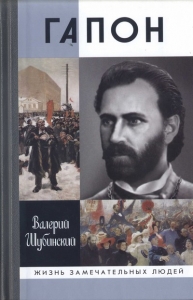
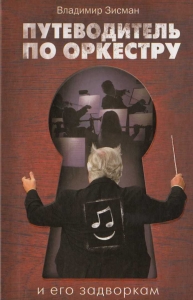


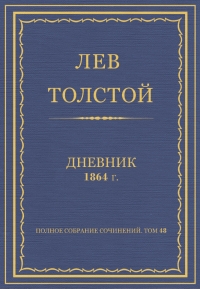

Комментарии к книге «Недоделанный», Юрий Маркович Нагибин
Всего 0 комментариев