Виктор Иванович Буганов. Булавин
ЮНОСТЬ. НАЧАЛО СЛУЖБЫ
... Казачий круг, только что разноголосо, нестройно шумевший, затих сразу, когда есаул поднял руку:
— Господа казаки! Атаманы-молодцы! Любо ли вам, чтобы атаманом великого Войска Донского был Булавин Кондрат Афанасьевич?!
— Любо!!
— Любо!!
— Ему и быть! Кому же еще?!
— Выходи, Кондрат!
— Не прячься! Тебя желаем в атаманы!
Дюжий, среднего роста, с широкими плечами, небольшой аккуратной бородой казак выступил из рядов старшин. Поклонился на четыре стороны:
— Спасибо, господа казаки! За ваше доверие и честь челом бью. Спасибо!
Круг в ответ взорвался:
— Слава!!
— Слава!!
— Слава!!
В этот светлый майский день, казалось, все радовалось, сияло — жгучее солнце и ярко-голубое небо, кативший быстрые волны Дон-батюшка. Кондрат, расправив плечи, дышал всей грудью, глубоко и взволнованно. Волны «Славы!», накатывавшиеся, казалось, со всех сторон, подымали его высоко-высоко...
Войсковой атаман вспомнил, как в миг единый, детские и юношеские годы, походы и сечи. К горлу подступил комок: «Ах ты, Дон-батюшка ты мой! Ах ты, Русь-матушка. Сподобил господь радость великую!»
Недаром атаман вспомнил русскую сторонку, с которой пришел вместе с отцом-матерью казаковать на вольную землю донскую.
...Семен Кульбака, бывший атаман в Бахмуте, что около Северского Донца, в его среднем течении, больше четверти века проживший в Черкасске и хорошо знавший Булавина, уже в разгар восстания, в мае 1708 года, сказал о нем:
— Слышал я от единомышленника Булавина, от Стрельчонка, что Булавин подлинно салтовец, из русских людей.
Жена самого предводителя подтвердила после своего ареста:
— Родилась я на Дону, а муж мой живал в Чугуеве.
Кондратий Афанасьевич родился и первое время жил в городках восточной части Левобережной Украины, прилегавшей к Войску Донскому, южным и юго-западным уездам России. Здесь военно-административные территории типа русских уездов назывались полками. Их жители несли обычные повинности в пользу феодалов, казны, поставляли воинов, которые составляли в армии особые полки — Харьковский, Полтавский, Сумский, Изюмский и прочие.
Жизнь разбросала Булавиных по разным местам. Кто-то из них жил в Саратове. Сам Кондрат оказался, после родного Салтова, маленького городка в Слободской Украине, в Чугуеве. Так он из русских людей, которых издавна немало перебиралось в Слободскую Украину, перешел в сословие донских казаков. С радостью окунулся в жизнь вольного Тихого Дона; обычаи и взгляды новых его побратимов не могли не прийтись по нраву тому, кто ушел из Слобожанщины. Там после изгнания (при Богдане Хмельницком) польских панов и «рандарей» (арендаторов) постепенно затягивали на крестьянах крепостную узду украинские полковники и русские помещики. Дух вольности, свободолюбия, открытой неприязни к барам и угнетателям, из чужой ли, из своей ли, местной среды, вошел в его кровь и плоть. Он стал истинным сыном вольного Дона и борцом с теми, кто эту вольность рушил. Воспоминания казаков, их предания и легенды, песни и сказки волновали душу, заставляли тревожно и сладко биться сердце юноши, воспламеняли кровь, воображение. Оживали картины былых походов и сражений, смелых нападений и схваток «рыцарей степей» с врагами.
...Многое повидали на своем веку земли по Дону и его притокам. Исстари вал за валом катились по южнорусским степям волны кочевников. Бесчисленные стада скота паслись на нивах. Степи и леса изобиловали всякой живностью, реки — рыбой. За обладание богатым краем непрерывно вели борьбу племена и народы. Как смерч, проносились с востока на запад воины-всадники; а это — тысячи, десятки, а то и сотни тысяч беспокойных, алчущих добычи степняков. Следом за ними тянулись огромные обозы, медленно, со скрипом, ржанием лошадей, мычанием коров, ревом верблюдов; пыль в летнюю пору поднималась в небо, и очевидцы, пораженные очередным нашествием, со страхом взирали вверх в тщетной надежде увидеть дневное светило во мраке, окутавшем землю и небо, насколько глаз охватывал пространство.
После падения Большой Орды (конец XV столетия) и ханств, ее преемников — Казанского и Астраханского, Ногайского и Сибирского — русские люди, вернувшие древние отческие земли около Черного и Азовского морей, вздохнули свободней. Но оставалось Крымское ханство, а за его спиной маячила грозная Турция, его сюзерен. Крымские татары, подчас вместе с османами и подчиненными им кубанскими татарами, ногайцами, долго еще тревожили русских и украинцев, казаков запорожских и донских. Дымные пожары и пепелища, тысячи погибших и осиротевших, толпы пленников, уводимые на юг, на невольничьи рынки Кафы и Стамбула, на галеры и в сады новых владельцев, — так из года в год, из столетия в столетие предки наши платили дань кровью и разорением от воинственных и агрессивных южных соседей.
В донских и днепровских степях и балках, лесах и речных камышах в эти беспокойные времена появлялись беглецы, новые насельники. Приходили сюда, чтобы избыть тяжелую долю, — из русских и украинских селений и городов бежали крепостные, холопы и ремесленники, стрельцы и солдаты, измордованный, обнищавший люд. Народ собирался храбрый и энергичный, свободолюбивый и независимый. Уже с конца XV столетия их стали звать казаками. Хорошие воины, они с детских лет привыкали к суровой, полной опасностей жизни вольных детей степи. Острая сабля и ружье, добрый конь и быстрая чайка (лодка) становились их неразлучными спутниками, верными слугами на всю жизнь. Жаркие схватки с врагами-басурманами, крымцами и османами, и «внутренними врагами», русскими помещиками, украинскими и польскими панами, захватывающие дух скачки, посвист ветра, постоянная опасность воспитывали в казаке натуру бесстрашную и гордую, суровую и грубовато-резкую.
В казаки шли многие из русских и украинцев, немало жило среди них молдаван, татар и других людей. Складывалось братство на первых порах равных между собой людей. Все вопросы, важные (война или мир с соседями, выступление в поход, сбор средств, снаряжения и прочие) и мелкие, повседневные, решали на общих сходках — кругах (у донцов), радах (запорожцев). На них каждый казак мог сказать свое слово, и общий крик на майдане — «Любо!» или «Не любо!» — решал (по большинству), быть или не быть тому, что предложил атаман или его помощник — есаул. Своих командиров, составлявших старшину, казаки тоже выбирали на круге. А если атаман, войсковой, походный или станичный, куренной или кто-либо из есаулов поведут дела плохо, нечестно, то его могли наказать, посечь, к примеру, на том же круге или заменить другим.
Подонье, Левобережье Украины, соседние с ними южнорусские уезды Придонья и Поволжья давно стали средоточием казацкого сословия, соседившего с русским и украинским, татарским и калмыцким, прочим местным населением. В России крепостные крестьяне гнули спину на господ-помещиков, монастыри и царское семейство, поскольку царь, главный феодал страны, тоже имел своих крестьян — дворцовых, получал с них немалые доходы. Лучше жили крестьяне незакрепощенные — черносошные, или государственные; нерусских из их числа (башкиры, татары и др.) звали ясачными, ясашными — они тоже вносили в казну подать — ясак.
Бурлаки и сплавщики леса, солевары и смолокуры, рыбаки и корабельщики, работные люди с заводов и фабрик, бедные ремесленники и однодворцы, попы и служилые люди (стрельцы, солдаты, рейтары), всякий ярыжный, набродный люд, нищие и убогие, обиженные судьбой люди — все они не только соседи казаков, жившие рядом и среди них, но и люди, с опасением и ненавистью смотревшие на бояр и дворян, приказных людей и воинских начальников, богатых и брюхатых архиереев и купчин. От них они ждали только плохого. За гнет и насилия платили неповиновением и плохой работой, убийством помещиков и приказчиков. Пускали «красного петуха», брали себе господское имущество и хлеб, рвали грамоты на землю и крестьян, бежали от владельцев куда глаза глядят, особенно к казакам, пополняя их вольницу.
Пестрая смесь народов и языков, обычаев и представлений не мешала мирной, бок о бок, жизни этих людей, товариществу и взаимной помощи. Не могло обойтись и без трений, противоречий, столкновения интересов — из-за земли и угодий, соляных озер, рыбных ловель и звериных промыслов.
Их мирную жизнь, товарищескую спайку подрывали и более важные причины. Равенство в их среде постепенно уходило в прошлое — появлялись, прежде всего из казацкой старшины, разбогатевшие люди, «значные», домовитые, зажиточные казаки. Копили деньги и имущество, богатели их дома, множились прибытки, увеличивались стада лошадей, скота, выводки домашней птицы. Бедные односельчане, особенно из новоприхожих беглых, попадали к ним в зависимость, а то и в прямую кабалу.
Деление на лучших и меньших, прожиточных и худых, исстари существовавшее на Руси, переселенцы приносили и в новообжитые места, и «казацкие республики» стали с XVII столетия ареной вражды и борьбы между «домовитыми», богатыми и значными, с одной стороны, и голытьбой, голутвой — с другой. За четыре десятка лет до Булавина Разин и его сподвижники, поднявшиеся на борьбу с московскими боярами и дворянами, не миловали и своих казаков из богатеев. Правда, защита общих интересов Войска Донского, старинных вольных обычаев и привилегий, протест против наступления на них московских властей и войск нередко объединяли всех казаков — от атаманов до голутвенных, мизинных людей. «Господа атаманы и казаки», как горделиво именовали себя донцы, отстаивали свои права как особого сословия, интересы Войска Донского, до поры до времени независимой военной корпорации, потом, правда, уже полунезависимой. Дело шло к потере былой вольности, привилегий; казаки остро и болезненно переживали ослабление и упадок Тихого Дона. Московское самодержавие медленно, но неуклонно наступало на них, стесняя в старинных правах, которыми они так дорожили.
Воспоминания о прошлом, рассказы стариков, людей бывалых и опытных, песни слепцов манили, волновали душу Кондрата. Кого не тронут таинственные легенды о прошлом, дедах и пращурах, сражениях и подвигах?! Если и найдется такой, то — не настоящий казак. А настоящий казак — человек романтической складки, пылкий и дерзкий.
Песни о походах, сражениях, возвращении к родному дому измлада сопровождали казака. Их пели дома, на улице; старики передавали их сыновьям и внукам. Рассказывали и пели о взятии донцами Азова и «Азовском сидении» (1637—1642 гг.), подвигах Степана Разина и его казаков, Чигиринских и азовских походах (70-е и 90-е гг.), участии казаков в войнах России с Пруссией и Турцией, Польшей и Швецией.
С Азовом и морем связаны многие песни донцов, веселые и грустные. Одна из них говорит о казаке, попавшем в турецкую неволю — азовскую тюрьму; но и там он не теряет присутствия духа:
Во Азове, славном городе, Во стене ли белокаменной Была темная темница Без дверей да без окошечек. Во той во темной темнице Сидел млад донской казак Ровно двадцать годов. Случилось тут мимо иттить Самому царю турецкому. Как заговорит млад донской казак: — Ой, турецкий ты царь, Прикажи меня на волю выпустить; А оставишь меня в неволе, Пошлю я скору грамотку К товарищам на Тихий Дон — Славный Тихий Дон взволнуется, Казацкий крут весь взбунтуется, Разобьют силу турецкую И с тебя, царь, голову снесут.Другая рассказывает о походе на море мимо Азова:
Как у нас на Дону, В Старочеркасском городу, Старики наши пьют да гуляют, По беседушкам сидят, Про Азов-город говорят: — Не дай, боже, азовцам Ума-разума того Перекинуть им цепи Через батюшку Тихий Дон И поставить им караулы На усть речки Каланчи. Как со вечеру было, Все курило да мело. Как со вечеру ваш атаман Рогавые [1] проплывал, А к Азову был на заре. Атаман по моричку гулял, Он по моричку гулял, Кораблики турецкие поджидал. И с набитою сумой Возвращался он домой, А навстречу ему выходили Старики и малолеточки.Певцы горюют о казаке, скучающем по дому, отцу и матери, жене и малым деткам, оплакивают его гибель в дальней сторонушке. Умирающий казак говорит своему верному другу — коню:
Уж ты конь, ты мой конь, Ты лети на Тихий Дон, Понеси ты, мой конь, Отцу, матери поклон. А жене скажи родной, Что женился на другой, Что женила молодца Пуля меткая врага.Радость возвращения в отцовский дом звучит в песне:
За курганами пики блещут, Пыль несется, кони ржут, И повсюду слышно было, Что донцы домой идут. Подходили к Дону Тихому, Поклонились Дону низко: — Здравствуй, наш отец родной!Свадебные и бытовые песни, женские причитания сопровождали казака в молодые и зрелые годы — их пели и сказывали матери и жены, сестры и невесты. Мечты о женихе, лучшей доле, горевание о погибшем добром молодце или коварном изменнике — тоже в песне, надрывают душу, зовут куда-то...
Кондрат не раз слышал, как пели молодые девицы:
Как бы мне ворона коня, Я бы вольная казачка была, Скакала, плясала по лугам, По лугам, лугам зелененьким С донским молодым казаком, С разудалым добрым молодцом: — Раздушечка, казак молодой, Что не ходишь, не жалуешь ко мне? Без тебя постелька холодна, Одеялице примялось в ногах, Одеялице примялось в ногах, Подушечка потонула во слезах...Когда пришла пора, женили добра молодца по заведённому давно обычаю. Жил тогда Кондрат в станице Трехизбянской близ устья Айдара, левого притока Северского Донца, к востоку от Бахмута и Тора. Дело подошло к осени, работы в поле закончились; припасли все, что необходимо, для долгой зимы. Отец и мать решили — играть свадьбу.
Нарядные родители с сыном-женихом ехали в хутор, сватать невесту поздно вечером — не дай, господи, чтобы кто-нибудь их увидел, повстречался на дороге; добра не жди! Надо тогда возвращаться домой... Если складывалось удачно, приезжали в хутор. Полагалось остановиться у знакомых. От них в дом невесты шел посланец, чаще всего — пожилая казачка:
— Согласны ли принять сватов?
— Как не согласны? Согласны.
Радостные сваты подъехали к дому. Их встретили родители. Афанасий, отец Кондрата, и его жена полны сознания торжественности момента:
— Во имя отца и сына и святого духа!
— Аминь!
Вошли в дом:
— Здравствуйте, хозяева! Доброго вам здоровья и благополучия.
— Здоровы будете. Садитесь, будьте как дома.
— Спасибо на добром слове.
Правила старинного вежества соблюдают неукоснительно и хозяева, и сваты. Отец невесты степенно разглаживает усы и бороду, пытливо смотрит на родителей и сробевшего жениха:
— Погодка-то нынче... Хорошая...
— Слава богу. Хорошая.
В разговор вступает хозяйка:
— Добро пришло казакам — все, кабыть, успели в поле и дома. Как у вас-то? Всего напасли, поди?
— Не жалуемся, хозяюшка. Дал господь вёдро, все сделали загодя. Теперь всю зиму спокойно будет.
— Слава богу!
— Да... Незадача, вишь, у нас получается: кое-что купить надо...
— Что же?
— Да вот, может быть, коровку... Или шубу соболью...
— Вот как! Неужто в том нужда большая? И кому понадобилось? Есть же у вас все...
— Так-то оно так...
Долго еще вокруг да около крутился-вязался разговор. Соблюдая приличия, перебрали все станичные новости: кто женился и родился, заболел или умер; что на Дону слышно: времена наступили трудные, царь-батюшка, слышно, затеял войну со шведом, а тут с туркой и крымцами неспокойно, еле-еле замирились. Требуют на войну донские полки; да и по всей России, говорят, берут в солдаты мужиков из деревень и городов. Подати большие положили на православных, А те, обнищав и обессилев, бегут от тягот. Добираются и к нам, на Дон и запольные реки, селятся в станицах и хуторах, бедствуют, работают на казаков. Жалко их, несчастненьких!..
Проходит час-полтора. Как и полагается по древнему чину, сваты переходят к делу:
— Да... Вот мы и говорим: купить кое-что надо. Для того и к вам приехали, дорогие хозяева.
— Какой же товар вам надобен?
— Да слышали мы, что вы имеете хороший товар. И продаете как будто...
— Что же, батюшки-светы?..
— Да дочь вашу, красную девицу...
— И вы за этим делом приехали?
— Так, истинно так! Приехали невесту посмотреть.
— Вот оно что! Ну что ж. Есть у нас красная девица, доченька наша ненаглядная.
— Что же ее не видно? Чай, не за горами, не за лесами? Не за Доном-батюшкой скрывается?
— Да нет. Тут она, рядом.
Хозяйка идет в горницу. Там, едва дыша от волнения и ожидания, сидит на лавке дочка, рядом с ней — подруга. Мать ласково зовет ее:
— Доченька! Выйди к гостям.
— Ой, мама! Страшно что-то...
— Не бойся, кровинушка моя! Пора пришла тебе. Суженый приехал, ждет тебя, не дождется!
— Слушаю, мама. Да боязно очень.
— Ничего, ничего, доченька. Войди сюда, не плачь, будь разумной и послушной.
В залу входят матушка, за ней подруга, последней — смущенная невеста. Не поднимая глаз, краснея и бледнея, остановилась посреди куреня, низко поклонилась родителям и гостям. Но исподволь, незаметно метнула взгляд на Кондрата. Красивый, среднего роста, крепко сбитый, молодой казак нравился Любушке. Она давно его приметила, выделила среди станичных парней.
Кондрат тоже стеснялся, но держался смелей. Подруга Катерина и невеста ручкаются с будущими свекром и свекровью. Потом невеста подает руку жениху. Молодец смотрит на нее во все глаза; на минуту замешкавшись, делает почин, представляется:
— Булавин Кондратий Афанасьевич.
— Провоторова Любовь Поликарповна.
Старая Авдотья Прохоровна, мать Кондрата, радуется, говорит, всхлипывая и стирая с глаз слезы концом расписного платка с пышными кистями, ее родителям:
— Пусть уж друг на дружку посмотрят с глазу на глаз, постоят вместе.
Сватья свадебный чин знают, блюдут его каноны. Кондрат и Любаша отошли к окну, постояли, вернулись к остальным.
— Пройдись-ка, доченька, — просит Авдотья Прохоровна. — Посмотрим на тебя, лебедь белую, красавицу нашу писаную.
Невеста, стуча каблучками, не спеша двинулась к божнице, оттуда обратно, к двери. Все остались довольны: никто, ни сватья, ни молодые, не выразили удивления или недовольства. Того требовал обычай, и его исполняли истово и серьезно. Жених и его родители убедились, что невеста хороша и станом и в ходьбе — выступает плавно, держится прямо; не обидел ее господь — ни хрома, ни горбата, все на месте, как и положено молодой и крепкой казачке, будущей жене-работнице, матери Кондратовых детей, внуков Афанасию и Авдотье. Сват одобрительно крякнул:
— К-ха! Хороша девка! Ну, что ж. Коль все в сугласии, нужно говорить о деле.
— О чем ты, Афанасий Карпович? — спрашивает сват Поликарп Пантелеевич. — О каком деле?
— Дак о приданом. — Афанасий поворачивается к невесте: — Ну, говори, Любовь Поликарповна, какую, справу хочешь от жениха получить?
Любовь перечисляет справу — разные вещи, нужные жене и хозяйке будущего дома. В ответ на вопрос жениха называет свое имущество, выделенное батюшкой и матушкой. Сватья удаляются в другую комнату, советуются: хорошую ли справу принесет в их дом невеста? Совет между собой держат и невестины родители. С полчаса идут разговоры; наконец, обе стороны сходятся. Кондратовы предстатели зовут Любашиных «на поместье» — посмотреть дом жениха. Те, выразив согласие, в ответ приглашают их к столу:
— Пожалуйте, сватья дорогие, откушайте чем бог послал.
Потчеванье заканчивается благополучно. В условленный день родители с невестой едут в дом сватов и жениха. По дороге заехали к некоторым знакомцам, расспросили их: справно ли живут сваты? Хорошее у них хозяйство? Какое поведение жениха?
Получив благоприятные сведения, приехали на двор Булавиных. Их с поклонами встретили сваты:
— Проходите в курень. — Афанасий Карпович, когда дверь за вошедшими закрылась, продолжил по уставу: — Садитесь, Поликарп Пантелеевич и Федосья Ивановна. Садитесь, Любовь Поликарповна.
Приглашенные садятся, и это добрый знак — значит, согласны на свадьбу. Иначе бы не сели, отговорились: некогда, мол, спешим домой, приедем когда-нибудь в другой раз, — и, считай, свадьба расстроилась. Родители с обеих сторон называют друг друга сватами, бьют по рукам — быть свадьбе. Теперь отказ жениха или невесты невозможен, да Кондрату и Любаше подобное и в голову не приходит.
Жених и невеста подносят друг другу подарки, сваты угощаются вином. Невеста вскоре собирает подруг, и на девишнике начинаются игры с участием Кондрата. Дважды и трижды смех и веселье оглашают курень, молодые радуются от души, будущее им кажется заманчивым и прекрасным. В ночь под свадьбу устроили плаканки — невеста прощалась с девичеством и волей, родителями и подругами.
Свадьба с «княжим столом» и песнями длилась три дня. Все промелькнуло быстро — и шумное веселье, и «Горько! Подсладить!» перед вином и «Ах, сладка!» после поцелуев молодых, и свадебная ночь. Перед дарением, на второй день, все становятся в круг, и Кондратова матушка спрашивает сноху:
— Чья ты есть, Любовь Поликарповна?
— Провоторовых дочь...
— Таких, — кричат родные жениха, — у нас нет!
Молодая жена, пожеманившись малое время, по старым канонам, признает:
— Булавина Любовь Поликарповна.
— Вот теперь правильно!
— Верно!
— Молодец! Наша стала!
Свекровь бьет об пол горшок, гости смеются, кричат. Музыканты заводят плясовую, и в курене пыль столбом! Гости бросают деньги под ноги. Любаша метет веником черепки и вместе с Кондратом собирает монеты. Дружок подает им поднос с вином, и они подходят к гостям. Каждый кладет на поднос деньги или какую-нибудь вещь — молодым «на каравай». Пир продолжается зa полночь.
Схлынули торжества, и начались будни, наполненные трудом и заботами. Наступило время, когда молодой казак, как тогда говорили, в отцовское стремя вступил. Служба шла по заведенному порядку — сборы и круги, походы и возвращение на Дон, в родные места, покидая которые каждый казак тосковал, вздыхал тайком: «Ах, Дон, ты наш Дон, сын Иванович Дон!» Ласково звали любимую реку: «Дон — золотое дно», «Дон Иванович тихий, золотой».
Текли дни и годы. Станица Трехизбянская невелика, куреней числилось немного. Но имелся свой круг, на который сходились по кличу есаула:
— Атаманы-молодцы! Сходитеся на беседу — войсковую грамоту слушать!
Казаки тянулись на майдан. Станичное товарищество обсуждало на круге свои дела, им читали грамоты из столицы Войска Донского. Однажды объявили приказ из Черкасска — готовиться в поход против кубанцев и крымцев, и Кондрат Булавин, сын станичного атамана, участвует в первом деле. Боевое крещение прошло успешно. Молодой казак, хорошо показавший себя на военной службе, сам становится станичным атаманом в Трехизбянской. Грамоты он не знал, едва мог поставить подпись на бумаге, но военные обязанности исполнял примерно, с большой охотой. Кондрат Афанасьевич стал на Дону фигурой заметной — вступил в число атаманов, в определенной степени зажиточных, значных казаков, был ревнителем донских прав и обычаев. Но происхождение из низов, преданность «товариству», чувство справедливости, повседневная жизнь среди казаков небогатых, голутвенных, их заботы и нужды сделали его человеком справедливым, честным. Не превратили в обычного представителя богатой старшины, ее прихвостня и защитника. Его симпатии и помыслы — на стороне бедняков, товарищей-казаков. Так было и в родных местах, и в военных передрягах.
Во время одного из крымских походов (конец 1680-х годов) донцы сражаются с крымцами в составе армии Василия Васильевича Голицына. Булавин вместе с однополчанами проходит степями к Перекопу. Снова возглавляет отряд донских казаков; недаром он знакомится с Мазепой, гетманом Левобережной Украины, тоже участвовавшим в походе, сближается с ним.
Казаки доверяли свою военную судьбу смелым и решительным собратьям, вручая им атаманскую булаву. Люди крепкой породы, неустрашимые и предприимчивые, они издавна водили донцов в походы против крымцев и ногайцев, в защиту границ России, освобождали русских пленников. Ходили иногда и «за зипунами» — без добычи казаку не прожить:
— Добыть или дома не быть.
Казаки, люди независимые, сами по себе, однако же служили московскому царю, его волей за то получали государево жалованье — деньги и хлеб, ружья и зелейную казну (порох и прочее), сукна и шубы. Делили присланное из Москвы на круге; поскольку, как у них принято, «без атамана дуван не дуванят» (не делят добычи), старшина распределяла жалованье с немалой для себя пользой. Царские власти («плохие» московские бояре, как считали казаки) постепенно стесняли донские вольности, наступали на Дон, теснили со всех сторон его жителей. Особое неудовольствие Москвы вызывал прием казаками беглых, массы которых стекались со всех сторон на «вольную реку». Да и сами «природные» старожилые казаки — выходцы из тех же беглых крестьян и холопов, посадских и служилых. Немало новоприхожих беглецов числилось в услужении у атаманов и есаулов, прожиточных казаков, и они старались удержать у себя дешевых работников, прятали их от московских сыщиков.
— Живи, живи, ребята, — говорит донская пословица, — поколе Москва не проведала.
Несмотря на бедность и зависимое положение многих казаков, они сохраняли чувство гордости и независимости:
— Зипуны у нас серые, да мы-то бархатные.
— И рядовичи в атаманы выходят.
— Казака всюду видно.
— Казака и связанного не заставишь выделывать овчины.
— Казак — казачья и слава.
Они гордились, что «на Дону царя нет», своей вольностью, независимостью от его бояр: «Руби меня татарская сабля — не бей царская (или: боярская) плеть» — лучше погибнуть в бою, чем от барского гнева! Кондрат Булавин потому и нравился казакам, что был из этой породы — свободолюбивой, кряжистой и упрямой. От своих предков, атаманов-молодцов, переняли станичники дух вольности. Вместе вспоминали Ермака и Разина, старались быть похожими на славных атаманов-ватажников.
— По дедушке Ермаку, по донскому казаку.
— Не Стенька: на ковре по Волге не поплывешь.
— Стенька Разин на ковре летал и по воде плавал.
Поэтическое восприятие образа Разина сливалось у них со стремлением «тряхнуть Москвой», пойти против бояр, отомстить за обиды и притеснения — ведь «хоть слава казачья, да жизнь-то собачья».
К началу нового столетия Кондрат оказался в Бахмуте, и снова — в должности станичного атамана. Попал в водоворот событий, закрутивший его самого и станичников; выбраться из него удалось, но пережить пришлось немало. Но и опыт атаман приобрел большой — на этот раз в столкновении не с внешними врагами, а со своими, русскими властями.
БАХМУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Бахмутский городок свою известность среди донских казаков, да и не только у них, получил по причине простой, но важной: здесь добывали соль и селитру, из которой делали порох. Уже в первый год нового века донцы завели в Бахмуте солеварни. Вскоре здесь один за другим появляются беглые крестьяне, работные и прочие люди из многих русских уездов — Московского, Курского, Арзамасского, Симбирского и иных. Повышенный интерес к нужному и выгодному промыслу проявляют и ближайшие соседи. Недалеко от речек Бахмут, она впадает в Северский Донец с правой, южной, или Крымской, стороны, Красной и Жеребец (с левой, северной, или Ногайской, стороны), располагались городки Белгородского разряда — Соленый, Тор, Маяки (Маяцкий острог), Изюм, Чугуев, Валуйки и другие. Их жители, и в их числе городовые казаки Изюмского и других полков, тоже претендовали на соляные и рыбные промыслы по тем рекам, на лесные угодья и луга. Разгорелась вражда, и обе стороны — донцы и изюмцы с соседями — доказывали свои права, писали в Белгород воеводам и воинским командирам, в Москву — боярам в приказы, самому царю. Ссоры перерастали в стычки. Взаимные нападения заканчивались разорением Бахмутского городка и солеваренных «заводов» — колодцев, из которых поднимали соляной раствор, больших сковород для выварки соли, шалашей для жилья, запасов дров и прочего.
Добыча и продажа соли приносила владельцу «завода» немалые доходы, иногда до нескольких сотен рублей за месяц-другой работы. Солеварнями владели многие — и изюмские, торские жители, и донские казаки, особенно из «старожилых», местной старшинской верхушки. Имелись такие и из прихожих людей, из тех, кто поисправней; большинство же их нанималось в работники к хозяевам солеварен.
Среди владельцев подобных «заводов» числился, можно полагать, и Кондрат Булавин. Недаром его считали не только бахмутским атаманом, но и атаманом над солеварами. То, что происходило на Бахмуте и соседних речках, очень волновало и его, и прочих казаков из его родной Трехизбянской, что на Айдаре, левом притоке Донца, из станиц Краснянской, Боровской, Сухаревой и прочих. Соль нужна всем, и Войско Донское, черкасская старшина бдительно следили за тем, что происходило на Бахмуте и соседних реках.
...За несколько лет до бурных событий, разыгравшихся на бахмутских промыслах, в 1702 году, зимней порой боярину Федору Алексеевичу Головину, главному начальнику Посольского приказа, его дьяк доложил, что пришла донская станица[2]. Неторопливый и сановитый боярин, с умными проницательными глазами, кивнул, спросил:
— Как зовут?
— Тимофей Федоров в станичных атаманах, а с ним в товарищах пять казаков.
— С чем пришли?
— О бахмутской соли просить. На Шидловского, полковника Изюмского, с жалобой — обижает, мол...
— Так-так... Дело сие ведомо. Не первый год о том разговоры и споры длятся. Поди уж, и забыли, когда а отчего началось. Мнится мне, что у бояр князя Ромодановского Григория Григорьевича и Бориса Петровича Шереметева хлопоты были и по сему случаю головы скорбели.
— Истинно так, боярин. И у них, и такожде у боярина князя Долгорукого Якова Федоровича и генерала и воеводы Косагова Григория Ивановича.
— Хороше, дьяче. Ты бы разыскал отписки и грамоты, в коих о том писано.
— Будет сделано, боярин.
— А теперь зови.
Дьяк с поклоном вышел в дверь. Головин скосил глаза к бумагам, лежавшим на зеленом сукне, вздохнул. Глянул в оконце — на улице совсем рассвело, но солнце еле проглядывало сквозь тучи, падали редкие снежинки. Казалось бы, мирно все вокруг, спокойно, тишь да благодать. Да в душе у боярина неспокойно, кошки скребут: «Как-то теперь там у Шереметева со шведами? Каково Петру Алексеевичу? И нарвской конфуз пережить, и армию заново строить, и заводы ставить, и с Карлу-сом воевать. Тыщи дел! А тут еще докука[3] не ко времени — изволь споры донских с изюмцами разбирать. Ох, господи, господи! И что не сидится спокойно? Голодранцы степные!» Боярин, задумавшись, не заметил вошедших станичников. Атаман осторожно кашлянул в кулак:
— Здравствуй, боярин Федор Алексеевич! — Все казаки поклонились в пояс. — Челом бьет тебе Войско Донское!
— Здравствуйте, казаки. Подобру ль доехали? Здоровы ли? Как устроились? Нет ли какой обиды?
— Благодарствуем, боярин. И доехали, и устроились по-доброму, и обиды никакой станица не имеет.
— Какое дело в Москву-матушку привело? С чем Войско Донское послало?
— С делом великим, боярин. Позволь говорить?
— Говори.
Тимофей Максимович, крепкий еще казак, лет сорока с небольшим, чуть выше среднего роста, поглядел на товарищей своих и, почувствовав их молчаливую поддержку, снова обернулся к посольскому начальнику:
— Донские атаманы и казаки, войсковой атаман Лукьян Максимов и все Войско Донское челом бьют: по указу и грамоте великого государя Петра Алексеевича всея России для проходу ратным людям в степи на речке Багмуте, через которую лежит путь к Троецкому и Таганрогу, на новой большой дороге, верховые наши казаки[4] учали селитца и учинили себе от неприятельского приходу крепость, городок построили. И, огородясь, тем местом путь неприятельским людям заняли.
— Погоди, атаман, спросить хочу: что, нападают и тем местам шкоду чинят степняки?
— Так, боярин, нападают ежегодно, а то и по нескольку раз на год; отбивать приходится — то крымцев, то ногайцев, то татар едисанских или кубанских.
— Ишь, не успокоятся никак. Ну, продолжай. Не пойму что-то: в чем обида Войску Донскому?
— А вот в чем, боярин: Федор Шидловский, полковник изюмский, прислал к нам на ту речку Бахмут казаков своего полку, жителей розных городов; и они нас, донских казаков, с того новопоселенного места сбивают, насильством своим бьют, и грабят, и ругают, и всякое разорение нам чинят, и хвалятся смертным убивством. А живут они, изюмцы, на той речке Бахмуте для соляного промыслу не постоянно, а наездом; хоромным строением не селятца и крепости никакой не чинят, потому что Багмута-речка от Изюма и от иных черкасских[5] городков в дальнем расстоянии, а к их казачьим городкам прилегла в близости.
— Сколь давно, снова остановил Головин атамана, — Войско Донское владеет той рекой и угодьями?
— Не столь давно. Да дело не в том. Места те, боярин, до сих пор были опасные и безлюдные. А наши казаки, краснянские, трехизбянские и прочие, там становятся крепко, от неприятеля те места стерегут, хозяйство заводят и тем кормятца.
— Так-то оно так, — задумчиво и пытливо глядя на станичников, медленно произнес Федор Алексеевич, — да ведь и изюмцам, и иным Белогородского разряду жителям те места тоже надобны... Так что же вы хотите?
— Ты, боярин, человек великий, царь Петр Алексеевич тебя жалует и приближает. О том нам известно. Скажи великому государю, чтоб он пожаловал Войско Донское, не велел Изюмского полку казакам на Бахмут-речку к новопоселенным на той речке казакам ездить и никаких задоров с ними не чинить и соли в тех местах ныне и впредь не имать и обид им, казакам, не чинить.
Станичники снова отбили поклон, выпрямились, с надеждой смотрели на судью Посольского приказа. Головин, и в самом деле высоко ценимый Петром за ум, основательность и надежность в делах, с тайной усмешкой слушал атамана. Его лесть не произвела на него впечатления. Старый, опытный и умный политик, он знал себе дену — за плечами его многие службы и царю Алексею Михайловичу, и его наследникам: заключение договора с Китаем в Нерчинске в году 1689-м; руководство «Великим посольством» в Европу, в котором под именем волонтера Петра Михайлова ездил туда сам государь российский; долгие годы сидения в Посольском приказе. Дела государственные, важности чрезвычайной. Недаром Петр Алексеевич, Herr Piter, так любил его и ценил, держал при себе, осыпал милостями. Многие искали его расположения — и свои, и иноземцы. Великие дела начал царь-батюшка, подумал он, и нужны ему хорошие помощники. Немало их при особе государя, и Головин давно знал, что он среди них — в числе первых. Много забот принял на себя боярин за долгие годы службы, а теперь, когда жизнь подходила к концу, их стало и того больше: несчастное начало Северной войны, непрочность Северного союза с Польшей и ее королем, одновременно курфюрстом саксонским, пренебрежение европейских дипломатов и их патронов в Вене и Париже, Гааге и Лондоне, неясное будущее. Как пойдут дальше дела с этим неугомонным Карлусом? Предсказать невозможно... О том, что думает предпринять король Свицкий, бродяга и авантюрист, не знает никто, даже граф Пипер, его первый министр. А ведь скор швед на баталии и расправы! После Нарвы колесит по Польше и Саксонии, бьет Августа и его саксонских генералов. Потом снова на нас бросится! А тут еще чернь неспокойная... Князь-кесарь[6] устал небось кнутобойничать в Преображенском.
Казаки стояли тихо, переминаясь с ноги на ногу, не смея нарушать затянувшееся молчание. Боярин поднял опущенную в раздумье голову:
— Охо-хо, станичники! Задумался я что-то. Дела многие, докуки разные. Ну да ладно. А вам бы, казакам, жить мирно, без задоров. Государю ведь о всех думать надо, не только о вас и нуждах ваших. Не вы одни служите царю-батюшке. Изюмцы, чугуевцы да валуйцы тоже по южной границе заслоном стоят, пользу государственную блюдут. Соли и рыбки им тоже надобно. Так ведь? Согласны?
— Согласны, боярин. Только оборони нас от их несправедливости и насильства.
— Ну, хорошо, государю о том будет известно. Ждите указа.
Тимофей и станичники с поклонами вышли из посольской горницы. Головин, проводив их внимательным, недоверчивым взглядом, снова повернулся к окну; какая будет погода днем, вечером? Кто ее разберет... Боярину было тяжко, неотрывно ныли суставы, все-таки хмарь на небе — к плохой погоде! То ли метель закрутит, поземкой заметет по московским крестцам и закоулкам? То ли оттепель надвигается? В голове крутоверть какая-то... Вошедшему снова дьяку кивнул: подойди, мол, ближе. Тот приблизился к столу. Головин глянул строго, но с усмешкой:
— Ушли челобитчики? — Получив утвердительный ответ, продолжал: — Что там делается на Бахмуте, кто прав, кто виноват — о том доподлинно проведать надобно. Тем и займись. А спешить с их делом нет нужды. Поди, голытьба донская воду мутит. Да наших холопов и крестьянишек принимают и тем боярам и дворянам, всему государству Российскому поруху чинят большую.
И приказные не спешили. Наводили справки. Посольское ведомство вело переписку с Разрядом — приказом, назначавшим дворян на службу, военную и гражданскую. Разрядные дельцы сообщили посольским, что летом по тому же бахмутскому делу писал к ним изюмский полковник стольник Федор Шидловский. Московские власти узнали, что «в прошлых годех», еще до 1676 года, на Крымской стороне Северского Донца варили соль наездом у пяти соляных озер всякие приезжие люди, русские и черкасы, стояли там обозами. А в том 1676 году, на исходе царствования Алексея Михайловича, поставили по его указу у соляных озер и для опасения от неприятельских людей городок Тор. На житье в нем поселили черкасов, служили они в Изюмском полку компанейскую службу. Иных же «кумпанейщиков» записали в подмочники, попросту говоря — в работники к командирам. Лет пятнадцать спустя торцы сыскали «в дачах Изюмского полку» на Бахмуте хорошее место для варки соли. На этот раз они не ограничились наездом, а переселились на Бахмут на постоянное житье. То же сделали жители других городков Изюмского и иных черкасских полков, а также многие русские всяких чинов люди, помещиковы холопы и крестьяне.
Все они живут там самовольно, никакую службу не служат, а полковнику чинятся не в послушании. А старый городок Тор стоит пустой, государеву пушечную и зелейную казну [7] беречь некому, оттого полковой службе — урон большой, украинным городам — от неприятеля великое опасение.
Шидловский в своих отписках не жалеет слов о государственных интересах, но скрывает интерес личный. А он немалый: и дешевые работники, которые скрываются от командиров в бегах, и угодья, промыслы, разоряемые казаками. Посему полковник просит Москву, чтобы на Бахмуте построить крепость, а ее жителей переписать; черкасов из полков вернуть в компанейскую службу и в подмочники; всех беглых русских — выслать в прежние места.
Челобитные донцов и изюмцев завязывают узел острых противоречий между ними. Москва и Белгород обмениваются грамотами и отписками, вникают в дело, ищут выход. В середине августа генерал князь Кольцов-Мосальский Иван Михайлович получает распоряжение из Разряда: переписать всех жителей того новопоселенного Бахмута, взять у них сказки: откуда они пришли, какого чина и имени; в тех местах, откуда явились, какую службу служили или, тем паче, жили ли за помещиками и вотчинниками? Для того послать на Бахмут кого пригоже, и ему то место новопоселенное и соляные заводы, и займища, всякие строения осмотреть и описать, учинить чертеж с пространным начертанием, с подписью и подлинною ведомостью, — в которых местах прилично какую крепость построить. И тому всему учинить описные книги. А всех новопоселенных жителей, которые окажутся черкасами, ведать до указу полковнику Шидловскому; русских — торскому приказному человеку. Собрать у них поручные записи — пусть без указу великого государя из того поселения никуды не сходят.
В феврале следующего года из Москвы послали новую грамоту — генералу напомнили о прошлогоднем указе: что же, мол, не шлете на Бахмут человека, чтобы все там осмотреть и описать? В первый день апреля разрядные дьяки узнали из новой отписки белгородского генерала со товарищи: они посылали на Бахмут нужного писца-поручика Петра Языкова.
...В один из мартовских дней Кольцов-Мосальский сидел в приказной избе, скучал. Одна отрада — весна на дворе, ручьи на улице роют борозды в оттаявшей земле, воробьи устраивают шумные сборища, драки у навозных куч. Иван Михайлович выглянул в оконце, порадовался, сел на скамью в переднем углу. В соседней палате кто-то застучал сапогами. Отворили дверь. Она гулко заскрипела, вошедший стал у порога, поклонился:
— Дозволь, господин генерал.
— Входи, входи. А, ты? Заждался я тебя, господин поручик. Поди, в Москве у государя гневаются. Что долго так? Трудно было?
— Ох, трудно, князь! Пока доехал из Белгорода на Бахмут да там устроился, почитай, неделя прошла. А потом и началось: казаки описывать себя не дают, новоприхожие из беглых скрываются по лесам и буеракам, и казаки их скрывают. Просил, уговаривал — помогает плохо. Начал сказывать с грозами: Белгород и Москва, мол, не пожалуют за ослушание, быть вам в великой опале и в смертной казни. Еле уговорил...
— Что же они — не хотят, что ли?
— Вопят, круги собирают. «Не хотим, — кричат, — Дон река вольная. У нас исстари такая заповедь: с Дону выдачи нет!»
— А о соляных варницах и прочих угодьях что говорят?
— Те места, мол, наши, мы здесь первые поселились, потому и владаем. А прочие — торцы, изюмцы — бывают здесь наездом, варят соль и едут к своим домам, тут, мол, не живут и место то не крепят.
— Голутва донская и сброд набеглый! Погодите, доберется до вас государь, не то петь будете!.. — Нахмурив брови, посуровевший генерал посмотрел на сумку в руках у поручика: — Описи привез?
— Привез, господин генерал. — Языков вынул бумаги, положил на стол перед князем. — Вот описные и переписные книги, вот сказки, от жителей взятые, вот чертеж тому новопоселенному месту.
— Потом читать буду. Сказывай: кто на Бахмуте живет? Откуда они?
— Из русских людей, — скороговоркой начал поручик, — беглых 66 человек: розных городов настоящих 36, а их детей 30. Из них торских жителей 18, у них детей 23; мояцких жителей 4 с 4 детьми; Переяславля-Рязанского волостной крестьянин один, а которой волости, — неведомо, живет у черкашенина из найму; туленин посацкой человек, у него — сын; москвитин посацкой же; синбирянин посацкой; староосколец городовой; курчан посацких два, стрелец один; белогородцов городовой службы один да недоросль; города Королевца посадкой один; суздалец гулящей человек один, боярской крестьянин один; арзамасец посацкой один, у него — сын; тополец гулящей один.
— Погоди, поручик, остановись, бога ради! Как пономарь строчишь... Из многих мест, выходит, бегут туда... Голытьба к голытьбе тянется! И ведь не только из близких мест идут, — из Симбирска, Рязани, Тулы, из самой Москвы. Напасть-то какая! Ведь война идет, да война-то какая тяжелая! Всей России силы собрать надобно. А тут — бегут, бегут!
Генерал помолчал. С недоброй усмешкой спросил Языкова:
— Ну, а наших, белогородской службы казаков черкасских, много ли там?
— Немало, князь, — поручик сокрушенно вздохнул, снова уткнулся в список, — Изюмского полку казаков 111 человек, а с сотником 112 будет.
— Из каких городов?
— Торских жителей: сотник 1, казаков 72, изюмцов 18; мояцких жителей 17; Изюмского ж полку казаков 4, а которых городов, — неведомо.
— Ай-яй-яй! Куда ж глядит Шидловский?! Больше ста казаков из городов с царской службы ушли. Он сам-то хоть ведает о том?
— Говорят: ведает, пишет в Москву с жалобами.
— Писать хорошо, но с этим сбродом нужно по-другому: в кнуты и батоги взять! Толку больше будет. Согласен?
— Согласен, господин генерал. С ними инако поступать неможно.
— Ну, ин Москва разберется, царь укажет. А что же ты о донских казаках не говоришь? Поди, понаехали на Бахмут, богатеют на соли?
— Мало их сыскалось, господин генерал, — только два человека. Один из Черкасской станицы, в роспросе мне сказал: живет на речке Бахмуте в курене прикащиком у донского казака наездом для варки соли. Другой, из Дурновской станицы, служит в донских казаках пять лет, а отец его исполняет рейтарскую службу в Казани.
— Два человека... — хмыкнул Кольцов-Мосальский. — Курям-то на смех будет. Атаман и Войско Донское, слышно, челобитья в Москву шлют, просят те места им отдать: они-де селятся по речке Бахмуту, построили крепость, стерегут те места. А у тебя — два человека, да и то один из них — наездом! За дураков, что ли, они нас почитают?!
— Истинную правду говорить изволишь, господин генерал. Не хотят казаки в перепись итти, укрываются.
— А много ли завели варниц соляных, строений поставили?
— Немало, князь: у русских людей и у черкас солеваренных колодезей 29, дворов 49, изб липовых тоже 49, анбаров липовых 11, куреней и землянок 48.
— А сколько у кого — у русских людей, у донских казаков, у черкас?
— Того, господин генерал, написать не успел...
— Так... — князь поднял брови, с недоумением глянул на бумаги. — Как это не успел? А как далеко, в скольком расстоянии русские и черкасы с донскими казаками живут? Какие крепости те донские казаки построили? Узнал? Или тоже не успел?
— Не успел, господин генерал, да и невдомек было.
— Плохо государю служишь, поручик. Плохо. Дай-ка сюда чертеж.
Князь Иван Михайлович разложил по столу чертеж, расправил по сгибам.
— Так... — Водя пальцем, дошел до Бахмута. — Вот место новопоселенное, где соловарные курени построены. Угу... Это Тор, а от него до Бахмутского городка, пишешь, 30 верст. Так? Дорога есть?
— Дороги нет, дикою степью ехать надобно.
— М-да... От Бахмута-реки до донского казачьего торгового города Сухарева 35 верст, а стоит он за Северским Донцом на Ногайской стороне. От Тору вниз по Северскому Донцу до того Сухарева городка 65 верст. А к Изюмскому полку та речка Бахмут пришла ближе пяти верст. Ну, ясно. Хоть это есть. Ступай, поручик, отдохни малое время. Бумаги оставь — в Москву пошлем для ведома и указу. Да помни: в наказе, и на письме и словом, не все в строку пишется и в речи говорится; и между строкой и словами нужно нечто угадывать. Это тебе на будущее, молодой еще...
— Слушаю, господин генерал!
Кольцов-Мосальский проводил взглядом уходившего поручика, прихлопнул бумаги на столе, задумался: «Эх, молодость, молодость! Нам бы, старикам, вашу резвость... О-хо-хо! Вишь ты — не походы и сражения, не осады и штурмы делай, а неприятности с казаками разбирай. Захватывают земли, зацепки чинят с изюмцами, беглых принимают и их укрывают. Перепись знать но хотят, государевой белогородской службы казаков требуют согнать с Бахмута и иных мест. Не быть бы смуте... Да и время такое — война идет, швед грозит, ножи точит... Ну да господь милостив». С тем и покончил генерал с бахмутским делом — послал в Разрядный приказ книги и чертеж Петра Языкова, и дело с концом!
Донские казаки, на которых сердился генерал, не успокаивались. И в этом, 1703 году, и в следующем, «в розных месяцех», войсковой атаман Яким Филипьев и все Войско Донское шлют в Посольский приказ жалобу за жалобой: Федор Шидловский и его полчане не дают донским казакам селиться по урочищам на речке Бахмуте и, не дожидаясь описных книг и чертежа Языкова, новопостроенный их казацкий городок с жилищами разорили до основания, пожитки казаков разграбили, их соляными заводами завладели, а их, казаков, с того поселения с бесчестием и с ругательством согнали, похваляясь смертным убивством, без указу, самовольством своим.
А на рубежной речке Жеребце, продолжают жалобщики, на той ее стороне, что в дачах их, донских казаков, и на другой речке — на Красной — те же полковник и полчане — изюмцы заводят пасеки, мельницы и всякие заводы самовольством. Их, казаков, стесняют, луга и сенные покосы, и всякие угодья отолачивают и отбивают. Рубежи по той Красной речке отводят (переносят) от их казацких городков самовольством же, новые грани насекают и столбы ставят в самых ближних местах к их городкам казацким. И в те угодья им, казакам, выезжать не велят и на них похваляются смертным убийством.
Донцы снова настаивают, что речка Бахмут из давних лет в рыбных и звериных ловлях и во всяких добычах владение было их, казацкое. Они живали на той реке для обереганья Изюма и Коротояка от приходу неприятельских людей. А тесноты им, казакам, и разорения и запрещения не было. А ныне Шидловский их истесняет и населяет то место своими черкасами.
В Москве разрядные чиновники, изучив описные и переписные книги, чертеж Петра Языкова, прислали государев указ: русских людей, попавших в список, ведать торскому приказному человеку, черкас — изюмскому полковнику Федору Шидловскому; всем изюмцам быть своем полку по-прежнему. А впредь в то место на речку Бахмут донских казаков, пришлых людей, черкас не пускать без указу великого государя и без грамот из Разрядного приказа «для того, что то урочище по описи явилось в Ызюмском полку, от реки Северного Донца на Крымской стороне, а от донских городков в дальном разстоянии и за Северским Донцом». По описи Петра Языкова никакой крепости, о которой пишут донские казаки, на Бахмуте не оказалось; и, опричь двух донцов, никого из них там нет.
Вокруг урочищ и новопоселенного городка на Бахмуте и угодий по той же реке, Жеребцу и Красной началась тяжба между донцами и изюмцами. Она затронула насущные интересы и нужды обеих сторон. Возможности той и другой нельзя считать одинаковыми. Войско Донское, теснимое со всех почти сторон государевыми землями и полками, пыталось сохранить свои владения, даже увеличить их за счет пустовавших до недавнего времени земель Дикого поля, не допустить ущемления старинных прав и привилегий — на богатые рыбные и звериные ловли, пчелиные, лесные, покосные угодья, на автономное казацкое самоуправление, наконец, на прием беглых. Черкасская старшина, заявляя права на Бахмут, его промыслы и угодья, требуя ухода изюмцев с трех рек, отстаивала общие интересы донских казаков и особенно свои собственные, старшинские. Войсковой атаман, его есаулы, помощники, станичные атаманы и есаулы близлежащих городков имели по тем и другим рекам земли, угодья, промыслы и, что очень важно, немало наемных работников из беглых и своей же братьи казаков. К старшинскому кругу, как и Степан Разин, принадлежал и Кондрат Булавин. Правда, в сравнении с черкасскими старшинами он выглядел «провинциалом», человеком не таким богатым и влиятельным, как они. Но положение станичного атамана давало определенные привилегии и возможности. Можно полагать, Кондрат имел не только курень и атаманскую булаву, но и какое-то имущество, движимое и недвижимое, в том числе угодья, солеварни и, возможно, наемных работников. Недаром год-другой спустя он явится над солеварами и в целом над Бахмутом атаманом. Как видно, казаки Трехизбянской станицы, жителем которой он был, по примеру других стремились в новые заманчивые моста на Бахмуте. Общие интересы владельцев объединяли черкасскую и станичную старшину, до поры до времени, конечно, пока дело не дошло до недовольства, тем более угроз и репрессий из Москвы, от царя.
Изюмские и белгородские воеводы, генералы и офицеры, все полчане были в более выгодных условиях. Их положение государевых служилых людей, на которых власти открыто опирались в усилении своих позиций, в политике продвижения и освоения новых земель на юге, стеснения прав и вольностей Войска Донского, обещало им верную победу в борьбе с донцами за угодья по Бахмуту, Жеребцу и Красной, к северу и югу от Северского Донца.
Получив благоприятное решение Москвы, Шидловский тотчас шлет на Бахмут сотника Данила Данилова и полкового писаря Осипа Щербину. Там собрали на сходку всех жителей. Щербина прочел им государеву грамоту, особо выделил слова:
— А черкас написать по-прежнему Изюмского полку в казаки, а русских ведать торскому приказному человеку. И впредь русских людей, и черкас, и донских казаков без указу великого государя на речку Бахмут принимать не велеть.
Окончив чтение, писарь отступил в сторону. Вперед вышел сотник Данилов:
— Все ли слышали царев указ?
— Bсе! Bсе!
— Понятно? Чтоб все знали и делали по указу!
— Понятно! Знаем!
— Нам бы только тута жить, не съезжать! А ведать — пусть ведают, кому государь укажет!
— Быть посему указу! — Сотник обвел строгим взглядом шумевшую толпу. — Какие имеете нужды? Прошения?
— Слышь, сотник! — Вперед из задних рядов вышел бахмутский житель из изюмских черкас. — Имеем!
— Что? Говори, да погромче!
— Говори! — послышалось в толпе. — От всех нас говори! Ты человек грамотный! Бывалый!
— Добро! Скажу, что всем миром приговорили. — Изюмец стоял лицом к толпе, потом повернулся к Данилову. — Все мы, бахмуцкие разных чинов жители, бьем челом великому государю: по многим вестям известно учинилось, что из розных мест Крымские орды, ис Перекопу выбрались воинские конные люди; а знатно, что хотят приходить войною на государевы украинские городы. Да нам же, бахмуцким жителям, чинится великое разорение от калмыцких орд, которые кочуют близ Миуса, и от своевольных запорожцев. Коней они у нас отгоняют, пожитки грабят и в полон нас ведут; и оттого нам на Бахмуте жить страшно. И потому повелел бы государь от таких разорений и тревожных ведомостей сделать нам на Бахмуте для охранения деревянную крепость.
По тому челобитью и по разрешенью сотника бах-мутцы согласно чертежу Петра Языкова поставили острожек по обе стороны реки Бахмута «для збежища им самим и для сгону скота» и пустили ту речку посередине того острожка.
О том стало известно в Изюме, Белгороде и Москве. Вспомнили, что еще в сентябре 1700 года в Москву пи-сал из Белгорода боярин и воевода князь Яков Федорович Долгорукий с товарищи по тем же делам: 12 мая подали им в разрядной избе челобитную старшина Изюмского полка судья Андрей Скотченко и другие, всем полком. А в ней писано: построены города того полка по Дону, но распахивать земли за Донцом, на Крымской стороне невозможно из-за приходов неприятельских людей; на Ногайской же стороне Донца имеют они утеснение, роспашных земель многие не имеют. А царевоборисовские и маяцкие и иных городков жители, тоже Изюмского полка казаки, с прошлых годов, тому лет с 50 и больше, и по се число владеют пасеками и лесами, и сенными покосами, и рыбными ловлями, и всякими угодьи с Ногайской стороны Донца, от оскольских Изюмского полка городков в 15 верстах, на речке Красной, с верховья вниз до Кабаньева броду, по обе стороны, и по Дуванной и по Хариной долинам и по другим отвершкам [8]. Да за рекою Осколом, по Ногайской же стороне Донца, маяцкие и торские жители владеют всякими угодьями по правой стороне реки Жеребца до его устья.
Долгорукий и его помощники, приняв от Скотченко челобитную, спрашивали:
— Что же вам надобно?
— Пожаловал бы нас великий государь, — отвечал судья, — велел бы казакам-черкасам Изюмского полку селиться, где пристойно слободами по речкам Красной и Жеребцу, в тех местах, где царевоборисовские, маяцкие, торские и иных городков жители живут; строиться там дворами и всякими угодьями владеть по-прежиему.
— Мы пошлем о том грамоту в Москву к великому государю. — Долгорукий глянул на челобитную. — Говорите: с 50 лет и больши в тех местах жители живут и владеют угодьями?
— Доподлинно так, боярин. Наши отцы и деды помнят: было то еще при блаженной памяти царе и великом князе Алексее Михайловиче, как он сел на царствующем граде Москве после отца своего царя и великого князя Михаила Федоровича.
— Хорошо, казаки. О том сведать надо через крепких людей. На том и решим, указ вам потом будет.
Изюмцы во главе со Скотченко степенно вышли из разрядной избы. Воеводы поговорили между собой, постановили: послать на те речки Красную и Жеребец Белгородской разрядной избы подьячего Никифора Сомова. Вызвали его, наказали строго:
— Поезжай, Никифор, на те речки, возьми сторонних людей из иных городов и сыщи накрепко: владеют ли изюмские казаки по тем рекам, в тех местах, которые в челобитной указаны, пасеками, лесами, сенными покосы, рыбными ловли и всякими угодьи; и спору и челобитья от кого нет ли?
Подьячий не медлил, быстро выехал на Красную и Жеребец. Собралось к нему сыскных людей, по-нынешнему свидетелей, ни много ни мало 51 человек, среди них — сотники, дети боярские [9], солдаты, рейтары, копейщики, станичники; одним словом — мелкий служилый люд из Змеева, Маяцкого, Чугуева, Валуек. Сомов всех опросил, и они сказали одно и то же:
— Изюмского полку старшИна и казаки на речке Красной вниз до Кабаньева броду, по обе стороны, и по Хариной, и по Дуванной, и по иным долинам, которые в тое речку Красную впали, а речкою Жеребцом с верховья до устья, правою стороною, пасекою и лесами, и сенными покосы, и рыбными ловли владеют исстари; про то мы ведаем. А спору и челобитью о тех речках Красной и о Жеребце со всеми угодьи в то число ни от кого не было, и крепостей нихто не подавал.
В конце мая Никифор Сомов рассказал о том в разрядной избе боярину Долгорукому и подал сыск «за руками» — подписями — о тех речках и угодьях. А через неделю Андрей Скотченко и другие изюмцы, сидевшие в Белгороде и ждавшие решения по своему челобитью, снова пришли к воеводам. Те по их новому прошению писали на Изюм к Шидловскому, чтобы он своим полчанам разрешил селиться слободами по тем речкам. А они, белгородские воеводы, тем старшинам и казакам Изюмского полку землями и покосами и всякими угодьями владеть велели.
В сентябре по челобитью тех же изюмцев Разрядный приказ прислал им грамоту на владение землями я угодьями по Красной и Жеребцу, если не учинится о том спор и челобитья не будет; если же спор возникнет, то писать о том в Разряд.
Споры, конечно, продолжались и становились все более острыми. Отношения между донцами и изюмцами обострились до крайности. Слишком важные, жизненные интересы тех и других столкнулись на Бахмуте, Красной и Жеребце. Верховые станицы по притокам Северского Донца бурлили. На кругах казаки кричали о своих правах, грозили изюмцам. Те отвечали в том же духе. Булавин со станичниками принимал во всем самое горячее участие.
Московским властям давние споры изюмцев и донцов стали немалой докукой, и они переходят к решительным действиям. В начале февраля 1704 года по указу Петра, присланному в Разряд из Семеновской приказной палаты, находившейся под особым его патронатом, велели в Торском уезде на речке Бахмуте у всяких чинов людей соляные промыслы отписать на великого государя. Федору Шидловскому перепись учинить соляным промыслам и те переписные книги за своею и тех людей, чьи те соляные промыслы, руками (подписями) прислать в Семеновскую приказную палату.
Так быстро и бесповоротно царь определил судьбу богатых соляных варниц на Бахмуте. Послали о том грамоту в Тор к воеводе Ивану Дутикову. Казаки по Донцу и Дону притихли, но их недовольство только загнали вглубь.
Без промедления решился и вопрос об угодьях и промыслах по Бахмуту, Красной и Жеребцу. Летом, в конце июня, в эти места прибыл капитан Григорий Скурихин из белгородского солдатского полка Осипа Булгакова. Генерал Кольцов-Мосальский, посылая его, напутствовал:
— Вызнай подлинно, через тамошних людей: кто землями и угодьями владел исстари — донские ли казаки или Белогородского разряду жители розных городов? И что они скажут, запиши и привези к нам на Белгород безо всякого мотчанья. Дело не терпит — государь о том гневается, торопит.
25 июня четверо чугуевцев — два старожила сотенной службы [10] и два виноградных садовника — стояли перед Скурихиным и в ответ на его вопрос сказали:
— Наперед сего в давних годех, как не было городов Изюма и Мояцкого и Соляного, речками Багмутом, и Красною, и Жеребцом со всеми угодьи владели донские казаки. И живали они наездом для рыбной и звериной ловли и для зимнего времени строили курени и землянки. А поселения на тех речках, их казацких городов и сел никаких не бывало.
— А по какому государеву указу те казаки и розных городов люди теми речками владели? И кто наперед почали ими владеть — донские казаки или Изюмского полку черкасы?
— Мы того не знаем.
— Кто построил на Бахмуте городок, где ныне варят соль? Донские казаки или черкасы?
— И про то мы не ведаем. Можем сказать только: как построены города Мояцкой и Соленой, и тех городов жители вниз по реке Донцу владели до устья реки Багмута. А донские городки Сухарев, Краснянский построены после городов Царева-Борисова, и Мояцкого, и Соляного; а в которых годех, про то нам сказать не упомнить.
Капитан с сомнением смотрел на чугуевцев, качал головой: «Не поймешь вас, старики. Кто прав, кто виноват». Махнул рукой, они вышли. Сделал знак денщику, и тот ввел в избу другую партию сыскных людей. На этот раз Скурихин увидел валуйцев — четырех старожилов-станичников, трех казаков, трех стрельцов и одного ямщика. Они повторили слова чугуевцев. К тому добавили:
— А рекою Донцом владели они, донские казаки, в то время вверх по Донцу по Посольской перевоз [11]. А устьем речка Багмут впала в реку Донец выше донского казачья городка Сухарева верстах в трех. А как построены городы Царев-Борисов, и Мояцкой, и Соляной, и тех городков жители владели вниз рекою Донцом по Репину яму. А донские городки Сухарев и Краснянский построены после тех городов; а в которых годех, не знаем.
Картина не прояснялась, а все более запутывалась. После валуйцев вошли царевоборисовцы, всего 63 человека, из русских и черкасов. Они поведали иное:
— Как не было городов Царева-Борисова, и Мояцкого, и Тору, и Изюма, и в то время речки Багмут, и Красная, и Жеребец из-за приходу неприятельских воинских людей были впусте, и поселения на них никакого не бывало. Только исстари те вышеписанные речки во владенье были Белогородского разряду городов.
— А как построили Царев-Борисов, Мояцкий и Тор?
— С того времени по се число, лет 50 и больше, по речке Жеребцу и с верховья до речки Красной вниз до Кабаньева броду насеками и рыбными звериными ловлями владеют тех городов жители.
— А соляные заводы?
— Те торские и мояцкие жители на реке Жеребце, обыскав соляные воды, построили курени и варили соль.
— О донских казаках что молчите? Их там не бывало? Задоры с теми жителями они заводили?
— От донских казаков о том владенье спору и челобитья с того числа и по се время на торских и мояцких и царево-борисовских жителей никакого не бывало.
— Отчего так?
— В те времена они, донские казаки, миривались с азовскими жителями, турками и татарами. А миривались с ними вверх по речке Донцу и по речке Айдар, которая впала в Донец с Ногайской стороны ниже речек Бахмута, и Жеребца, и Красной. Из-за того миру по тем речкам азовские татары казаков Изюмского полка на пасеках и на рыбных и звериных ловлях бирали в полон многое число.
— Какие поселения завели донские казаки на Крымской стороне и Ногайской?
— На Крымской стороне реки Северского Донца поставлены города Изюмского полка — Изюм, Мояцкий, Тор и Багмут. А их, донских казаков, поселения никакого не бывало. А на Ногайской построили донские казаки свой юрт на речке Красной у Кабаньева броду. Тот юрт строитца на пасечном месте Изюмского полка казака Федора Куриленка. И в тот юрт принимают они, донские казаки, беглых людей, которые бегут Белогородского розряду из розных городов от службы и от рублевых денег (от подателей).
— Вона какое дело! Казачки-то донские что творят! А жалуются, как овечки смирные!
Маяцкие жители, 40 человек, привели более подробные данные:
— В прошлых годех до измены Ивашки Брюховецкого и Стеньки Разина [12] по речкам Багмуту и Жеребцу рыбными звериными ловлями владели царево-борисовские, и мояцкие, торские жители, и иных городов — чугуевцы, салтовцы (земляки Булавина), валуйченя от приходу неприятельских воинских людей тайно. А пасеками владеют и сена косят торские и мояцкие жители.
— А донские казаки здесь бывали? Свои поселения ставили?
— Их поселения никакого на тех речках не бывало. И до тех измен Брюховецкого и Разина донских казачьих городков Боровского, Краснянского, Сухарева тоже не было.
— Что еще скажете?
— До поселения городов Мояцкого и Тору вниз по реке Северскому Донцу до устья Черного Жеребца лесами и сенными покосы и всякими угодья владели Святогорского монастыря старцы по даче.
— А как построили те города?
— Те покосы, ловли и угодьи до устья реки Жеребца отданы от Святогорского монастыря нам, мояченом и торяном. И та дача между нами розмежевана, а межевые книги и ныне лежат в Мояцкой приказной избе.
— Выходит, тех городков жители селились по тем рекам раньше, чем донские казаки?
— Так, господин капитан. Исстари те речки во владетельстве были Белогородского розряду городов, потому что из Белагорода бояре и воеводы для обереженья и осмотру татарских шляхов и бродов Белогородской черты [13] посылывали с письмами станичников вниз по реке Донцу до урочища до Сокольих гор. А те Сокольи горы стоят над рекою Донцом ниже рек Багмута, и Жеребца, и Красной.
— Когда появились их, донских казаков, городки в тех местах?
— После измены Брюховецкого и Разина они, донские казаки, поселили по Донцу городки Боровской, Краснянской, Сухарев. Сухоревские казаки владели до сего числа снизу вверх по Донцу до устья Жеребца. А на речке Жеребце исстари в дву местех соль варивали торские жители Иван Клушин, Емельян Сазонов с товарыщи. А от них, казаков, в то время спору и челобитья никакого не бывало. И в тех урочищах и ныне соловарные ямы есть знатны.
— Вам ведано: кто построил Бахмутский городок? Кто теми местами владел?
— Построил тот городок Изюмского полку полковник Федор Шидловский по великого государя указу и по грамоте из Разряду. А та речка Багмут в дачах Изюмского полку, а не в их, донских казаков, владетельстве, потому что та речка Багмут впала в речку Донец с Крымской стороны выше речки Жеребца в версте, и исстари донские казаки по Дону и Донцу владеют по своей казачьей обыкности всякими угодьями, покамест от реки их казачьей пищали голос слышать.
Подтвердили маяцкие жители и то, что русские люди разных городов Белгородского разряду всегда добывали невозбранно рыбу и зверя по рекам Боровой и Красной. А донские казаки селят на Красной реке у Кабаньева броду всяких беглых из городов Белгородского разряду, приписанных к Воронежу для службы и корабельного строения.
Перед Скурихиным прошли затем бахмутцы, 13 человек. По их словам, реками Бахмутом, Красной и Жеребцом владели маяцкие и прочие жители. Донские же казаки сидели по Дону до Айдара. Двое из бахмутцев, Иван Клушин и Тимофей Сазонов, сын Емельяна Сазонова, поведали: еще в 1681 году по указу великого государя, отписке курского воеводы князя Петра Ивановича Хованского и наказной памяти генерала Григория Ивановича Косагова Клушин и Сазонов-старший, в то время торские жители, жили куренями на речке Жеребце и варили соль. От донских казаков спору и челобитья никакого не бывало. А та наказная память и ныне у нас в целости.
После всех расспросов Скурихин пришел к выводу, неблагоприятному для донцов. Но поговорил и с ними. Перед ним предстали казаки из Айдарского, Боровского, Сухаревского, Трехизбянского, Старокраснянского и Но-вокраснянского городков, всего 26 человек. Капитан услышал от них:
— В прошлых годех, как не было городов Царе-Борисова, Мояцкого, Изюма и Соляного, и в то время речками Багмутом и Красною, и Жеребцом с верховья и до устья, и вверх по реке Донцу по Посольской перевоз владели мы, донские казаки, по своим казацким обыкностям. А крепостей (документов) у нас на те речки со всеми угодьи никаких нет.
— Вот-вот! А у торских и иных жителей есть! Ну, ин ладно. Вы мне поведайте: что было после того, как государевы люди поставили города Царе-Борисов, Мояцкой, Соляной и Изюм?
— В те поры мы, донские казаки, построили городки Сухарев и Краснянской. И с того числа и по се число владеем вверх по реке Донцу до Репиной ямы, где ныне живут Изюмского полку казаки села Ямполя.
— А Бахмутский городок?
— По указу великого государя и грамоте, какова прислана в Черкаской к атаману и ко всему Войску Донскому, велено нам, донским казакам, строить по Азовской дороге городки, где пристойно, для оберегания Азова и дорог, которые к нему идут. И по тому указу мы на речке Багмуте построили городок и для варенья соли солеварные курени.
— И что же? Что с теми городком и солеварнями?
— В прошлом 703 году по приказу изюмского полковника Федора Шидловского его сотник Федор Черноморец с казаками Изюмского полка тот городок и солеварные курени разломал, сухоревских казаков согнал и построил выше того нашего городка свой городок вновь, незнамо — по какому его, великого государя, указу.
Четверо донцов, из Сухарева городка, повторив слова земляков, утверждали, что на Бахмуте для варки соли донские казаки появились до маяцких и иных жителей. Варили там соль недель с десять и больше. Приезжим из Маяка, Тора, Изюма и других городов людям, русским и черкасам, они соль добывать не возбраняли, варить велели. А городок на Бахмуте они построили по войсковой грамоте из Черкасска, после того, как присланы на Дон грамоты великого государя, чтобы строить городки по речкам и шляхам.
Скурихину становилось все ясней, что права на спорные земли и угодья имеют и донцы, и изюмцы с соседями. Но первые ссылались на свой обычай, явочное поселение по тем рекам. За вторыми стояли местные и центральные власти, имелись «крепости» — грамоты и наказы бояр, воевод, генералов. Главное же — царь, правители упорно и настойчиво продвигали границы России к югу, стесняли вольности и обычаи донских казаков. Донцы не могли не протестовать против такого поворота событий. Они понимали, что власти не на их стороне, что бахмутские места им не вернуть — там обосновались изюмцы. Основанный ими вместо старого, донского новый, Бахмутский городок, как его увидел капитан Скурихин, был построен стоячим дубовым острогом. Он имел двое проезжих ворот. Длина его через речку Бахмут 61 сажень[14] , поперек — 17 сажень. Жилья в том городке нет. Выше его, по правой стороне реки, построена на посаде часовня, около нее — таможенная изба для таможенного мостового сбору и ратуша Изюмского полка; рядом с ними — 15 амбаров, 9 кузниц. Близ городка на реке стоит торговая баня, отдана на оброк. Наконец, построили дворы и живут домами 54 казака Изюмского полка и 19 человек русских людей всякого чина из разных городов.
Здесь же располагались у соловарных колодцев 140 соловарных сковород изюмских казаков и 30 сковород всяких чинов людей из разных городов. По осмотру того же Скурихина, лесов, рыбных ловель и роспашной земли по Бахмуту нет; сенных покосов — малое число, только в верховье реки и по вершинам есть малые буераки.
Основное богатство, и немалое, на Бахмуте — соляные колодцы, соловарни. Местные соляные заводы считались и позднее самыми «наилучшими и спорейшими» на Украине. Они давали большой доход. С каждой сковороды в сутки получали 150 пудов соли; со 170 сковород, имевшихся в 1704 году на Бахмуте, — более 25 тысяч пудов в сутки. За 10 недель они давали более 1,5 млн. пудов. В середине столетия чистый доход с одной сковороды составлял 30 рублей в день, за неделю — более 200 рублей, за 10 недель (столько времени проводили на соловарнях донские казаки, как они говорили одному из присланных на Бахмут писцов-сыщиков) — до двух тысяч рублей.
Понятно, почему так держались за соляные промыслы хозяева соловарен и те, кто работал на них, кормился здесь. Погром, учиненный изюмцами на Бахмуте, больно ударил по казакам Айдарской, Трехизбянской и других станиц, по их работникам.
Столь же печально для донцов закончился и розыск об угодьях по реке Жеребцу, Скурихин выяснил, что там находились солеварные колодцы и ямы торских жителей Ивана Клушина, Емельяна Сазонова с товарищи, имевших на них списки (копии) указов 1681 и 1691 годов. Казаки Изюмского полка владели по Жеребцу многими пасеками в лесах и яругах [15] к реке подошло пахотное поле жителей села Ямполя. На той же реке, близ устья, стоят три мельницы: одна принадлежит донскому казаку Петру Чумакову из Сухаревой станицы, другая — его земляку Федору Кромченинову, третья — изюмскому казаку, ямпольскому атаману Павлу Рубану. По левому берегу Жеребца держали пасеки изюмцы: маяцкие жители казак Иван Гугнейка (занята пасека лет с 50 и больше), Григорий Куницкий, наконец, сам полковник Федор Васильевич Шидловский. По правой стороне реки стояла пасека сухаревского казака Емельяна Бирюкова, по левой — пасеки краснянского атамана Федора Куриленка; изюмского, царево-борисовского жителей и других.
По реке Красной мельницы и пасеки в основном имели изюмцы и их соседи. Только у Кабаньего брода пахотной землей и всякими угодьями владеют жители ново-построенного казачьего юрта. Живут они куренями, человек с 50 и больше. Переписать их донские казаки не дали.
Другие документы прошлых годов — грамоты воевод и воинских начальников — снова и снова подтверждали «дачи» тех земель и угодий жителям Маяцкого, Соляного, Царева-Борисова, Тора. Капитан Скурихин узнавал и другое — городовые сотники и казаки сообщили ему, что донцы, «к тому сыску взяв с собою с Волуйки и ис Чюгуева свойственников и друзей своих, ково они похотели, немногих людей, не по градцкому выбору, человек с 18 (на самом деле — 15 человек, с которыми говорил Скурихин, см. выше. — В. Б.), и теми друзьями и свойственниками своими, збираючи свои казацкие круги, с ружьем о их угодьях брали скаски». Они же, оказывается, не дали капитану и его помощнику из подьячих переписать беглых русских людей у Кабаньего брода, тоже «учиня свой круг».
Старые крепости и указы бывших бояр и воевод, имевшиеся у старожилов-изюмцев и других, по жалобе сотников, обличили неправду тех донских свойственников и друзей, а их ложные сказки стали явны. Ныне те казаки Сухаревской, Краснянской, Боровской и Трехизбянской станиц без государева указу казаков Изюмского полка из их угодий выгоняют, чинят им многие обиды, бьют, сено косить не дают и похваляются смертным убийством и разорением.
Челобитчики-изюмцы понимают, что беглецы из новопоселенных сел не захотят вернуться к ним в полк, «а будут жить под владетельством их, донских казаков».
Обстановка в спорных местах накалилась. Донцы действовали решительно и смело, и изюмцы, как видно, от них немало пострадали. Но власти встали на сторону воевод, полковника и полчан. В сентябре 1704 года генерал Кольцов-Мосальский сообщил из Белгорода о результатах скурихинского сыска. И уже 13 октября вышел указ Петра Алексеевича — по прежним его указам, по дачам 186-го (1678), 189-го (1681), 1700-го, 702-го и 703-го годов и по сыскам теми землями и угодьями по Бахмуту, Красной и Жеребцу владеть по-прежнему им, Изюмского полку старшине и казакам. А в «багмуцких поселениях» соляные промыслы отписать на него, великого государя, и ведать ими полковнику Федору Шидловскому.
Правда, донцам оставили во владение две мельницы и пасеку по реке Жеребец. Но в новопоселенные казачьи юрты у Кабаньего брода велели послать для переписи нового сыщика.
Бахмутская история, вкупе с другими — о владениях по Красной и Жеребцу, как считали власти, закончилась. Но донские казаки не смирились.
В следующем, 1705 году указ о владении старшиной и казаками Изюмского полка тремя речками подтвердила Ингерманландская канцелярия, созданная Петром для управления отвоеванными у Швеции землями по берегам Финского залива. Соляные заводы оставались в управлении Шидловского; их передали в ведение Ингерманландской канцелярии. Этот приговор вынес Тихон Никитич Стрешнев, глава Разрядного приказа, родственник царя Петра.
Вокруг Бахмутских соляных промыслов снова разгорелись страсти. Там появились донские казаки и голытьба, работавшая здесь до их захвата изюмцами. Они разорили солеварный завод изюмцев, сожгли все строения. Возглавил движение Кондрат Булавин.
Еще через год по указу Петра и наказу из Приказа Адмиралтейских дел на Бахмут из Воронежа выехал дьяк Алексей Горчаков. Правительство поручило ему снова досмотреть и описать спорные земли и угодья, чтобы «розвести» их между изюмцами и донцами. Власти были недовольны теми «налогами и обидами», которые причинили казаки Бахмутской и иных станиц Шидловскому и его полчанам.
Булавин и его казаки захватили Бахмутский городок и угодья, взяли реванш за недавние поражения. Но обида, сильная и жгучая, оставалась, и Булавин не мог стерпеть приезд Горчакова.
Кондрат созвал круг. Сошлись его бахмутцы, казаки из Трехизбянской и других станиц. Он вышел на помост, наскоро сооруженный:
— Господа казаки! Видите вы, какие обиды терпели и терпим мы от Шидловского, от изюмских, торских и иных жителей. Мы сами, наши отцы и деды исстари, по своей обыкности владели речками Багмутом, Красной и Черным Жеребцом, соль варили, ловили рыбу и зверя, сено косили и мед доставали. Тем пропитание добываем и мы, вольные донские казаки, и всякие прихожие люди, которые на тех речках селятся и всякие работы делают. А теперь, норовя Шидловскому, московские бояря прислали на Бахмут своего подсыльщика дьяка Горчакова. Что будем делать? Позволим ему писать промыслы и угодья?
— Не позволим!!!
— Любо ли вам позвать на круг Горчакова и допросить?
— Любо!! Любо!!!
— Зови сюда боярского лазутчика!
— Соглядатай он московский! Кровопивец!
— Июда искариотский!
Булавин махнул рукой. Круг расступился, и по коридору между рядами кричащих и размахивающих кулаками людей есаулы провели дьяка. Испуганный, он старался сохранить достоинство; остановился перед помостом... Кондрат быстро глянул на дьяка. Тот держался прямо, его дородная фигура, пышные длинные волосы, густая борода с легкой проседью говорили об уверенности и силе царского посланника. В атамане закипал гнев:
— Ты зачем приехал к нам, дьяк? Кто тебя послал?
— По указу великого государя Петра Алексеевича...
— Врешь! Послали тебя московские бояре, недоброхоты Войска Донского, поноровщики Шидловского!
— По указу царя, атаман! И наказ о том имею: от адмирала Апраксина, из Адмиралтейского приказу.
— Не верим, — кричали внизу казаки, — пусть покажет указ государев!
— Нет у него указу! — Голос Булавина перекрыл шум толпы. — А есть у него боярский приказ! Что велели тебе, — снова бросил взгляд на дьяка, — бояре московские, наши погубители?!
— По указу великого государя велено мне земли и угодья по Бахмуту досмотреть и описать подлинно и розвести между вами, донскими казаками, и Изюмского полку старшИной и казаками.
— Описывали! И не раз! — Шум и крики снова забушевали вокруг. — Только чем оканчивалось?!
— Изюмцы грабят нас, насильством одолевают!
— Вор! Строка приказная!
— Посадить его в воду!
Горчаков, стараясь не показать испуга, исподлобья осматривал казаков, сдерживал дрожь в руках, хмурился. Булавин поднял руку:
— Тихо, господа казаки! Тихо! Слушайте! Дадим ли дьяку писать соляные заводы и земли?
— Не дадим!
— Ишь, чего захотел!
— Нехай едет к своим боярам!
— И Шидловского пусть с собой забирает!
— Наши промыслы и соль наша!
— Что с ним гутарить! В воду!
Булавин выждал малое время. Постепенно крики стихли. Круг ждал решения атамана.
— Господа казаки! Писать наши земли и промыслы не позволим! — Голос Булавина, сильный и звонкий, разносился над толпой. — А дьяк нам еще нужен! Вызнать козни боярские и полковника изюмского! Сговорились они меж собой! А дьяку посулы от Шидловского пойдут! Пусть сыщик московский под караулом побудет! А мы потом разберемся! Любо, господа казаки?!
— Любо! Любо!
— Есаулы! Взять дьяка под стражу!
Казаки расходились с круга, оживленно беседуя, радуясь исходу дела — их неприятелям не удалось на этот раз взять верх над вольными донскими казаками. Они отстояли свои права, сохранили соляные варницы и весь Бахмут за собой. Даст господь, наш атаман и дальше защитит их, не даст в обиду сыщикам, полковнику и боярам, прекратит грабежи и насилования изюмских жителей.
Булавин укреплял свой авторитет, его популярность среди казаков и голытьбы росла. Защищая их интересы, он не забывал, конечно, и о своих; они были общими. Недаром и местная, и черкасская старшина с одобрением, тайным или явным, следила за событиями на Бахмуте. Правда, чтобы не обострять отношения с Москвой, Булавин вскоре выпустил Горчакова из-под ареста, и тот уехал восвояси, несолоно хлебавши.
Победа осталась за казаками и их атаманом. Но долго пользоваться ее плодами они не смогли. В следующем году Петр, на этот раз указом, присланным в Воронеж из Киева, велел Федору Матвеевичу Апраксину, своему любимцу, довести дело до конца — быть тем трем речкам во владении Изюмского полка старшины и казаков, а про грабеж, учиненный Булавиным и казаками на Бахмуте, разыскать. В том же году, 6 июля, царь прислал из Люблина, своей очередной ставки, указ князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Среди прочих поручений Петр повелевает подполковнику выяснить обстоятельства ареста Горчакова, вызвать его из Воронежа с прежними сысками о спорных землях, «розвести» последние между донскими казаками и изюмскими жителями, «чтоб междо ими ту заходящую их вражду успокоить и искоренить».
Петровский указ написан энергично, в угрожающих по отношению к донцам тонах. Закончил его царь словами, смысл которых более чем ясен:
— А наипаче надлежит трудитца о высылке беглых людей.
Речь пошла не об успокоении, а об искоренении, и не столько вражды между донцами и изюмцами, сколько застарелых, по мысли государя, болезней Войска Донского — вольности, самоуправства, непослушания, приема беглых из России. Царский гнев грозил обрушиться на вольный Тихий Дон.
В СТАВКЕ ПЕТРА
В Люблин царь приехал недавно. Уставший после пыльной и тряской дороги, полный забот и треволнений, он прошел в отведенную ему резиденцию, наскоро сполоснул лицо и руки. Скомканное полотенце полетело на лавку. Задумался. Беспокойство и недовольство одолевало его. Правда, Карл еще колесил по Польше и Саксонии, можно было еще что-то сделать, успеть. «Господи боже ты мой! Ведь швед может в любой момент повернуть из Саксонии и Польши в нашу сторону. А готовы мы, как надлежит?»
Мысли его переключились на иное, он встрепенулся:
— Эй, кто там?!
— Тут я, — дверь отворилась, и выглянул денщик, — что надобно, государь?
— Спишь там, черт!
— Жду, государь, голос не подаю — вижу: ты думаешь...
— Ну, ладно... Не обижайся, брат! Точно, мысли бегают о всяком, как блохи в постели. А дела-то не ждут. Зови, — кто там из дьяков нынче?
— Макаров Алексей, ждет в каморе, рядом тут...
— Давай скорее!
Денщик вышел, оставив открытой дверь. Тотчас, как будто стоял за порогом, вошел с папкой в руках Макаров. Поклонился:
— Здесь я, государь. Что изволишь приказать?
— Садись рядом! — Петр подвинулся на лавке, рукой отстранил на левый край стола какие-то бумаги. — Клади свои цидули! Ишь, как много-то! Конца им, чай, не будет, а?..
— Дела все срочные, государь.
— Будем решать, да побыстрей!
— Первое и наиглавнейшее, государь, — о делах воинских. Пишут светлейший князь Меншиков и боярин Шереметев: после измены Августа и принятия в Жолкве плана войны с Карлусом войска наши готовятся, чтобы дать шведам генеральное сражение при своих границах.
Царь кивнул головой, сделал дьяку знак: «Погоди». Задумался, ушел в себя. Перед ним промелькнули, как во сне, события последних месяцев и лет. Да... Хорошо, что Карлус завяз в Польше и Саксонии. Неймется ему. После победы над нами под Нарвой интерес к России потерял. Август Саксонский важней ему кажется: саксонцы вояки лучше русских, и посему их надо бить; с русским медведем справимся, мол, на закуску, поелику проще это пареной репы. Ну и пусть, как бродяга, мотается везде, где ему вздумается. Время-то идет, и на пользу мне, а не ему, фанфарону свицкому. Глядишь, бог даст, все успеем подготовить к генеральной баталии.
Петр вспомнил взятие у шведов земель по Неве и южному побережью Финского залива, в их числе Нарвы, три года тому назад. Впрочем, этот реванш, как и другие русские победы в Прибалтике, особого впечатления на Западную Европу не произвели. Странное дело — за четыре года до этого, когда под стенами Нарвы русское войско потерпело поражение, те же западноевропейские дворы аплодировали шведскому королю, восхищались его армией. Теперь же — или молчание, довольно пренебрежительное, или опасения, столь же пока молчаливые.
А между тем эти победы не только заставили русских поверить в свои силы и возможности на поле боя, но и привели к освобождению от шведов ряда земель по восточному и южному побережью Финского залива, активизировали перестройку армии и центральных учреждений, создание флота на Балтике. Было положено начало тому делу, которое обещало принести в будущем, и довольно близком, немалые успехи — военные, политические, хозяйственные.
Все эти годы Петр и его дипломаты стремились добиться посредничества западных государств, чтобы заключить мир со Швецией. Но там увидели в подобных попытках признаки слабости России; кроме сего, занятым войной за испанское наследство, им хватало и своих забот. Действовали такие факторы, как нарвское потрясение 1700 года, пренебрежение к «варварской» и слабой России, с одной стороны, а также, и это причудливо уживалось друг с другом, — страх перед Россией, ее растущей мощью, успехами русских армий.
Союзники — Англия, Нидерланды, Австрия — и Франция, их общий противник в войне за испанское наследство, делали все от них зависящее, чтобы перетянуть на свою сторону Швецию с ее армией, не допустить усиления России, которую следует, с точки зрения этих держав, занять борьбой с Турцией и Крымом, ослабить, не допустить к Балтийскому морю. Посему просьбы России о посредничестве в заключении мира со Швецией не находили отклика в Гааге, Лондоне, Вене.
П. А. Толстой, русский посол в Константинополе, человек выдающегося ума и изощренной хитрости, довольно успешно предотвращал возможное возобновление Турцией войны с Россией — подкупал султанских вельмож, упреждал интриги везиров и западных послов. В Речи Посполитой, в условиях шляхетского «безнарядья» — политического хаоса и безначалия, успешно работал посол князь Г. Ф. Долгорукий. Немало хлопот и огорчений доставлял Петру его «друг и союзник» Август II, курфюрст саксонский и король польский, человек ненадежный и коварный, к тому же весьма слабый как политический и военный деятель. Петров «союзник», он за его спиной вел переговоры со шведским королем о заключении мира. Посредниками выступали то Австрия и Франция (здесь просьбы о посредничестве принимались благосклонно), то любовницы Августа.
Карл XII и слышать не хочет о мире — ни с Августом, ни тем более с Петром. «Шведу» — ни до просьб своих вельмож, ни до бедственного состояния народа. Он захватывает польские города и земли. Думает подчинить себе всю Польшу. Но царившая там анархия мешает тому. Хотя находятся у него сторонники — кардинал-примас Радзеевский, часть магнатов и шляхты (граф Сапега и др.). С их помощью Карл XII «состряпал» (его собственное выражение) полякам, взамен Августа II, нового короля — сейм, созванный в Варшаве кардиналом, низложил саксонца и провозгласил королем Станислава Лещинского, человека молодого и невлиятельного. Против ставленника шведов выступает другая группировка шляхты — на сейме в Сандомире ее представители высказались за Августа: шведская оккупация, бесчинства захватчиков заставили многих поляков задуматься. В итоге страна получила двух королей, а ожесточенные междоусобицы привели к полной неразберихе; шляхетская анархия достигла степени небывалой.
Петр и Головин, начальник Посольского приказа, внимательно следят за событиями в Речи Посполитой — терять единственного союзника было весьма нежелательно.
Царь вел по отношению к Польше осторожную политику. Россия ослабила свои требования в защиту православных на территории Речи Посполитой (там их принуждали вступать в унию), помогла подавить восстание на Правобережной Украине во главе с Семеном Палием против панов — шляхты. Усилия дали плоды — вскоре после взятия Петром Нарвы Польша заключила союзный договор с Россией.
В Речи Посполитой по-прежнему действовали войска Карла XII, король застрял там надолго. Русские же армии в это время успешно воевали в других местах, захватывали земли в Ингрии, Эстляндии, Лифляндии, готовились к грядущим сражениям с самим «шведом». Петр посылает в Польшу военную помощь — более 10 русских полков. Но армии Августа снова и снова терпят поражения от шведов.
Петр постоянно следит за тем, что делается в Турции, заботится о строительстве новых кораблей в Воронеже — южный флот гарантирует (пока что...) спокойствие в районе Черноморья. В Западной Европе, несмотря на неудачу в организации мирного посредничества, Россия по-прежнему покупала оружие и снаряжение, нанимала специалистов. А ее заявления о стремлении заключить мир со Швецией (с условием оставления за Россией некоторых завоеванных земель по Финскому заливу, по крайней мере — Петербурга и его окрестностей) сбивали антирусский накал в политике некоторых влиятельных сил. Царь и его правительство умело использовали противоречия между европейскими странами, благоприятные обстоятельства в связи с войной за испанское наследство.
Ситуация в Европе выглядела к этому времени достаточно сложной и запутанной. В Италии и Испании, Голландии и Западной Германии велись военные действия между Францией, с одной стороны, и Австрией, Нидерландами, Англией — с другой. В Восточной Прибалтике и Речи Посполитой со шведскими войсками сражались русские, польские и саксонские армии. Все воюющие страны и их союзники преследовали свои цели.
Армия Карла, несмотря на легкие победы, изматывалась в Польше, а в стратегическом плане непрерывно проигрывала. Россия же не только стяжала успехи в Восточной Прибалтике, но и, что самое существенное, приобретала, чем далее, тем более, стратегические преимущества. Хотя до решительных побед еще было далеко.
Направляя свои полки в Речь Посполитую, царь заботился о том, чтобы они, помогая Августу в частных битвах, не ввязывались в генеральное сражение со шведами, избегали «излишней тягости», поскольку не пришло еще время для решительных действий против Карла.
Предыдущие два года, 1705-й и 1706-й, вспоминал Петр, наполнены были хлопотами и неприятностями.
Сильно обеспокоило его народное восстание в Астрахани. Он направляет туда войско во главе с самим фельдмаршалом Шереметевым, следит за всем, что там делается. Потом опасность окружения шведами и гибели русской армии в Гродно заставляет его сосредоточить все помыслы на ней, переключить внимание с юго-востока на северо-запад.
Тогда же, в феврале 1706 года царь сокрушается по поводу очередного разгрома саксонских войск — у Фрауерштадта 30 тысяч солдат Августа при появлении 8 тысяч шведов генерала Реншильда бросились наутек. Только русские полки из вспомогательного корпуса остались на поле боя, четыре часа отбивали атаки шведов, но из-за неравенства сил тоже потерпели поражение. Шведы без пощады добивали русских раненых и пленных. А русский обоз разграбили союзники-саксонцы во время отступления. Петр негодует по поводу «изменной баталии» саксонцев, этих «бездельников», которые «наших одних оставили». Он не питает иллюзий по поводу союзника:
— Сия война на нас на одних будет.
Тем не менее Петр утешает Августа, своего незадачливого «друга, брата и соседа», советует ему заменить горе-вояк саксонцев на наемных датчан.
Главная забота Петра — сберечь армию, ибо ее потеря равна проигрышу всей войны. Карл XII не успел догнать русскую армию, и она менее чем за две недели дошла от Гродно до Бреста; потом, после дневного отдыха, направилась к Киеву. У Петра словно гора с плеч упала — весть об отходе и сохранении армии он, будучи в Петербурге, воспринял, как он сам выразился, «с неописанною радостию».
Август из Польши втайне от Петра шлет представителей к шведскому королю, просит о мире. Он готов поделить Речь Посполитую между собой и Лещинским. Карл отвергает это предложение и диктует свои условия. Август капитулирует, и 24 сентября в Альтранштадте, в штаб-квартире Карла около Лейпцига, заключается договор: законным и единственным королем Польши признается Лещинский, Август разрывает враждебные Швеции союзы, выдает шведских пленных и перебежчиков, русский вспомогательный корпус, берет на содержание шведскую армию в Саксонии. Подписание договора, унизительного и предательского, держат, по просьбе Августа, в тайне.
Западные державы наперебой поздравляют Карла с новой победой, толкают его на войну с Россией, признают Лещинского как короля Польши. Август же, одобрив 6 октября текст Альтранштадтского договора, вскоре, как ни в чем не бывало, встречается в польском Люблине с Меншиковым, выклянчивает у него деньги.
Меншиков уже услышал о шведско-саксонском договоре, но счел, что известие о том — ложно, поверил Августу. Более того, готовился вместе с ним и его польско-саксонским войском напасть на шведскую армию генерала Мардефельда. 18 сентября под Калишем последняя потерпела полный разгром, половина ее состава полегла на поле боя, командующий попал в плен. Август, вынужденный участвовать в победном сражении, трепещет от ожидаемого возмездия Карла, изворачивается, лжет — просит Меншикова, героя Калишской победы, передать ему пленных шведов, чтобы обменять их на пленных же русских, находившихся у Карла. Саксонец ведет двойную игру — наделяет Меншикова поместьями в Польше и Литве; в Варшаве по его приказу торжественным молебном отмечают победу под Калишем. В то же время оправдывается перед Карлом, обещает ему денежную компенсацию.
17 ноября, наконец, все становится известно русскому послу в Варшаве. В Москве тоже узнали об измене Августа. Печально было, конечно, терять единственного, хотя и неважного союзника. Однако по этому поводу особенно не горевали, хотя русской дипломатии пришлось действовать теперь в условиях полного отсутствия союзников.
Конец этого и начало следующего, 1707 года Петр провел в Жолкве, около Львова. Сюда, в Западную Украину, прибыли основные силы русской армии; съехались, помимо царя, его ближайшие помощники — министры и генералы: Меншиков, Шереметев, Головкин, новый, после смерти Головина, глава Посольского приказа, и прочие. Собрав военный совет, Петр поставил на обсуждение план дальнейших действий против Карла, который, освободившись от войны на два фронта, теперь, как ожидалось, активизирует войну с Россией. Его армия заняла квартиры в Саксонии, отъедалась и отсыпалась, без пощады грабила местных жителей.
Карл и его шведы не очень беспокоились о будущем, о войне с Россией. Все виделось в радужном свете, казалось простым:
— Мышам живется вольно, когда кошки нет дома. Стоит только шведам вернуться, московиты побегут, как под Нарвой, и запрячутся в свои мышиные норы.
Петр постоянно заботится о том, чтобы его армию не застал врасплох неприятель, не навязал генеральное сражение в неблагоприятных для нее условиях. Об этом он постоянно твердит в указах, письмах, распоряжениях, и именно его мысли легли в основу Жолквенского стратегического плана, принятого на совещаниях со сподвижниками. Это был курс на генеральное сражение, которое следовало тщательно подготовить, дать его тогда, когда появятся верные шансы на выигрыш. Вынесли решение:
— Положено, чтоб в Польше с неприятелем баталию не давать, понеже, ежели б такое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду. И для того положено дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет. А в Польше на переправах и партиями, также оголоженьем провианта и фуража томить неприятеля, к чему и польские сенаторы многие в том согласились.
Согласно плану на пути движения шведов в Россию, через Белоруссию или Украину, их встретят укрепленные крепости, оборонительные заграждения, налеты легкой кавалерии, сопротивление местных жителей (укрытие, уничтожение съестных припасов и пр.). Изматывание врага, его ослабление должно закончиться генеральным сражением, которое будет дано на территории России в подходящий момент, при наличии необходимых военных сил. План, долго обсуждавшийся и окончательно принятый в апреле, начал осуществляться.
Одновременно во Львове происходила Вальная (общая, большая) рада руководителей Сандомирской конфедерации, сторонников союза Польши с Россией. Петр вел с ними переговоры. Она подтвердила условия Нарвского договора, вынесла решение о том, что русский царь рассматривается гарантом вольностей Речи Посполитой. Наконец, низложила Лещинского и рассмотрела кандидатуры на польский трон. Таковыми назывались три сына Яна Собесского, знаменитого правителя Польши конца предыдущего столетия, австрийский фельдмаршал принц Евгений Савойский, вождь освободительного движения в Венгрии Ференц Ракоци, коронный польский гетман Сенявский; ходили в этой связи слухи о царевиче Алексее, сыне Петра, и Меншикове. Сам же Петр считал, что нужно избрать королем того, кто удержится без иностранной помощи. Все кандидатуры отпали по тем или иным причинам, оставался все тот же Август, который давал понять, что не прочь снова занять польский престол.
Карл XII, находившийся в зените славы, принимал отовсюду дань поклонения в своем Альтранштадте, который в эти годы превратился чуть ли не в дипломатическую столицу Европы. Англия, Голландия и Франция наперебой приглашают его вступить в войну на их стороне. Австрия трепещет перед ним, поскольку шведская армия стоит неподалеку, в Саксонии, а ее собственные армии воюют против Франции на Рейне и в Италии, а также с Ракоци в самой Венгрии. Перспектива вторжения шведов в Австрию пугала Англию, радовала Петра и французского «короля-солнце».
Петр снова выдвигает предложение о мире со Швецией. Карл, конечно, отказывается. Французскому послу в Стокгольме в ответ на запрос о возможных условиях мира с Россией сказали от имени короля:
— Король помирится с Россией, только когда он приедет в Москву, царя с престола свергнет, государство его разделит на малые княжества, созовет бояр, разделит им царство на воеводства.
Вот так, ни больше ни меньше! Король заранее распределял среди своих генералов должности в Московии, губернатором ее столицы планировал назначить генерала Шпарра. Все его заявления, замыслы, действия, нередко самые сумасбродные и экстравагантные, сильно отдавали тем, что столетие спустя русский писатель Гоголь изобразит в образе Хлестакова, — безудержным хвастовством, фанфаронством, граничащим с клоунадой. Шведский король в конце концов попался в им же самим сплетенные и расставленные сети. Петр усиленно помогал ему попасть в эту ловушку своими военными и дипломатическими акциями.
Он готовится к решительной схватке. Следит за строительством укреплений в Москве, на случай прихода Карла и его армии, за сменой везиров и настроений в Турции. Предполагает, что в следующем году произойдут решающие события в войне с Карлом.
...Дьяк, долго молчавший, напомнил:
— Государь...
— А?! Да-да. Прости, брат, задумался. Чти дале.
— Из Москвы Тихон Никитич Стрешнев с товарищи: все, мол, делаем, чтоб армеи пОмочь подать, деньги и рекрутов, хлеб и припасы собираем с великим старанием, пушки и зелье шлем. Воеводы и офицеры гвардейские, маеоры и капитаны, денно и нощно по городам и уездам ездят с командами, собирают потребное...
— Плохо собирают! Отписать им со строгим подтверждением — почему-де недосылаете рекрут? Хлеба и запасов, денег такожде мало в полки пришло! Даточных людей не хватает, работы идут медленно. О том же Апраксин из Воронежа, с верфи, слезными отписками, засыпал. И другие тоже. Все жалуются, со всех сторон. — Царь закипал гневом, глаза расширились, заблестели. — Отпиши построже и дай прочесть. Проверю. Знаю я — на Руси все делается только после третьего указа. Вот и ждут — моей палки! Мало она по их спинам ходила!
— Напишу, государь. — Дьяк осторожно взглянул на царя. Не прогневайся, государь, на бояр и воевод. Они делают со старанием и поспешением. Да не все делается, как потребно...
— Знаю, знаю! Нелегко... — Петр помолчал. — А мне легко? Легко ли скакать, как угорелому, по всей России, требовать, ругать, драться! Нужно ведь. Потребны, и во множестве потребны, люди, деньги. Люди и деньги. Велика Россия, а не хватает!
— Многое уже взяли, государь. Налогов новых, сам знаешь, Курбатов и его прибыльщики придумали немало. Людишек нагнали бесчисленное множество — в солдаты и матросы, крепости и заводы строить... Да мало ли куда. Мрут мужики, другие бегут — и с работ, и от помещиков своих. Приказы, ведомо тебе, стонут от бумаг — дьяки, сказывают, сидят над ними без восклонения, спины не разгибают.
— Дьяки, знамо, сидят. Да что высидели? Подлые людишки как бежали, так и бегут. Этак и работать будет некому. Тут жесточь нужна, иным с ними ничего не поделаешь! Распустились везде! — Петр стукнул кулаком по столешнице. — Доберусь я до них!
— Так, государь. — Дьяк приготовил новые бумаги. — Еще есть отписки...
— О чем там?
— Из Посольского и Разрядного приказов пишут: казаки донские не оставляют своеволия, упрямство показуют и твои указы исполняют нерадетельно.
— Это как же? Говори!
— Как ты указал, тому прошло года с три, соляные заводы на Бахмуте отписать на себя и ведать ими Изюмского полку полковнику Федору Шидловскому, они, донские казаки, тому указу учинились ослушны, солеварни те разорили и сожгли, изюмских жителей били и прогнали. И по ся места не дают им соль варить и теми местами владеют не по твоему указу.
— Старые воры! Сколько их били и казнили! И батюшка мой, царствие ему небесное, и брат мой Федор; и мне приходится! Да все не успокоятся никак! Ну, погодите, атаманы-казаки! Сарынь подлая!
— И с беглыми снова...
— Так... Мало им! Тыщи подлых бегут во все стороны, наипаче же — на украины российские, на Дон и в Запороги, Терек и Яик. Ах ты, докука злая, государская!.. С королем свицким, похоже, баталия будет. А тут эти донские мешают.
Царь выбрал из бумаг, что на краю стола лежали, одну. Развернул, оказалось — широкий лист, тонкими линиями разрисованный, с надписями мелкими буковками, значками, точками, штрихами.
— Смотри — карта Дона с притоками. Вот Дон. — Петр провел пальцем сверху вниз. — Вот их столица смутьянская, Черкасск. Лукьян Максимов там ныне сидит в атаманах. Бывал я у него... — Улыбнулся, вспомнив что-то приятное. Подавил улыбку. — Что-то не понять его. Человек богатый, значный. Таких, как он, не зря донскими помещиками зовут. А юлит, с голутвой не управится никак. Боится он их, что ли? Не вместе же войсковой атаман с гультяями беспортошными?..
— И их боится, и еще пуще — донские вольности старинные потерять, власть свою и старшинскую. Да и беглых домовитые хотят сохранить, работают они на них в куренях старшинских, у стад и в извозе, на солеварнях и в ловлях, рыбных и звериных. Да мало ли, всего не исчислить.
— Знаю... Да ведь я атаманские и старшинские земли и промыслы отбирать не собираюсь, пусть пользуются. И работниками тоже. Только с беглыми из России — тут, брат, шалишь! Накося, выкуси! — Царь показал куда-то в угол кукиш. — Ты ведаешь, дьяк: сколько у них этих городков и в них казаков, старожилых и новоприхожих? А особливо беглых русских — помещиковых, работных людей, солдат и прочего сброда?
— По справкам из приказов, всего на Дону городков близко к ста тридцати. А живут в них казаков тысяч с тридцать и больше. — Дьяк внимательно вычитывал цифирь из столбца, потом поднял голову. — Всех, государь, особливо новоприхожих беглых, счесть не уметь.
Многие в описи не попали, скрываются кто где. Просторы-то на Дону немалые, немеряные...
— Измерим, придет срок! Зело то надобно. Вот что, дьяк; утомился я, да и ты, я вижу, устал. Отдохни малое время. После обе да сосну часок. Потом приходи. Надо решить это дело — с беглыми на Дону; как заноза сидит оно во мне. Ступай.
Дьяк собрал бумаги, бесшумно удалился. Денщик знал свое дело — час обеда наступил, и в дверь просунулся поднос, за ним — денщик с полотенцем на плече и веселой ухмылкой на круглом лице. Петр встал, потянулся и, пока тот ставил на стол обычный графинчик с анисовой, тарели с хлебом, щами и кашей, прошелся по горнице, поскрипел сапогами. Что-то обдумывая, постоял у окна. Повернулся, сел.
— Что нынче даешь к столу?
— Как всегда, государь.
— И хорошо. Многое ли солдату нужно? Верно, брат?
— Истинно так, Петр Алексеич.
— То-то. Разносолы нам на войне не нужны. Не герцоги и графы французские — сидят за столом часов по пяти, болтают вздор и кружевами трясут. Видел их немало. Тьфу! Прости меня, господи, грешного...
Быстро поев, удалился в спальную комнату. Денщик собрал посуду, ушел в прихожую. Вскоре легкий храп известил его, что государь почивать изволит.
Проснулся только часа через два. От дальнего пути он действительно устал. Открыл глаза, полежал немного. Вставать не хотелось. Вспомнил о делах, и его как ветром сдуло с кровати. Прошел в горницу, позвал:
— Митрич! Поди сюда!
— Тут я! Как спалось, Петр Алексеич?
— Хорошо, да мало! Больше нельзя. Спать — не дела вершить. Оне ждать не будут. Не сделаешь сегодня — завтра жалеть будешь. А то локти грызть. Так-то. Зови того дьяка-строчилу!
Скоро появился Макаров. Бумаг у него, кажись, прибавилось — отметил про себя царь.
— Что это ты? Сколько чли до обеда, а ты еще больше сюда волочишь.
— Да собрал какие ни то столбцу — грамоты всякие, отписки, описи, книги переписные. Все по донскому делу — о беглых, своеволиях казачьих, о новопостроенных городах и их жителях. И еще есть...
— Много у тебя. Давай по порядку, вникнуть мне надобно. Прежде — о беглых ворах. Об остальном — после.
— Из Воронежа, Тамбова, Белгорода и иных южных городов пишут адмирал Апраксин и воеводы: многие крестьяне и дворовые люди, вотчинниковы и помещичьи, из многих уездов, а такожде посадские жители, солдаты и рейтары, всякие работные люди с Воронежа, лесных пристаней и верфей, с будных майданов и речных судов бегут от работ полевых, от службы и корабельного строенья, от рублевых денег и пошлин, от рекрутских наборов и подводных повинностей, крепостных и городовых работ. А донские казаки их принимают, селят в домы свои, в зимовники прячут, на речки посылают соль варить, рыбу и зверя ловить, сено косить, мед на пасеках собирать. И от того прибытки имеют немалые казаки старожилые, особливо низовые, черкасские. Да и по среднему Дону, и по Донцу с притоками атаманы станичные и вся старшина к тому склонность имеют, беглых в работниках держат. А переписать их не дают, государевых сыщиков вводят в обман, в Москву пишут отписки с отговорками: исстари, мол, повелось: с Дону выдачи нет; и беглых-де у них нет; а тех, кого сыскали, выслали в прежние их места.
Дьяк остановился, перевел дух. Царь слушал внимательно. Смотрел на него, ждал, что скажет далее.
— А по верным вестям, сказкам сыщиков и жителей Белогородского разряду у тех старожилых казаков живет беглых разного чина немалое число. А люди голутвенные, наипаче из верховых городков, их, беглых, принимают и защищают, на кругах о них вопят, государевых сыщиков слушать не хотят, лают их неподобною лаею.
— Сколько беглых скопилось на Дону?
— Точно сказать немочно, государь. По приметам, много сотен, а то и несколько тысяч будет.
— Прячут, сволочи! А земли дворянские пустеют, служить с них все трудней господам офицерам и генералам. И делу всякому поруха чинится немалая. — Петр остановился, подумал. — Отпиши в Москву к боярам, пусть глаз не спускают с тех, кто о беглых во всем государстве пещись должен. Пусть сыскивают вседенно, с великим тщанием и поспешанием, под страхом опалы государевой. А тех, кто беглых укрывает, карать безо всякой милости и пощады. Беглых людишек, сыскав и наказав, кого как пригоже, высылать в те места, откуда вышли, без всякого мотчанья, с провожатыми, чтобы по дороге не убежали или каким делом не сгинули от болезни или забойства разбойного. Записал? Ну, ин ладно.
Царь походил немного, задумался, вспомнил давнее, страшное. Вздрогнул, дернул головой. Дьяк, зная болезнь Петра, внимательно, с испугом взглянул на него. Мысленно осенил себя крестом: «Господи, пронеси мимо! Опять, кажись, стрельцов бунташных вспомнил... Царица, мать небесная...» Петр Алексеевич, думая о донских происшествиях, действительно вспомнил о стрельцах и Хованском, Софье и Милославских, Шакловитом и Цыклере — всех тех, кто, как он был убежден, покушались на него и его власть, становились на его пути. Видения прошлого пронеслись в сознании: паническая скачка в Троицкий монастырь от страха быть убитым стрельцами Шакловитого; заговоры и замыслы Цыклера, раскольников извести его, «царя-антихриста»; стрелецкий розыск после «Великого посольства», казни стрельцов и страшный обряд поругания над трупом Милославского. А потом были неподобные слова о нем разного чина подлых людей. Спасибо князю-кесарю: в Преображенском приказе спуску не дадут. Совсем недавно Астраханский бунт подавлять пришлось, самого Шереметева, фельдмаршала, с полевой армеи пришлась посылать против изменников и воров. Башкиры тоже бунтуют. Чернь по всему царству словно с цепи сорвалась. Не хватало мне еще донской Либерии (так, помнится, писал с Изюма Шидловский о тамошних ворах-казаках)!
Петр очнулся, овладел собой:
— ...Давно я о том думаю. Мыслю так: пошлю туда офицера хорошего и строгого. Пора там порядок навести. Сколько с ними, своевольниками, переписку вести? Время только тратить без пользы. И беглых оттуда выслать, и руки казакам-атаманам укоротить. А послать туда князя Долгорукого, подполковника. Юрием Владимировичем зовут. Знаешь его?
— Знаю, государь. Такой там и нужен.
— Верно. Бери перо и пиши указ.
Царь откинулся на сиденье, помедлил, начал диктовать:
— «Господин Долгорукой! Известно нам учинилось, что из русских порубежных и из ыных розных наших городов, как с посадов, так и уездов, посацкие люди и мужики розных помещиков и вотчинников, не хотя платить обыкновенных денежных податей и оставя прежние свои промыслы, бегут в розные донские городки, а паче ис тех городков, ис которых работные люди бывают по очереди на Воронеже и в ыных местех». — Остановился, подождал, — Написал?
— Написал, государь.
— Далее пиши: «И, забрав они в зачет работы своей излишние наперед многие деньги, убегают и укрываютца на Дону з женами и з детьми в розных городках. А иные многие бегают, починя воровство и забойство. Однако же тех беглецов донские казаки из городков не высылают и держат в домех своих».
Снова остановился. Решительно и споро продолжал:
— «И того ради указали мы ныне для сыску оных беглецов ехать из Азова на Дон Вам без замедления которых беглецов надлежит тебе во всех казачьих городках, переписав, за провожатыми и з женами их и з детьми выслать по-прежнему в те ж городы и места, откуда кто пришел. А воров и забойцов, естьли где найдутца, имая, отсылать за караулом в Москву или Азов».
— Погоди, государь, не спеши. Рука писать устала.
— Ладно, отдохни. Мало уж осталось. Напиши далее сам: пусть сыщет обиды и разорения, кои донские казаки учинили на Бахмуте Шидловскому. Поди, у тебя есть о том от него отписки?
— Есть. Сделаю, как велишь, государь. Еще что приказать изволишь?
— О дьяке Горчакове с Воронежа: почему они, донские ж казаки, спорные земли и угодья на Бахмуте ему описать не дали? Моего указу о том и наказу из Приказу Адмиралтейских дел из Воронежа почему ослушались? А Долгорукому того Горчакова с прежними сысками призвать к себе, те спорные земли и угодья описать, меж донскими казаками и изюмскими жителями розвести. А более всего ему, Долгорукому, промысел иметь о беглых. Сыскивать и возвращать их без промедления и пощады. Все. Добавь в конце, как обычно: писано из Люблина, сего дня — июля шестого. Отбели, принеси мне. Я подпишу.
— Слушаю, государь.
— О прочем — новопостроенных городках, как донские казаки на азовских дорогах селятца, — поговорим спустя малое время. Другие дела, срочнее этих, ждут решения. Вспомнив что-то, добавил: — Чтобы промедления не было, скажи об остатних донских делах Данилычу. Его светлость в тех местах, от Дона недалече, земли имеет. Небось и от него бегут людишки. Пусть о том подумает. Он должен сюда приехать. Ступай с богом, да не медли с указом.
Дьяк с поклоном удалился. Петр еще некоторое время не отошел от слов и дум о донских делах. Еще раз подумал с раздражением: «Семя проклятое, бунтовское. Выводить его надо с корнем, без милости и пощады». Остановившись на том, заставил себя переключить мысли на другое...
>
* * *
Дела, связанные с войной, требовали постоянного внимания и решений, неотложных, сиюминутных, и Петр следил за ними, направляя развитие событий, насколько мог и, в вечной спешке пребывая, не забывал, однако, и о других. Донские неприятности нет-нет да и приходили на ум; он надеялся, что его бояре следят за буянами, которые вообразили себя республикой, которую считал шумной и бездельной. Вспоминал, как в Лондоне сидел в парламенте, невидимый для депутатов, поскольку пребывание имел наверху, в галерее, чтобы никто не видел волонтера Петра Михайлова. Инкогнито тогда, в «Великом посольстве», он старался соблюдать. Хотя многие его быстро разгадали. Как сейчас видит: выступают депутаты, говорят как будто и дельно, но ведь сказывают и о короле, правительствующих особах, да как! Непригожие речи, слова непристойные! Ну, пусть их там, в Англии. У них и король-то — не то чтобы дурак какой или мямля никудышная. Нет, Вильгельм Оранский, король аглицкий и штатгальтер нидерлянской, и умен, и хитер, и осторожен; да и власть любит преизрядно. Но сие от подданных терпит, слушает. А они государя своего не боятся, но, это уж точно, почитают.
«Да, — перешел он к раздумьям о своих, российских заботах, — и у нас после того «Великого посольства» заведены новые обычаи. В Конзилию министров, коя ныне вместо Боярской думы замшелой затверждена волей монаршей, о делах судят смело, спорят, подчас встречно говорят помазаннику божиему. Дак это по моему хотению, а не их воля. Блаженной памяти цари и государи Иван Васильевич Грозный и сын его Федор земские соборы созывали, а после смуты дедушка мой Михаил Федорович и вовсе без собора не решал дела государственные. Но в те поры трудно было прадедам и пращурам нашим. А батюшка Алексей Михайлович, светлая ему память, и без соборов обходился, разве только единожды созвал, — чтобы Хмельницкого взять под свою высокую царскую руку. Тогда Украина, с левой стороны Днепра, с Россией соединилась. То наши древние земля, и народ наш — русский. Почитай, половину от ста лет прожили заедино, вместе хлеб сеем, детей ростим и с басурманами на юге воюем. Плохо то, что правый берег под чужими панами. Да запорожцы воду мутят. И Дон рядом. Опять эта Либерия! — поморщился царь. — Да... Вольность им сохранить надо. С Дону выдачи нет, видишь ли! На кругах кричат, что хотят! Скажи на милость — парламент аглицкий! Горлопаны и бездельники! Сарынь степная! Покажу вам парламент! Ишь, что захотели! Спроста рещи, глупые и безумные, тщатся государством управлять!»
Снова мерил шагами просторную горницу. Недовольно хмыкал, взглядывал наверх — потолок высокий, со всякими кунштами. Куншты-то (лепнина по углам, вольная, скабрезная даже) ничего, да вот высота такая зачем? Царь, выросший в старых кремлевских и Преображенских теремах, любил помещения низкие и тесные, со всякими переходами и крылечками, скрипящими дверями и половицами. Уютней в них и удобней, хоть с тараканами и клопами, — дух совсем другой, русский; не то что здесь — просторно, красиво, да душе холодно, сердцу не говорит ничего. Пожить бы здесь подольше — велел бы парусину наверху натянуть, чтобы пониже было...
«Что же это Данилыч не едет? — спохватился царь. — Время приспело». Подошел к окну, выглянул. Внизу, у входа, толпились, сновали туда-сюда люди. Свои: служилые, приказные — помощники его, польские шляхтичи с важной осанкой и горделивой поступью. «Фу ты, пся крев! — вспомнил, посмеиваясь, шляхетское присловье. — Выступают, словно гусаки среди кур на дворе. Не то что наши, лапотники российские. В них-то спеси панской поменьше. Ну, ничего. Пусть спесь на дело, на пользу государственную перековывают. Так-то лучше. Мужикам, и русским, и польским, некогда спесивиться. Трудиться надо. И монархам тоже».
Царя разбирало нетерпение; раздражение готово было прорваться вспышкой гнева. Но, спасибо ему, в двери возник денщик:
— Александра Данилыч, светлейший князь, прибыл.
— Здравствуй! Рад! — Петр быстрым шагом встретил на середине горницы Меншикова. Что медлил?
— Здравствуй, мин хер! Делов много, задержали...
— Данилыч! Сколько разов тебе говорил: важней дола государева нет ничего. Аль не упомнил?
— Помню, помню, мин хер! Да с делами воинскими — государевы ведь! — мороки много — рекрутов, хлебных запасов, зелейной казны присылают с большим недобором. Погонять приходится...
— Ведомо мне о том. Приказал послать указ в Москву к боярам, поспешать велел. Ругать много приходится. — Посмотрел на друга, потеплел. — Не все такие помощники, как ты.
— Спасибо, государь, на добром слове. Ты знаешь: все сделаю, что приказать изволишь.
— Ну и ладно. Поговорили, и хватит о том. Не возгордись только! Гордыня непомерная мало кого на путь истины приводила.
— Как можно, мин хер?! Да я...
— Довольно, довольно! Знаю... — Посмотрел пытливо. — Я тебя, Данилыч, давно спросить хотел: на тех землях, что ты под Тамбовом получил, все ли благополучно?
— За то пожалование, государь, я тебя благодарил и вечно о том помнить буду. Пишет управитель, что землица в той даче зело добрая, плодородная. Рожь и ячмень растут хорошие. Все бы ладно, да одно плохо...
— Что, людишки бегут?
— Бегут. — Меншиков вздохнул сокрушенно. — Я уже неединожды приказы слал: построже с теми подлыми людишками, кои в бегство уклоняются.
— Помогают твои приказы?
— Не очень, мин хер... — Светлейший снова вздохнул. — А сказать откровенно, никак не помогают.
— Так и знал.
— На то ж жалуются другие окрестные владельцы.
— Кто?
— Репнины князья, бояре Романовы и Нарышкины...
— Родственники мои, — задумчиво протянул царь. — М-да-а... А земли Войска Донского далече ли от ваших?
— Да рядом — по Хопру, Медведице, Бузулуку и их притокам.
— И в других местах то же деется.
— Так, мин хер. В воронежских дачах и по Слобожанщине помещики и монастыри рядом с донскими казаками живут. Споры и драки не переводятся. Сам знаешь — по Бахмуту и иным случаям.
— Знаю. Хорошо знаю. Давно. Донцы вон с епископом Митрофанвем воронежским задрались из-за земель в угодий Борщевского монастыря, к югу от Воронежа верстах в сорока. Земли-то, вишь, были во владении у казаков. А когда молод еще я был, при зазорном том лице [16] их отобрали у казаков и передали Митрофанию. Вот они с тех нор и злобятся. Потом еще описали земли по Битюгу, а там наша дворцовая волость появилась — более тыщи дворов и близ пяти тыщ крестьян обоего пола. Опять крик подняли те... И по другим случаям зацепы бывали.
— Неспокойно зело от них, мин хер. Взяться бы за них, да как следует.
— То же мыслю. Тут Макаров мне докладывал некие дела, все больше — о беглых. Указ мы подготовили для Долгорукова, князя Юрия, — о сыске тех воров и беглецов. Он с ними там поговорит как надо. — Петр сжал кулак. — Дьяку я сказал, чтобы остальные дела он обсудил с тобой. Разберись и моим именем прикажи.
— Слушаю, мин хер. Когда?
— Да нынче же. Что медлить?
Царь и светлейший поговорили еще немного о польских делах. Перебрали претендентов на польский престол — кто лучше. После Альтранштадта, позорного и изменного мирного договора Августа с Карлом, первый отрекся от польской короны и признал Станислава Лещинского как короля Речи Посполитой. Но львовская Вольная рада в марте 1707 года приняла решение — не признавать «состряпанного» шведами Станислава, избрать нового короля, считать Петра гарантом вольностей Речи Посполитой, точнее — ее шляхетства, выборности ее монарха. Но принять корону Польши и Литвы поочередно отказались сыновья Ява Собесского, выдающегося в популярного среди поляков короля Речи Посполитой в конце предыдущего столетия; затем — австрийский принц и фельдмаршал Увгений Савойский, Ференц Ракоци, вождь освободительного движения в Венгрии против австрийского господства, не прошел из-за возражений Людовика XIV, который к тому же хорошо относился к Станиславу Лещинскому. Еще один кандидат — великий коронный (польский) гетман Сенявский — не устраивал его земляков — магнатов. Ходили слухи в связи с польским троном о русских кандидатурах — царевиче Алексее и князе Меншикове. Но Петр не мог этого допустить — это означало бы русский протекторат над Речью Посполитой. Более того, полагал и заявил об этом прусскому королю в ответ на его вопрос:
— А о признании (кого-либо польским королем. — В. Б.) такое средство положить: который без помощи прочих останется собственною силою, того и признать.
Оба собеседника были согласны в том, что королем польским должен стать тот, кто обеспечит независимость Польши без иностранной помощи. Поскольку подходящих кандидатов не находилось, оставался все тот же Август Саксонский, так много досадивший царю и России. На том и решили.
...Меншиков и Макаров, бывший недавно подьячим Ижорской канцелярии, «в приказе у Меншикова», понимали друг друга с полуслова. Всесильный фаворит царя и незаменимый помощник Петра по Кабинету, его тайный кабинет-секретарь, оба верой и правдой служившие патрону, они нуждались друг в друге и помогали взаимно чем могли. Поручение Петра по донским делам потребно было исполнить, как обычно, скоро и с умом. Посему оба засели за бумаги. А их накопилось много зело. Светлейший, ставший уже надменным и высокомерным, к своему бывшему подчиненному относился покровительственно, но с его положением считался: как-никак а при особе царской пребывает.
— Господин секретарь! — Князь с сочувствием в тонкой усмешкой посмотрел на Макарова. — Сколь тягостно тебе с таким ворохом бумаг приходится. Сочувствую...
— Служба государева, ваша светлость, требует, потому и тружусь денно и нощно.
— Служить государю, — согласился светлейший, — наша наиглавнейшая забота. С чего начнем? Давеча его величество говорил о землях, спорных у донских казаков с соседями — по Медведице и Бузулуку, Хопру и Битюгу. Помещики тамошние и старцы монастырские челом бьют на обиды от казаков донских.
— Вестимо, бьют, Александр Данилыч. И большие люди — Салтыковы, Воротынские, Воронцовы, Долгорукие, Одоевские, владения их — в Тамбовском и Козловском уездах; и мелкие служилые люди, кои дачи получали по реке Медведице по многие годы — в 1693, 1701, 1702 и 1704 годах. По той же Медведице и соседним рекам Хопру, Вороне, Елани с притоками боярин Лев Кириллович Нарышкин, дядя государев, получил земли немалые — Конобеевскую волость в Шацком уезде, а в ней 777 угодий.
— Знаю. Хорошая дача государева... Недалеко от моих землиц. Крестьяне, люди дворовые тоже бегут на Дон?
— Бегут, Александр Данилыч. А донские казаки, из старшины и старожилых, их принимают в домах своих и зимовниках. Берут с них деньги, имение и вино за то укрывательство. А на те помещичьи и монастырские земли казаки приходят и их разоряют. Вот хоть бы тамбовские и хоперские вотчины Игнатия, бывшего епископа тамбовского.
— Это тот, которого сослали в Соловецкий монастырь по делу Талицкого?
— Он самый. Лет семь или шесть тому прошло. Книгописец тот вместе с Игнатием и боярином Хованским Иваном Ивановичем писали листы против особы государевой, звали царя антихристом, хотели его убить и на царство посадить князя Михаила Алексеевича Черкасского. За то Талицкого казнили, Игнатия расстригли, а боярина в тюрьму посадили.
— А что же с землями теми стало?
— Приказчик бывшего тамбовского епископа Автомон Гордеев писал в Монастырский приказ еще более пяти лет назад: в прошлом-де в 207-м году (1699 г. — В. Б.) хоперского Пристанского городка казаки насильством своим завладели без указу великого государя половиною Коренной вотчины, Ореховским юртом, рыбными и звериными ловли и бортными угодьи. И от того Ореховского юрта в приходе было в дом бывшему епископу с рыбной ловли всякой рыбы в год возов по 30-ти и больши, а з бортного угодья меду пуд по 20 с лишком.
Далее из доклада Макарова Меншиков узнал, что в последующие годы казаки Пристанского городка, Беляевской станицы самовольством ловят рыбу в тех же вотчинах на Хопре и Савале, рубят бортные деревья и хоромный лес, улья выдирают, зверя ловят и свою скотину в тех лесах пасут. На реке Савале ниже Савальской вотчины поставили мельницу и всякой рыбе учинили остановку: всходу рыбе верх по реке ныне нет.
Меншиков слушал, кивал головой. Потом остановил:
— Ну, будет — понятно все. Решение по делу было?
— Было. Посольский приказ в году 1701-м, февраля в 11-й день отправил грамоту Войску Донскому, чтобы казаки в те лесные угодья и рыбные ловли собою насильством не въезжали и шкоды никакой нм не чинили, и в реках и в озерах рыб, а в лесах всякого зверя не ловили, и пчелиных роев не выдирали, и никакого леса не рубили, и в те угодья скотины никакой не пускали. А те хоперские вотчины отписали на великого государя.
— Что потом было?
— В году 1703-м те вотчины, Коренная и Савальская, отданы на оброк Гостиной сотни торговому человеку Ивану Анкудинову. На следующий год казаки Пристанского городка, Беляевской и Григорьевских станиц приехали в тое вотчину, в деревню Русская Поляна и в Коренной городок, с ружьем и бунчуками и в пансырях. И в той деревне учинили круг по казачьему обычаю и на том кругу кричали, чтоб крестьяне с их казацкой земли выбирались вон з женами, и з детьми, и з пожитками. Потребовали Анкудинова и, когда тот пришел, били его, грозили бросить в воду и от той вотчины отказали. Выбрали свой караул, той вотчиной со всеми пожитками и припасами, ружьем и порохом завладели.
— Так. А в других местах?
— И в других то же. Казаки донские зацепки заводят с азовскими жителями и солдатами из-за рыбных ловель по нижнему Дону. По указу и статьям из Разрядного приказу им, донским своевольникам, запретили ловить рыбу близ Азова и вверх по Дону до Донца, а також-де на Азовском море и по запольным речкам. А Посольской приказ против тех статей сделал умаление: запретил казакам довить рыбу только вверх по Дону до Мертвого Донца на 10 верст, а вниз от города Азова до взморья на 4 версты на 150 сажень.
— Ну, хорошо. Везде, где можно, надобно их ограничить. Пущай место свое знают, а государевых людей не задирают.
— Вестимо так, Александр Данилыч. Указы о том посланы.
— О чем?
В одна тысяща семисотом году июля в 21-й день велел великий государь перевести новопришлых казаков верховых городков, с Хопра, Медведицы и Бузулука...
— Вот-вот! Как раз оттуда!
— ...И поселить их по дорогам к Азову: одних — от Валуек к Азову, других — от Рыбного или Нового Острогожского острогу.
— Когда переселили?
— Войсковой атаман Лукьян Максимов в декабре 1701 году в грамоте писал, что 720 новоприхожих поселили в семи юртах по речкам Северскому Донцу, Выстрой, Белой Калитве, Тихой, Грязной, Черной Калитве, Большой и по другим. Да по дороге ис Танбова к Азову и по другим дорогам, по реке Чиру поселено тех же переведенных людей немалое число.
— Послушались, значит?
— Послушались, да не совсем... Многие городки поселены не в указных местах: на реке Айдар городки Новой Айдар да Осиновый Ровенек. И другие городки тоже.
— Сиречь не по азовским дорогам?
— Так, ваша светлость, не на шляху, а в стороне от проезжей большой дороги. В те городки бегут работные люди с азовских и воронежских работ. И тех беглых донские казаки не отдают, государевых указов не слушают. Туда же идут жители украинных русских городов, которые от того остались в малолюдстве.
— А старшина черкасская куда смотрит?
— Отговариваются всячески. Государевы указы к ним посылали неединожды, учинен атаманам и казакам заказ накрепко, с таким страхованьем, что они за укрывательство беглецов вместо смертной казни сосланы будут вечно на каторги; а иные к тому пущие укрывательники по розыску преданы будут смертной казни. В году 1705-м войсковой атаман и все Войско Донское писали, бутто те городки по Айдару — Новой Айдар, Беленькой, Закотной и прочие — поселены в прошлых давних годех до великого государя указу и до азовских служб. А населены они из розных городков старожилыми казаками, а не вновь пришлыми русскими людьми. «А по указу великого государя и по грамотам из Посольского приказу, — пишут они далее, — мы, холопи твои, всем Войском посылаем из Черкаского во все казачьи городки войсковые письма и розыщиков своих с великим прещением под смертною казнию, чтоб нигде ниоткуда никаких с Руси беглых и единого человека не принимали и отсылали б их по-прежнему в Русь в те городы, откуды они пришли».
— Врут все, канальи!
— Врут всенепременно. И по другим случаям врут.
— Ничего, доберемся до них.
— В прошлых, Ваша светлость, годех — 1703-м и 1706-м, — в те верховые городки посылали стольников Кологривова и Пушкина для высылки беглых ратных людей, боярских холопов, крестьян, а потом и новые государевы указы. И все напрасно.
— Выходит, непослушание чинят старшина и все казаки?
— Так, Алексей Данилыч.
Из дальнейших расспросов светлейший узнал еще немало для себя интересного. Оказывается, на Дон шли грамоты, одна за другой, с разными запретами: не сечь и не пустошить леса по Дону и притокам, годные для корабельного строения (а это ограничивало их охоту, бортничество, торговлю мехами и — для беглых — подсечное земледелие); не продавать и не сушить рыбу, поелику надобна она про его великого государя обиход; не занимать пустопорожние земли по верховьям Дона.
Казаков теснили во всем и со всех сторон, и центральные, и местные власти. С севера, северо-запада и северо-востока в их земли вклинивались, чем дальше, тем больше, владения помещиков и монастырей. Слободские полки отнимали у них угодья и промыслы. Воеводы поволжских городов брали двойные торговые пошлины с них и ездивших с ними для торгов юртовских татар и калмыков.
С теми же калмыками, татарами — кубанскими, ногайскими, крымскими, едисанскими — у казаков часто случались взаимные нападения, грабежи. Кубанцы разоряли их городки под самим Черкасском, отгоняли конские стада, уводили многих казаков в неволю. Отбирали их имущество, добычу.
Положение донцов в первые годы нового столетия непрерывно ухудшалось, и они, естественно, протестовали против мер московских бояр и их местных агентов-воевод. Жить становилось все трудней. Хлеба на Дону постоянно не хватало, хотя уже в последней четверти XVII столетия казаки начали заводить пашню. В 1690 году войсковое правительство под страхом смертной казни запретило земледелие на Дону. Но хлебопашество по Хопру, Медведице, Северскому Донцу постепенно расширялось, особенно стараниями беглых — крестьян, бобылей, холопов, бежавших сюда «из Руси». Бедный люд скапливался в верховских городках в большом количестве, и это сильно тревожило власти и помещиков. Донская голытьба в их глазах — элемент беспокойный, бродячий и бездомный, склонный к непослушанию и бунтовству. Такие же настроения и стремления, и они это очень хорошо знали, были распространены среди «подлой черни» русских уездов. Недаром худые людишки бегут оттуда на Дон и увеличивают число тамошних гультяев. То же — и работные люди с воронежских, азовских и таганрогских верфей, с пильных мельниц и лесных пристаней для сплавки леса, с железных и кирпичных, селитренных и кожевенных заводов, с кузниц и солеварен, будных майданов (выделка поташа) и гутов (стекольное дело). Отовсюду бегут люди — из Руси и Слободской Украины и государственный интерес от того большой урон имеет. Терпеть сие невозможно.
...Меншиков, прослушав все, о чем известил его Алексей Васильевич, стал мрачней тучи черной:
— Многое насказал ты мне, господин Макаров! Голова пухнет. Однако же меры, и меры срочные, беспощадные, принимать надобно. Доложу о том государю. На том и закончим.
Макаров сложил бумаги, поклонился и вышел. Светлейший посидел, побарабанил пальцами по столу, кружевные манжеты из-под рукава вздрагивали, трепетали. Встал, одернул кафтан, поправил парик, тихо подошел к двери горницы, где, он знал, находился друг-патрон и повелитель:
— Позволишь войти, мин хер?
— Входи, входи! Вот хорошо, Данилыч, что пришел. Только что отпустил фельдъегеря, вести привез. Карлу с, слава богу, пока в Россию итти намерения не имеет. Ходят слухи, что на Империю сердитует: император-католик, видишь ли, преследует протестантов в германских государствах; в Силезии отбирает у них церкви. И швед за своих единоверцев вступается. Версальский двор надежду имеет Карлуса натравить на Австрию. Обеспокоены в Лондоне и все союзники аглицкие. А нам то на руку, поелику швед еще больше завязнет в делах европейских. Дай боже, чтобы это было правдой!
— Дай бог, мин хер. А я пришел к тебе сказать, что сидел с Макаровым для рассуждения о донских делах.
— Что рассудили? К чему пришли?
— Много от казаков донских самовольств всяких и помехи для нас, государь.
— Вот новость-то сказал! Известно сие давно. Ты о деле говори. делать будем?
— Для сыску беглых ты сам, мин хер, Долгорукова посылаешь. Солдат ему много даешь?
— Сотню-другую дам. Пока хватит. Главная забота сейчас — Карлус. Хоть он и сидит в Альтрапштадте и от всей Европы плезиры получает, одначе, не ровен час, и в Россию повернуть может.
— Верно, мин хер. Но...
— Что но?! Не крути, не верти, как лиса хвостом!
— Давно ли бунт астраханский минул, государь?
— Ну и что? То — бунт. А тут — драки казаки всчинают. Вред от них повсюду большой. Долгорукий по Дону пройдет с грозой невеликой, и присмиреют казаки.
— Хорошо бы. Но, мин хер, в Астрахани тоже с драк начиналось. А потом фельдмаршала с войском туда послать ты изволил.
— Верно, Данилыч... Царь замолчал, но ненадолго. — Думаешь, больше послать надо?
— Пока нет, мин хер. Ты прав, как всегда. Но иметь в виду надо, полки готовить. На всякий случай. Ведь, помимо беглых, и другие вины они имеют. Многое мне тут, — Меншиков махнул в сторону соседней комнаты, — говорил и чел Макаров. Поневоле опасение держать будешь.
— Да и сам я так думаю, Данилыч. Пока пусть Долгорукий туда идет с отрядом. А там посмотрим. Ты это дело из рук не выпускай. Зело то важно. Прикинь, кого нужно послать на Дон, если нужда заставит.
— Слушаю, мин хер. Сделаю все, что надобно.
НАЧАЛО ДОНСКОЙ ЛИБЕРИИ
На атаманском подворье на исходе лета собрались ближайшие помощники и друзья Лукьяна Максимова — Илья Зерщиков, бывший войсковой атаман, Абросим Савельев, Никита Саламата, Иван Машлыкин (Машлыченок), Григорий Матвеев, Ефрем Петров, Герасим Лукьянов, Матвей Матвеев Мажара. Хозяин пригласил их в свой курень — двухэтажный каменный дом. На второй этаж вела наружная деревянная лестница. По ней и поднялись наверх. Атаман плотно притворил дверь, показал на лавки вдоль стен. Все сели. Заходившее солнце освещало камору слабым светом. Лукьян оглядел сидевших, помолчал. Кашлянув в кулак, посмотрел внимательно:
— Господа старшина! Для чего собрались, вы знаете. Из Посольского приказу пишут: Шидловский жалобы шлет в Москву, что-де в нынешнем 1707 году в розных месяцех и числех чугуевцы, харьковцы, золочевцы, змиевцы мояченя, служилые и жилецкие многие люди, оставя домы свои, с женами и детьми, а иные и жен оставя, явно идут на Дон и в донецкие наши городки. И затем де в высылку в Азов и в Таганрог против указу великого государя людей сполна не будет. Велено нам беглецов не принимать, а тех, которые придут, отсылать на прежние жилища.
— Сколько разов писали нам с грозами, — прервал атаман Зерщиков, — да господь миловал. И сыщиков присылали. Отговоримся... Не внове нам.
— Так-то оно так. Мы, как вы помните, отвечали всем Войском, что русских новопришлых людей на Дону запрещаем принимать накрепко под смертною казнью. За нарушение и утайку беглых тех городков атаманам и лутчим людям по нашему войсковом праву — смертная казнь; а городки те все разорять и от юрта отказать.
— Что-нибудь сделать надо. — Саламата вопросительно посмотрел на остальных. — Хоть бы несколько беглых сыскать и отослать.
— Верно. То и сделано. — Максимов с одобрением кивнул. — Сообщили в Москву, что по Северскому Донцу, и по запольным речкам, и по новоуказным местам во все городки послали мы бывшего войскового атамана Илью Григорьева (Зерщикова. — В. Б.) и Тимофея Федорова с войсковым письмом для сыску и высылки новопришлых людей.
— Что же они сыскали? — спросил кто-то из темного угла. — Словам-то в Москве не верят. А наипаче государь Петр Алексеевич.
— Как розыск чинили, пусть Илья Григорьевич скажет. — Атаман посмотрел на Зерщикова. — Чай, государь будет доволен.
— Дай господь. — Бывший атаман прищурил хитрые глаза. — Сыскали мы новопришлых людей Белогородцкие черты села Старицына семей с 50. Переловили из них 30 семей и отослали на Валуйку воеводе Ивану Иванову сыну Арнаутову, именно (поименно. — В. Б.) с росписью отдали.
— Куда делись другие двадцать?
— Те разбежались. Мы их приказали сыскать, отослать на Валуйку же.
— А Харьковского и Изюмского полков жителей?
— Тех в городках не сыскалось, и их нету.
— По Хопру, Бузулуку и Медведице, — добавил войсковой атаман, — мы, выбрав из старшин Харитона Абакумова да Кузьму Минаева, с нашим войсковым письмом послали для сыску и высылки новопришлых людей.
Богатые черкасские казаки понимали, что их ответы и уловки не введут в заблуждение московских бояр и государя. Но авось нынешнее тревожное военное время, другие заботы, поважнее донских, отвлекут их и гроза пройдет мимо. Конечно, что-то сделать, хотя бы для виду, надобно. Да ведь жалко выпускать новопришлых работников — польза от них в хозяйствах большая и доходы немалые. В этом старшина единодушие имела и на то же рассчитывала среди станичных атаманов и старожилых казаков по Дону, Донцу и их притокам. Зерщиков, самый проницательный и ловкий из черкасской старшины, спросил атамана:
— Успокоились в Москве? Не тревожат боле?
— Как не тревожат. В сем месяце грамота из Посольского приказа пришла. За приписью тайного секретаря Петра Шафирова.
— Что пишут?
— Паче прежнего велят сыскивать новоприхожих беглых, которые бежали на Дон с 203-го году (1695 г. — В. Б.) после азовских походов, и высылать на прежние места.
— Вот напасть-то какая! — старшины хором, перебивая друг друга, заговорили зло и тревожно.
— Что им еще надо?
— Все неймется боярам! Мало они у нас земель и угодий отобрали!
— И монастыри от них не отстают!
Лукьян Максимов, выждав, пока стихли негодующие голоса, подлил масла в огонь:
— Вести, господа казаки, есть новые и худые...
— Какие еще?!
— Мало нам прежних!
— Что? Говори, не томи, атаман!
— Верные люди из Азова сообщили... — Максимов внимательно оглядел домовитых. — В Троецком (поблизости от Таганрога. — В. Б.), сказывают, подполковник Долгорукой Юрий Владимирович получил указ о беглых на Дону.
— От бояр?
— Что в нем?
— Еще не знаю... Мыслю: готовиться надо. Пущей беды не было бы...
— Опять бояры лезут! — осторожный Зерщиков кипел гневом. — Государь, поди, и знать не знает.
— Что делать будем? — атаман обращался ко всем. Не хотел прерывать воцарившееся в каморе молчание. Ждал — «пусть сами скажут. Не отмолчаться ведь!». Дождался — все заговорили:
— Что будем делать?
— Сколько терпеть можно?
— Казаки мы али не казаки!
— Теперича, выходит, Тихий Дон вольным называть запретят!
— Вольности и права наши беречь будем! Долгорукий нам не указ!
— Господа старшина! — Лукьян поднял руку, призывая к тишине. — Все согласны в том, что рушить донские вольности и привилегии не дадим?
— Согласны! Как не согласны?!
— На том и решим. Что будет, посмотрим. — Помедлил. — Предупредить надобно по городкам, по Дону, Северскому Донцу, по всем притокам, чтобы атаманы и старожилые казаки знали: новые сыщики явиться могут. Да новоприхожих бы припрятали...
— Так! Верно говоришь, Лукьян Максимыч!
— Свой интерес блюсти надобно! Боярам-то, известно, что надо: нас по миру пустить — земли отобрать и работников тоже!
— Готовиться будем как следует. — Зерщиков посмотрел на атамана. — Людей верных нужно иметь по городкам.
— Верно, Илья Григорьевич. — Максимов с хитрецой глянул на него. — Давай уж повестим господ старшину?..
— Говори. Пора уж.
— Вот, господа казаки, — слова атамана медленно и веско звучали в наступившей тишине, — некое время тому прошло, как имели мы тайную встречу и беседу...
— С кем? С кем?
— С одним человеком... Помните вы о бахмутских происшествиях?
— Как же! Помним!
— Булавин Кондрат, бахмутский атаман, там во главе стоял. Казаки из Трехизбянского и других донецких городков выбили из Бахмута изюмских полчан. А потом Булавин и Черкасский приезжал. Рассказывал. Вот мы с Ильей Григорьичем и слушали его. О донских вольностях и обычаях беседу с ним вели. Такие, как он, нам очень надобны.
— То дело доброе. — Ефрем Петров недоверчиво хмыкнул. — Да вот гультяи там были, и в немалом числе, с Булавиным вместе. А нам с ними по одной дороге не ходить.
— Так они от тех солеварен кормятся, — не согласился Зерщиков. — Да и мы от того кое-что имеем. Так, станичники?
— Знамо, так.
— У нас и там, и в других местах новопришлые в работниках живут.
— Без них нам туго будет.
— Ну, господа старшина, — подвел итог Максимов, — с этим, вижу я, все согласны.
— Согласны, конечно... — Ефрем Петров смотрел с сомнением. — Да кабы хуже не было. Государь по головке не погладит за тех беглых. Он, слышь, скор на расправу.
— Это мы знаем. Да ведь дело-то какое: и в царскую опалу попасть нет охоты, и свои права терять тоже нельзя. — Максимов смолк, потом тряхнул головой. — Как ни крути, господа старшина, а решаться надо. Притом и Москву не гневить. В случае чего и туману напустить можно. Дело то обычное.
— Вот-вот, — у Зерщикова заблестели глаза, — о том и я так же мыслю. А Булавин — наш брат, атаман. Человек он храбрый, горячий. Справедливость любит.
— А голутва? — Петров вперил в него насмешливый, острый взгляд. — Они тоже храбрые. Да их храбрость для нас может так обернуться... А Булавин-то тоже, говорят, из таких, из Слобожанщины к нам вышел.
Вишь ты, какое дело. Из той голытьбы немалое число на нас с тобой, Ефрем Петрович, работают. И Булавину они надобны. И другим таким же. Прав Лукьян Максимович: быть готовыми следует; а Булавина и иных поддержать надо. Лиха беда к нам не раз ходила — вспомните Кологривова с Пушкиным и иных сыщиков. Приехали и ни с чем уехали. А Горчакова Булавин под арестом держал и прогнал на Воронеж. Он нашу линию ведет, а ты, — он повернулся к Петрову, — говоришь не то. Булавин — атаман, теперь к старшине принадлежит. А что там раньше было... Было, да прошло!
— Правильно гутаришь, — Максимов согласно кивал единомышленнику. — Булавина мы одобрили и с тем отпустили домой на Донец; в случае чего, мол, делай, как на Бахмуте делал; сыщикам спущать нельзя, отводить их от Дона надобно; мы, мол, из Черкасска поддержим.
— М-да-а... — протянул Ефрем Петров. — Вот оно как выходит...
— Что ты душу выворачиваешь? — Зерщиков еле себя сдерживал. — Сумнение имеешь? Может, московским боярам поклонимся нашими правами?
— Дак я разве о том? О другом.
— И о том, и о другом думать надо. И с Москвой ухо востро держать, государя не прогневить и свой интерес блюсти. На то мы и старшина черкасская, чтоб выход находить. Войско Донское в нерушимой обыкности соблюдать.
— Кто ж с этим спорит? Только осторожней надо. А гультяям воли не давать!
— Наконец-то. Умные речи и слушать приятно.
— Ну, все. — Максимов прихлопнул ладонью по колену. — Вижу: все в сугласие пришли.
Никто не возражал. Глава старшинской партии, войсковой атаман, видел и понимал колебания некоторых своих помощников. Его самого подобные же сомнения посещали неединожды, от них голова болела, ночами не спалось. Всем нутром, хитрым своим разумом чувствовал Лукьян Максимович, что грядет новая если не беда, то неприятность. И всё — от бояр московских и помещиков, монастырей, государевых полчан и иных служилых людей. Все зарятся на донские земли и угодья. Что тут говорить? Места богатые — земли тучные, рыбы и зверья много; опять же — борти, солеварни, лес строевой. Да мало ли... Вольности наши поперек горла им стали, особливо беглых своих вернуть требуют. Думают, мы тут, как сыр в масле, купаемся. А живем ведь как на погребе зелейном. Отовсюду — набеги татар и калмыков да воеводские ухищрения, прицепки. Что они там, в Москве, не видят, что ли? Опять же полки свои шлем в воинские походы — и старожилые, и новоприходцы кровь за Русь проливают. Уж исстари так повелось — казацкие сабли и кони всегда противу неприятеля российского наготове. А нас то тыр, то пыр! Беглых им отдай! А пить-есть нам потребно? Али нет?
— Спасибо, господа старшина. — Максимов встал, поклонился. — Сколько ни говори, кончать надобно. О главном договорились. Так, господа атаманы-казаки?
— Так, атаман.
— В сугласии все.
— Дай знать, если что...
— Будьте в том надежны. Как весть новая придет, всех позову. — Войсковой атаман сжал кулак. — Главное — вместе быть и стоять всем заодно, друг друга не выдавать.
Расходились молча, в задумчивости крутили усы, настороженно поглядывали друг на друга. Понимали, что ждет их что-то важное и опасное. По краю льдины тонкой ходить придется, пожалуй. Эх, жизнь наша беспокойная!.. Когда тише-то станет? Скорей всего не дождешься. Война вот идет; верно, долгая и трудная будет. Царь-батюшка по всей России скачет, во все вникает. Забот у него слишком. Может, обойдет нас чаша сия — с беглыми-то? Дай-ка, господи! Помилуй и спаси, мати пресвятая богородица, заступница наша всеблагая...
С такими мыслями и надеждами, с тревогой и смутными предчувствиями расходились значные по домам. Ступали осторожно; темная ночь спрятала тропки-дорожки, только звезды, яркие и веселые, заглядывали им в посерьезневшие глаза. Молча, обойдясь без ручканья и добрых пожеланий, каждый раскрывал калитку своего подворья, под забрех и повизгиванье собаки входил в курень. Не радовали значных ни тишина ночная, ни плеск донской волны неподалеку, ни привычные запахи родного жилья. Эх-ма, что-то будет?..
* * *
Не более недели-другой прошло с того совещания у войскового атамана, как в Черкасск явился Долгорукий. Князь Юрий Владимирович еще в начале августа получил в Троицком петровский указ. Тогда же строгое напоминание о беглых привезли Лукьяну Максимову и Войску Донскому. Тучи сгущались, и мрачные предположения черкасской старшИны начали оправдываться. Правда, она надеялась и на этот раз обойтись малым уроном — и раньше всякое, мол, бывало.
С князем прибыл отряд человек в двести — солдаты и конные казаки из Азова и Троицкого, их начальники-офицеры; с ними — денщики и подьячие. С офицерами приехали дворовые, при самом Долгоруком — «людей ево человек с 10». Всех разместили, кого где. Полковника пригласил к себе в дом войсковой атаман.
Князь, высокий и грузный, был человеком твердым, временами, когда требовалось, свирепым, Подчиненные его боялись.
После короткого отдыха Долгорукий приказал созвать круг. По указанию войскового атамана есаулы кликали казаков в Черкасске и по окрестным станицам, располагавшимся на том же острове. Казаки потянулись на майдан, к собору и атаманскому подворью. Толпа казаков колыхалась и гудела от нетерпения. Слух о царском посланце, новом сыщике, быстро распространился по нижнему Дону, внес большое возбуждение. Все ждали: что-то скажет Долгорукий? Каков он? Как принять его?
Из атаманского дома вышли гурьбой люди — Максимов со старшиной; среди них заметили военного, он возвышался над всеми, смотрел холодно и отчужденно. Через расступившихся казаков, как по коридору, прошли к помосту. Поднялись. Вперед выступил Максимов, поднял булаву:
— Господа казаки! Атаманы-молодцы! К нам, в Войско Донское, приехал посланец великого государя Петра Алексеевича всея России господин подполковник князь Юрий Владимирович Долгорукий. А по какому делу, господин подполковник сам вам будет говорить.
Войсковой атаман отступил назад, и его место занял Долгорукий:
— Господа казаки! Повелением великого государя прибыл я в Войско Донское со строгим наказом: прислал царь на мое имя из военного походу, из Люблина, указ, чтоб вы, войсковой атаман и все Войско Донское, мне в Черкасском и в иных городках беглых всяких чинов людей сыскивать велели; и, переписав, отсылать их за провожатыми в те места, откуды кто пришел.
— Как нам, — раздался голос, — тому верить? Где государев указ?
— Покажи указ государев!
— Покажь!
— Нету у него царева указу!
Шум нарастал. Долгорукий, оглядываясь во все стороны, видел разгоряченные лица, раскрытые в натужном крике рты. Иные грозили кулаками. Князь поднял руку, в ней затрепыхался на ветру бумажный лист. Стихло, и подполковник сунул его стоявшему рядом с ним подьячему:
— Чти! Да громчей, чтоб все слышали.
Тот начал читать, сначала негромко, сбивчиво; постепенно голос его окреп, и казаки молча и хмуро внимали словам Петрова указа из польского Люблина. Когда чтение закончилось, снова разнеслись по острову крики:
— Какие беглые?! Того исстари на Дону не повелось: выдавать беглых!
— С Дону выдачи нет!
— Ты-то, подполковник, о том знаешь ли?
— Бояре, недоброжелатели наши, царю то внушили!
— Нелюбо! Нелюбо!
— Какие налоги и обиды мы нанесли Шидловскому?! Сами от него терпели многие годы!
— И Горчакова Булавин прогнал за дело!
Долгорукий смотрел в толпу. На лице его не дрогнул ни один мускул. Глаза сузились, холодное бешенство распирало князя, рвалось наружу. Однако сдержался. Взглянул на старшину, стоявшую рядом: Максимов и прочие, тая довольные усмешки, отводили в сторону глаза, еле заметно разводили руками: что тут, мол, поделаешь? На круге казаки — сила! Максимов понимающе глянул на сотоварищей. Потом повернулся к подполковнику: позволь, мол, слово молвить; тот понял, согласно и строго прикрыл веки. Атаман опять поднял булаву, и постепенно вернулась тишина. Медленно и веско падали в толпу его слова:
— Господа казаки! Дело то великое и необычное. Знаете вы, что с давних лет и до нынешнего времени такова великих государей указу не бывало, чтоб пришлых с Руси людей не принимать. И заказу (запрета. — В. Б.) о том не бывало.
Долгорукий с каменным лицом слушал осторожные, но твердые слова атамана. Подумал: «Дьявол, лиса хитрая!» Снова вслушивался в то, как ведет свое Максимов:
— А в прошлом 1703 году приезжали на Дон сыщики: Михайло Федоров сын Пушкин по правую сторону реки, Максим Микифоров сын Кологривов по левую. И зимой того 703-го и 704-го годов Пушкин был по правой стороне Дона и по Северскому Донцу, и по всем запольным речкам, в 34 городках; Кологривов — по левой стороне в 16 городках. И всего были они в 50 городках. И нигде не изъехали ни одного беглого человека.
— Так уж, ни одного?! — Подполковник в усмешке скривил губы. — А людей-то в тех городках Пушкин и Кологривов застали много зело!
— Те атаманы и казаки, которых они в тех городках изъехали, пришли туда до азовских походов. Под Азов ходили с царевым войском и тот город брали. А тех, которые пришли до азовских походов, а под Азовом не были, выслали мы по государеву указу на запольные речки в новопоселенные места. А тех, кто пришли после азовских походов и до 1700 году, поселили по азовским дорогам по указу же великого государя.
— Вот они и есть беглые! — Долгорукий поднял руку с оттопыренным указательным пальцем. — И таких у вас на Дону превеликое число!
— Так они, господин подполковник, поселены там по указу великого государя. Если их ныне в Русь выслать, то у нас на Дону на тех указных местах не останетца жить ни единова человека.
— А тех, кто приходил на Дон после 1700 году?
— Тех мы всех выслали еще до той стольничьей присылки. И впредь таких принимать не велели под смертною казнью.
— Так, так... — Все видели, что Долгорукий сомневается в том, что говорит Максимов. — Верить тому не мочно, атаман. Разбор и переписка покажут. Государю о тех беглых многое есть челобитье от розных помещиков и вотчинников: их люди и крестьяне, бегая со многими их крадеными пожитками, ухораниваютца в верхних донских городках. Розыск должен быть, господа казаки! А за то, что государева дьяка Горчакова держали за караулом, воровского атамана Булавина арестовать надобно.
Твердость, непреклонная воля князя, за которыми все чувствовали жесткую руку Петра, заставили старшину и казаков отступить. Но не во всем. Казаки, присутствовавшие на круге, состояли в основном из жителей Черкасска и соседних островных станиц. И они, и старшина согласились в конце концов на том, что Долгорукий с отрядом, минуя Черкасск, пойдет для сыска беглых вверх по Дону. В столице они согласиться на тот розыск отказались. Князь, скрепя сердце, не возражал — и на том спасибо!
Лукьян Максимов и старшина от имени Войска вручили Долгорукому «сказку», изложили в ней причины невозможности провести перепись и сыск беглых в Черкасске. Повторили то, что атаман говорил на круге. На том обе стороны и сошлись. Долгорукий, хотя и неполностью, добился того, что хотел. В Черкасске-то, поди, проживало много беглых! Однако он все же получил согласие провести розыск по всей остальной территории Дона. Старшина черкасская, к своему великому облегчению, сумела отвести сыщиков-карателей от Черкасска и новоприхожих своих работников.
Старшине хотелось побыстрей проводить долгоруковский отряд со своего острова. Чтобы ускорить дело и показать свою лояльность царскому распоряжению, войсковой атаман с товарищи выделили в помощь князю человек сто сорок со старшинами, писарями и работниками. Из значных с князем отрядили Савельева, Саламату, Машлыкина, Петрова Ефрема, Мажару и других.
Несколько дней прошло в сборах. В начале сентября отряд Долгорукого, без малого в трех с половиной сотнях человек, выступил из Черкасска вверх по Дону. Пришли в Манычский юрт. Собрали немногих его жителей, и новоприхожих здесь не оказалось — после розыска нашли одного только беглого. В Багаевской станице на следующий день оказалось побольше — одиннадцать, в Бесергеневской — двое; да в Багаевской — четырнадцать жен, мужья которых, тоже из новоприхожих, ушли вместе с другими донскими казаками в военный поход, в Польшу. Улов оказался небольшим. Да князь и не ожидал иного. Понимал, что казаки, из старожилых, прячут беглых, а те, конечно, не хотели попадаться на глаза Долгорукому и его команде.
В каждой станице сыщики составляли именные списки жителей: в один вносили старожильцев, в другой — новоприходцев. В станицах разыгрывались душераздирающие сцены: в ходе допросов людей били кнутом, резали носы и уши; партии беглых под конвоем отправляли в места их прежнего жительства или на Воронеж к Апраксину, которому постоянно не хватало людей для верфей и прочих работ. Стон и слезы, причитания и проклятья отмечали путь карателей по донским станицам. Слухи, разговоры о жестокостях и насилиях Долгорукого распространились по всему Дону. Накапливались возмущение и злоба на непрошеных пришельцев.
Неделю спустя по выходе из Черкасска Долгорукий пришел в Мелехов городок. После разговора со станичным атаманом и казаками нашлось еще 20 беглых. Долгорукий созвал совещание:
— Господа офицеры! Розыск только начался, а дела идут у нас плохо. Если так будет и впредь, указ великого государя выполнить нам не уметь. Как у Пушкина и Кологривова было, вы знаете.
— Знаем, господин подполковник.
— Так вот. В этом деле разговорами да уговорами ничего не сделаешь. Сами видели: как кнут по спинам начнет ходить, так и языки развязываются. Посему приказываю: не жалеть ни старого, ни малого; не разбирать, кто старожилый казак, кто новоприходец, сечь без пощады и беглого, и его укрывальщика. Понятно?!
— Понятно.
— Господин подполковник, — спросил капитан А. Ф. Плохов, — неделя уже прошла, а мы только в нескольких станицах побывать смогли. Если и дальше так...
— Знаю. И о том хочу сказать. Если всем отрядом итти по Дону и притокам, то и к зиме не кончим дело. Надо нам разделиться на партии. Ты, капитан, — посмотрел на Плохова, — пойдешь дальше вверх по Дону до Паншина-городка. С тобой пойдут поручик, двое черкасских старшин, двое писарей и солдат с десяток или победе.
— Слушаюсь, господин подполковник.
— Дальше, от Паншина до Донецкого городка, пойдет с отрядом, — князь пробежал глазами по офицерам, седевшим на лавке. — капитан Киреев.
— И с притоками? — Киреев встал с недоумением на лице. — Городков-то там великое число.
— Нет, твой путь — только по Дону. По Медведице и Бузулуку итти капитану Хворову, по Хопру — капитану Тенебекову. Понятно всем?
— Понятно.
— Так тому и быть. Сам я пойду по Северскому Донцу и запольным речкам. Там тоже, полагать можно, беглых немало. Повторяю, господа офицеры: сыск вести с великим тщанием, поспешением и без послабления. Государю о том велено писать почасту. А спросит государь с нас по всей строгости.
Разделившиеся отряды двинулись по назначенным местам. Розыск, сопровождавшийся жестокостями, продолжался. Долгорукий повернул со своим уменьшившимся почти наполовину отрядом на северо-запад. Шли по городкам на Донце и его притоках — Гнилой, Деркуле, Калитвам и прочим. Князь и его подчиненные вели себя круто и беспощадно. В Обливенском городке, как и в других, атаман подал сказку о жителях: все они, мол, из старожилых; новопришлых было человек с 20, но и они разбежались, услышав про такой строгий сыск. Долгорукий не поверил и оказался прав: один из местных казаков, недоброжелатель станичного атамана, тайно пришел ко князю:
— Господин подполковник! Неладно выходит по твоему сыску у нас в Обливах.
— Что ты хочешь сказать?
— А то, что наш атаман тебя обманывает.
— Каким образом?
— А вот каким: в Обливах не 20, а 200 новопришлых людей.
— Вот как? А старожилых?
— Только шесть человек. Да черкас с 10 будет.
— Значит, неправду атаман говорит?
— Стало быть, так. До твоего приходу атаман собрал старых казаков, и они клятву дали на евангелии, что им тех пришлых людей не выдавать.
— Так, так. Ну что ж! Спасибо тебе, казак. А с теми я поговорю по-своему.
Долгорукий вызвал атамана и его единомышленников:
— Вы что же, атаманы-казаки? Сказку подали, а в ней все — ложь?
— Господин подполковник, — атаман глядел растерянно, — да мы...
— Молчи, вор! Скажи лучше: сколько беглых в Обливах, да правду говори, не ври! Не то...
— Помилуй, господин подполковник. Бес попутал...
— Царю про беса не напишешь. Ты сказывай: сколько беглых тут скрывается? Ну! Юлишь все! Я ведь все вызнал. Ври, не ври, а истину не скроешь!
— Да есть, господин подполковник. С сотню и поболе.
— Точно говори!
— Близко двух сотен будет...
— Вот-вот! Что же ты писал о 20 пришлых? Об остальных забыл? Память отшибло?
— Грех да беда на кого не бывает...
— Грех да беда!.. Вот и будет вам беда, на своей спине познаете.
Тут же около куреня трех «лутчих людей» из казаков распластали на лавках и примерно наказали кнутом. Всех беглых переписали. Сыск пошел быстрей, беглых выявляли сотнями — расправы в Обливенском и других местах перепугали казаков, и они стали сговорчивей. Долгорукий снова разделил свой отряд — партию во главе с офицерами братьями Арсеньевыми направил вверх по Северскому Донцу, а сам продолжил сыск по запольным речкам — левым притокам Донца. В Новоайдарском городке князь выявил 150 беглых; старожилых и черкас оказалось только 32 человека. В Беловодской и Явсужской станицах и вовсе не нашлось ни одного старожильца, все были новоприходцами. Каратели уже не смогли высылать всех беглых — не хватало провожатых для конвоя. Беглецов «до указу» оставляли в станицах, чтобы потом, при первой возможности, выслать в положенные места.
Другие отряды действовали в своих районах. Долгорукий получал от них донесения, требовал проводить сыск строго, «с великим подкреплением». От Хворова узнал, что его отряд прошел тридцать два городка по Бузулуку и Медведице, составил списки старых казаков, а новоприхожих выслал в прежние места. Капитан пошел в обратный путь вниз по Бузулуку, но недалеко от его впадения в Хопер, в станице Алексеевской, получил приказ Долгорукого: снова идти вверх по Бузулуку и провести повторный розыск в городках, да покруче, пожестче. Подполковник недвусмысленно предупредил: мало, капитан, выявил беглых; лучше искать надо! И Хворов по примеру начальника пошел вовсю свирепствовать и мордовать.
По всем станицам возбуждение и страх переходят в озлобление и ненависть. Сыщики, не в пример Пушкину и Кологривову, действовали люто, без промедления и жалости, вели себя с жителями как с неприятелями на войне. Сотни беглых шли под конвоем по шляхам в свои родные места, к ненавистным помещикам и работам. Другие, тоже сотнями, ждали высылки. Третьи скрывались по лесам и буеракам. Старожилые казаки, которых тоже не обошли кнуты и плети, были разъярены не меньше новопришлых, своих же односельчан. Войско Донское бурлило, возмущение его переполняло, переливалось через край, требовало выхода. Казаки по станицам ведут разговоры, устраивают круги. Делают пересылки между станицами. И низовые, и особенно верховые казаки, и значные, и голутвенные — все показывали недовольство и возмущение бесчинствами Долгорукого и его помощников. Наиболее активно вели себя жители городков, по которым проходил отряд Долгорукого. Он оставлял за собой выжженные станицы, запоротых кнутом казаков, обесчещенных жен и девушек, повешенных по деревьям младенцев; многим отрезали носы и уши. Жестокий розыск вызвал гнев казаков, и они приходят к мысли о необходимости объединения и отпора карателям. Все, в том числе и домовитые, понимали, что погром, учиняемый Долгоруким и его офицерами, охватит всю землю Войска Донского; очередь дойдет и до низовьев Дона, до самого Черкасска. Отряд Долгорукого выполнял, по существу, оккупационные задачи.
В последовавших затем событиях много неясного, загадочного. Касается это в первую очередь позиции старшины, особенно черкасской, старожилого казачества. Среди домовитых имелись убежденные сторонники российских властей, полного подчинения Войска Донского Москве, правительству Петра I. Таков, к примеру, Ефрем Петров, самый ярый и последовательный представитель промосковской группировки. Имелись у него сторонники. Другие значные казаки стояли за независимость, старые вольности Дона, боялись их потерять. Это — Илья Зерщиков, Василий Поздеев и многие другие; сюда же можно включить и Лукьяна Максимова, войскового атамана, самого, пожалуй, колеблющегося, нерешительного из них. Назвать эту группировку активно антимосковской нет оснований; скорее она была осторожно-оппозиционной. Ее представители хотели бы сохранить нынешние порядки, не утратить права и привилегии Войска и тем самым свои господствующие позиции на Дону, богатства, наемных работников из беглых, которых теперь у них отбирали и высылали в Россию. Но, отстаивая свои интересы, они из года в год действовали старым, испытанным способом: тянули время, посылали в Москву станицы и отписки с уклончивыми обещаниями и отговорками — одним словом, занимались тем, что на Руси исстари именовали московской волокитой. До поры до времени это сходило с рук. Но пришло иное время — Москва, Россия стали уже не те, какими они были раньше, скажем, при отце и деде Петра Первого. Мощь государства, его возможности как карательной силы выросли неизмеримо. Царь и власти посылают против бунтовщиков целые армии и опытных полководцев. А в отношении к Дону переходят от политики земельных захватов на его окраинах, стеснения прав к прямому вмешательству во внутренние дела, насильственному возвращению беглых.
Дело дошло, как говорится, до серьезного, и старшИна, несмотря на все колебания, решилась не соглашаться с Москвой, но не открыто, с оружием в руках, а с помощью других казаков, особенно из значных, старожилых в верховских городках, за которыми, как она была уверена, и не без оснований, пойдут голутвенные казаки и новопришлые людишки. Старшинская партия сочувствовала недовольству основной массы казаков, тайно подталкивала их к более решительным действиям, обещала свою поддержку. Но выполнять свое обещание, как показали будущие события, отнюдь не собиралась. Более того, хитрила и лавировала в отношениях с Долгоруким и Москвой, выделила в помощь князю видных черкасских старшин и почти полторы сотни казаков, сообщала московским властям о решительных мерах против беглых и их укрывателей из донских казаков.
Лавирование старшины какое-то время вводило в заблуждение оба лагеря — и карателей, и тех, кто готовился дать им отпор. Кровавые методы сыска довели недовольство основной массы жителей Дона до точки кипения. В станицах по Дону, Донцу и их притокам, как и в Черкасске, быстро идет размежевание сил. Голытьба, естественно, занимает самые решительные, радикальные позиции. «Старожилые» в основном тоже оказались готовыми к выступлению. Но не все. Если Кондрат Булавин, бывший бахмутский атаман, или Семен Драный, атаман Старо-Айдарского городка, и многие иные вскоре стали предводителями назревавшего восстания, то другие выступили против них и их намерений. Так, атаман и старшина Усть-Медведицкого городка призывают «старых людей», то есть старожилых, домовитых казаков, своей и соседних станиц дать отпор «ворам и мятежникам». И такие имелись в других городках, хотя поначалу большинство значных сочувствовало замыслам о восстании; основная причина их намерений и действий — оппозиционное отношение к Москве, ее стремлению уничтожить независимость Войска Донского, а отнюдь не сочувствие к судьбе своей голутвы и тем более — новоприхожих, беглых людей, хотя этих последних им тоже терять не хотелось.
* * *
...В самом конце года в азовскую приказную палату к Ивану Андреевичу Толстому караульные солдаты привели донского казака. Губернатор воззрился на них:
— Откуда?
— С заставы, господин губернатор. Поручик Тимофей Пургасов прислал; мы из Володимерова полку Жаворонкова, службу на заставе несем.
— Где его взяли? — кивнул на казака. — С чем?
— Сам пришел на заставу к караулу. Сказал, что идет в Азов.
— Кто ты такой? — повернулся Толстой к донцу. — Зачем пришел в Азов?
— Казак я, Леонтий Корнильев сын Карташ, житель Нижнего Кундрючьего городка. Ушел оттуда потому, что не хотел пристать к воровству и подговору, чтоб убить князя Юрья Долгорукова.
— Давно живешь в том городке?
— Лет с 14 будет.
— А до того?
— До этого жил в крестьянстве Переславского уезду Рязанского в вотчине князя Василья Голицына в селе Можар. И из того села бежал и поселился на Дону в Нижнем Кундрючьем городке.
«До азовских походов пришел, — быстро прикинул Толстой, — стало быть, не из новоприходцев».
— Когда и кто тебя подговаривал убить князя Долгорукого?
— Как в наши казачьи городки приезжал князь Юрья княж Володимеров сын Долгорукой, и в то время казаки Верхнего Кундрючьего городка Ефим (чей сын, не помню) да Фомин сын Сорока сказывали мне: атаман Лукьян Максимов казаку Волдырю из городка Трех Островов давал лошадь и велел в казачьих городках накликать вольницу убить князя Юрья Долгорукова.
— И что тот Волдырь?
— Он на той лошеди приехал в Верхний и Нижний Кундрючьи городки и вольницу накликал. И меня тот Волдырь для убивства князя Юрья звал.
— Что же ты ему сказал?
— Я ему отказал; сказал, что у меня нет лошеди, и к их воровству не пристал.
— А что еще говорят казаки?
— Того же Нижнего Кундрючья городка казаки Аноха Семерников, Прокофий Этерской, Микифор Ремез, будучи на майдане, говорили мне: когда были они в Черкаском, приезжал при них в Черкаской князь Юрья Долгорукой. И казаки умышляли его убить; и не убили для того, что многие донские казаки есть ныне на службе великого государя в Польше.
— О войсковом атамане что говорили?
— Говорили, что Лукьян Максимов посылал от себя письма в верховые донские и хоперские городки, чтоб ево, князь Юрья, убить, где изъедут. Про то сказывали ему того же Нижнего Кундрючьего городка казаки Нестер Романов и Никифор Ремез.
— Другое что говорили?
— Тот-де Лукьян Максимов велел новопришлым казакам от усмотрения князь Юрья Долгорукова из городков выходить и хоронитца по лукам [17]. И по тому ево веленью многие казаки были в ухоронке.
— О Кондрашке Булавине слышал что?
— Казаки говорили, что по отъезде из Черкаского князь Юрья Долгорукого Кондрашка был у Лукьяна. И в те поры в Черкаском круг был, и казаки в том кругу говорили, чтоб побить бояр и иноземцев. И в том кругу был и атаман Лукьян Максимов.
Из рассказов Карташа, которые потом не раз подтверждались другими людьми, выясняются важные моменты: атаман Войска Донского Лукьян Максимов не только с сочувствием следил за нарастанием на Дону недовольства действиями Долгорукого и его карателей, но и как будто благословил своих подчиненных на выступление против них; более того — посылал по верховым городкам, где было особенно много недовольных, агентов и письма с призывами к расправе с Долгоруким и укрывательству беглых. Далее, он присутствовал на круге в Черкасске, участники которого недвусмысленно призывали убить того же Долгорукого; и только опасность мести царя по отношению к их собратьям, посланным в русскую армию, находившуюся в Польше в ожидании генерального сражения со шведами, удержала донцов от немедленной расправы с карателями. Когда же долгоруковцы, ушедшие по настоянию черкасцев из их столицы, начали лютовать по верховским городкам, черкасская старшИна, и в том числе сам войсковой атаман, не говоря уже об остальных низовых значных казаках, сочла возможным активизировать свои замыслы. Конечно, открыто, с оружием в руках, выступить они и не помышляли. Но подтолкнуть верховских казаков к такому открытому выступлению были не прочь.
В городках по Донцу с притоками нарастало стремление объединиться для отпора. Наибольшую активность проявляли местные казаки, «много русских гулящих людей», беглые крестьяне, батраки, бурлаки. Как-то для всех естественно и понятно во главе недовольных встал Кондрат Булавин из Трехизбянской станицы в низовьях Айдара. Несколько лет назад он во главе солеваров и казаков громил Бахмутские соляные промыслы, и голутва его с тех пор оценила и запомнила.
Долгорукий с отрядом уже подошел к Айдару, левому притоку Донца. Остановился в Шульгинском городке под Новоайдарским городком, выше Трехизбянской, в которой жил Булавин. В этих же местах, в Ореховом Буераке, что верстах в трех от Новоайдарского, в сентябре собираются недовольные. Из многих окрестных станиц едут сюда жители — Булавин созывает их «для думы». Съехалось до двух — двух с половиной сотен человек, очевидно, представителей многих городков. Именно этим можно объяснить, что сам Булавин позднее назвал эту «думу», или крут, «общим нашим со всех рек войсковым советом». Приехали даже черкасские старшины — как видно, представители домовитых, после всех акций, предпринятых ими накануне, не могли не приехать, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать свое единачество с основной массой казаков, участников назревавшего выступления. Впрочем, когда начались крути и зазвучали решительные речи казаков, черкасских старшин как ветром сдуло — они поняли, что каша заваривается крутая и им ее не расхлебать; лучше свои головы поберечь.
Когда начался совет, вокруг Булавина собрались единомышленники — казаки Новоайдарского городка Иван Лоскут, выходец с Валуйки, бывший разинец; Григорий Банников, «из беглых», Филат Никифорович Явланов, Семен Драный, Никита Голый (Голодай), дьячок Гордей из Новоборовского городка, мельник Пахом и другие. Имелись здесь и значные казаки: Ф. Беспалый (отец С. Ф. Беспалого), И. Е. Стрельченок, Г. М. Яковлев. Булавин обратился к присутствовавшим:
— Господа казаки! Вы помните, как три года назад приезжал на Бахмут боярский поноровщик дьяк Горчаков и хотел писать земли и промыслы, а нас, казаков, выдать Шидловскому.
— Помним!
— Как не помнить?
— Говори, Кондрат, что нам делать надобно!
— Теперя хуже Горчакова пришла беда!
— У Долгорукого вона какие руки длинные и петли крепкие!
— Сколько терпеть можно от иродов!
Булавин выждал, поднял руку:
— Что творят Долгорукий с офицерами и солдатами, нам всем ведомо. Никого не обошли плети, виселицы и высылки с Дона. Никогда того не бывало в Войске Донском, чтобы боярские подсыльщики насильством своим ходили по Дону и притокам, брали сходцев, били и увечили, насильничали наших жен и дочерей. Доколе мы, вольные казаки, будем терпеть такое насилие и бесчиние?
— Не будем!
— Позор всему товариству казацкому!
— Смерть Долгорукому!
— Смерть! Смерть!
— Казаки! — Булавин снова сделал знак, и все затихли. — По нашему общему совету решаем предать смерти Долгорукого за казни невинных, кровь и мучения наших отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и внуков. Любо ли вам сие?
— Любо! — ответила криками толпа. — Любо! Смерть супостатам!
— Веди нас, Кондрат!
— Как на Бахмуте!
Булавин, как три года назад, смело и гордо глядел на людей, чувствуя их поддержку и свою силу, власть над ними. Но главное сейчас — необходимость к дальнейшим действиям.
— Господа казаки! Не только Долгорукий и солдаты чинят нам всякие неправды и мучения. С ними идут и им помогают старшины: Ефрем Петров, Абросим Савельев, Саламата, Машлыкин и прочие. В Черкасске говорили одно, а теперь делают иное. Что с ними сделаем за их неправду и за напрасное разорение?
— Скажи, атаман, свое слово!
— Что скажешь, то и круг приговорит!
— Таких судей и миропродавцев, — повысил голос Булавин, — которые были судьями в Черкаском и по иным рекам, и судили без совету Войска Донского, творили неправду и разоряли напрасно для своих бездельных корыстей, от дел их отставить и казнить смертью. Любо, казаки?
— Любо! Любо!
— Казнить без милости!
Кондрат, которого тут же, на круге, избрали походным атаманом, для подготовки нападения на отряд Долгорукого предложил кругу выбрать ему помощников: полковников — Банникова и Лоскута; 12 сотников — Степана Моисеева из Ново-Боровского городка, других — из Нового Айдара, Беленького, Явсуги, Деркула, Сватовой Лучки, Мелового Броду; 8 есаулов, в том числе Ф. Н. Явланова и М. С. Драного; 12 «объездчиков» (курьеров, ездивших по станицам созывать казаков «на совет»), среди них — Никиту Голодая, Павла Мельника, Василия Карякина и других.
Между тем отряд Долгорукого расположился невдалеке от заговорщиков. Атаман Шульгинского городка Фома Алексеев узнал от местного казака, двух его сыновей и от котельного мастера, что в Ореховом Буераке собрались Булавин и человек полтораста или более, «чтоб князя Долгорукова убить». Атаман послал известие о том старшине Абросиму Савельеву. Тот в это время находился в Явсужской станице, и письмо ему должен был привезти казак П. П. Новиков. Но тот, как оказалось, исчез — перешел к Булавину.
Долгорукий пришел в Шульгинский городок в начале октября, «за три часа до вечера». Расположился в станичной избе, центре местного управления, вместе с князем Семеном Несвицким и поручиком Иваном Дубасовым. Здесь же разместились подьячий и десять княжеских дворовых. На атаманском подворье, саженях в двухстах от станичной избы, расположились другие офицеры, черкасские старшины. Сам же атаман из своего дома ушел к подполковнику. Говорили о поручении государя, сыске беглых. Князь в ходе разговора услышал удививший его вопрос:
— Господин подполковник! Тебе известно, что недалеко отсюда, в Ореховом Буераке, собрались и держат совет воры и бунтовщики и хотят тебя убить?
— Как так? — Долгорукий, несмотря на все свое самообладание, вскинул голову, голос его задрожал. — Кто такие?
— Казаки с Айдара и других речек. С Ногайской стороны Донца. А главный заводчик у них — Булавин, казак Трехизбянской станицы, отсюда вниз по Айдару, верст с десять будет. Тот, которого ты приказал арестовать за бахмутское воровство.
— Откуда тебе о том известно?
— От наших шульгинских казаков да котельного мастера, который только что приехал из Орехова Буерака, ездил туда по делам. Известие о том я послал в письме к Абросиму Савельеву, чтобы он до тебя довел.
— Ничего не знаю. Зови их всех.
Все пятеро пришли. Казаки и котельник подтвердили все, что поведал князю шульгинский атаман. Для Савельева все услышанное оказалось такой же новостью, как и для князя. Фома Алексеев рассказал заодно и об активной роли Григория Банникова — именно он подговаривал «многих казаков из розных городков для збору» к Булавину в Ореховый Буерак. Долгорукий тотчас послал в Ново-Айдарский городок прапорщика — арестовать отца и семью Банникова для допроса. Вокруг станичной избы расставили 20 караульных. Поблизости, у костров, расположились другие солдаты. Принятые меры показались князю достаточными, и он, не опасаясь ничего плохого, расположился на ночлег.
...Наступила полночь, с 8 на 9 октября. Подполковник и его сожители, погасив свечи, заснули. Но вскоре с улицы раздались крики, выстрелы. Пули через окна с визгом влетали в избу, впивались в стены. Снаружи слышались звуки схватки, удары сабель, стрельба. Булавинцы, а их было сотни две — две с половиной, смяли охрану, выбили дверь и ворвались в избу. Под их ударами упали Долгорукий, Несвицкий и прочие. Старшины и офицеры в атаманском доме, услышав стрельбу и крики, поняли: дело плохо. Полуодетые, они выскочили с подворья и на неоседланных, «подводничьих» лошадях умчались в ночную степь.
Тем временем булавинцы продолжали ловить карателей. В свой стан («табор») они везли капитана Василия Арсеньева, майора Матвея Булгакова. Здесь их били плетьми, потом «бросили в воду» — утопили. Подьячего Ивана Дровнина изрядно избили. Булавин и его соратники долго искали Ефрема Петрова, особенно ненавистного из старшин, но тщетно — тот вместе с другими бежал и весь день скрывался в степном буераке, трясся от страха «и ни в которой городок, боясь, не ездил». Следующей ночью, сутки спустя после шульгинского нападения, он и Саламата приехали в Старо-Айдарский городок. Встретились здесь с другим беглецом — ротмистром Иваном Остаповым. Прочие офицеры и старшины оказались в разных городках. О происшедших событиях сообщили в Черкасск атаману Максимову и в Азов губернатору Толстому. Петров и Саламата звали казаков из низовых и верховых городков по Дону собраться в Старо-Айдарском городке, чтобы «сыскать» Булавина и его «воров».
Булавинцы убили в Шульгинском городке 17 карателей во главе с их командиром. Остальные, натерпевшись страху, разбежались кто куда, не хуже беглых, которых они недавно ловили. Той же ночью Кондрат покинул место боя и направился к Старо-Айдарскому городку — ему не терпелось схватить Ефрема Петрова и других старшин, оставшихся в живых офицеров-долгоруковцев. Оказалось, что Петров и Саламата, собрав казаков из этого и трех других окрестных городков, движутся ему навстречу, вверх по Айдару. Верстах в 15 от Старо-Айдарского оба войска встретились. У Ефрема Петрова было с 200 казаков, у Булавина — вдвое больше, и старшина отступил к Старо-Айдарскому. Его жители, во избежание опасности, не захотели его впустить, и Петров, другие старшины снова, уже второй раз, в панике, «тайно, в ночи», спасаются бегством, на этот раз — в Черкасск.
Под Черкасском беглецы встретились с походным войском Лукьяна Максимова — атаман, получив вести о расправе Булавина с Долгоруким, тотчас бросил клич к походу. Идти дальше с Булавиным и его повстанцами отнюдь не входило в его расчеты. Втайне он, можно думать, радовался такому повороту событий, который положил конец сыску беглых, карательным акциям петровских офицеров. Но ситуация настолько обострилась, более того, грозила выйти из-под контроля, что атаману и его сторонникам нужно было сделать все, чтобы показать себя сторонниками Москвы, противниками «воров» — булавинцев, чтобы просто-напросто спасти свои шкуры — ведь о тайных письмах и распоряжениях Максимова понемногу становилось известно и казакам, и карателям, и московским властям. Требовались срочные меры, чтобы замести следы.
Булавин пошел со своим отрядом сначала в родной Трехизбянский городок, потом — в Ново-Айдарский, Боровские, Старый и Новый, которые присоединились к нему. То же сделали Шульгинский, Белянский, Меловобродский, Сватолуцкий (Сватова Лучка), некоторые городки Изюмского полка. Атаман рассылает по всему Дону прелестные грамоты, призывы — расправляться с офицера-ми-карателями, схватить дьяка Горчакова, казакам идти к нему в войско. Везде говорят о храбром предводителе и его повстанцах, одобряют расправы с Долгоруким и его присными. Передают разговоры, слухи. По одной версии, булавинцы хотят уйти в Крым; по другой — пойдут разорять пограничные городки Изюмского полка, своих старых обидчиков; наконец, по третьей — планируют весной, когда у них будет больше сил, поход на Воронеж и Москву, чтобы расправиться с боярами и иноземцами, народными обидчиками и притеснителями. «Много казаков и всяких людей» идут к Булавину, увеличивают ряды его войска.
Булавин пишет письма в Черкасск, пытается договориться со старшинами, казаками, исходя из достигнутого ранее согласия, очень, впрочем, уклончивого со стороны домовитых. Но старшина от него отвернулась, хотя некоторые ее представители (тот же Зерщиков и, вероятно, другие) отмалчивались, таили свои оппозиционные по отношению к московским властям настроения.
Не добившись поддержки со стороны черкасской старшины, Булавин продолжал начатое дело, которое, как он был убежден, касалось всего вольного Дона. Он не скрывал своих намерений, говорил о них в тех городках, в которых побывал после шульгинских событий. Несколько дней спустя он пришел в Старый Боровский городок. Казак Владимир Мануйлов, из Острогожского полка Ивана Тевяшова, в тот день как раз был в городке и видел повстанческого атамана. С ним пришло 500 конных и 500 пеших повстанцев.
Атаман Старо-Боровского городка со всеми казаками встретили их с хлебом, вином и медом. Булавина, его полковников — Лоскута, «про которого сказывают, что он был при Стеньке Разине лет с 7»; сына староайдарского атамана (М. С. Драного) и коротоякского подьячего, 50 сотников проводили в станичную избу. Остальные расположились вокруг, расседлали лошадей, разбились на кучки, снедали и разговаривали. В избе же станичной за угощением атаман выспрашивал Булавина:
— Вот ты, Кондрат Афанасьевич, вместе с казаками начали дело великое — заколыхали всем государством. А что будете делать, если придут войска из Руси? Тогда и сами пропадете, и нам тоже пропасть же будет!
— Не бойтесь, атаманы-молодцы и все казаки донские! — Повеселевший после чарки-другой Булавин говорил возбужденно, весело и уверенно. — Дело то я зачал делать непросто. Был я до того в Астрахани, и в Запорожье, и на Терках. И они, астраханцы и запорожцы, и терченя, все мне присягу дали, что им быть ко мне на вспоможение в товарищи. И вскоре они к нам будут.
— А сейчас что ты собираешься делать?
— Ныне пойдем мы по казачьим городкам: в Новое Боровское, в Краснянск, на Сухарев, на Кабанье, на Меловой Брод, на Сватовы Лучки, на Бахмут.
— Для чего?
— Будем, идучи, казаков к себе приворачивать. А которые с нами не пойдут, тех, вернувшись назад, будем жечь, а животы грабить.
— Ну, а потом?
— Как городки к себе склоним, пойдем по городкам Изюмского полку и до Рыбного. Пополнимся конями, и ружьем, и платьем для того, что у нас собралось много бурлаков, бесконных, безоружейных и безодежных. После того пойдем в Азов и на Таганрог, освободим ссылочных и каторжных, которые будут нам верные товарищи. А на весну, собравшись, пойдем на Воронеж и до Москвы. И, идучи, которые не будут к нам уклоняться, тех станем бить.
— А ты не боишься?
— Бойся не бойся, а дело начали. Останавливаться нам негоже.
— Чего ты боишься? — в разговор вступил разинец Лоскут, уловивший в словах предводителя нотку некоторой неуверенности. — Я прямой Стенька! Да не как тот Стенька — он голову свою без ума потерял! Я не такой. Я вож вам буду.
— Да не боюсь я! С чего ты взял? Забота моя о другом — как всех казаков поднять?
— Поднимем! Не сомневайся. А кто мешать будет, головы прочь!
— Мы это и начали в Шульгине. Жаль только, что Саламата ушел: он теперь в Черкаском забунтует, чтоб со мной казаки не похотели иттить. Если б его тогда убили, то всем Войском ко мне приклонились.
— Саламата не один. Ефрем Петров, Абросим Савельев и другие из той же статьи. Всех их порешить надо.
— Придет время, доберемся до них. Было время, вроде бы одно мыслили. А теперь с Долгоруким снюхались. Будет им то же, что и господину подполковнику.
Через несколько дней оба войска, Булавина и Максимова, встретились на реке Айдар, у Закотенского городка. С Максимовым, помимо казаков, прискакали калмыки и татары. Силы были неравны. Бой, ожесточенный и кровопролитный, длился весь день, до поздней ночи. Войско Максимова осадило повстанцев в их обозе. После взаимной стрельбы из ружей и пушек максимовцы стали одолевать. Среди повстанцев появились сторонники сдачи, и Булавин с ближайшими соратниками скрылись ночью в окрестных лесах. Многих оставшихся в лагере повстанцев каратели Максимова убили, более 100 повстанцам (по другим данным — 130) «носы резали», около 10 — повесили по деревьям за ноги; по 10 человек послали в Черкасск для казни и в Москву — для розыска.
Действия Булавина в Шульгине послужили сигналом для расправ донских казаков с отрядами капитанов Хворова на Бузулуке и Тенебекова на Хопре. Помимо офицеров и солдат, от рук повстанцев погибли некоторые старшины, посланные из Черкасска, и местные значные казаки, например атаман Федосеевской станицы на Хопре Федор Дмитриев с сыном; атаман Акишевской станицы Прокофий Никифоров.
В следующем месяце под Правоторовской станицей каратели разбили отряд К. А. Табунщикова, который принял имя Булавина. Его и других предводителей схватили и «посадили в воду», некоторых отослали в московский Преображенский приказ «к розыску», где они, очевидно, тоже погибли.
Булавин со сторонниками почти месяц, до начала ноября, скрывался в густых лесах по Хопру, Бузулуку, Медведице и Терсе. Однажды он, переодевшись в монашеское платье, тайно пришел в Черкасск. Замешался среди казаков, собравшихся на круг, — речь шла о недавних событиях на Айдаре, о гибели Долгорукого, прочих офицеров и солдат, о выступлении Булавина. Низовое казачье войско Лукьяна Максимова ходило против повстанцев Булавина, громило и казнило их, и в этом нет ничего удивительного — дисциплина среди донцов, подчинение черкасскому начальству, старшИне было строгим правилом, обычаем. Но чувствовалось по всему, что среди казаков по всему Дону, в том числе и «на низу», шло сильное брожение, отсутствовало единство. Одни выступали против Булавина, другие — за него. Пока, правда, дело не дошло до массового перехода казаков к Булавину. Но очень многие сочувствовали ему и его делу. Булавин в Черкасске, в том числе и на круге, это, несомненно, почувствовал. Тем более это бросалось в глаза, западало ему в душу в донецких городках, когда он громил Долгорукого и противостоял старшинскому войску, и на Хопре, Медведице, Бузулуке, где скрывался после поражения у Закотного городка. Донское голутвенное казачество, всякий беглый, нищий люд, да и немало старожилых казаков были на его стороне, готовы были идти за ним.
Что касается черкасской и части местной старшИны, то Булавину быстро стала понятной ее уклончивая, потом откровенно предательская позиция. Едва ли он был этим ошеломлен. Недаром на сентябрьском совете он и его сторонники вынесли решение казнить старшин-изменников. Здесь все для него было ясно. Предстояло сделать немало нужного и важного для продолжения борьбы, того, о чем он давно, напряженно думал, чем мучился и страдал, о чем иногда упоминал на кругах или в беседах. Когда он за чаркой вина говорил староборовскому атаману в присутствии своих полковников и сотников, что ждет помощи из Запорожья, Астрахани и Терека, он не хвастал, не агитировал попусту. Нет, Булавин думал об этом, планировал установить связи с запорожцами и татарами, чтобы привлечь их к своему делу. На Дону в окружении Булавина встречались, конечно, выходцы из тех мест, и он сам или его сподвижники вели с ними беседы на подобные темы. Теперь предстояло предпринять реальные попытки в этом направлении. Его решимость исходила из главного — явной готовности и решимости донских казаков продолжить то, что начали Булавин и булавинцы. Первое поражение их отнюдь не смутило, не сбило с ног. И это придавало ему силы и уверенности. В том же ноябре он перебирается в Запорожскую Сечь.
МОСКВА И ДОН
Москва на исходе осени и в начале зимы, каком-то неясном и неуверенном — то белые мухи появятся, то дождь заморосит, а иногда и солнышко улыбнется, хоть немного погреет — жила слухами и вестями с запада, из Польши, где стояли русские войска и готовились к отражению шведов, и с юга — там опять донские казаки забунтовали. Власти московские, дворяне, свободные от службы, не скрывали радости, когда стало известно, что Булавина разбили свои же братья-казаки и он сгинул куда-то, может (авось господь милостив), погиб где-нибудь, и его кости волки и воронье терзают. Простонародье с сочувствием ловило и передавало слухи о расправе с Долгоруким, переходе к Булавину донских станиц и их жителей. Разговорам о том, что его побили, а многих постанцев казнили, и верили, и не верили.
Войсковой круг (со старинного рисунка).
Карта России при Петре I.
Русские крестьяне.
Донской казак.
Донская казачка.
Донской казак верховых станиц.
Донской станичный атаман.
Донской войсковой атаман.
Есаул Войска Донского.
Украинский крестьянин.
Украинская крестьянка.
Запорожский казак.
Полковник Запорожского казачьего войска.
Купчая 1717 года на крестьянина.
Выдирание ноздрей.
Орудие наказания — деревянная колода с цепью и ошейником.
Ручные кандалы.
Клеймо для наложения буквы Б («Беглый»)
«Угол беглых с Дона».
Черкасск.
Майдан в Черкасске.
Донской казак на лошади.
Конный запорожский казак.
Крестьянское и казацкое оружие XVIII века: сабля, кистень, топор, бердыш.
Орудие на Ивановском раскате Черкасска.
Казацкая сабля XVIII века.
Воскресенский собор, около которого К. Булавин был провозглашен войсковым атаманом.
Но вот в столицу приехала очередная донская станица — 14 человек во главе с Ефремом Петровым, тем самым, кто так верно служил Москве, стоял за полное подчинение ей Войска Донского. Черкасская старшина сделала удачный выбор, послав его для объяснений и предупреждения новых карательных акций, репрессий в ответ на расправы с Долгоруким. «Лехкая станица», как назвали делегацию казаков в Посольском приказе, явилась в начале ноября с отпиской от Войска Донского, и ее сразу же приняли тайных дел секретарь Петр Павлович Шафиров с товарищи. Шафиров быстро приступил к делу:
— Из которых мест ты отпущен к нам в Москву? От войскового атамана Лукьяна Максимова и всего Войска Донского или от походного войска? Если от походного, то от какого атамана?
— Отпущены мы, господин тайный секретарь, от войскового атамана и всего Войска Донского.
— А для чего тогда в отписке имени войскового атамана не написано и печать не войсковая?
— Посланы мы от Лукьяна Максимова и всего Войска Донского с реки Донца, с Усть-Айдарского городка, тому 12 дней, с тою войсковою отпискою, которую мы в Посольском приказе подали, и с ведомостью о походе Войска Донского на воров и изменников и бунтовщиков, казаков розных городков, которые по рекам Донцу и Айдару, и имянно Трехизбянского городка Кондрашку Булавина да Ново-Айдарского городка Ивашку Лоскута с товарыщи, которые полковника Долгорукого и при нем будучих офицеров и солдат побили. А имя войскового атамана не написано в отписке для того, что писарь в том походном войске был незаобычной; войсковой атаман честь и писать не умеет. Войсковой же писарь был оставлен в Черкаском. А печать у отписки войскового атамана перстневая, а не войсковая для того, что войсковую печать в походы не емлют, всегда оставляют с насекою при атамане, который в Черкаском остается.
— Кто был оставлен?
— Яким Филипов.
Далее Петров рассказал о пребывании Долгорукого в Черкасске, походе его отрядов за беглыми, о помощи им со стороны донской старшины. Подробно, со знанием дела, поскольку он сопровождал Долгорукого, Петров перечислил станицы, где побывали каратели, говорил об укрывательстве беглых, решительных действиях князя, разгроме его отряда в Шульгине-городке. Откровенно признался в бегстве своем и других старшин той памятной ночью:
— Мы, устрашась того, пометались на подводничьи лошади, верхами, без седел и побежали в степь все врознь и друг друга не сведали, кто куды побежал; а ночь была темная.
— А ты сам? — Шафиров проницательно, с усмешкой посмотрел на Ефрема. — Где был?
— Назавтрее дневал я в степи, в буераке. Ни в которой городок, боясь тех воров, не ездил. А в другую ночь съехался на дороге с товарищем своим с Никитою Алексеевым (Саламатой. — В. Б.). Приехали мы с ним в Старо-Айдарский городок.
Другие старшины, как сказал Петров, прятались по разным городкам. Только Григорий Матвеев лежал больной в Шульгином городке, когда его захватили восставшие. Шафирова это заинтересовало:
— Убили его воры и мятежники?
— Нет, не убили. Сам вор Булавин к нему приезжал и войсковые письма, которые у него были, все обрал, а ему ничего не учинил.
— Говорил что? Угрожал?
— Говорил, что напрасно убежали товарищи его Обросим Савельев и Иван Иванов. Никто бы их, мол, не тронул. Надобен мне, говорил Булавин, Ефрем Петров, с ним бы я повидался и поговорил. Запомнил бы мой разговор. Ну, ничего. Никуда не скроется, переметчик и лазутчик боярский!
— Что ты и Саламата делали в Старо-Айдарском городке?
— Мы писали в Черкаской и по всем городкам о по-биении Долгорукого и чтоб собирались все для сыску тех воров в Старо-Айдарский городок. И послали те письма с скорыми нарочными посылыцики.
— Собрались?
— Собрались из четырех городков казаки для походу на тех воров. Выбрали меня атаманом, Никиту Алексеева полковником.
— Что было дальше?
— В третий день по убиении полковничья выбрались мы за теми ворами в поход. Пошли вверх по Айдару. И, отшед от Старо-Айдарского городка верст с 15, с теми ворами, с Кондрашкою Булавиным с товарыщи, встретились на степи и, видя, что их, воров, больше нас, пристали у речки Айдара к лесу.
— Бой с ними учинили?
— То сделать было неможно. Те воры подъезжали к нам близко и говорили, что у них в собранье с тысячу казаков; а, по-видимому, знатно их было только с 400 человек. А с вашу сторону казаков было 190 человек. Те воры сказали, что идут они в Старо-Айдарский городок для того, что есть там некоторые офицеры; и Ефрем Петров там же; и чтоб их побить. И те офицеры и я с ними побежали в Черкаской.
Далее станичники подробно рассказали о преследовании булавинцев войском Максимова и Петрова, поражении повстанцев у Закотного городка, казнях, сожжении городков, участвовавших в движении на стороне Булавина.
— Ну, хорошо, атаман. Спасибо за вести, за отписку Войска Донского. Особо — за твою верную службу великому государю. Завтре пошлем с той отписки и с твоего допросу списки (копии. — В. Б.) к великому государю в военный поход в Посольскую походную канцелярию.
Ефрем Петров с казаками-станичниками покинул Посольский приказ. А подьячие еще долго, за полночь, поправляли черновые записи допроса, переписывали его набело. Рано утром, после получения копий с допроса и войскового письма, нарочные уже скакали по московским улицам. Их путь — на запад, к царю.
Петр, как и раньше, несмотря на крайнюю занятость военными делами, зорко следил за развитием событий на Дону. Весь ноябрь и декабрь хлопоты и заботы держали его вдали от Москвы и Петербурга — нового его «парадиза». Новый год царь, как обычно, приехал встретить в старой столице.
Ромодановский, Стрешнев и другие помощники доложили ему о делах. Петр быстро вникал во все, отдавал распоряжения. Поинтересовался:
— Как донская Либерия? Затихли казаки?
— Попрятались, государь. — Тихон Никитич почтительно привстал, но царское: «Сиди, сиди!» заставило его снова сесть на скамью.
— Кто писал об убийстве Долгорукого и других?
— Отписки присылали азовский губернатор Толстой, бригадир Шидловский из Изюмского полку, острогожский полковник Тевяшов и другие.
— Что в них?
— Толстой сообщил о распросе офицеров Афанасия да Якова Арсеньевых, кои вместе с Долгоруким сыскивали беглых. Об убийстве подполковника узнали, будучи в Теглинской станице, от ротмистров Василия Герасимова и Ивана Остапова из Троицкого и Азовского конных полков. А потом, в Старо-Айдарском городке, сказали им черкаские старшины, что в Шульгином городке воровские люди многим собранием, знатное же дело, что собрались новопришлые люди, которые бежали из розных городков от розыску, и подполковника, офицеров и иных чинов людей, всего 10 человек, побили до смерти. А тела их в волчью яму побросали и обоз ево, подполковничей, и у салдат и у казаков ружье и коней и все, что ни есть, побрали. И мы от тех воров едва ушли.
— Для отпору тем ворам дали весть в разные места?
— Дали, государь, в Белгород, Изюм, Воронеж.
— Какие планы имел тот вор Кондрашка Булавин?
— Шидловский, Тевяшов писали, что хотел он итти под городы Изюмского полку, под Тор и под Маяки, и под Изюм, для разорения. А еще посылал от себя письма прелестные по Ойдару и в донецкие, и в донские верхние городки, и на Медведицу, и на Хопер, чтоб офицеров, посланных Долгоруким, побить; казакам велел итить к себе в войско; а кто не пойдет, устращивал в письмах смертною казнью.
— С Черкаским сносился?
— В Черкаской Булавин посылал письма неединожды. Но против его посылок отповеди ему не было. Из донских городков к нему, Булавину, никто не бывал.
— Знаю. Лукьян Максимов и старшина к нему не пошли, а потом сами его побили. Не все, однако, ясно с ними... Помнить об этом надо, господа министры, и в своей конзилии, когда я в отлучках, то обсуждать, когда надобно. За ними всеми глаз да глаз надобен.
— Слушаем, государь.
— Страху мы на донскую сарынь навели. Хотя вот Долгорукого потеряли. — Царь минуту помолчал. — Что же не говорите: так и остался он в той яме? Волчьей?! Как собаку бросили!
— В волчью, государь. — Шафиров проворно открыл папку с делами. — Дозволь, государь, сказать?
— Говори.
— Приезжал в Посольский приказ Ефрем Петров со станицей и...
— Постой, постой. Это тот, который нашу сторону крепко держит?
— Тот самый и есть.
— Ему-то, кажется, можно верить. А другим... — Петр покачал головой, — не очень можно, причем многим, по моему суждению. Однако продолжай.
— Тот Ефрем Петров в допросе сказал: как они под Закотенским городком воров Кондрашку Булавина с товарищи розбили, и после того войсковой атаман и они, старшина, заезжали в Шульгинский городок и тела побитых, Долгорукого и прочих, из ямы, где они были брошены, выняли. А по осмотру явилось побитых в одной яме 15 человек, а в другой яме 2 человека; всего 17 человек.
— Что с теми телами?
— Тела княжие, Долгорукого и Несвицкого, положа в гробы и устроя, послали в Троицкой. А прочие тела тут же, в Щульгинском городке, погребли.
— Да-да! Вспомнил. Читал допрос Ефрема Петрова и отписку из Черкаского. Ты присылал в поход. Максимов и прочие из старшины всячески свои заслуги выхваляют. А меж тем вести доходят: они же будто бы перед приездом на Дон Долгорукого тайно договаривались препятствие ему чинить. На круге в Черкаском казаки грозили ему убивством. Сие вызнать надо накрепко.
— Вызнаем, государь. — Князь Ромодановский, «видом, как монстра» (по отзыву другого князя — Куракина, из дипломатов), мрачно насупил брови. — Обязательно доищемся.
— Постарайся, князь-кесарь. — Петр с улыбкой глянул на главу Преображенского приказа. — Не засиделись без дела твои заплечных дел мастера?
— Делов хватает, государь. И с этим справимся.
— То и добро. Лукьян Максимов прислал с Ефремом Петровым, я читал, десять колодников. Допроси их с пристрастием.
— То и делаем, государь.
— Хорошо. — Царь повернулся к Шафирову. — Для успокоения донского и одобрения старшИны надо бы что-то сделать. В наступающем году, может статься, генеральная баталия с Карлусом будет. Нам на Дону, да и в других областях внутренних тишина и покой потребны, аки воздух.
— Сделаем, государь. Тому с две недели, как послали грамоту Войску Донскому с похвалением за многую в походе на Булавина и ево воров службу и верность, и усердие ко успокоению такого возмущения. Кроме того, обещано им, атаманам и казакам, твое, великого государя, жалованье из Приказу Адмиралтейских дел 10 000 рублей да калмыцкому Батыре тайже, который был с ними в том походе против воров, 200 рублей.
— А где вор Булавин и его гультяи ныне обретаются? О том известно?
— Неведомо. В той же грамоте Войску Донскому мы сообщили, что по твоему, великого государя, указу послан с Москвы стольник Степан Бахметев с полками. Велено ему, сшедшись и согласясь с атаманы и казаки, вместе итти за теми ворами, где о них ведомость будет, сыскивать их и промысл над ними чинить всякими способами, чтобы их всеконечно разорить.
— Вызнали что?
— По ся места нет, — сокрушенно вздохнул Шафиров. — Дней десять перед нынешним приезжала с Дона новая станица, зимовая, в 100 человек. Атаманом у них — Яким Филипов, есаул Андрей Иванов. В отписке, какову подали от войскового атамана и всего Войска Донского, написано: о ворах и бунтовщиках заводчиках Булавине, Лоскуте, Банникове ведомости подлинной, где они обретаются, нет. А проходит слух, бутто те воры на реке Медведице и выше казачьих городков на речке Терсе в лесах укрываются.
— Так, так. Только полков бы туда, на Дон, послать еще в прибавку к Бахметеву.
— Несколько дней назад, государь, послали из Посольского приказу твою, великого государя, новую грамоту: по указу великого государя из Разрядного приказу велено против Булавина, который с небольшими людьми ушел и явился в ноябре в первых числах на Хопре, Бузулуке и Медведице и хочет то же свое злое дело чинить, по городкам жителей прельщать, послать полки стольника Степана Петрова сына Бахметева, полковника Ивана Тевяшова, полуполковника Рыкмана с пушками и артиллерией. А с ними итти Войску Донскому воинским поведением.
Петр с удовлетворением узнал, что те полки должны направиться в места, где, как предполагали, скрываются Булавин и его сообщники, хватать их, «пущих воров», присылать в Москву для розыска, «а мелкоту, товарыщей их, казнить». Беглых новоприходцев — высылать в старые места, «опричь тех, которые пристали к воровству». Предлагалось привлечь для поимки Булавина калмыков; над теми же из них, кто «с ворами и бунтовщиками будут в согласии», — «чинить промысл».
Петр одобрил принятые меры. Ему и его приближенным казалось, что начавшееся было на Дону восстание, к тому же быстротечное, маломощное, сошло на нет, быстро затухло, не успев разгореться. Конечно, жаль было потерять Долгорукого, столь решительного и строгого командира. Разгром казаками-гультяями его отряда, хотя бы и небольшого, — тоже афронт, чувствительный для чести государской. Ну, что ж, всякое в жизни бывает, да еще в такой сложной, суматошной и тяжелой, как сейчас. Придется потерпеть. «Но все равно, — думал Петр, — атаманы-молодцы, беглых вам отдать придется. Никуда не денетесь. Войска мне в других местах нужны. Одначе Бахметева и прочих уже посылаем. Нужно будет, еще примыслим, кого туда направить. Лучше без этого обойтись. Но всякое может случиться. С Астраханью, вон, пришлось повозиться немало. А с башкирцами и сейчас, не первый уже год, промышляем воинским поведением. Везде полки и пушки нужны. Чернь подлая никак не успокоится! Работать не хочет! Страдания, вишь, заели!»
Царь Петр, в глазах одних — работник, не хуже мужика, по убеждению других — кнутобойца, мучитель и антихрист, был, как всегда, одержим государственным интересом, во имя его жертвовал всем — и своим личным покоем, здоровьем и достоинством, интересами, жизнью своих подданных. Всю жизнь он был уверен: то, что он делает, добивается, над чем мучится до седьмого пота, — для общего блага. Его глубокий, недюжинный ум, конечно, не раз подсказывал, что общее благо — неодинаково делится между дворянством и «подлым племенем». Но это его не волновало: бог так устроил, что шляхетство должно служить государю — в армии и по гражданской расправе; попы и монахи — молиться; а подлый люд — питать трудом своим тех и других. Вот и вся премудрость. Все должны служить отечеству. Сам государь — тоже. И он вправе требовать, принуждать, карать нерадивых. Бог не осудит, потомки поймут и простят. Спасибо еще скажут.
— Спасибо, господа министры. Вы свободны. О делах пещись и впредь заботу имейте. А теперь, — повеселевшим тоном Петр закончил затянувшуюся беседу, — будем готовиться к встрече Нового года. Погуляем, фейерверки пускать будем. Зело к тому охота есть. А потом — за дела, коих, полагать можно, будет немало.
Министры чинно удалились. Царь посмотрел им вслед, походил, подумал. Расслабился, груз забот как будто спал с плеч. А их было в уходящем году немало, сразу не вспомнишь, не охватишь. Он издергался, вымотался до предела. Много сил требовалось, чтобы за всем уследить, все держать в памяти. Главное, что его гнетет, постоянно и мучительно, — это «швед». От исхода предстоящего столкновения, решающего и кровопролитного, зависит судьба и его самого, и, что важнее, России. Однажды, в очередной раз томимый думами и надеждами, он признался Данилычу, своему «Алексаше», который тогда взлетел на вершину своего фавора у царственного друга:
— Молю бога, чтобы в этом году он даровал благополучный исход дела нашего.
Ожидалось шведское вторжение. Петр, преследуемый сонмом забот, иногда не выдерживает, срывается, распекает помощников. Так, он узнал с удовлетворением о том, что укрепления в Кремле и Китай-городе ремонтируются, сооружаются и новые. Но, оказывается, московские власти не выслали из Москвы, как он в свое время приказал, шведского резидента Книпперкрона, который наблюдал за работами в Москве и мог сообщить об этом своему королю. Далее, выяснилось, что мнения бояр, рассматривавших на заседании этот вопрос, не были даже записаны, решение не запротоколировано. И. А. Мусин-Пушкин, ответственный за ремонт и возведение укреплений, получил от царя жестокий разнос, а князь-кесарь Ромодановский — указ:
— Изволь объявить всем министрам, чтобы они великие дела, о которых советуются, записывали, и каждый бы министр подписывался под принятым решением, что зело надобно; и без того отнюдь никакого дела не определять, ибо сим всякого дурость явлена будет.
Раздумывая о предстоящем, Петр не исключал возможность своей гибели. На этот случай распорядился выдать (после его кончины) три тысячи рублей Екатерине Василевской, своей фактической супруге. Отдав распоряжения, в ночь на 6 января 1708 года Петр выехал из столицы и через Смоленск, Минск прибыл в Дзенциолы, где на зимних квартирах стояла русская армия во главе с Меншиковым. Здесь получил известие о движении шведских войск к Гродно и Дзенциолам. Дальнейшие планы Карла не были известны. Предполагалось, что он может идти или на север, к Петербургу, или на запад, к Москве. Точно об этом не знали ни Петр, ни Карл, не решивший еще, куда ему идти.
Шведский король имел в своем распоряжении 63 тысячи солдат, русский царь — 100 тысяч. На стороне первого были боевой опыт, наступательная инициатива. Петру же нужно было предусмотреть все возможные варианты маневров врага, замыслы которых еще не определились. К концу января он приезжает в Гродно, шлет отсюда в тот же день известия и распоряжения своим генералам:
— Сего часа получили мы четырех языков свейских (шведских пленных. — В. Б.), которые согласно сказывают, что вчерась шведы за двенадцать миль отселе через реку переправились, и завтра чаем их к здешнему месту.
— Неприятель уже отсюды в шести милях обретаетца.
Петр приказывает войску Шереметева отступить из Минска в Борисов, войску Репнина — к Вильно и Полоцку, по пути — уничтожать запасы продовольствия и фуража. Но через день, получив известие, что Карл «повернул назад» (куда, неизвестно), шлет с курьерами новые приказания — остановиться, ждать распоряжения.
Вскоре — новое сообщение: шведы снова идут в Гродно, находятся от крепости в четырех милях. Царь меняет указания — возобновить движение.
На исходе января Петр вместе с войском покидает Гродно. Через два часа туда вступает неприятель, но не половина армии Карла, как ожидалось, а всего лишь отряд в 800 солдат. Они беспрепятственно прошли по мосту через Неман, который Петр приказал взорвать, — бригадир Мюленфельс приказ не выполнил, был отдан царем под суд, но бежал из-под стражи к шведам (под Полтавой его взяли в плен и, как изменника, расстреляли).
Петр приехал в Вильно. Он полагал, что Карл пойдет на Петербург, но тот повернул на восток. Отступающая русская армия выполняла план, утвержденный в Жолкве: шведы на пути своего движения не находили ни хлеба, ни скота, ни корма для лошадей; продвигались из-за этого очень медленно.
Так у шведов продолжалось и далее — то в Сморгони, то в Радошковичах, то в других местах они вынуждены стоять по нескольку недель или месяцев. Затем пришло половодье. Действия неприятеля зимой и весной были, по существу, парализованы. Ввиду этого весну Петр провел в Петербурге. Затем снова занимался донскими делами.
За первые несколько месяцев 1708 года царю сообщили из Москвы новые вести. Лукьян Максимов еще в январе уверял Посольский приказ, что по всем донским городкам разослал войсковые письма со строжайшим приказом: поймать Булавина с товарищи. За его пленение обещал выдать награду — 200 рублей. Удалось захватить четырех человек, в их числе ближайшего сподвижника и товарища Кондрата — Григория Банникова. Их прислали в Москву, и в Преображенском приказе кнутобойцы Ромодановского принялись за обычное свое дело.
Позднее, в следующем месяце, черкасская старшина сообщила данные о новых волнениях на Дону: 1 декабря прошлого, 1707 года Кузьма Акимов (К. А. Табунщиков) из Беленской станицы и Никула Дятленок из Усть-Бузулуцкой станицы, «собрався с такими ж воры и бунтовщики», напали на Хоперскую Провоторовскую станицу, «боем били». Но провоторовские казаки отразили нападение, схватили 24 человека, в том числе Дятленка, «и в воду посажали и многих в смерть побили». Атамана же их, Табунщикова, который назывался Булавиным, и еще пятерых казаков отослали в Москву. Их тоже препроводили в Преображенские застенки.
Еще в марте Черкасск сообщал, что хоперские и прочие бунтовщики вину свою великому государю принесли. «А про пущего вора и изменника Кондрашку Булавина, — писали Лукьян Максимов и старшина, — где он, проклятый, укрываяся, живет, о том нам, холопем твоим, Войску, неведома, и нигде не явился».
Черкасские домовитые продолжали свою двойную игру. Расправа с Долгоруким, произведенная Булавиным и беднотой, как будто привела к прекращению сыска беглых, жестоких репрессий, и старшИна не могла не быть довольной таким результатом, добытым к тому же не ее руками, а смелостью Булавина и тех, кто пошел за ним. Значные казаки потирали руки не без удовольствия. Правда, не все волки остались сыты, не все овцы — целы. Но ведь удалось же дать отпор московским кнутобойцам, а свои позиции сохранить. Правда, в Москве, может быть (кто знает?), дагадываются, что и у домовитых, несмотря на все их старания и лисьи увертки, рыльце в пушку. Но пойди докажи. Не будут же там верить ворам и изменникам, Булавину и ему подобным, если они под дыбой начнут оговаривать черкасских старшин, рассказывать о неких тайных совещаниях и обещаниях?.. Кто будет слушать такое о них, тех, кто громил и вешал булавинцев, посылал их в Москву для расправы.
Где сейчас Булавин, знать не знаем. Но сделаем все, чтобы поймать его и вздернуть на первом же дереве, или — в мешок да в воду. Туда ему и дорога. Молчание — лучшее доказательство невиновности Лукьянова, Петрова и их друзей-единомышленников.
Так они думали и рассуждали, лавировали и хитрили.
Надеялись, что с Булавиным докончено и все пойдет, как прежде. С Петром и его властями они договорятся — головами донских горлопанов — гультяев, конечно...
Знали ли они все-таки, где скрывается Булавин? Человек, к тому же ставший столь известным и популярным на Дону, — не иголка в стоге сена. Скрылся он не один, Встречался с казаками, своими сторонниками, и его пути-дороги не могли оставаться безвестными в его родных местах.
В далекой Москве о том, куда делся Булавин, знали доподлинно, и на увертки черкасских старшин ее власти отвечали дипломатическим, но многозначительным молчанием.
БУЛАВИН В ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ
Появление Кондрата Булавина в Сечи — не акт отчаяния или поиск спасения от преследований царских карателей и своей, черкасской, старшины. Последнюю он с полным основанием обвинял в измене. Конечно, никакого договора между ним и Максимовым не было. Скорее всего разговор между ними предполагал взаимную помощь: Булавин и его сторонники ведут активные действия, Максимов и старшина одобряют их, призывают других казаков к поддержке. Однако «союзники»-попутчики, преследовавшие свои узкоэгоистические цели, быстро отвернулись от повстанцев, и Булавин, отнюдь не отказываясь от своих намерений, убедившись в готовности основной массы казачества, особенно голутвенного, пойти за ним, едет в Запорожье. Его цель — получить помощь от местных казаков для продолжения восстания на Дону и похода «на Русь бить бояр».
До Москвы вести о Булавине и его товарищах, его поведении «в Запорогах», Кодаке стали поступать в начале нового года. На Украине, в ее левобережных городах и Киеве, прибытие донцов, их рассказы о недавних событиях, «забойстве» Долгорукого произвели сильное впечатление. Воеводские власти, гетманская и запорожская верхушка испытывали явное беспокойство. Иван Степанович Мазепа, гетман Левобережной Украины, взысканный милостями Петра (он один из первых кавалеров ордена Андрея Первозванного, высшей награды, учрежденной повелением царя) и шедший к открытой измене России, кошевой атаман [18] Запорожской Сечи Тимофей Финенко, их сторонники из «добрых и постоянных людей» (так власти характеризовали украинских «домовитых», «значных» казаков) с опасением восприняли призывы Булавина к местной голытьбе.
..В начале января Семен Шеншин, воевода Новобогородицка, городка на берегу Самары, левого притока Днепра, сообщил князю Дмитрию Михайловичу Голицыну: прибыл к нему сотник из Новосергиевского городка, а котором на исходе декабря побывали запорожские казаки; они рассказали ему:
— Приезжали в Сечю из Кодака Булавин с товарищи. И для того их приезду была в Сече рада.
— И что было, — спросил запорожцев сотник, на той раде?
— Читали на раде прелестное письмо от Булавина. И сам ой говорил.
— О чем?
— Просил себе в споможение Войска Запорожского и возмущению бунта, чтоб учинить то в великороссийских городех.
— А как ответили запорожцы?
— Рядовые казаки на то ево прелестное прошение склонились было. Только на то не согласились кошевой и куренные атаманы [19].
— А Булавин?
— Булавин просил Тимофея Финенко дать ему с кошу лист (письмо. — В. Б.) и казаков до крымского хана, чтоб с тем листом и казаками ехать ему в Крым и просить у хана орды на вспоможение себе для разорения великороссийских городов.
— Кошевой как? Согласился?
— Нет, Финенко о том не позволил и листа до хана не дал. И велел Булавину с товарищи до весны пробыть в Кодаку.
— Где ныне тот Булавин?
— Живет в Кодацкой фортеции.
Сведения, сообщенные запорожцами новосергиевскому сотнику, через Шеншина и Голицына поступили в Москву. Оттуда пошли распоряжения Мазепе и русским воеводам о «поиске» над Булавиным, поимке и присылке его в Москву, противодействии его замыслам, а также переходу запорожской голытьбы на сторону собратьев-донцов.
Булавин в Сечи ставил перед собой вполне определенную цель — получить помощь в борьбе с московскими карателями, властями и своей, донской, старшиной. Он не исключал и привлечение других союзников — крымского хана, например, с его ордой; потом у него появятся и иные планы. Удивляться здесь не приходится — это делали и до него, и после него; и повстанцы против властей, и, наоборот, власти против повстанцев.
В Запорожской Сечи всю зиму и весну продолжалось брожение. Сечевиков раздирали противоречия, споры. В январе Мазепа, сразу после получения грамоты из московского Малороссийского приказа, направил своего посланца в Сечь. Финенко собрал раду, его писарь зачитал гетманскую грамоту с приказом:
— К кошевому атаману Войска Запорожского и всему поспольству [20]. Повелеваю вам, чтобы вы, являя свою к великому государю службу, невозбранно выдали из фортецыи Кодацкой донского бунтовщика с его единамысленниками и, сковав их, прислали с моим посланным. А та ваша верность не будет забвенна, но прещедрою ево великого государя милостию и моим гетманским призрением наградится.
— Что ответим, господа казаки? — Финенко обвел взглядом толпу сечевиков. — Согласны с гетманским листом? Выдадим Булавина с товарищи?
— Выдать!
— Нехай берет пан гетман!
— Тогда наша общая войсковая рада, — кошевой поднял булаву, — решает: того враждебного бунтовщика с ево единомысленным товариществом выдать. Любо?
— Любо! Любо!
— Выдать! Что воду мутить!
— Послухаем гетмана!
Решение приняли как будто единогласно. Но, разошедшись по куреням, многие призадумались. Брали их сомнения: как же так? Согласились со старшиной, а ведь решили судьбу таких же казаков, как и они сами, — тех, кто хочет бить панов и мучителей народных! На другой день по требованию большинства сечевиков снова собрали раду, отменили вчерашнее постановление:
— В Войску Запорожском низовом никогда того не бывало, дабы таковых людей, бунтовщиков или разбойников, кроме самых воров, выдавать.
Этот новый приговор приводится в передаче мазепинской отписки в Москву. А гетман, конечно, не жалел бранных слов в адрес и булавинцев («бунтовщики и разбойники»), и запорожцев, проявивших такое непостоянство — приняли вчера одно решение, сегодня другое; да и что, мол, удивляться: «неистовые голосы пьяниц и гультяев... большим числом превосходят добрых и постоянных людей», то есть богатых казаков, верных гетманской и московской властям.
Правда, рада под давлением старшины включила в свое решение еще один пункт:
— Послать ясаула с коша в Кодак к полковнику тамошнему с таковым письмом, дабы он все гультяйство, которое почал было к себе прибирать тот Кондрат Булавин, разогнал. А ему, Булавину, приказал, чтоб он в Кодаке смирно жил, гультяйства к себе не собирал и ничего враждебного и вредительного против его, великого государя, не починал.
В Запорожской Сечи, как и на Дону, не было и не могло быть единства. И здесь и там друг другу противостояли зажиточные и бедные, старшина и голытьба. Правда, определенные демократические формы управления — круги или рады, обсуждение на них всех вопросов жизни «казацких христианских республик», выборность атаманов с помощниками — гарантировали участие в нем и рядовой казачьей массы. Несмотря на интриги и влияние старшины, постепенно прибиравшей власть к рукам, рядовые казаки обладали правом голоса, решали по большинству голосов многие дела, нередко не соглашаясь со старшиной, атаманами, а то и скидывая их с помоста, прогоняя с должности, заменяя другими, более подходящими. В то же время казацкая масса вынуждена была считаться и с волей, пожеланиями или угрозами властей — своей, местной, гетманской и московской. Правда, в подобных поступках, выглядевших нередко тактическими уловками, — немалая доля прагматизма, в одних случаях простодушно-наивного, в других — последовательно-неуступчивого.
И в последнем случав — с письмом в Кодак о Булавине — этот прагматический подход, хитрые уловки проявляются в полной мере: запорожцы не хотят вызвать гнев царя, гетмана, но, как показали последующие события, и не думали всерьез относиться к ими же принятому решению запретить Булавину собирать гультяев для борьбы с властями, боярами. Донской атаман продолжает призывать запорожцев, собирает их вокруг себя.
В начале февраля Малороссийский приказ снова шлет грамоту Мазепе. Приказных начальников терзает беспокойство: согласно донесению Голицына «вор и изменник Булавин, собрався с единомышленники своими», перешел в урочище на реке Калмиус, стоит там своим кошем, а с ним — 9 тысяч запорожцев. Из них с 400 человек стоит в урочище Кленовце, с 300 — между Тором и Бахмутом. Они хотят приходить к Тору, Моякам и Изюму, разорить эти города, чтобы, взяв в них артиллерию, «итить на Русь бить бояр». Положение для властей осложняется и тем, что татарская орда прикочевала на речки Татарку и Московку, «а большая татарская сила стоит на Молочных Водах». На реку Красную пришли из Черкасска атаманы Ефрем Петров и Василий Поздеев, с ними — 1 тысяча казаков, «бутто для разорения станиц Сухаревой и Краснянской».
По тем вестям Голицын приказал идти против «воров и изменников» князю А. Гагарину из Курска к Чугуеву с полками, ратным людям Белгородского разряда, черкасским полковникам, воеводе Каменного Затона Степану Бахметеву. То же, по указанию из Москвы, должен был делать Мазепа.
Ближе к середине февраля поступили вести из Каменного Затона. Его новый воевода Илья Чириков, оказывается, послал своего лазутчика в Сечь «для розведыванья про вора и бунтовщика Булавина». Тот вызнал, что по слухам, на Сечь приезжали 12 донских казаков и просили у запорожцев разрешения поселиться и жить на реке Каменке. Собралась, как обычно, рада. Решали вопрос: удовлетворить или нет просьбу донцов? Большинство не согласилось:
— Нелюбо!
— Селитца им на Каменке не велеть!
— Пусть едут на Кодак и там живут!
Здесь же, на раде, прочитали грамоту Мазепы. Тот требовал выдачи булавинцев. В ответ запорожцы кричали:
— Черта ему лысого!
— Много гетман хочет!
— Мы ни про каких воров не ведаем!
Гетманскую грамоту изодрали и бросили.
Беспокойные вести сообщили из Изюма. Местный наказной полковник тоже послал «тайным обычаем» соглядатаев в Терны, что от Изюма «в близости», на Кодак и в Запорожье, Те вернулись в конце января. Сообщили:
— Ездили мы тайным обычаем на вершину Самарскую (верховья Самары близко подходят к среднему течению Северского Донца, к окрестностям Соленого, Бахмута, Тора и Маяцкого острога. — В. Б.) в урочище Опалиху. И вниз тою рекою Самарою проехали все курени севрюков[21] запорожских.
— В каких куренях, — спросил их полковник, — были?
— По Самаре в Милсонином на усть-Быковым (в устье реки Бык, левого притока Самары. — В. Б.) и в Богдановым на Кочерешках на усть-Волчей, в Грышкине, в Дедовском и в Полазне Запорожской, где севрюцкой атаман живет.
— Сколько там народу?
— В куренях тех зимуют севрюков человек по двадцати и меныпи.
— О Булавине и прочих что вызнали?
— Сказывали нам севрюки, что Булавин пошел в Сечю. А товарыщей ево нигде в тех самарских Тернах не видали.
— В Кодаке были?
— Сначала приехали в Сергеевское и были у сотника Ивана Лучинского. От него слышали, что в Кадаку донские казаки есть. И ис Сергеевского были в Новобогородицком. А оттуда, пришли в Кодак, объявились кодацкому полковнику и просили, чтоб нас приняли в ево полковничей курень. Сказывали мы ему, что с Кодаку пойдем в Запорожье козаковать.
— Как полковник? Согласился?
— Согласился. Принял в свой курень.
— Булавина там видели?
— Были мы в полковничьем курени три дни и видели дважды того Булавина налицо. А с ним товарищев ево донских 12 человек.
— Как видели? Что слышали?
— Однажды в том курени при нас, посыльных, сидел Булавин пообочь полковника кодацкого; и слушали они вместе челобитчиковых дел. В то число пришли от воеводы новобогородицкого три человека с жалобой на кадачан, что они пограбили у них рыбу.
— Что дальше?
— Чли воевоцкое письмо. И после того Булавин тех людей бранил и письма ругал.
— За что?
— Говорил Булавин полковнику: вы тех людей новобогородицких не знаете, они в своих письмах все плутают и стращают.
— Какое решение дали запорожцы?
— Они тем людям за ево, Булавина, словами справедливости не дали.
— Так, так... Значит, Булавин у них в почете, если его слова слушают и веру им дают. — Полковник мрачно усмехнулся. — Что еще узнали о нем?
— Говорили нам кодацкие знакомцы: как он, Булавин, приехал с Дона на Кодак, и ево, и товарыщев ево оковали при армате [22], И сидели два дни за караулом. А потом велено прислать ево в Запорожье.
— Что сказали про Запорожье?
— В Сечи он, Булавин, перед кошевым во всем Войске в кругу подал от всего Войска Донского письмо, чтоб они, запорожские казаки, всем своим войском рушились[23] к ним, донским казаком. А они, донские казаки, во всякой готовности все. Потом Булавин говорил: вы, атаманы и казаки, позвольте поднять охотное войско на деньги и взять походные пушки.
— Обещал деньги дать?
— Денег обещал дать 7000 червонных.
— А куда и зачем звал итти в поход?
— В том большом кругу он, Булавин, бил челом, что они, донские казаки, хотят итти на Русь; а из запорожцев просят на вспоможение для того: в Руси их, казаков, ругают и живут не в благочестии.
— Какой ему на раде ответ дали?
— Для такого его, Булавина, предложения збирались всем войском в круг трижды и окрик чинили, чтоб итти наперед на Орельские городки (по реке Орели. — В. Б.), и побрать пушки, и побить панов и арендорей (арендаторов. — В. Б.) за их неправду, что Украиною завладели, а их, казаков, изобижают.
— А кошевой и старшина?
— Кошевой запорожской с старшиною и с куренными атаманы и с стариками, посоветовав меж себя, на то Булавина предложение ответ дали такой: нынешней зимой в поход поднятца невозможно, Днепр и иные реки не замерзли; и чтоб не задержали казаков, которые ныне на Москве. А как те казаки возвратятца и весна будет, и мы охотного войска, кто похочет, задерживать не будем.
— О Крымской орде речь была?
— Булавин просил у Войска Запорожского позволения, чтоб ему итти в Крым и призвать татар. И того ему не позволили: когда они Войском рушатся, и орда их не останет. А ныне Крымская орда кочует на Татарке, и на Московке, и на Белозерках, в ближних местах от Каменного Затона; а шкоды от них русским людям никакой нет.
— Куда Булавин после того большого круга делся?
— Отпустили ево зимовать в Кодак и обнадежили, что за убивство князя Долгорукого не выдадут никому.
И ныне он в Кодаку, а караулу за ним никакова нет.
Вскоре поступили еще более тревожные для властей известия. Голицын из Киева снова пишет Петру о «донском бунтовщике Булавине»: тот немалое время жил в Кодаке, и к нему с Дона приехали 40 казаков. Он вместе с ними снова явился в Сечь звать запорожцев «к бунту, в разоренье ваших государевых великороссийских городов».
В Сечи на новой раде разгорелись страсти. Булавин обратился к запорожцам с той же просьбой:
— Господа казаки! Приехали с Дона казаки, — вот они рядом со мной, — звать на Дон. Все городки донские, донецкие и на запольных речках, и по Хопру, Медведице, Бузулуку готовы итти против изменников-старшин и бояр московских. Мы зовем всех вас в поход под великороссийские городы и на Москву, бить бояр и иноземцев, которые нас, казаков, запорожских и донских, вконец теснят и обижают, а наши вольности и права Москва грозит уничтожить.
— Согласны!
— Любо!
— Пойдем с донскими казаками бить панов и бояр!
— Пусть кошевой скажет!
Тимофей Финенко, сумрачно и затравленно оглядывая сечевиков, неуверенно начал:
— Господа казаки! Такие речи Булавина мы слышим не впервой. До сего числа согласия мы ему не давали. Думаю, и ныне давать нет надобности. В том их бунте нам участие иметь опасно и...
— Долой!
— Трусливый стал дюже!
— Заврался!
— С панами снюхался!
Булавин подлил масла в огонь:
— Казаки! О том, чтобы нам не помогать, а выдать властям, пишут бояре с Москвы и Киева Мазепе, русским воеводам. А он, кошевой, их боится и слушает.
Вольница взорвалась криком:
— Долой Тимошку!
— Потатчик боярский!
— Товариству изменник!
— Нового кошевого избрать надо!
Как ни пытались Финенко и его сторонники утихомирить «горлопанов», призывая к порядку, но их не слушали. Шум нарастал, отдавался по обоим берегам Днепра гулким эхом, вспугивал грачей, и они стаями проносились в вышине, взбудораженные громкими и страстными воплями, исходившими снизу, от людей, своих беспокойных и опасных соседей. А они, люди, продолжали бушевать:
— Долой Финенку!
— Поддержим Булавина!
— Донские казаки — братья наши!
— Вместе страждем от панов!
Кто-то из середины толпы выкрикнул:
— Костю Гордиенку в кошевые!
В ответ, нарастая, шквалом обрушился общий крик:
— Костю!
— Гордиенко в кошевые!
— Любо!
— Любо!
Финенко и его клевреты, понуря головы, сошли с помоста. Их место занял Константин Гордиенко. Поднял руку:
— Тихо, господа казаки. — Скоро затихло, и новый кошевой атаман поклонился товариству. — Спасибо, господа казаки, за честь великую.
— Атаманствуй!
— Не робей, Костя!
— Мы тебя давно знаем!
— Товариство слухай и не обижай!
— Даю в том слово! — Гордиенко поднял булаву, отданную ему перед тем свергнутым Финенко. — Так как же, казаки? Что скажем Булавину? Позволим ему собирать охотников для походу на русских бояр?
— Позволим!
— Пусть собирает!
— Сами с ним пойдем!
Гордиенко обратился к Булавину:
— Ну, Кондрат! Кто похочет с тобою итить на такое дело из Сечи, и тем охотникам мы не возбраняем.
— Спасибо тебе, господин кошевой атаман! — поклонился ему в пояс Булавин. Обернулся к притихшей толпе сечевиков, тоже склонился перед ними. — Спасибо, господа казаки, за помощь, за привет и ласку. Вовек той вашей милости мы, донские казаки, не забудем! Спасибо, господа казаки!
— Правильно говоришь, Булавин!
— И хорошо мыслишь — бить бояр и воевод!
— Вместе тряхнем богатых да брюхатых!
Гордиенко, этот, по отзыву Мазепы (в письме Голицыну, киевскому воеводе), «древней вор и бунтовщик», занял иную позицию по отношению к Булавину. И донской предводитель, не откладывая, собрал несколько сот человек и с ними вскоре переправился через Днепр у Кичкаса, на север от Сечи, южнее Кодака. «И ныне стоит, — сообщал Голицын царю, — на речке Вороновке, от Новобогородицкого верстах в 20-ти. И многие к нему такие же шаткие люди пристают».
Именно в это время, в конце зимы — начале весны, Булавин обратился со своим известным призывом («прелестным письмом») к простому люду:
— Атаманы молодцы, дородные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Хто похочет с походным военным атаманом Кондратьем Афонасьевичем Булавиным, хто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конех поездить, то приезжайте в Терны, вершины самарские. А са мною силы донских казаков 7000, запорожцев 6000, Белые орды 5000.
В этой, как ее иногда называют, листовке видны отзвуки казачьего песенного эпоса, дух героических походов, смелость казачьей вольницы — ватаги, гордости вольных людей, которых сказы и песни воспевают как «воров и разбойников», в чем тогда не видели ничего предосудительного. Как и положено в таких случаях, свои силы Булавин весьма преувеличивает: пусть знают все, как нас много, а будет еще больше! Разгуляйся, сила молодецкая! Хоть час, да наш! Главное — собраться всем охотным, вольным людям, да чтоб побольше нас было, пусть враги дрожат от страха!
Булавин, как можно видеть, не без пользы провел зиму в Сечи. Сначала запорожцы встретили его настороженно. Таковы уж были их обычаи, казацкая натура. Постоянные опасности, угрозы со всех сторон давно сделали их людьми храбрыми, неустрашимыми, но и осторожными. Они предусматривали все, береглись от случайностей и поворотов судьбы. С Булавиным и его спутниками сечевики разобрались быстро, приняли их в свою среду. Не раз в Кодаке, где они проживали, и особенно в самой Сечи, слушали они речи и призывы Булавина, принимали и отменяли решения. Но в конце концов, после всех сомнений и колебаний, сбросив Финенко и других старшин, согласились помочь донцам в их борьбе с обидчиками. Всем войском выступить вместе с Булавиным они не могли — с юга грозило нападение Крымской орды, с севера и востока стояли царские войска и Мазепа. Потому и постановили: пусть идут с Булавиным охотники. А они нашлись. И это снова пугает воевод в Киеве и других малороссийских городах, заставляет московские власти посылать им новые приказы о «поиске над ворами и мятежниками», о том, чтобы отбить их «от злого дела к возмущению бунта».
Положение для властей усугубляется и тем, что на самом Дону в тех городках, «где он, вор (Булавин. — В. Б.), учинил прежнее воровство, товарищи ево ста по два и больше ездят и розбивают, и взяли козачей городок Теплинской; и многие к ним пристают» (из нового донесения Голицына Петру I). Воеводы жалуются на недостаток войск в местных гарнизонах. Голицын обеспокоен плохим состоянием Печерской крепости в Киеве. До него доходят вести, что запорожцы рекомендуют Булавину, чтобы он призвал к себе на помощь Белогородскую и Ногайскую орды (кочевавшие в Причерноморье и Прикаспии), горских черкесов и калмыков. Требуют также, чтобы он привез в Сечь письмо от всего Войска Донского с войсковой печатью; иначе, мол, они помогать им, донцам, не будут; более того, всех булавинцев перевешают.
Трудно сказать, в чем эти разговоры и слухи соответствовали истине. Во всяком случае, ясно, что, во-первых, среди запорожцев не было единства по отношению к Булавину и донскому восстанию; во-вторых, несмотря на разногласия, они разрешили ему набирать вольницу из сечевиков.
К Булавину шли новые запорожцы, татары. Мазепа посылает против него Полтавский полк. Повстанцы-булавинцы действуют в пределах Белгородского разряда, пограничных с западными областями Войска Донского. По словам Голицына в письме Петру, «подметное письмо явилося от Белагорода в ближних местех, верстах в 20, и в иных городех по ночам многолюдством приезжают и розбивают».
Царский любимец, светлейший князь Меншиков требует от Голицына «при помощи господни над вором Булавиным чинить воинский промысл и не допустить до злого его намерения и разрушить до травы (намерение Булавина: начать новое восстание весной 1708 г. — В. Б.) ».
Последний в ответ пишет о посылке Гагарина на Чугуев, жалуется на крайний недостаток войск в городах Белгородского разряда. А между тем, по его словам, в тех местах, где Булавин прежде поднял мятеж, «некоторые ево остальцы в Белогороцком розряде розбивают и являютца подметные письма: оной вор пишет, сколько ис которого казачья городка к тому ево злому намерению пристанет и что к нему придет татар; итого по счету будет с 35 600 человек. Хотя то и неправда, однако ж обычай всякому народу простому вероятну быть».
Голицын страшится по всем статьям: и ратных людей по городам мало, и самому ему идти против Булавина невозможно, «чтоб тот огонь не разширился». Далее, многие жители городов Белгородского разряда «порубежны з донскими городками и обвезалися свойством», то есть, их жители связаны родственными узами. В Белгород ехать «для управления некоторых дел» он не может, поскольку в Киеве Печерская крепость обвалилась, ее нужно исправить. Указом государевым велено направить в Азов на работы 23 тысячи человек из Белгородского разряда; а он, Голицын, опасается, чтобы по пути «тот вор» (Булавин) не совратил их своими прелестными письмами «и не возратил х какому злу». К Булавину «многие лехкомышленные люди» пристают, и посему ему, воеводе, нужны новые полки в помощь; «а естьли не присланы будут, зело опасно, ежели приход того вора будет. Не токмо чтоб маломочно теми людьми одержать (разбить Булавина. — В. Б.), и своих Белогородцкого розряду людей смирить будет немочно».
В марте половодье и бездорожье сильно затруднили действия властей. Мазепа, пославший Полтавский полк в урочище на р. Вороную, где находился стан Булавина, жалуется, что в весеннюю распутицу с полковой полтавской пушкой «возитися» было бы очень трудно. Просит Голицына, чтобы комендант Новобогородицка отдал две пушки с припасами и пушкарей тому полтавскому полковнику. По той же причине киевский и белгородский воевода сомневается, что он сможет выполнить царский приказ — вывезти из городов Белгородского разряда медные пушки для нужд главной армии.
Булавин продолжал решительные действия — собирал сторонников, совершал набеги на города Белгородского разряда, его повстанцы действовали по Донцу, готовились к более широкому выступлению. Он надеялся привлечь к нему большие силы, и в его речах, грамотах, в разговорах и слухах, воеводских доношениях их размеры сильно преувеличивались — то к нему пристали 9 тысяч запорожских казаков, то будет у него всего более 35 тысяч донских казаков и татар. Со стороны Булавина подобные слова — и своеобразный агитационный прием, и смесь уверенности с надеждой...
Находясь в Сечи, Булавин говорил на радах от имени Войска Донского. По сути дела, он был прав — события осени и начала зимы предыдущего года хорошо показали, что основная масса донцов его поддерживала, хотя и не все поднялись на восстание — слишком быстро черкасская старшина расправилась с булавинцами, тогда весьма малочисленными. Но формально он выглядел самозванцем — Войско Донское в лице его руководства, той же черкасской старшины, Булавину никаких полномочий звать Сечь на новое выступление, естественно, не давало. Хотя отдельные ее представители, тот же Зерщиков и ему подобные, тайно могли это делать, хотя бы во время посещения Булавиным Черкасска после поражения под Закотенским городком от Лукьяна Максимова. Кондрат тогда, в славные и тяжелые для него октябрьские дни, в обличье монаха стоял среди казаков на круге. Может быть, он тайно встречался и говорил кое с кем о своих планах на будущее?..
Официально Черкасск полностью отмежевался от Булавина, осудил его, казнил немало его сподвижников по октябрьскому выступлению. Старшина долго отмалчивалась и увиливала, когда речь заходила о местопребывании Булавина. К весне, когда власти в Москве и на Украине вели активную переписку о «воре и бунтовщике», его появлении на радах в Сечи и планах похода на Русь, игра в молчанку далее продолжаться не могла. Войско Донское, в лице наказного войскового атамана — того же Ильи Григорьева, то есть Зерщикова, шлет грамоту в Запорожскую Сечь:
— В нынешнем 708-м году в Филипов пост приехал к вам в Сечю вор и изменник донской козак Кондрашка Булавин с единомышленники своими и привез прелесные воровские письма и сказывал вам, бутто мы Войском Донским от великого государя отложились и для того бутто ево, вора, к вам прислали, чтоб вы Войском шли б к нам, Войску Донскому, на помочь.
Зерщиков и старшина сообщали далее, что Булавин объявился на Хопре в верховых казачьих городках, и для его «искоренения» войсковой атаман Лукьян Максимов с большими силами выступил в поход. Заверяли сечевиков, что они, донцы, великому государю отнюдь не изменяли, и делать это не собираются; «и вам, кошевому атаману и всему Войску, впредь таким ворам и никаким возмутительным письмам и ево, Булавиным, товарыщем не верить. А буде такие воры явятца, и их присылать к нам, Войску, или в Троицкой, на Таганрох, оковав, за крепким караулом».
По-прежнему слал донесения Петру Голицын: и о 23 тысячах работниках для Азова, и о действиях Булавина под Тамбовом, на Хопре, сборе им сил для похода на Черкасск, осаде Провоторовской станицы и о малолюдстве царских гарнизонов. Сообщил, правда, в начале апреля и два утешительных известия: Полтавский полк, присланный Мазепой, пришел и стоял поблизости от реки Самары; «и, уведав, оной вор тех урочищ лишился»; другая «ведомость» состояла в том, что удалось арестовать жену (вторую) Булавина «с сыном, которому полгода», и привезти их в Белгород. Относительно первого из них можно сказать, что Полтавский полк попросту опоздал, так как к тому времени Булавин перебрался на Дон, в Пристанский городок. Арест же семьи для Булавина стал, несомненно, тяжелым ударом, и он впоследствии, уже в разгар восстания, будет упорно добиваться, впрочем безуспешно, ее возвращения.
Запорожская зима для Булавина прошла в немалых волнениях и хлопотах. Большего — полного объединения сил двух Войск, Запорожского и Донского, — достичь не удалось. Но запорожская голытьба выделила из своей среды немало охочих людей, пошедших за Булавиным. Последующие события показали, что многие из сечевиков разделяли подобные мнения и стремления.
Попытки центральных и местных властей поймать Булавина и его сподвижников, потушить тлеющее пламя движения, начатого им с расправы над Долгоруким, не дать запорожцам объединиться с донцами не удались. Петр и его помощники, занятые решением первоочередных, с их точки зрения, дел, не придавали серьезного значения Булавину, считали, очевидно, что с ним покончено в октябре прошлого года. Искры, кое-где продолжавшие тлеть еле-еле, можно будет, мол, при случае потушить без особого труда. Но уже ранней весной события показали, насколько они ошибались. Дмитрий Михайлович Голицын, киевский и белгородский воевода, недаром осаждал Петра жалобами и опасениями. А они, эти опасения воеводы, имели немалые основания.
К Булавину, когда он жил в Кодаке, не раз приезжали его земляки, звали обратно на Дон, где назревал новый, более мощный взрыв. Булавин не только знал это, он сам стремился к тому же, готовил его. Теперь настала пора, и Кондрат Афанасьевич в разгар весны едет в родные места, чтобы снова поднять голытьбу, казаков на восстание.
В ПРИСТАНСКОМ ГОРОДКЕ
С ранней весны 1708 года центр восстания перемещается на среднее течение Дона, его левобережье с Хопром и другими тамошними реками. Именно в эти места бежали оставшиеся в живых повстанцы после поражения булавинцев. Здесь же зимой собираются новые люди из числа недовольных, готовых продолжать борьбу, ведущих ее отрядами в 200 и более человек. Все это было хорошо известно в Кодаке Булавину, который сам некоторое время, осенью прошлого года, скрывался в дебрях Хопра и соседних рек. Он получал оттуда вести от донцов, приезжавших к нему в Сечь. Его звали туда сподвижники. И он, собрав некоторое число запорожцев, перебирается в верховья Самары, а оттуда — на Хопер. К началу последней декады марта он уже в Пристанском городке, при слиянии реки Вороны, правого притока, с Хопром. Здесь его ждут товарищи с немалыми силами.
Еще до прибытия Булавина в Пристанский городок воеводы близлежащих южнорусских уездов получают известия о сборе в нем «воровских казаков». В том же месяце козловский воевода, драгунский полковник князь Григорий Иванович Волконский услышал в воеводской избе рассказ татарина Акмемета Дунаева из Нижнеломовского уезда. Тот в свое время, месяцев пять тому назад, попал в плен к кубанским татарам, с Кубани «ушел» (бежал) и прибыл в Азов. Отсюда направился домой с двумя азовскими казаками, которые везли отписки из своего города в Тамбов. По пути все трое оказались в Пристанском городке:
— И как были мы, — говорил Акмемет, — в хоперском Пристанском казачьем городке марта в 9-м числе, и в том городке в зборе воровского отомана Булавина с 1000 человек козаков.
— Как встретили вас, — спросил Волконский, — те воровские казаки?
— У азовских казаков они отписки отнели и, переломав печати, прочитали и передрали. И призывали их, азовцев, с собою к воровскому согласию и к крестному целованию.
— Для чего?
— Они сами, донские казаки, между собою целуют крест: собрався им, итить в Черкаской отомана (Л. Максимова. — В. Б.) убить за то, что он с азовскими боярами знаетца и вместе думает. И итить им под Озов, и нужны-де им бояре. Для участия в том деле и азовских казаков звали.
Через день полковник слушал показания тамбовского дьячка Ивана Попова. Он побывал в Пристанском городке несколькими днями позже татарина Акмемета. Сообщил обеспокоенному князю:
— Те пристанские казаки спрашивали про государевых лошадей, которые на корму в Козлове и в Танбове, где им построены дворы. А еще сказали, что нужно-де им захватить тебя, князя Григорья Ивановича Волконского.
— Вон как! И я им понадобился! — Полковник ухмыльнулся. — О Булавине что говорят?
— Называют его набольшим своим атаманом. Говорят, что идет к ним с силою в близости, а с ним запорожских казаков с 17 000. Да с другой стороны будто ожидают они к себе караколпаков и иных людей, прозванием будто множество.
— Намерение их: собрався всем, итить в Черкаской для воровства. Да они же говорят: дела нам до бояр да до тебя, полковника князя Григория Ивановича, да до прибыльщиков, да до подьячих, чтоб перевесть.
Не прошло и двух дней, как в Козловскую воеводскую избу привели Меркула Федоринова из деревни Грибановки Тамбовского уезда, крепостного крестьянина из недавно пожалованпой вотчины самого светлейшего князя Римской империи и князя Ижорской земли Александра Даниловича Меншикова. Тот поведал:
— Марта в 15-м числе воровские козаки чрез письмо и нарочною присылкою меня, Меркула, и иных той деревни жителей призывали к воровскому своему согласию. Мы того не послушали.
— А что они, воры, — допрос на этот раз вел подьячий, — делали в тех местах?
— Два дни спустя юрты, да три деревни Танбовского уезду, да Борисоглебского уезду разарили и все разграбили. И тогда же приехали воровские казаки, да с ними черкасы, да запорожские казаки и колмыки в тое деревню Грибановку и меня, Меркула, грабили и хотели убить до смерти. И я от них ушел.
— Что еще они замышляют?
— Слышал я от них, воров, что итить им в Борисоглебский уезд для разорения и взятия воеводы. А которые тонбовцы у готовности лесных припасов в Азов на корабельное строение, и воровские казаки говорили им, тонбовцам: зачем вам мучитца и на плоты лес готовить? Хотя вы те плоты и изготовите, мы их в Азов не пропустим.
— А к себе в воровство тех работных людей наговаривают?
— Наговаривают всеми мерами, нарочною присылкою и письмами, непрестанно, чтоб они склонились к их воровству. А танбовца Сидора Пешкова, которому те работные люди приказаны, велят убить до смерти.
В самом начале весны повстанцы уже активно действуют на севере Войска Донского и в прилегающих к нему русских уездах. Формируется повстанческое войско — они призывают к себе саратовцев, крепостных крестьян из соседних дворянских имений, работных людей с лесных заготовок, готовятся к походу на Черкасск. Добывают всякие припасы, лошадей.
Вскоре Волконский получил письмо своего коллеги по службе — тамбовского воеводы стольника Василия Данилова: повстанцы «с танбовского двора драгунских лошадей отогнали нового заводу жеребных кобыл многое число». Тем людям, которые кормили тех лошадей, они говорили:
— До вас, станичников, нам дела нет. Скоро быть нам в Тамбове, итить до Тулы. И съезжаться будем на Туле. А дела нам до начальников и подьячих.
Этим повстанцы не ограничились — вторично прискакали к тамбовскому двору, отогнали еще 300 жеребят, «которым по другому году». Сидор же Пешков, начальник работных людей, заготовщиков леса, известил В. Данилова, а тот письмом — Г. И. Волконского, что «работные люди будары [24] делать перестали и розъехались в домы, и работа вся стала». К этому же письму Данилов приложил «прелестное письмо за печатью того вора и изменника Кондрашки Булавина», которое послали «в поход», то есть Петру I. Это воззвание повстанцы разослали из Пристанского городка сразу по прибытии в него Булавина, и оно попало в руки властей. Отослав подлинник царю, в Козлове сделали с него копию. Она сохранилась. Документ этот исключительно интересен и важен для представления о том, к кому адресовали свои призывы Булавин и его помощники, что они замышляли, на что рассчитывали в будущем. Вот его начало:
— От Кондратья Афонасьевича Булавина и от всего съездного Войска Донского в русские города начальным добрым людям, также и в села и в деревни посацким торговым людем и всяким черным людем челобитье.
Это — обращение к русским людям, горожанам и крестьянам, «черным людям», то есть низам городского и сельского населения. Но характерно, что в числе адресатов — и «начальные добрые люди». Письмо исходит от имени Булавина и «съездного Войска Донского», тем самым главный предводитель, «набольший атаман», выступает от имени донского казачества, представители которого в эти дни собрались для большого совета, «съезда», в Пристанский городок. Булавин и его сподвижники созывают свой общевойсковой круг, в противовес черкасскому, который они теперь отказываются признавать как главный правомочный орган Войска Донского. По сути дела, этот акт — разрыв с Черкасском, объявление войны столичной старшИне во главе с Лукьяном Максимовым и его сторонниками. В Пристанском городке Булавин переходит свой Рубикон.
— Ведомо вам чиним, — продолжает Булавин, — что мы всем Войском стали единодушно в том, что стоять нам со всяким родением за дом пресвятые богородицы, за истинную веру христианскую, за благочестиваго царя нашего, и за свои души и головы, сын за отца и брат за брата, друг за друга стоять и умирать заодно. А вам бы, всяким начальным людем добрым и всяким черным людем всем, тако же с нами стоять вкупе заодно.
Как и многие до них (разинцы и прочие), булавинцы, поднимая на борьбу чернь, хотели бы видеть на своей стороне и «добрых» начальников, бояр, стояли за царя, тоже «доброго» «благочестивого», за православную, «истинную» веру, которую нарушают в последние годы всякие слуги антихристовы — так раскольники, к которым относили себя ближайшие сподвижники Булавина, очевидно, и он сам, а также многие повстанцы называли «никониан», преследовавших ревнителей «древлего благочестия». Отсюда настойчивое повторение «прелестного письма»:
— За дом пресвятые богородицы, за истинную веру христианскую, за благочестиваго нашего государя и за все великое Войско Донское с нами стойте заодно.
Далее следует мотив, связанный с «плохими», «худыми» начальниками, боярами и иными, с которыми нужно вести борьбу всем «черным», обиженным, угнетенным:
— А от нас вы, всякие посацкие и торговые люди и всякие черные люди, обиды никакой ни в чем не опосайтесь и не сумневайтесь отнюдь. А которым худым людем, князем и бояром, и прибыльщиком, и немцом, за их злое дело отнюдь бы вам не молчать и не спущать ради того, что они вводят нас и всех вас в елинскую веру, а от истинной веры християнской отворотили всякими своими знаменьми и чюдесы прелесными.
Письмо призывает всех «добрых» начальников, посадских и черных людей не чинить между собой вражды, не обижать, не бить друг друга; тому же, кто это будет делать, «учинить смертную казнь без пощады». Булавин требует от бояр и воевод освободить заключенных из тюрем «тотчас без задержания». Сообщает, что на его стороне запорожские казаки, Белогородская орда; «и иные многие орды нам, козакам, за душами руки задовали в том, что они ради с нами стать заедино вкупе и родеть заодно».
В конце воззвания даются подробные инструкции о составлении с него копий, рассылке их по городам и селам; «а сие наше письмо из городов воеводам и всяким начальным людем списавши и из сел посылать до города Тулы; а больши не посылать ради того, что мы всем Войском в том городе Туле будем и сие письмо спросим; и ево б нам объявить безо всякого коварства».
Конечно, наивные расчеты повстанцев на начальных людей и воевод, «добрых» бояр и царя, их попытки создать впечатление, что на их стороне многие тысячи запорожцев, татар и прочих союзников, характеризуют достаточно ясно и утопичность их взглядов, и приемы воздействия на народные низы; главное же у них — стремление объединить силы всех угнетенных против царящей в России несправедливости.
Сходные моменты находим в «прелестном письме» Лукьяна (Луньки) Хохлача, одного из активнейших и выдающихся предводителей восстания. Оно, что тоже очень характерно, обращено к стольнику С. Бахметеву и полковнику И. Тевяшову:
— Мы всем Войском собрались все вкупе с запорожскими казаками, с Белогородской ордою, с калмыки, и с татары, и с гребенскими, и с терскими, и с яицкими казаками истребить иноземцев и прибыльщиков. А вы б, Степан и Иван, шли с нами заодно.
Еще в одном воззвании Булавин приказывает по всем станицам одной половине казаков идти к нему в войско, другой — оставаться по своим куреням; и «стоять им всем вкупе... для того, что зло на них помышляют, жгут и казнят напрасно злыя бояря и немцы и вводят в них еллинскую веру». Это — уже обращение к донскому казачеству, напоминание о жестокостях и насилиях, которые творили на Дону Юрий Долгорукий и другие каратели. Звучит мотив защиты исконных прав и вольностей «старого поля» — Войска Донского:
— А ведаете вы, атаманы-молотцы, как деды наши и отцы положили и мы породились, прежде сего старое поле крепко было и держалось. А ныне те злые супостаты старое поле все перевели и ни во что почли. И чтоб нам старое поле не потерять.
Если выше в письме Булавина шла речь о русских городах и деревнях, жителям которых оно и направлялось, то в этом — о донских городках по Дону, Хопру, Бузулуку, Медведице. С самого начала нового, более широкого и мощного, этапа движения Булавин идет на энергичные меры — призывает включиться в него и жителей русских уездов, и донских казаков.
Булавинские листовки появлялись в тамбовских и прочих местах, по донским станицам. Тамбовский воевода Данилов сетует в письме Волконскому, козловскому воеводе:
— Танбовских сел у соцких и у лутчих людей есть такие ж воровские прелестные письма, и убираются они в леса. А из сел служивые люди в город не бывал ни один человек, только пришли пешие, и те без запасов, а запасу не везут.
Картина очень выразительная: богатые («лутчие», сотские) крестьяне бегут в леса, боясь повстанцев; обстановка в селах такова, что их владельцы — дворяне («служивые люди»), и то в небольшом числе, приходят в свой уездный город Тамбов без лошадей и запасов. Ясно, что виной тому — масса крестьян, сочувствующих Булавину или присоединяющихся к нему.
Игнатий Соколов, козловский подьячий, побывавший в селах Никольском и Михайловском, к северу от Пристанского городка, услышал от козловца же, Агея Чалова:
— В то время в хоперском козачьем в Пристанском городке в сборе козаков тысяч с 20 да колмык тысячи с 2. А итить им, козакам и колмыком, под Танбов да под Козлов и под иные городы.
В Михайловском подьячий испытал потрясение:
— В то же время хоперских козаков с 35 человек с ружьем и с знаменем меня, поймав, свезали и велели честь их воровское письмо тамошним михайловским жителям всем вслух, в котором письме писано: которые у вас есть дворяне и подьячие, и тех бы, перевезав, прислали к нам в Войско. А меня, подьячего, и бывших со мной стрельцов ограбили. И говорили михайловским жителям, чтоб они служили с ними, казаками, заодно; нам-де то и служба, что вывесть прибыльщиков да немцев и обидников. И они, михайловские жители, им, ворам, сказали: о том у вас и милости просим. И дали они, михайловские жители, им, ворам, верное письмо. Они же посланных к ним подьячих, стрельцов вязали и били и хотели посадить в воду. И хотели они, михайловские жители, ехать в тот Пристанский городок к крестному целованию, что им с ними, воровскими казаками, быть заодно.
Действия булавинцев сильно встревожили черкасскую старшину. Лукьян Максимов присылает в Троицкое Толстому своего близкого помощника Ефрема Петрова. Тот «втайне» передает азовскому губернатору копию прелестного письма Булавина. Сообщает, что подобные «листы» Булавин рассылает во все стороны; он же направил в Донецкую станицу своих посыльщиков за пушками и казной, осадил Правоторовскую станицу. Из рассказов Ефрема Петрова следует, что среди верховских казаков нет единства: одни, очень немногие, во главе с походным атаманом Селиваном Изваловым пошли против калмыков; другие, около 1,7 тысячи человек — под Саратов; третьи, человек с 300, в том числе Андрей Рубец, Лука Хохлач, — в Пристанский городок. Отсюда они разослали письма по всем станицам, чтобы их представители, по 20 человек «лутчих людей» от каждой, съезжались в Пристанский городок «на совет».
Большой съезд, или совет, казаков собрался несколько дней спустя после приезда Булавина в Пристанский городок. Обсуждали план дальнейших действий. Его предложил Булавин:
— Господа казаки! Пришла пора отомстить за кровь и мучения, которые мы терпели в прошлом году от московских бояр и старшины черкасской. Вы помните, как секли и казнили нашу братью казаков, старожилых и новоприхожих, насиловали жен и дочерей, вешали младенцев по деревьям. Лукьян Максимов ходил на нас походом, а перед тем сам велел убить Долгорукого; и в кругу в Черкаском при нем казаки говорили, чтоб побить бояр и иноземцев.
— Знаем! Знаем!
— Помним хорошо!
— Ты, Кондрат, говори, что делать!
Булавин чувствовал единодушие и поддержку собравшихся. Потому без колебаний предложил:
— Итти нам всем войском на Черкаской, чтоб тех старшин-изменников взять и казнить до смерти. Любо?
— Любо! Любо!
— Правильно!
— А пойдем сухим путем и водным. Для того походу изо всех станиц по Хопру, по Медведице, по Бузулуку и по Дону, вверх и вниз, по половине казаков итти с нами в Войске вниз до Паншина городка. А, съехався в том Паншине, пойдем на Черкаский остров. По всем станицам послать о том письма. А теперь — о старшинах и полковниках, есаулах и знаменщиках.
— Сам называй, атаман!
— Кто тебе надобен, тех и бери!
— Полковниками быть Василью Строке, Мартыну Чекмарихину, Ивану Шуваеву.
Потом избрали четырех есаулов, нескольких знаменщиков. Хохлача с сотней казаков выделили для отгона лошадей из-под Тамбова.
Черкасакая старшина тоже созывает круг. Он приговорил: войсковому атаману Лукьяну Максимову с казаками из Черкасска и всех городков, по половине из каждого, выступить 28 марта в поход против Булавина.
Повстанцы начали активные действия. Булавин остановил на Хопре плоты, шедшие в Азов, велел казнить начальника, а 200 загонщиков включил в свое войско. Продолжаются нападения повстанцев на помещичьи и дворцовые деревни Тамбовского, Козловского, Борисоглебского уездов, по реке Битюгу. Они действуют у Саратова, планируют походы на Тамбов, Козлов, Пензу, Инсар, Верхний и Нижний Ломовы, Азов, Троицкий и другие города.
Местные и центральные власти, черкасская старшина ведут частую переписку, принимают меры по охране морского флота, городов, которым угрожают восставшие, собирают силы для борьбы с ними. Лукьян Максимов и старшина послали войско во главе с Зерщиковым против «бунтовщиков», которые подняли восстание в Обливенской, Герасимовой, Беловодской станицах, «для искоренения их». Острогожский полковник И. Тевяшов шлет донесения: в Бахмуте пойман атаман Щербаков, товарищ Булавина; они встречались на речке Лугани; у первого было 200 казаков с Медведицы, у второго — 150 запорожских казаков. Булавин звал Щербакова в верховые городки, то есть, очевидно, в Пристанский городок.
В тамбовских местах повстанцы — казаки, калмыки, татары и черкасы («называютца запороцкими казаки») — «с великим собранием з знамены и с копьи и со многим огненным боем» разорили помещичьи, монастырские и дворцовые деревни Большую и Малую Грибановки, Кара-чан, Русскую Поляну, Самодаровку, Катасопово. Возглавлял восставших казак Иван Самойлов; «а говорят, чтоб им в сей неделе быть к Болаве (Булавину. — В. Б.) к крестному целованию в готовности. А у готовности корабельных лесов и устроения будар работным людем и работать не велели. Да они ж... говорят, что им в тех деревнях стоять, покамест им здастца город Борисоглебск; и как город Борисоглебск им здастца, и им иттить бунтом пот Танбов и под Козлов и под иные украинские городы».
Волконский из Козлова в доношении царевичу Алексею Петровичу, который повелением отца остался в Москве ведать всякие дела, пересказывает тревожные вести о событиях на Дону. Восставшие, по его словам, призывают к себе тамбовцев и жителей новопоселенных деревень Тамбовского и Козловского уездов. Многие тамбовцы пристали к ним, другие ушли по домам, не готовят лесные припасы для строительства флота; «а иных деревень жители говорят, что они донскова суда», то есть заявили о своем подчинении не царским и вотчинным властям, а донским, повстанческим.
О планах Булавина из той же отписки, со ссылкой на слова архиерейского крестьянина, царевичу стало известно: Булавин собирается идти на низ до устья Медведицы конницею берегом, а пехота — водою; «и суды у них у всех учинены были, и у тарговых у всех обрали и спустили на реку. А итить им до Черкаского, чтоб побить всех старых казаков. А как старых казаков побьют, то пойдут к Москве». Повстанцы пошли «с Пристани» по суше и воде, «судов з 10, ...а перевозились они... через реку Хопер на плотах трои сутки».
Волконского, который снова просит подкреплений для защиты от восставших, очень беспокоит, что ему могут прислать полки из рекрутов, собранных из волостных и помещичьих крестьян, к тому же — из тамошних краев (из мест, охваченных уже восстанием или близких к ним) и «не в давных временех». Такие солдаты, продолжает он, «к отпору их, изменников, будут ненадежны для того, государь (царевич Алексей. — В. Б.): обносится у нас слово, что нынешней бунт и начался от таковых беглых крестьян, которые бегают из волостей и из-за помещиков, а паче от взятья в рекруты. И от иных здешних крестьян есть в бунтовщиках братья или детей и свойственники. И чаю я, холоп твой, что прелесные письма... и в иные городы от них, воров, тайно разосланы». Если в Тамбове и Козлове полками простой народ «не охранить и не удержать», то их воровское намерение умножится. Жители меншиковских деревень Грибановки и Корочана, что на реке Вороне, «к их воровству склонились и выбрали меж себя они, танбовцы, ис тамошних жителей атаманов и есаулов, что быть им к воровскому войску послушным, а присланных ис Танбова посыльных побивать до смерти и расправу (управление. — В.Б..), меж собою чинить по их войсковому против казачей обыкности».
Булавин, говорит далее Волконский, послал для «возмущения к бунту» в ряд украинных городов семь станиц, по 260 человек в каждой (всего, таким образом, более полутора тысяч повстанцев). И такие же казаки и калмыки гонят от Тамбова «немалое число» конских табунов и стад скота. «Их воровской злой замысл и бунт, — подытоживает воевода, — множитца и кроме их, казаков», поскольку многие жители деревень — Корочана, Грибановки, Ключей, Такая (Козловский уезд) и других — «уже к воровскому согласию согласились всеконечно и выбрали, в пративность Вашей государской воли, отаманов и ясаулов».
Поскольку повстанцы действовали и под Борисоглебском, власти очень тревожились в связи с тем, что больше десяти тысяч работных людей в тех местах были заняты на заготовке леса, сгонке плотов, перегонке лошадей и др.
В конце марта в село Боровское на реке Битюг приехали более сотни восставших, «конные с ружьем, да у них было три бунчюка»... Они арестовали приказного человека дворцовой Битюгской волости, подьячего, взяли казну и лошадей, а «указы и всякие приказные письма и задрали и кабацкого голову пытали и многие домы разоряли. А колодников распустили, а иных взяли с собою». Повстанцы читали в кругу местным жителям прелестное письмо. Их атаман Лукьян Михайлов (Хохлач) призывал боровчан:
— Кто похочет с нами итти волею, приходите к нам в соединение. А сами вы, битюцкие жители, выбирайте меж себя атаманов и есаулов, по казачьему обыкновению. Решайте все дела собою, а приказных и воевод не слушайте. И еще: на великого государя чтоб вы хлеб не сеяли, а пахали б на себя.
Два дня провели повстанцы в том селе. И оба дня «били смертным боем» приказного человека, возглавлявшего управление Битюгской волостью. Крестьяне с одобрением наблюдали за расправой. Один из них, Роман Желтопятый, говорил повстанцам:
— Для чево вы не убьете ево до смерти? Буде вы мне дадите хотя рубль, я не только одного ево, но и трех человек убью до смерти.
Важные для властей известия сообщил в Воронеже острогожский казак, которого посылали «на Хопер тайно для проведыванья Булавина»:
— Булавин по Хопру и Бузулуку все городки возмутил, и все с ним пошли на Усть-Хопер. А со всякого городка с ним идут по половине, а другая половина остается в городках. Идут сухим путем и плавною. И в вербное воскресенье пришел к Дону на Усть-Хоперское. И по Дону многие городки ему поддаются, и с Медведицы к нему идут.
Но не все станицы и казаки присоединяются к восстанию:
— А Поротовской (Правоторовской? — В. Б.) станицы и Донецкой городок, Казанка, Микулин, Тишанской Старой и Новой городки к нему не поддались и поддаваться не хотят, и оберегают пушки и ядра, кои в Донецком лежат.
Цель Булавина — идти в Черкасск «побить стариков». Работных людей, которые готовили государев лес по Хопру, он «распустил, а начальника их посадил в воду» (утопил).
Князь Волконский называет (в новом доношении царевичу Алексею) имена атаманов, избранных жителями сел и деревень, приставшими к восстанию: в Грибановке — тамбовец Гаврила Викулин, в Никольском — Алексей Скрылев.
Тамбовцы Трофим Мещеряков и Кузьма Платицын известили козловского воеводу: как они были в Пристанском городке, то приезжали к Булавину 10 правоторовских казаков, кланялись ему:
— Прости нас, Кондрат Афанасьевич!
— За что простить?
— Прошлой осенью присылал ты в нашу Правоторскую станицу своих казаков, чтоб склонить нас в свое согласие. А мы тех твоих посланных посажали в воду, а иных, оковав, отослали в Войско (Черкасск. — В. Б.) и в Москву.
— Помню сие дело. Плохо вы, казаки, то сделали.
— Плохо, господин атаман. Сами знаем. Прости нас, дураков!
— Ну, ин так и быть. Для нынешнего великого дела вас прощаю. Идите со мной в поход на Черкаской бить старшин-изменников.
— Пойдем с радостью, Кондрат Афанасьевич.
— Ну, с богом.
Восстание, ширившееся и нараставшее, как снежный ком, охватывало все новые места по Дону, соседним русским и украинским уездам и полкам. Везде находилось много недовольных, которые шли к Булавину. Но делали это не все — ряд казачьих станиц, а также деревень и тем более городов по соседнему пограничью не захотели включиться в восстание. Более того, в пределах отдельных станиц и селений происходил раскол: одни переходили на сторону повстанцев, другие выступали против них, скрывались в лесах.
Те же два тамбовца наблюдали в Пристанском городке, уже после ухода из него Булавина с войском, как идут туда крестьяне разных новопоселенных деревень Тамбовского, Козловского уездов — из тех же Ключей, Корочана и других. Встречались им по пути отряды крестьян в 20, 30 человек, иные с ружьями, «едут в Пристанский городок в их казацкое согласие».
Тамбовец Тимофей Кокорев, посланный офицером Игнатьевым с девятью другими станичниками из Царицына в Козлов с лошадьми, купленными для нужд государевой артиллерии, встретился в Алексеевском городке, недалеко от впадения Бузулука в Хопер, с Булавиным и его войском.
— С ним, Булавиным, казаков тысячи с четыре или больше, конницы с бунчуками; а позади их обоз, идут в восемь рядов.
— Что сделал, — спросил Кокорева Волконский, — тот вор Булавин?
— Остановил свое войско и собрал круг. Отнял у меня письма Артемия Игнатьева о государевых и всяких иных делах, и те, которые имели красные печати, те печати переломав, чли перед ним, вором Булавиным. И он, Булавин, те письма передрал.
— Так. Еще что было?
— Тот Кондрашка Булавин взял меня и привел к воде реки Бузулука и, вынув наголо саблю, спрашивал с пристрастием: зачем тот офицер Артемий Игнатьев повез в орду (к татарам под Астрахань. — В. Б.) три воза стрельев, да два воза огненного ружья, да три пушки под рогожами? Для того, чтоб ту орду наговорить — стоять против нас, казаков?
— Что ты ему сказал в ответ?
— Сказал ему, что с Артемьем такого ружья нет, едет он в Астрахань для покупки лошадей, а не для наговору орды.
— Не врешь? — спрашивал Булавин.
— Ей-ей, не вру; вот те крест святой, что правду говорю.
— Ну, ладно. Хочешь ты и твои товарищи с нами итти, бить воров-старшин в Черкаском? Если хотите, — Булавин обратился ко всем спутникам Кокорева, — идите собою. Я не неволю.
Один из станичников остался с Булавиным, а Кокорев и семь других не захотели, ушли своей дорогой. Волынский выслушал его слова с одобрением, спросил:
— Что те воры говорят о своем походе?
— Говорят, что идут они, Булавин с товарищи, на низ до Черкаского старшин побить за то, что они ево, Булавиной, станицы товарищей многих переказнили, и побили, и городки разорили и пожгли за убивство посланных с Москвы розыщиков Долгорукого и иных.
— А лошадей, которые с тобой были, не тронули?
— Отняли, господин полковник. И государевых артиллерных, и наши, станичниковы.
Кокорев сказал и о действиях Хохлача: отгоне лошадей с тамбовского драгунского двора, разорении воронежских сел и деревень по Битюгу. А Пристанского городка поп с «воровскими казаками», по его словам, поехали в город Борисоглебск «для разоренья», хотели взять в нем «пушки и всякий полковой снаряд; а борисоглебский воевода... ушол», то есть бежал, бросив город.
Тамбовский солдат Иван Шишкин, тоже побывавший в Пристанском городке, видел, как казаки пригнали из Тамбова лошадей, разделили их — по две лошади на каждого из 180 повстанцев; «а иных и продавали».
Козловцы Дементий Сушков и Тимофей Кусов «посланы были в хоперские городки тайным обычаем, шпионами, для подлинного уведомления про бунт и всякое злое дело тамошних хоперских казаков Булавина с товарищи». Они подтвердили сведения о его выступлении в поход в Черкасск «для истребительства войскового атамана и старшин, бутто за их неправду»; с ним пошли казаки изо всех хоперских, бузулукских, медведицких и иных речек городков, из каждого — по половине, «а бурлаки все»; тамбовцы-плотовщики «с ними соединились».
Сушкова и Кусова козловский воевода тоже спрашивал о планах Булавина. Те ответили:
— Хотят они, взяв Черкаской, итить разорять Азов, а потом до Москвы. А в Азове и на Москве и во всех городах вывесть им бояр, да прибыльщиков, да немцев.
Те же шпионы по хоперским и иным городкам не раз слышали разговоры среди казаков, которые сами называли «прелестью», то есть прельщением: выдавая желаемое за действительное, повстанцы и их сторонники, сочувствующие, передавали из уст в уста, будто в Козлове и Тамбове «побили до смерти» воевод Волконского и Данилова, а жители обоих городов сдались и все с восставшими заодно. А по ним, булавинцам, «пушка ни одна в Козлове и в Танбове не разродилась (не разрядилась, не выстрелила. — В. Б.), но только де с полки схватывало». Все эти слухи — не что иное, как рождающаяся на глазах народная легенда, наподобие тех, которые появились при Разине, в бурные, грозовые дни второй Крестьянской войны (Разина ни пуля не берет, ни ядро не тронет). В дни третьей крестьянской войны, а восстание становилось, и чем дальше, тем больше, именно такой войной, поскольку в нее включались массы крестьян, горожан, работных людей и других простых людей, происходило то же самое — опоэтизирование в глазах народа действий и мыслей его защитников — повстанцев, их образа.
Очень интересны сообщения Сушкова и Кусова о «письмах», которые слал Булавин «из походу» к Хохлачу и его казакам, оставшимся на Хопре:
— Чтоб вы ныне хлеба не сеяли и не пахали и из городков никуда не отлучались, а были б в собрании и к службе в готовности. А пришлых с Руси беглецов примали со всяким прилежанием, а против прежней обыкности с них, беглецов, деньгами, и животами (имуществом. — В. Б.), и вином не брали для того, чтоб больше к нам в хоперские городки беглецов шло.
— А новые беглецы, — спросил Волконский, — к ним идут?
— Идут многое число с Руси по разным дорогам. Мы их встречали неединожды. И таковых беглецов они, хоперские казаки, по половине посылают к нему, Булавину, вслед.
— А как ныне в Пристанском и других хоперских городках?
— Посылают от себя воровские партии, которые призывают к себе жителей городков и русских сел и деревень. Человек с 300 казаков, а имянно один из них — козловец Микишка Беляев, которой из Козлова обежал, приехав в новопостроенный город Бобров, что на реке Бетюке (Битюге. — В. Б.), тамошнего воеводу и подьячих и бурмистров били и грабили, и пытали, и лошадей государевых отогнали, и колодников роспустили. А Козловского уезда такайских трех селищ жители к их воровскому делу склонились и выбрали против козацкой обыкности атамана и есаулов. А на такое злое дело их возмутили и к вере в то зло приводили козаки, а имянно Беляевского городка Зиновьев сын Борыбина, а как зовут — не знают, с товарыщи.
Известия о приходе восставших в Бобров подтвердил воевода города Доброго Федор Ляпунов в отписке Волконскому: в конце марта человек 200 восставших вошли в бобровский острог (крепость), били и грабили воеводу, попа, подьячих, бурмистра. Многие тамошние жители по наговору «воровских казаков» пошли с ними. Повстанцы взяли государеву казну, лошадей, выпустили колодников из тюрьмы.
В начале апреля Волконский приехал в Тамбов. Здесь явился к нему Григорий Курепонов — станичник из села Кузьминой Гати Тамбовского уезда. Поведал князю немало нового и важного о булавинцах:
— Был я 1 апреля на Хопре в Пристанском городке для покупки соли. И того городка казак Тимофей Верещагин с товарищи сказывали мне, что их городка коренные все казаки пошли с Кондрашкою Буловиным с товарищи в Черкаской убить атамана Лукьяна Максимова для того, что он, Лукьян, взял с бояр 7000 рублей за то, что им с реки Хопра и с иных их речек выдовать казаков за 15 лет (тех, кто бежал на Дон за 15 лет до начала восстания, т. е.. примерно до азовских походов, что соответствует действительности. — В. Б.).
— Что еще говорили тебе казаки?
— Сказали, что посланные от него, Булавина, воровские казаки отгонных лошадей ис Танбова и пограбленные котлы, приехав, под Пристанским городком на степи розделили.
Далее Курепонов рассказал о походах повстанцев на Битюг, Борисоглебск. По дороге на Хопер, на речке Исапе, встретились ему два казака, сказались — из Михайловского городка, ездили в деревню Коростелеву «для отъему лошадей, чтоб им к Кондрашке Буловину было на чем ехать». Еще более интересной оказалась встреча с другим казаком, которого какой-то подводчик вез до той же деревни Коростылевой:
— Те двое казаков из Михайловского городка, — продолжал говорить Курепонов Волконскому, — сказали о том казаке, что он послан от Кондрашки Булавина с письмами в Суздаль к царевне Софье Алексеевне для того, что от нее к ним, Кондрашке и к воровским казакам, письма были ж. И велели он, Кондрашка, с воровскими казаками тому казаку до Суздаля с письмами пройтить с иконою, чтоб ему и письмам траты какой не учинилось. А о каком деле те письма, про то я не ведаю.
Память о царевне Софье Алексеевне, как видно, жила в народе еще со времен восстаний в Москве 1682 года и под Москвой 1698 года, когда их участники смотрели на нее как на «добрую» правительницу. И теперь, в пору нового взрыва недовольства против «плохих» правителей — бояр, снова вспомнили о ней. Правда, Софья умерла года за четыре до описываемых событий. Но булавинцы то ли не знали об этом, то ли скорее их это особенно и не интересовало; главное здесь — посылка писем к «заступнице» простых, обиженных людей, которая сама пострадала от «плохих бояр», оказалась в заточении (имя Петра, естественно, в этой связи дипломатично не упоминалось); разговоры о такой посылке велись среди народа, а это — тоже немаловажно: для мобилизации сил, привлечения симпатии к делу повстанцев, монархистов по убеждению, глубокому и неистребимому.
Между тем войско Булавина двигалось вниз по Дону к Черкасску. Навстречу ему вышло войско во главе с Лукьяном Максимовым. Войсковой атаман вел с собой конницу, пушки со всякими припасами. За день до выхода из Черкасска устроил круг — участники похода целовали крест и евангелие, обещались великому «государю служить верно «и против тех воров (булавинцев. — В. Б.) стоять». СтаршИна определила, чтобы всему донскому войску собраться на реке Кагальнике, в двух днях езды от Черкасского городка.
Назревала решительная схватка булавинского повстанческого войска и старшинского. Она должна была определить ход дальнейших событий, судьбу Черкасска и разгоравшегося восстания.
ПОХОД НА ЧЕРКАССК
Еще будучи в Пристанском городке и после выхода из него Булавин рассылает по Дону и Северскому Донцу с их притоками грамоты, призывает всех казаков соединяться с его войском для похода на Черкасск. Такие же прелестные письма получали крестьяне и прочие жители Козловского, Тамбовского, Воронежского уездов, Слободской Украины. Воеводы внимательно следили за продвижением повстанческого войска, посылали по следам Булавина шпионов, одного за другим. Наибольшую активность проявлял Г. И. Волконский, драгунский полковник и козловский воевода. Некоторые люди, случайно оказавшиеся в районе действий Булавина и его сподвижников, тоже доносили обо всем виденном и слышанном князю, другим воеводам.
Один из осведомителей, козловец Кузьма Анцыфоров, рассказывал полковнику:
— По отпуску из Козлова поехал я в хоперские казачьи городки для своего промыслу ныне прошедшего великого поста на второй неделе в воскресенье.
— В Пристанском городке был?
— Был. Приехал в тот городок на той же неделе в субботу. Из него поехал в разные хоперские и медведицкие городки.
— Для чего?
— Скупал для себя животину.
— Кого там видел? Что слышал?
— Когда был на третьей неделе великого поста в Усть-Бузулуцком городке, и того городка казак Ефим Сергеев мне сказал: ты со своей скупной животиной убирайся в верхние городки для того, что Булавин со своими казаками собирается на речке Серебрянке для всякого воровства.
— Видел того вора?
— Видел. Те провожатые со мной доехали его, Булавина, в хоперском городке Кулмыге.
— Сколько с ним было войска?
— Казаков конницею и водою тысячи две или три или больше. Сколько подлинно, того не ведаю.
— Что было потом?
— Привели меня к Булавину. И он меня спрашивает: твой брат Федор Анцыфоров куда послан из Козлова? Для чего? Я ему сказал, что брат мой послан при офицере Артемье Игнатьеве для покупки в Астрахани в драгунские полки лошадей.
— Поверил он тебе?
— Лжешь, говорит.
— Рассказывай дальше. Что тот вор сделал?
— Булавин велел поставить меня в Усть-Хоперском городке: там-де будет вся река (все казаки из хоперских городков. — В. Б.) в съезде; и что всею рекою тебе приговорят, — казнь ли тебе учинят или освободят, то я и сделаю.
— Повезли тебя в Усть-Хоперский?
— Нет, миловал господь. Булавин после того со мной разговора собрал своих полковников и есаулов и, посоветовавшись с ними, меня отпустил. И лошадь мою, которую украли у меня, отдал. И в те поры я от него, Булавина, уехал.
— Кого из знакомых тебе казаков у Булавина видел?
— Как я у Булавина был, и в то время видел из старых казаков Пристанского городка, которые были у него в полковниках: Федора Самойлова, Ивана Хохлача, Спиридона Евтифеева; в рядовых Ивана Калача, Ивана Мотовилина, Ерофея Шуваева и иных многих; Беляевского городка Ивана Котельникова, Урюпина-городка Ивана Сазонова, Леонтия Боярского, Лукьяна Артемьева и иных городков казаков многое число.
— Говорил с теми воровскими казаками? Что они тебе сказали?
— Слышал я от них, что итти Булавину и им в Черкаской для истребления старшин для того, что они продали реку (Дон, Войско Донское. — В. Б.). А из Черкаского — в Азов и на Таганрог, побить бояр, да немцев, да прибыльщиков. А азовские-де солдаты и всякие черные люди будут с нами заодно, а за них, бояр, стоять они не станут. То место, где ныне Азов и Таганрог, мы очистим, чтоб было все наше, казацкое.
— Иное что говорили?
— Что тех лошадей, которых из Тамбова отогнали, а также медные казаны и котлы, которые разбоем побрали в Тамбовском уезде, все поделили меж себя, казаками. И многие продавали лошадь по двадцати алтын и по полтине, а медь — по гривне и меньше за фунт.
— О черкаской старшине что-нибудь узнал?
— Булавин при мне говорил, что из Черкаского тамошний старшинный казак Василий Поздеев пишет к нему, Булавину, чтоб он с единомышленниками шел в Черкаской поскорее. Да он же, Булавин, сказывал: в Черкаске половина казаков будет с нами; и тамбовцы все будут с нами же.
Разговор Булавина с козловцем Анцыфоровым подтверждает данные о начале его похода. Предводитель, как видно, хорошо знал обстановку на Дону и в соседних местах. Следил за подозрительными людьми, знал, конечно, что за ним следят воеводы, посылают лазутчиков. Допрашивая до этого Тимофея Кокорева, из того же отряда А. Игнатьева, посланного в Астрахань для покупки лошадей, а теперь — Кузьму Анцыфорова, Булавин знал, что вместе с Игнатьевым ехал и Федор Анцыфоров. Обоим лазутчикам он задавал одинаковые вопросы об «орде». Ведь всем казакам-повстанцам было известно, что власти мобилизуют против них, помимо полков регулярной армии, калмыков, татар, то есть «орды», кочевавшие в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии.
Одновременно с продвижением войска Булавина вниз по Хопру и Дону в хоперских и битюгских верховьях действовал отряд Лукьяна Хохлача. Афанасий Полухин, тоже козловец, посланный Волконским «шпионом» для «проведыванья» К. Булавина, получил в помощь из Тамбова Тараса Наумова и еще четверых станичников. Они выдавали себя за посланцев, которым велели ехать до Усть-Хоперского городка, «будто для проведыванья лесных припасов, которые в прошлом 707-м году в тех местах работные люди тамбовцы за побегом их остановили».
Выехали из Тамбова великим постом в конце марта. На вербное воскресенье приехали в новопоселенную деревню Ключи, владение светлейшего князя Меншикова, поселившего в ней черкас (украинцев). Находилась она в 30 верстах от Пристанского городка. Туда же приехали 30 повстанцев с ружьями, забрали Полухина и его спутников, привезли в Пристанский. Местный атаман Степан Жуков начал допрос строго:
— Кто ты таков?
— Афанасий Полухин, из Козлова. Едем мы по указу великого государя смотреть лесных припасов по Хопру и притокам.
Говори: какие из Руси вести и сколько там силы готовят на нас, казаков? Говори правду по евангельской заповеди господней. Если правду не скажешь, то прибьем тебя ослопьем или в воду посадим.
— Государевых людей наготове много: на Усерде капитан с драгунскими полками, а на Рыбном Степан Бахметев с царедворцами.
— Сколько их будет?
— Того я не знаю.
— Где еще стоят ратные люди?
— На Воронеже оснащены и готовы в плавный путь 10 кораблей, на каждом — по 500 ратных людей. Да в Козлове из козловцев выбрано в драгуны 5 тысяч человек. Да присланных из Москвы старых драгун пять же тысяч. А тамбовцы все сбиты (собраны. — В. Б.) в Тамбов в осаду, и велено им готовитца в поход конницею на вас, Булавина с казаками. А в Тамбов ожидают с часа на час московских полков.
— Так. А припасы всякие у них есть?
— Воеводы велели, чтоб под запасом у каждых пяти человек была подвода. А пушки и весь полковой снаряд к походу и к осаде в Тамбове и Козлове в готовности. Да для такого похода многие лошади государевых драгунских полков от посылки в полевую армию удержаны.
Полухин, как шпион, исправно исполнял приказ начальника: сильно преувеличил число полков, якобы приготовленных против повстанцев, степень готовности ратных людей (пушки, лошади и прочее). На самом же деле и Волконский, и другие воеводы посылали Петру и в Москву панические донесения — о слабости своих гарнизонов, отсутствии полков из Москвы, невозможности противостоять булавинцам. Слухи, которые распускали среди восставших воеводские лазутчики, должны были, по расчетам властей, произвести соответствующее впечатление. Собственно говоря, такой прием взяли на вооружение обе стороны. Булавин и повстанцы тоже говорили и писали, что с ними выступят, помимо самих казаков, многие тысячи запорожцев, татар, калмыков и др. (Белгородская орда, кубанцы, крымцы и т. д..).
Полухин говорил позднее Волконскому:
— Про тех ратных людей, и про снаряд, и про удержание лошадей сказывал я им, воровским казакам, во устрашение собою (сам, по своей инициативе. — В. Б.), а не по подлинным ведомостям.
Полухин же на допросе у Жукова упомянул:
— Вы, казаки, из Тамбова отогнали государевых лошадей многое число.
— Тех лошадей отогнали мы, — согласились Жуков и другие присутствующие в станичной избе казаки; но тут же возразили: — Только те лошади — боярские, а не государевы.
— Нет, — упорствовал Афанасий. — Те лошади — подлинно государевы, а не боярские.
Упрямство Полухина не понравилось Жукову, «и за теми за всеми словами» (из-за тех его слов) его и еще двух человек пристанцы послали в Усть-Хоперский городок, чтобы они явились там к Булавину. С ними направили их «знакомцев» и поручителей — Савелия Скоробогача и дьячка Григория оба — из Пристанского городка. Трех других помощников Полухина оставили заложниками.
В Усть-Хоперский Полухин со спутниками приехали утром 4 апреля, в воскресенье, на пасху. Булавин уже переправился через Дон, стоял на его южном берегу, «блиско того городка». В момент их приезда повстанцы двинулись вниз по реке в поход. От усть-хоперских казаков лазутчик узнал о силах, которые шли с Булавиным (5 тысяч конных, 2 тысячи — водою в судах), о выделении к нему в поход половины казаков, о колебаниях устьхоперцев (после ухода Булавина некоторые хотели переметнуться к Лукьяну Максимову; «а тот их совет состоится или нет, я не знаю»). Казаки Донецкого городка отказались отдать пушки Булавину, если он сам за ними не приедет. Но атаман почему-то не поехал; очевидно, спешил к Черкасску. Да и был уверен, что черкасские казаки его поддержат — об этом он открыто говорил Кузьме Анцыфорову, как и о письме, полученном от черкасского старшины В. Поздеева (получил ли он его на самом деле? Сказать трудно. Не очередной ли это агитационный прием? Хотя, нужно сказать, часть столичной старшИны сочувствовала Булавину; может быть, тайно и осторожно давала ему понять об этом).
Те же усть-хоперские казаки поведали Полухину:
— Булавин с казаками переправлялся через Дон у нашего Усть-Хоперского городка и, переправясь, стоял десять дней. И в то время государевы хлебные запасы, которые оставлены за малою водою, многое число он побрал с собою, а имянно: каждый из тех семи тысяч человек взяли по четверти, а иные по две и по три четверти. А иные, многое число, разрезав кули, сыпали муку наземь.
— А лесные припасы?
— Многие те припасы булавинцы перерубили и пожгли.
Как видно, повстанцы, воспользовавшись царскими запасами, обеспечили себя на дорогу хлебом. Остальное, чтобы нанести убытки царской казне, тем самым — карателям, ненавистным боярам, уничтожали. Полухин узнал, что среди казаков не было единства — если большинство городков перешло на сторону Булавина, выделило ему половину казаков в повстанческое войско, то часть станиц отказалась пойти за ним: Правоторовский и Усть-Медведицкий городки «сели в осаде» и «в согласии» к Булавину «не пошли». Более того:
— Булавин, — по словам Полухина, — к их Правоторовскому городку приступал трижды, чтоб они (казаки-правоторовцы. — В. Б.) были с ним в согласии; только они ему не сдались.
— Почему? — спросил его Волконский.
— В ту пору приехал в Правоторовский городок их казак из Черкаского и сказывал: войсковой атаман Лукьян Максимов с казаками, и с колмыками, да с азовскими ратными людьми, с 8000 человеки против его, Булавина, выступили со всем снарядом. А в Черкаском в осаде оставлено казаков и азовских разных чинов людей 4000 человек.
Полухин из Усть-Хоперского городка снова вернулся в Пристанский. Его здесь задержал «воровской караул» — повстанцы бдительно несли охрану. Лазутчика привели к «товарищу Кондрашкину (Булавину. — В. Б.), воровскому ж атаману Левке Хохлачу на баз». Здесь, па атаманском дворе, повстанцы дуванили захваченные пожитки — платье, посуду, ружья и прочее, отобранное в Боброве у воеводы, бурмистров и других жителей. Хохлач, увидев вошедших с конвойными, сделал знак своим: погодите, мол. Спросил:
— Что вы за люди? Где были и зачем?
— Мы из Тамбова, — выступил вперед Полухин, — по указу великого государя ездили для проведыванья лесных запасов до Усть-Хоперского городка.
— Врешь! — Атаман, а за ним и другие вынули сабли из ножен. — Говори правду, а то голову с плеч долой!
— Мне больше того сказать нечего.
Хохлач помедлил, потом, не торопясь, вложил саблю па место. Помолчал, пытливо глядя па Полухина. Подошел к нему, взял за руку и отвел в сторону. Остановился, заговорил негромко:
— Слышишь, тамбовец! Я тебе верю. Не бойся, ничего тебе и твоим товарищам не сделаю. Но есть к тебе дело. Сделаешь, не подведешь?
— Какое дело? — Афанасий, сдерживая страх, с интересом глядел на булавинского соратника.
— Вот какое: как вернешься домой, то чтоб тебе наговаривать тамбовцев и козловцев итти к нам в полк в Пристанский городок.
— Кого наговаривать?
— Черных людей. И сказывай им, что нам, казакам, до них, до черных людей, дела нет; а дело нам до бояр, да до прибыльщиков, да до немцев, да до подьячих, да до ябедников. Всех их побить, а для того итти нам до Москвы и в Польшу. А сбор нам всем будет на Туле. Согласен?
— Согласен, — твердо ответил лазутчик, с том чтобы, как позднее объяснил воеводе, «про их воровской намерок (намерение. — В. Б.) вызнать», а также «и от страху».
— Ну, хорошо. — Хохлач остался доволен разговором. — Договорились. И еще: что в Козлове и Тамбове будет вестей, о том бы ты послал нам ведомости. А за то наш атаман Кондратий Афанасьевич Булавин пожалует тебя великим жалованьем. Будешь то делать?
— Буду, если мочно: круг Козлова и Тамбова стоят и ездят караулы многие.
— Ничего. У нас в тех местах тоже свои люди ходят. Передашь. Главное — делай то, что тебе сказано. Наше дело — верное, всем миром поднялись против изменников и бояр. Те бояре, прибыльщики и немцы всем государством завладели, черных людей изобижают, ни во что ставят. А великого государя и государя царевича и вживе нет давно.
— Как так? — удивился Полухин. — Великий государь и царевич здравствуют и доныне. Нынешней зимой, меж праздников рождества Христова и богоявленьева дни, был я на Москве, и в тех временах его царское величество и государь царевич на Москве были. Я сам их видел подлинно. Ныне он, великий государь, пошел в Польшу. А царевич остался на Москве.
Шпион хорошо знал о том, что говорил. Хохлач же, как и все повстанцы, выдавал желаемое за действительное. Скорее всего повстанческие атаманы вели подобные разговоры с целью подбодрить казаков, черный люд, подвигнуть их на решительные действия против бояр, властей. Отсюда — слухи о смерти царя-отца и сына-царевича; разговоры о том, что восставшие выступают против «плохих» бояр и прочих притеснителей, но за великого государя (забывая при этом, что в других случаях они утверждают иное: его уже нет на белом свете) и истинную православную веру.
Несогласие Полухина взорвало атамана:
— Дурак! — Хохлач опять схватился за саблю. — Зачем врешь? Плутаешь ты все, выдумываешь! Смотри у меня!
Лазутчик молчал, опустив голову, не смея поднять глаз на атамана. Тот смотрел на него, ждал: будет возражать или нет? Не услышав ни звука, быстро сменил гнев на милость:
— Ну ладно. Молчишь — и молчи. Так-то верней будет. Не знаешь, а говоришь... — Подождал еще немного.— Поезжай. Да делай то, о чем договорились. А по дороге, едучи через хоперские, бузулуцкие, медведицкие городки, говори всем тамошним казакам и бурлакам, чтоб собирались ко мне в волк в Пристанский городок для походу. Есть у меня о том указ от Булавина.
— Сделаю, атаман.
— Теперь ладно говоришь. Поезжай, — повторил Хохлач приказ. — Вот тебе два гроша на дорогу. С богом!
— Спасибо, атаман. Кланяюсь на твоей милости.
Полухин и его помощники, после всего пережитого, поспешили из станичной избы, чтобы ехать домой. По дороге зоркий глаз лазутчика приметил: действительно, в Пристанском какое-то оживление, появились новые люди, казаки из разных городков, человек полтораста или больше. «Наверное, — подумал он, — те, которых Лунька Хохлач собирает в поход. Какой же такой поход он задумал? Намек о том дал, а ничего не сказал. Вот ирод, вор проклятый!» Казаки держались группами, шумели, некоторые — под хмельком. Улучив момент, Полухин спросил одного молодого станичника:
— Что это вы? По какому случаю гуляете?
— Не гуляем, а в поход готовимся. — Казак глядел гордо. — А вы кто будете?
— Тамбовские станичники. По делам приезжали. У Лукьяна Михайловича были, повеление его получили. Едем домой.
— Это хорошо, — вступил в разговор пожилой казак со шрамом на левой щеке. — Поезжайте с богом. Да говорите тамбовцам и козловцам, чтоб они в Козлове и Тамбове полковника князя Волконского и воеводу Василия Данилова, также прибыльщиков, и подьячих, и обидников, взяв, поленьем побили до смерти. Ведь их, черных людей, много; и собрались бы, и прибили их до смерти. Где им, полковнику и воеводе, против них стоять!
Полухин не возражал, соглашался и спешил как можно скорее выбраться из городка. Один из провожатых, Трофим Скоробогач, незадолго перед тем подлил масла в огонь:
— Ты знаешь, Афанасий, — говорил «знакомец» шепотом, — какое дело получается: сюда, в Пристанский городок, приехал из села Кузьминки Тамбовского уезду станичник, прозвание его — Коледин, имени и отчества его не знаю, и сказывал Хохлачу и пристанским казакам, что на Тамбове никаких полков нет.
— Что же ты раньше-то не сказал?
— Так я сам только недавно о том узнал.
— Ну ладно. Поехали, пора домой. Нечего медлить.
— И то верно. Дома-то всегда лучше.
Лазутчики и провожатые уехали. Пристанский городок остался позади. Хохлач не давал покоя своим есаулам, и те тормошили казаков, собирали силы для похода, не главного, конечно, вспомогательного. Но тоже важного для общего дела.
Главное дело — на Булавине, его немалом сборном войске. Он спешил — стало известно, что навстречу ему вышел Лукьян Максимов с войском из казаков, верховских и низовых, конным отрядом полковника Васильева из Азова и колмыками.
Войсковой атаман приказал, чтобы после выхода его с войском из Черкасска Илья Зерщиков послал письмо Запорожскому войску. Тот быстро исполнил повеление, и запорожцы узнали, что Максимов пошел в поход «для искоренения того вора и ево единомышленников» — Булавина и всех повстанцев. Их призывали не верить «прелестным письмам» булавинцев. О том же походе Максимова против Булавина писал Голицын из Киева царю. Атаман, по его словам, просит помощи царских войск, в чем он, воевода, его обнадежил. С черкасской старшиной стремился объединить усилия козловский воевода Волконский:
— С обоих строн, — писал он Меншикову, — атаману Лукьяну Максимову снизу, а нам бы сверху, их, воров, обойти и тако, естьли бог помощи подаст, истребить. И в том надобно иметь согласие нам с ним, атаманом, о чем да повелит ваша княжая милость к нему послать указ в подтверждение, чтоб поиск и всякое согласие имел, о том списывался бы с нами.
Противники сближались. Сошлись около Паншина городка, по словам самого Булавина (в отписке кубанским казакам, посланной позднее, в конце мая, уже из Черкасска), «в степи на Крымской стороне против Перекопской на Дону станицы, в Лискиных вершинах». Лукьян Максимов называет другое место сражения — у Голубинского городка, па реке Голубой; полковник Васильев, командовавший во время сражения азовскими казаками, — о местности выше Паншина-городка на речке Лисковатке у Красной дубравы. Лискины вершины (верховья оврага, речного русла), о которых упоминает Булавин, и находились в верховьях речки Лисковатки. Где-то там же, вероятно, неподалеку текла и речка Голубая, а на ее берегу приютился Голубинский городок.
В этот теплый весенний день степь цвела всеми красками. Разнотравье, пенье птиц должны бы радовать глаза и душу. Но казакам, разделившимся на два враждебных лагеря, было не до красоты, которую каждый год дарит природа людям, детям своим. Любят, конечно, казаки тишину и прелесть степную, тоскуют вдали от родных мест. Но жизнь так устроена, что нет мира и покоя под этим бездонным голубым небом, обнимающим, как огромный шатер, степные просторы с травами, цветами, всяким зверьем, птицами божьими. Нет людям радости, сами у себя крадут ее. Одним богатства, от которого курени ломятся, мало. Другим власти еще большей хочется, да чтоб голутва им прекословить не смела, во всем слушалась, делала все, что ни прикажут. Старшинам снятся чины и званья дворянские, как на Руси исстари повелось; крепостные тоже, поди, надобны. Боярам московским (этим-то еще что потребно? Как в раю ведь живут!) тоже подай новую землицу, да поближе бы к Дону отхватить! Да беглых своих людишек вернуть в ярмо прежнее! Вот тебе тишь да гладь да божья благодать, травки да птички...
...День клонился к вечеру. Было это 8 апреля. Булавин подвел войско к буераку — одной из Лискиных вершин. Остановил казаков. Собрались в круг. Атаман обратился к ним:
— Казаки! Лукьян Максимов, наш супротивник и изменник, подошел сюда с войском. С ним казаки, больше верховские, меньше — с низу. А еще — с Азова невеликое число людей да калмыки. Бояться нам их нечего — сил у нас не меньше будет. А верховские в его войске — ему не поддержка. Однако допрежь того, чтоб на сшибку итти, можно одно дело сделать.
— Что?
— Говори, атаман!
— Что делать, ясно! Бить их надо! Вот что!
— Господа казаки! — Булавин подождал, когда стихнут крики. — Вы знаете, что мы идем в Черкасск побить старшин за их измену: продали они нашу реку боярам. О том мы гутарили не раз.
— Знаем давно! Что толку о том много говорить!
— А толк в том, чтобы напрасного кровопролития и по реке городкам разорения не учинить.
— Правильно!
— Что для того надобно?
— Надобно послать к ним в войско нашего казака для переговорки: чтоб между собою сыскать виноватых.
— Любо! Любо!
— Пошлем!
Булавин назначил парламентером одного из своих есаулов. Тот явился во вражеский стан, располагавшийся неподалеку. Его привели к Максимову. Атаман глядел строго, сурово:
— Кто ты таков?
— Есаул походного атамана Кондрата Афанасьевича Булавина.
— Для чего пришел?
— Для переговоров.
— О чем?
— Чтобы напрасного кровопролития не было, пусть все казаки сыщут виноватых меж себя. Так приказали говорить походный атаман и его войско.
— То дело непростое, — уклончиво, медленно проговорил Максимов. — А переговорить надобно. Скажи Булавину, что к ним приедет для переговорки, — он бегло взглянул на стоявших рядом старшин, — Ефрем Петров.
— Добро. Скажу.
Есаул ушел. Вскоре в повстанческий лагерь подъехал Ефрем Петров. Встретили его враждебно:
— А! Помощник Долгорукого прибыл!
— Кровопивец! Изменник!
— Жаль, мы тебя тогда не поймали!
— Убежал, как заяц в степу!
Булавин, сдерживая себя и других, сжал кулаки, державшие поводья горячего скакуна, в нетерпении перебиравшего ногами. Спокойно и тихо, только желваки заходили под скулами, сказал:
— Ну что, Ефрем Петрович? Вот и встретились, наконец. Долго мы тебя тогда, прошлой осенью, искали после бою в Шульгине городке. Жаль, поговорить не привелось.
— Да уж не привелось. — Петров твердо выдержал ненавидящий взгляд гультяйского, как он считал, атамана. — Зато потом, у Закотного городка, встретились. На этот раз ты не захотел со мной свидеться. Мы тебя тоже искали, да не нашли. В хороших местах, говорят, ухоронку нашел. На Хопре, в лесах, кабыть?
— Всего не упомнишь. Где был, там теперь нету. Давай говорить о деле.
— Давай говорить. Что ты хочешь сказать нам, Войску Донскому?
— Ты с Лукьяном еще не все Войско Донское. А казаки, которые с вами, тоже, думаю, не все за вас.
— На что ты намек даешь?
— Ни на что. Там посмотрим. А дело такое: всему Войску Донскому надобно сыскать: за что вы, войсковой атаман и другие изменники, ходили на нас походом в прошедшем году? За что нас били, и вешали, и носы резали, и городки разоряли? За то, что мы за реку, за старое поле встали? За свои вольности казачьи? Кто в том виновен?
— Что теперь о том говорить? Указ великого государя не знал? Против кого пошел? И гультяев за собой повел!
— Никакого указу великого государя не ведал и не ведаю. И не было его, был указ боярский, изменный. А Максимов и ты, Ефрем, свое обещание не сдержали, нам изменили и продались тем московским и азовским боярам.
— Что ты говоришь, Кондрат! Побойся бога! Какое обещание мы тебе давали? Никакого слова с нашей стороны не было и быть не могло.
— Ну и ну, Ефрем! Забыл Максимов, значит? Как в Черкаском о Долгоруком речь вели? Чтоб вольности донские оборонить и новоприхожих не выдавать? Не помнишь?!
— Не помню. Ничего того не было. А что ты говоришь, чтоб сыскать виноватых, про то надобно всему Войску помыслить. Скажу о том Лукьяну Максимовичу.
— Скажи, да побыстрей. Ждать моим казакам недосуг. У меня свое войско поболе вашего!
Петров, не сказав больше ни слова, огрел коня плетью, поскакал к своим. Разговор с Булавиным встревожил и его, и Лукьянова, и других старшин. Особенно тех, кто ходил вместе с Долгоруким по казачьим городкам прошлой осенью. Однако делать нечего, созвали круг — казаки уже знали о переговорах с Булавиным, без совета с ними не обойтись.
Когда Ефрем Петров уехал, Булавин, расположивший накануне основные свои силы в буераке, быстро дал знак, и повстанцы вынеслись из него вихрем, все войско на рысях, набирая скорость, понеслось к лагерю Максимова. Казаки только что собрались на круг, и стремительный удар булавинцев смял ряды Максимова войска. Для кого-то он был неожиданным, но не для всех. Многие, а это — верховские казаки, большинство Максимова войска, не удивились — тут же перешли к Булавину. А ведь именно они и настояли на переговорах с Булавиным, и, вынужденный ими, Лукьянов созвал круг.
Все смешалось — булавинцы лавой ударили по коннице и пехоте, оставшимся верными Лукьянову, и вместе с верховскими, перешедшими к ним, наголову их разгромили. Максимов с остатками войска бежал к Черкасску, Васильев — в Азов. Восставшие, по словам азовского полковника, тех, «которые были люди с войсковым атаманом — многих побили до смерти и переранили». А Максимов признал, что «едва от них, воров, они отбились». Повстанцы разгромили обоз, взяли четыре пушки, припасы к ним, разные пожитки. Захваченную казну, 8 тысяч рублей, раздуванили между собой.
Быстрая и решительная победа Булавина, переход к нему большей части казаков из войска Лукьяна Максимова сильно обескуражили и самого войскового атамана, и царских воевод. Волконский в связи с этим высказывал Меншикову свои соображения по поводу позиции черкасской старшины и их главы:
— А на том бою из них, черкаского войска, много ль убили, также и из воров есть ли убитые, того не означено (в отписке Максимова. — В. Б.); о том, под сомнением: нет ли у него, Лукьяна, с ними, ворами, какой факции. Истинно, государь, светлейший князь, Вашему сиятельству доношу верно, довлеет охранить здешнею украину в самой скорости, чтобы не допустить до превеликого бедства.
Опасения Волконского по поводу Максимова оснований не имели, и это хорошо показали последующие события. Войсковой атаман, если и колебался за полгода до апрельских событий, то после убийства булавинцами Долгорукого быстро от колебаний избавился. Своими действиями против них, расправами и письмами в Москву и воеводам более чем красноречиво определил свою позицию.
Через несколько дней, будучи еще в дороге, на реке Быстрой, Максимов пишет воронежскому воеводе Колычеву:
— Северской Донец весь отложился (от Черкасска, перешел на сторону Булавина. — В. Б.) и збираетца с вором же Старо-Айдарской станицы с Семеном Драным. Хопер, и Бузулук, и Медведица, и по Дону, сверху до Курманьяра Нижнего на низ, все изменили ж с Кондрашкою Булавиным, хвалятца взять Черкаской и Троицкой, а меня, атамана, и старшин побить до смерти.
Войсковой атаман признает, что почти вся область Войска Донского перешла под знамя Булавина. Исключение — немногие городки по Дону, расположенные южнее Нижне-Курманьярского городка. Из более дальних станиц по-прежнему сохраняли верность Максимову Донецкая, Казанская, Усть-Медведицкая, Правоторовская, оставшиеся в тылу главного повстанческого войска.
Одновременно с продвижением Булавина вниз по Дону действовали его сподвижники на границах северного Придонья. Через день после сражения на реке Лисковатке Волконский слушал в Козлове рассказ двух крестьян — Гура Лычагина и Ерофея Скоробогатого. Оба они из «такайских селищ» (на реке Такае, одном из правых притоков Хопра), «пришли для извету (доноса. — В. Б.) в Козлов про воровских казаков». Гур Лычагин третий год жил «на новых своих помесных дачах» (на полученной им земле) в селе Никольском, в коем дворов было «с 60»; в соседних деревнях, Михайловской и Козьмодемьянской», «с 70» и «с 40». На четвертой неделе великого поста приехали к ним атаманы — пристанский Иван Степанов и беляевский Кирила Зиновьев сын Борыбина — с «воровскими казаками, человек 40 или больше», с оружием и знаменем. Собрали круг и говорили жителям всех трех деревень, чтобы они шли к Булавину. Если не пойдут, то с каждого двора по человеку посадят в воду; «а потом достальные жители чтоб землю очистили, та-де земля и речка их, казачья».
Казаки избрали в тех деревнях атаманов и есаулов, велели им деревенских жителей «привесть к вере (присяге. — В. Б.), что им в Крым и в Литву не отъезжать, а стоять бы с ними заодно за дом пресвятые богородицы и за провославную веру и за великого государя».
Сказали восставшие и о приказе Булавина:
— Хоперских, и бузулуцких, и медведицких городков казакам всем он, Булавин, с товарищи заказали, чтоб хлеба на три года не пахали отнюдь никоторыми делы для того, что на те на три года будет кровопролитие.
Из Михайловской повстанческий отряд поехал в Ключи и другие деревни «для такого ж возмущения». А по их «наговору» из такайских сел ушли к ним восемь бурлаков. Из крестьян же никто не пошел. Более того, если верить Гуру Лычагину, они решили идти с изветом «в Русь». Но сразу в Козлове о том «не известили для того, что нельзя было из тех деревень Козлову пройти, потому что они, воры, в тех деревнях и в ыных местах по степи ездят непрестанно».
Тот же Лычагин однажды разговорился с работниками коз ловца Василия Анцыфорова. Они гнали его «скупную скотину» мимо деревни Никольской. В беседе ему поведали:
— Приходили в Пристанский городок к атаману Ивашке Хохлачу четыре человека работников с поделки от готовности на корабельное дело лесных припасов, что готовят по наряду с Воронежа на реке Битюге.
— Зачем? — поинтересовался Гур. — В его войско?
— Нет. Били челом, что им, работным людям, лесные припасы готовить тяжко и чтоб он с казаками от той тягости их оборонил.
— Что ответил Хохлач?
— Собрал казаков человек с 200 с ружьем, и поехали они на тое поделку для взятья немца, которому-то поделка приказана, и для оборону их, работных людей.
— Что они на той поделке учинили?
— О том не слыхали и не знаем.
— Еще что слыхали?
— Говорили нам, что к тем казакам деревни Ключей черкасов поехало многое число. А в деревню Михайловское из Козлова приезжал подьячий Игнатий Соколов со стрельцами для отводу земли. И их те казаки били и грабили, а подьячий читал их прелестное письмо; а какое, про то мы не знаем.
То же рассказал Волконскому и Ерофей Скоробогатов. Показания обоих изветчиков, как и другие данные, рисуют картину довольно противоречивую: часть местных крестьян присоединилась к восставшим, другие не торопились это делать, отказывались. Нужно учесть еще, что лазутчики, изветчики в своих рассказах, чтобы угодить воеводе или подьячему, выставить себя в выгодном свете, одни факты скрывали, другие выпячивали, третьи, как говорили в старину, перекраивали на свой салтык (лад, строй, уразумение. — В. Б.). Во всяком случае, агитация булавинцев, принявшая очень внушительные размеры, всколыхнула простой люд русских придонских уездов.
Еще один изветчик — Михайло Остафьев сын Томахин — сообщил Волконскому, что из его родного села Спасского, Талецкое тож, и села Керши, бывших вотчин тамбовского архиерея, многие крестьяне, в основном молодые парни, в прошлом и нынешнем году ушли в Пристанский городок, «к вору Булавину в помочь». Другие хотят бежать к казакам на Хопер и Медведицу. Воевода поинтересовался:
— Что-нибудь о них ныне слышно?
— О талицких крестьянах говорят: которые на Хопер и на Медведицу сбежали, все ныне воруют обще с бунтовщиком Кондрашкою Булавиным.
— А их отцы и братья о них извещали?
— Нет, нигде не извещали.
— А как другие крестьяне?
— Из Талицкого крестьяне Макар Перелыгин с товарищи в прошедшей ныне великой пост поделали липовые лодки, сажен по шести и по семи, и на тех лодках хотели ныне весною итить на Хопер и на Дон, знатно — к тем же ворам, Булавину с товарищи, в согласие. А о том воровстве в Талецком все крестьяне знают, потому что приехали в село товарищи Тимофея Соловкова, который своего сына Павла отпустил в побег к тем ворам, Булавину с товарищи, и о бунтовстве Булавина сказывали. Да и из Тамбова о том есть многие ведомости.
— О других деревнях что знаешь?
— Той же архиерейской вотчины новопоселенной деревни Русской, Корочан тож, которая близко от Пристанского городка, крестьяне все отложились и пристали к воровским казакам Булавину с товарищи и выбрали меж себя атаманов и есаулов.
— Кто тебе о том сказал?
— Монастырский служка Автамон Гордеев, который в той деревне был вместо прикащика и от них, воров Булавиной станицы, ограблен, пришел в Тамбов.
Выяснилось, что изветчик Томахин, несомненно, из зажиточных крестьян, еще в прошлом году вместе со своим братом Евсеем донесли в московский Монастырский приказ [25], что их односельчане хотели убить приказчика Дмитрия Сунбурова, присланного из Москвы; «и за то у брата моего Евсея, — сетовал Томахин, — из них, талецких жителей, неведомо хто сожгли гумно с хлебом».
о «шатости» крестьян тамбовских деревень, близких к хоперским казачьим городам, писал Меншикову Волконский:
— Те крестьяне возмутились и к их воровским прелестям склонились и с ними в единогласии. А иные к ним, ворам, и в помощь отпустили по нескольку от себя.
— Кроме худости, добра ждать нечего, естьли оплошиться и запустить вдаль (дальше. — В. Б.).
Относительно этих мятежных сел, среди которых — и владения самого светлейшего князя, воевода испрашивает у него инструкций:
— Что им чинить: их домы, селища истреблять ли? В том числе многие (имеются в виду «пущие заводчики» из крестьян, выбранные ими по донскому обычаю в атаманы и есаулы. — В. Б.) есть сволочь, наброд беглых, служилые из городов всяких чинов люди, укрываясь от службы и податей, и волостные, и монастырские, и помещичьи люди (холопы, дворовые. — В. Б.) и крестьяне, отбывая тягл и платежей и помещиков, живут самостоятельно и от городов удалели. И о таковых что Ваша княжеская светлость изволит определить?
Волконский, родовитый крепостник, негодование и ненависть которого к «подлым» людям, повстанцам переливаются через край, просит другого крепостника, из «новой» знати, царского любимца Меншикова, прислать «статьи» с указанием, кому из «воров» какое наказание учинять, когда он пойдет из Козлова с полками в те деревни и казачьи городки по Хопру и Дону. Воеводу до бешенства возмущает, что эти «отложившиеся» крестьяне «весьма к воровскому согласью на всякую злохитрость умышленного их воровства в твердости замерзели», «с виной» к нему и в Тамбов не приходят; «а у нас здесь народ в Козлове, а паче в Тамбове» из-за отсутствия воинских подкреплений из Москвы «зело особливо ставятца» — Волконский опасается, что козловские и тамбовские жители тоже склонятся к «бунту», если не будет на них управы — полков из Москвы.
Сообщения, разговоры, слухи о волнениях в Тамбовском уезде распространялись повсюду. Голицын из Киева писал о них Петру в армию:
— А ныне из Белагорода пишут: оной вор Булавин во многом собрании кругом Танбова села разорил и город осадил. И некоторые бутто танбовские жители склонны к ево воровству показались.
Белгородские власти вестью об осаде Тамбова Булавиным ввели Голицына в заблуждение. Ни тогда, в апреле, ни позднее повстанцы Тамбов не осаждали. Характерно то, что об этом говорили в центральном городе Белгородского разряда. Голицын испытывает явное беспокойство. Как и по другому случаю:
— Указом вашим, государевым, велено в апреле выслать из Белогородского разряду 23 000 на работу в Троицкой и в Азов. А належит путь итти работникам через донские городки. И опасно того, чтоб оной вор Булавин не склонил бы их к возмущению: многие обвезались свойством с донскими казаками, и мног число Белогородского разряду беглых живут в донских городках.
Сокрушаясь по поводу ожидаемого расширения восстания, Голицын сообщает царю и весть, которая не может его не порадовать:
— Сего числа получил ведомость: Булавина жена с сыном, которому полгода, привезена в Белгород.
Движение набирало силу. Но случались и осечки. В середине апреля Лукьян Хохлач с отрядом в 500 человек на реке Битюге пытался отогнать лошадей из драгунских караванов. Но при переправе через реку на него напал драгунский эскадрон подполковника В. А. Рыкмана. «Жестокий бой» длился с первого часа дня, то есть с рассвета, до середины дня. Каратели разбили повстанцев, многих убили во время сражения, других преследовали и убивали «версты с 4» по стели; третьи тонули в Битюге. Повстанцы оставили врагу шесть знамен, бунчук, четыре пищали, немало лошадей, пожитков. В плен попали бунчужный и еще восемь повстанцев. В Воронеже «в роспросех и с пыток те взятые воры... говорили про умножительное их собранство и возмущение всенародное казачье и из новопоселенных новых мест уездов разных городов, от которых по ведомости подъезжали они, воры, для розгону» (лошадей). Волконский, сообщающий об этих допросах Меншикову, добавляет:
— Да те ж воры говорили о умысле позжения кораблей, от чего боже храни!
Недели через полторы Хохлач, опять в районе Битюга, потерпел новое поражение. У него было до 1,5 тысячи «воров-булавинцев», как именует повстанцев С. Бахметев. Последний вместе с полком Тевяшова и драгунским эскадроном Рыкмана настиг Хохлача на речке Курлаке в районе Чиглянского юрта. У речной переправы и разгорелся бой. Начали его повстанцы, конные и пешие; «и от них, воров, — сообщает Бахметев, стрельба и напуски были превеликие, у которой переправы был бой часа с 3 непрестанно на обе стороны». Далее Бахметев, «видя их такое многое собрание и наглой их к переправе приход, велел, спешась, гренадерам и драгунам итить через переправу на оных воров, чрез которую (реку, переправу. — В. Б.) перешел с нуждою», то есть с большим трудом.
Сражение, долгое и ожесточенное, закончилось все же победой регулярных войск. Повстанцев «збили и рубили верстах на 20-ти и больши, и многое число оных воров побили и поколотили, покамест было, разве которые спаслись лесами и болотами», 143 булавинца попали в плен. Карателям достались знамена, ружья, лошади, верблюды побежденных. Правда, Бахметев умалчивает о своих потерях. Упоминает только, что у многих его ратных людей «на бою лошади были побиты» — как будто в сражениях гибнут только лошади, а их седоков ни пули, ни сабля не достают.
Стольник перечисляет помощников Л. Хохлача, которого называет «приводцом и атаманом», «Булавина товарищем»: в полковниках у него были Фатей Локтев, «из ярыжек» [26], Андрей Рубец из Высоцкого городка, Агей Иванов с Курмынья, Павел Иевлев с Медведицы; есаулами — Иван Орел из Бурацкого городка, Кондратий Дьяков из Михайловского, Тихон Семенов из Усть-Бузулуцкого, Иван Долгий из Тишанского.
Бахметев вместе с отпиской послал в Москву прелестное письмо Л. Хохлача, полученное им «во время того ж походу»:
— От донских атаманов-молодцов, от Лукьяна Михайлова и ото всего Войска Донского стольнику Бахметеву, а имя и отчество пропамятовали, и воем бояром челобитье. Ведомо им чинят о том: слышно им, Войску Донскому, учинилось, что собрались полки (царские войска. — В. Б.) на Дон, и на Хопер, и на Бузулук, и на Медведицу и хотят разорить казачьи городки и отвратить от истинные веры христианские и превращают в еллинскую веру. И мы в том стали крепко, единодушно и з запорожскими казаками и з Белогороцкою ордою, и с калмыки, и с татары, и з гребенскими, и с терскими, и с ыицкими казаками ж заодно за бога и за великого государя, и за дом пресвятые богородицы, и за крест животворящий, и за истинную веру — так же, как и прежние казаки на реке живали. И хотим вывести еллинскую веру, что много душ христианских погибает напрасно.
Воззвание Хохлача повторяет мысли других прелестных писем, исходивших от булавинцев: объединились они с запорожцами и прочими в защиту истинной православной веры (не замечая, что в число защитников христианства зачисляются мусульмане-татары и буддисты-калмыки) и великого государя — Петра I. От кого? Повстанцы постоянно выдвигают мысль, что они борются с «плохими» боярами, воеводами и т. д..; стало быть, имеется в виду «защита» веры и царя от них, «плохих» бояр и прочих? Но воззвание адресовано как раз «всем боярам» и Бахметеву — командиру карательных войск. Более того, они призывают стольника:
— И тебе б Бахметеву стать с нами заодно за веру христианскую.
А как быть с боярами и прочими, которых повстанцы, Хохлач в том числе, постоянно ругают, обвиняют во всяких обидах, призывают их побивать? На сей раз, в этом прелестном письме, они говорят совсем иное:
— А нам нет дела ни до бояр, ни до торговых людей, ни до черни, ни до солдат, ни до драгун. Только нам нужны немцы и прибыльщики.
Такой вот выход из положения Хохлач и его помощники находят, наивно надеясь привлечь на свою сторону Бахметева и, вероятно, других воевод, командиров. Расчеты их шиты, конечно, белыми нитками. Подобные «агитационные» уловки и хитрости никого не могли ввести в заблуждение. Да и сами повстанцы не очень на это надеялись. И поэтому в конце воззвания переходят на более строгий тон:
— А будете вы стоять за немцев, и вы б на нас не пеняли и такоже неправедные судьи бояря, которые стоят за немцев же. И мы таких неправедных судей будем сыскивать. А мы идем к вам не воровством, отписываем к вам, чтоб нам не пролить напрасно крови христианские. И ведомо вам чиним, что мы поймали солдат трех человек.
Обращения, уговоры и угрозы, естественно, не помогли, и повстанцы, разбитые и разогнанные, пробираются (те, кто остался в живых) к своим собратьям в хоперские и иные городки.
Два поражения Хохлача, однако, не сказались сколько-нибудь отрицательно на продвижении Булавина к Черкасску. Оно продолжалось. Именно в день второго сражения Хохлача с карателями главные повстанческие силы подошли к столице Войска Донского. Царские воеводы явно обеспокоены угрозой повстанцев Азову и другим городам. Черкасская старшина со страхом ожидает осады. Все просят царя, Москву о присылке полков.
Наступила кульминация восстания на Дону. Оно не охватило еще достаточно широко соседние о Войском Донским русские и украинские уезды. Но и там пришли в движение крестьяне, работные люди, бурлаки и прочие. Многие из них влились в войска Булавина и Хохлача, участвовали в походах. Кроме того, немало подобного же люда, из числа беглых, новоприходцев, более или менее давно жили на Дону, и он тоже включался в движение.
С самого его начала повстанцы, их руководители имели широкие планы борьбы с врагами — царскими боярами и прочими притеснителями, — походов на Азов, Козлов, Тамбов и другие города, вплоть до Москвы. Все это — в будущем, довольно близком, по их рассуждению. Сейчас же главная задача — взятие Черкасска, расправа со старшинами-изменниками. А потом, после восстановления порядков и вольностей «старого поля», Дона-батюшки, поговорим, мол, и посчитаемся с боярами!
БУЛАВИН — АТАМАН ВОЙСКА ДОНСКОГО
Длинный остров, вытянутый вдоль течения Дона с востока на запад, приютил на своей земле Черкасск и несколько других станиц. С южной стороны плескались волны Дона, с северной — воды Протоки и Танькиного ерика (пролива, протоки); та же Протока делила остров на верхнюю и нижнюю части. Собственно говоря, резиденция войскового атамана, войсковой канцелярии, располагалась в верхней части острова.
По всему ее периметру тянулись крепостные стены с шестью раскатами (укреплениями, башнями); через один из раскатов вела дорога на мост через Протоку и далее — на «материк». По этой дороге уезжали казаки в походы, возвращались домой; по ней же прибывали в донскую столицу царские посланцы, торговцы, много всякого другого люда. С той же северной и восточной сторон сделаны еще двое ворот и с полдюжины калиток — для вылазок против врага, за водой. На южном краю, в верхней части, острова, располагались атаманский дом, войсковая канцелярия, собор; здесь же — майдан (площадь), где собирался казачий круг (общая сходка) для обсуждения важных вопросов жизни Войска Донского. На северном краю стояли курени Черкасской и Средней станиц; ниже их — Прибылой (Прибылянской), Павловской и Дурновской станиц, торговые лавки, пороховой погреб. Через Протоку, разделявшую остров на две половины, на нижней из них жили казаки Скородумовской и трех Рыковских (Верхней, Средней и Нижней) станиц. Помимо собственно Черкесска, рядом с ним имелось, таким образом, восемь станиц; если же считать три Рыковских за одну, то шесть.
В самом Черкасске на раскатах стояли 26 пушек и 7 мортир; имелись они и в других станицах; всего — 44 пушки. Для обороны острова Максимов собрал большие силы.
Булавин подходил со степной стороны, с севера. Одновременно по Дону плыл его сподвижник Иван Клецкий с шестью тысячами повстанцев; по дороге они «брали по городкам старых казаков, которые к воровству не приставали, и в городку Нижнем Чиру тех казаков потопили и побили». Брали всякий «государев запас», который «лежит по Дону».
Повстанческое войско непрерывно увеличивалось — все новые партии казаков со среднего и нижнего Дона вливались в его ряды. Догоняли его и «достальные казаки» из верховых городков.
Основное, 15-тысячное войско Булавина появилось под Черкасском в конце апреля. Встало на речке Василевой. В тот же день, когда уже стемнело, к Булавину привели казака.
— Кто ты будешь? — спросил атаман. — Какой станицы?
— Иван Степанов. Из Скородумовской станицы.
— Для чего пришел?
— Прислали меня к тебе трех Рыковских, Скородумовой и Тютеревской станиц атаманы Дмитрий Степанович, Антип Афанасьевич, Иван Романович, Абросим Захарьевич, Яков Иванович и все казаки.
— С чем прислали?
— Мы, казаки, тебе, атаману, и всему твоему походному войску челом бьем и милости просим: когда ты изволишь к Черкаскому приступать, и ты, пожалуй, на наши станицы не наступай.
— Ну-ну... — Кондратий быстро понял, куда клонит казачий посланец. — Дальше говори. К Черкаску-то я пойду мимо ваших станиц. Максимов вам приказал противиться?
— Верно, атаман, да мы, казаки, думаем по-иному: когда ты пойдешь мимо наших станиц, то мы по тебе будем бить пыжами из мелкого ружья. А ты тако же вели своему войску на нас бить пыжами.
— Ну что ж. Быть по-вашему. Стало быть, казаки не хотят поддерживать Максимова и других изменников?
— Не хотят. А хотят принять тебя и твое войско. Только просим тебя еще об одной милости.
— О чем?
— Ты наискорее приступай к Черкаскому, потому что на наши станицы будут оттуда пушками палить. И ты, пожалуй, нас не выдай.
— Передай господам атаманам и всем казакам: пусть будут на меня надежны. Только и вы не медлите, поддержите нас против старых казаков-изменников.
— Передам, господин атаман. Сделаем, как велишь. Как возьмешь Черкаск, и мы тебе сдадимся.
Степанов ушел. Переправился на лодке через Танькин ерик, подальше от Черкасска. Передал слова Булавина атаманам, от них все стало известно другим казакам. Станичники понимали, что и Черкасску, и их станицам не отсидеться от Булавина, который привел такое большое войско. И намерение у Булавина твердое: захватить Черкасск, наказать Максимова и его близких приятелей. Многие казаки из Черкасска и соседних станиц ждали Булавина, сочувствовали его делу. Но имелись такие, и тоже немало, которые не хотели прихода «голутвы» и их атамана; но молчали, понимая, что, если скажут о том вслух, им несдобровать — снесут головы гультяи. Потому и притаились, затихли домовитые.
Булавин приказал поставить обоз, починить напротив острова шанцы и окопы, там уже имевшиеся в так называемом «урочище ратном» (для обучения военному делу). Из Черкасска стреляли по лагерю повстанцев из пушек и ружей. Но ничего не добились. Тем временем Булавин, приказавший не стрелять по Черкасску и станицам, продолжал тайные переговоры с представителями станиц. В них участвовали и некоторые из старшин — Илья Зерщиков, Василий Поздеев Большой. Они дали плоды — в первый день мая казаки на Черкасском острове подняли восстание и впустили в город булавинцев, выдали им войскового атамана Лукьяна Максимова и еще пятерых старшин, которые в прошлом году ходили с Долгоруким и его карателями: Ефрема Петрова, Обросима Савельева, Ивана Машлыченка (Машлыкина), Никиту Саламату и Николая Иванова. Среди черкасских казаков ходили слухи, разговоры: Максимова и других пятерых старшин доставили Булавину Илья Зерщиков и Василий Поздеев Большой. Один из казаков, Семен Кульбака, из черкасской верхушки, говорил потом, что после поражения Максимова и его возвращения в Черкасск в круге читали письмо Булавина к Зерщикову и Поздееву:
— Батюшка Илья Григорьевич да Василий Большой Лаврентьевич Поздеев! За что вы напускаете на меня атамана Лукьяна Максимова с войском и с калмыки, которые били на меня с воровским его войском? И я с ним, Лукьяном, попрятились (от «пря» — спор, стычка. — В. Б.), и он, Лукьян, от меня с войском, покиня денежную казну и пушки, побежал в Черкаской. И чтоб ты, Илья, и Василий по моему прошению ево, Лукьяна, с старшинами — с Ефремом Петровым, о Обросимом Савельевым, с Микитою Соломатою, с Иваном Машлыченком — дали на поруки или, сковав, держать велели.
Вероятно, Зерщиков и Поздеев Большой сыграли какую-то роль в аресте названных старшин. Недаром, когда Булавин вошел в Черкасск и начались казни и ссылки его противников, Зерщикова и Поздеева Большого не тронули; только младшего Поздеева сослали.
Арестовывал старшин Игнатий Некрасов, ставший одним из ближайших сподвижников Булавина, убежденный раскольник, стойкий противник царских воевод, всех неправедных начальников. Он отвез их в Рыковскую станицу, где остановился у своего брата Булавин. Здесь по приказу Кондрата всех старшин наказали плетьми и посадили «за караул».
Вскоре Булавин созвал круг в Черкасске. Казаков собралось много — глазом не охватишь. Булавин, окруженный помощниками, стоял на возвышении. По его знаку в круг ввели Лукьяна Максимова и других арестованных. Булавин поднял руку и, когда стихло, начал громко говорить:
— Господа казаки! Все вы помните, как в прошлом 707-м году осенью в Черкаской по посылке московских бояр пришел князь Долгорукий с офицерами и солдатами для сыску новопоселенных на Дону беглых людей. А они, — Булавин указал на старшин, стоявших, понурив головы, у помоста, — тех новоприхожих людей за взятки у себя принимали и укрывали в домах своих и зимовьях; а те на них работали. А полковника Долгорукого мы убили не собою, а с их совету. — Булавин снова ткнул пальцем на Максимова.
— Знаем!
— Слыхали про то!
— Говори дальше!
— А потом они, Лукьян и старшина, положили в том вину на меня на одного и ходили на нас войною, многих побили и в воду сажали, вешали и носы резали. А городки наши по Донцу и запольным рекам сожгли и разорили. А делали они такое злое дело, норовя и угождая московским боярам и воинским начальникам.
— Смерть им!
— Изменники! Ироды проклятые!
— Сколько людей загубили!
— А когда мы по совету с рыковскими, скородумовскими и другими казаками входили на остров по мосту, и в те поры Лукьян стрелял по нас из пушки, из-за перил, от своего атаманского дома. И за те свои вины и измены достойны они...
— Ты сам изменник! — Из середины толпы взметнулась рука со сжатым кулаком, потом другая. — Не добрался до тебя Долгорукий! Другие доберутся!
Булавин смолк, его горящий взгляд устремился в сторону кричавших. Там началась возня, свалка — казаки повалили, кого-то на землю; с помоста видно было, как они остервенело бьют кулаками, нагайками, а кого — не рассмотришь издали. В толпе нарастал шум. Булавин остановил крики:
— Господа казаки! С теми крикунами разберемся потом, держите их крепче. Решим главное: Лукьяна Максимова, Ефрема Петрова и других изменников казнить смертью! Любо?
— Любо! Любо!
— Правильна-а-а!!
— Смерть лиходеям!!
— А казнь им, — твердо и властно говорил Булавин, — отсечь головы при всем народе. И быть у той казни Игнату Некрасову. — Он повернулся к нему, и тот согласно кивнул головой. — А старшин Василия Поздеева Младшего, Увара Иванова и иных, всего человек с двадцать, вы их знаете, — он показал на кучку старшин, стоявших недалеко от Максимова и других, приговоренных к казни, — тех всех вместо казни послать в верхние казачьи городки с женами и детьми в ссылку навечно!
Круг согласился и с этим предложением Булавина. Атаман снова поднял руку:
— А теперь ведите сюда тех крикунов.
Казаки расступились, и к помосту подвели двух человек; их крепко держали несколько дюжих молодцов.
— Кто вы такие?
— Казак с Медведицы, — один из них смело смотрел на Булавина, — зовут Семен Кобыльский. Говорил и сейчас скажу: ты — вор и изменник...
— Замолчи, прихвостень боярский! — Глаза Булавина сузились, потемнели. — Эй, казаки, заткните ему глотку! — Молодцы встряхнули его как следует, и Булавин перевел взгляд на другого. — Ну, твоя очередь.
— Савелий Чекунов, — отвечал второй, понурив голову, — из Паншина городка.
— Так. Значит, со старшинами-изменниками вместе стали? Ну что ж, — рубанул воздух ладонью, — вместе вам и на смерть итти. Посадить их в воду!
— Правильно!
— Там самое им место!
Круг закончился, и его участники расходились по своим станам и куреням. Обсуждали события дня, спорили, кричали. Другие отмалчивались, думали свое, качали головами. Чувствовалось, многих брали сомнения. Но вслух говорить о том боялись: большинство казаков — верховских, голутвенных — на стороне Булавина; у него много прибеглого, набродного люда — крестьян, дворовых, работных людей, бурлаков; да мало ли — всех и в голову не вместишь; смотри-ка, сколько народу привел — тыщ с двадцать, поди. Сила!
Группа повстанцев во главе с Некрасовым повела из круга Максимова и других старшин. Всем им отрубили головы. Двух крикунов утопили. Булавина при казни не было — уехал к брату в Рыковскую станицу, оттуда — в свой лагерь. В последующие дни отправляли в верховские городки других старшин. Третьи сидели «на чепях» под арестом. На кругах, которые ежедневно собирали восставшие, бушевали страсти. На одном из них решался вопрос о дележе добычи — имущества казненных старшин и прочего.
— Побрать, — кричали голутвенные, — пожитки Лукьянова и старшинские, раздуванить!
— Всех природных черкаских казаков побить и пожитки их взять на дуван!
— Правильно! Всех! Всех!
— Казаки! — Булавин выступил вперед. — Правильно вы говорите. Пожитки из домов Максимова и других старшин мы взяли и будем дуванить.
— Что медлить!
— Давай дуванить!
— В сей час и начнем! — Булавин оглянулся на своих помощников. — Вот они и куренные атаманы будут то делать. Дело это решенное. Но есть и другие.
— Какие?!
— Говори!
— Не все атамановы и старшинские пожитки в их домах остались. В расспросе Максимов мне говорил, что многие пожитки отвезли они тайно в Азов на сохранение. И о том надобно отписать губернатору Толстому, чтоб те пожитки вернули к нам в Черкаск.
— Правильно!
— Пусть вернут бояре!
— Не вернут, на Азов походом пойдем!
— Не спрячутся!
— А еще, — продолжал Булавин, — скажу о церковной казне: взяли мы церковных денег 20 тысяч рублей. И решили мы те деньги дать вам на жалованье.
— Спасибо, атаман!
— Любо! Любо!
— Заслужили мы головами своими!
Булавин выждал, посмотрел на сподвижников своих, улыбнулся:
— Вижу, что согласны, атаманы-молодцы! А дуван такой: каждый получает по два рубля три алтына и две деньги.
— Любо! Правильна-а-а-а!!
— А что касаемо черкаских природных казаков, — на круге воцарилась тишина, — то это дело, господа казаки, нельзя делать без рассуждения. Сами вы видели, что Черкаск мы взяли не силою, без бою. И в том черкаские жители и станичные все казаки помощь нам оказали немалую. Так что побивать их нам не надобно.
— Правильно!
— Нет, неправильно!
— Нелюбо!
— Любо!
— Когда беду почуяли, то ворота открыли! А перед тем с Максимовым в походы против нас ходили!
Восставшие подняли такой гомон, что из лагеря шум доносился до черкасских станиц. Все кричали, перебивая, не слушая друг друга. Дело могло дойти и до драки. Но Булавин, Некрасов и другие молчали, понимая, что расходившуюся толпу не остановить. Пусть выговорятся. Некоторое время спустя Булавин поднял руку:
— Господа казаки! Тихо! — Крики и споры продолжались, но постепенно стихали. — Тихо! Верно вы говорите: те черкаские казаки ходили против нас с Максимовым, и в том они виновны перед нами. За ту вину мы их к дувану не примем. Правильно я говорю?
— Правильно! Верно!
— А вы на дуване и пожитки, и деньги получили немалые!
Толпа немного погудела, но чувствовалось, доводы Булавина подействовали — недовольство улеглось, решимость голутвенных поколебалась. В рядах повстанцев имелось немало и старожилых или сочувствующих им казаков. Это тоже сыграло свою роль. Сказывались исстари присущие казакам черты послушания вожакам, атаманам, старшим, пока они, конечно, не потеряют их доверие дурными поступками, плохими делами, прежде всего — изменой «товариству». А именно такое «товариство» сложилось вокруг Булавина в ту весеннюю пору. Народу в нем скопилось много, и всякого, разношерстного. Не все одинаково мыслили, их разделяло и неодинаковое положение (одни — значные, другие — голутвенные; одни исстари жили ка Дону, другие — недавние пришельцы и т. д..), и отношение к Москве и боярам, и планы на будущее. Но волна успеха, поднимаясь все выше, вынесла их от Пристанского городка, откуда они начали свой путь, к столице Войска Донского. Они захватили ее, свергли власть Максимова и его приспешников, помощников Долгорукого; выберут новых атаманов и есаулов, отстоят свое «старое поле», донские вольности, не дадут в обиду беглых, которые и сейчас толпами идут сюда, под знамена Булавина. В конце концов, одни — волею, другие — неволею, пришли к согласию. Их «единачество», хотя, как показали последующие события, и непрочное, временное, позволило принять ряд важных решений.
На новых кругах постановили переменить всю старшину Войска Донского. Войсковым атаманом избрали Кондрата Булавина, есаулами — Степана Ананьина из Рыковской станицы, Тимофея Соколова из Средней Черкасской станицы (он отбывал в свое время ссылку в Сибири), Степана Иванова — из Кагальницкой станицы, со среднего Дона, куренным атаманом — хитрую лису Зерщикова. Новые помощники Булавина, избранные по его воле, отнюдь не стали и не могли стать такими его сподвижниками, как Хохлач и Драный, Некрасов и Голый. Это были люди не той породы — хитрые, себе на уме, увертливые и ловкие, они, исходя из складывающейся ситуации, делали то, что им выгодно. То с одобрением следили за расправами булавинцев с карателями Долгорукого: авось это заставит власти отказаться от сыска беглых и наступления на донские права и тем самым их, старшинские, привилегии, богатства. То поддерживали действия Максимова в борьбе с булавинцами. То выдавали своих товарищей на расправу гультяям, прикидывая про себя, как потом выкрутиться из беды, когда она обрушится и на их умные, хитрые головы.
У Булавина, да и у многих повстанцев, атаманов и рядовых, помимо сильно выраженных качеств, чувств социального протеста, всегда, даже в моменты наивысшего подъема в борьбе с угнетателями, обидчиками, присутствует стремление к законности. С их точки зрения, действия московских бояр, «полководцев» — Долгорукого и прочих, черкасских старшин-изменников незаконны, попирают справедливость, нарушают старые обычаи и права, договоренность защищать их общими усилиями. Поэтому решения об убийстве Долгорукого, о походе на Черкасск, казни войскового атамана они выносят на кругах, «общих советах», придают им законную форму. И сейчас, когда круг избрал Булавина войсковым атаманом, он, тоже на законном основании, посылает грамоты в Москву, Азов и другие места о своем избрании, казни, Лукьяна Максимова и других старшин за их неправедные действия, расправы над донскими казаками, просит отозвать царские войска, не разорять казачьи станицы, прислать, как давно заведено, государево жалованье Войску Донскому. А он, войсковой атаман, и все казаки будут, как и прежде, служить и прямить великому государю. Подобные меры, попытки не вводят в заблуждение царя, его бояр и воевод. Булавин это понимает. Он действует энергично и смело. Обстановка такова, что медлить нельзя: с одной стороны, восстание расширяется, Петр и его главная армия заняты со шведами; с другой — карательные войска со всех сторон вот-вот начнут свои сикурсы против Дона, а в некоторых местах, как показали апрельские поражения Хохлача, переходят к решительному наступлению.
Восстание продолжалось в Северном Придонье. То же происходило на западной окраине Войска Донского, по Северскому Донцу, где осенью предыдущего года и началось движение. Изюмский бригадир [27] Шидловский, как и полгода назад, шлет донесения о «воровских» действиях булавинцев: отправился-де он, бригадир, в поход против Булавина, пришел в Чугуев, оттуда хотел идти на урочище Вершины Айдарские. Но узнал, что «оного вора Булавина единомышленники Семен Драной, Тихон Белогородец да азовской чернец, не в одной тысячи», пришли на земли Изюмского полка, разорили хутора.
Действия многочисленного войска Драного, насчитывавшего несколько тысяч («не в одной тысячи») повстанцев, — продолжение многолетней борьбы донцов с изюмцами из-за земель, соляных промыслов и прочих угодий по среднему течению Донца и его притокам. Далее, Шидловский пишет, что «полку его местечка Ямполя жители к оным ворам пристали и крест целовали, что им быть с оными в согласии, и хотят Мояк и Тор доставать». Шидловский откровенно признает, что «в людех своих не весьма надежен, и большая в них слабость являетца».
Ямпольцы, перешедшие на сторону Булавина, вместе с повстанцами Драного пошли к Тору и Маяцкому; стало известно, что «в Мояках ис пушек стреляли». В связи с походом Булавина на Черкасск бригадир, по его словам, «зело... опасаетца, чтоб на Украине какого возмущения от их, украинцов, не показалось».
Другие воеводы сообщают: булавинские атаманы Голый и Беспалый «имеют... свое злое намерение итти в великое собрание под украинные городы для возмущения и разорения». Усердский воевода Петр Вердеревский в середине мая допрашивал в приказной избе Кирилла Покидова — работника местного подьячего Афанасия Губина:
— Откуда ты приехал?
— Из Хуторского городка Усердского уезда. Посылал меня Афанасей Губин для проведованья своего конского стада, которое отогнали булавинцы.
— Кто имянно?
— На Белой речке встретил я беглеца из села Глуховского Климента Первого, и он сказал: ваше конское стадо отогнали Усердского уезду села Ииловского и Луховского и деревни Середней, которые бежали в прошлом году в донецкие городки: Филип Лопатин, Парфен Рогатушкин и другие; всего тех усердян-булавинцев было в отгонке конских стад 31 человек.
— Куда они погнали лошадей?
— Пригнали их в Белолуцкий городок Усердского уезду. И там разобрали лошадей меж себя и пошли за Донец к Кондрашке Булавину.
— Что еще говорил тот Климент?
— Сказал, что пришли на Бахмут запорожцев четыре тысячи человек. Идут они с Сережкою Беспалым под Изюм. А из Ровенков (в верховьях р. Айдар. — В. Б.) Никита Голый, который разорил под Полатовом село, пошел под Волуйку, под Палатов, под Усерд, под Верхососенск, под Ольшанск.
Беспалый пришел в Бахмут с двумя тысячами повстанцев. К нему перешли многие бахмутские жители. Другие булавинцы, как рассказывали московскому подьячему Парфеньеву в Валуйках, «непрестанно... под Валуйку подбегают и людей, которых застанут за городом в степи, грабят и побивают до смерти и стада конские и скот отгоняют». Он же слышал, что Беспалый и Голый стояли около Бахмута, «и бахмутских жителей с ними, ворами, были много заодно ж». Действовали те атаманы и на другой, северной стороне Донца, по реке Жеребцу. С ними было 7 тысяч повстанцев. Они разослали везде заставы, и подьячему, ехавшему из Троицкого к Изюму, пришлось пробираться «степьми..., не дорогами», «с великою трудностию».
Власти получали вести о неспокойном поведении запорожцев. В середине мая Семен Шеншин, новобогородицкий воевода, допрашивал в приказной избе двух новосергиевских жителей — Терентия Прокофьева и Тимофея Гавриленко:
— Откуда приехали?
— Из Запорожской Сечи.
— Зачем ездили? С кем видались?
— Ездили для своих потреб. Были у кошевого Кости Гордиенко.
— Что он говорил?
— Бранил и ругал нас всячески, приказывал сказать новобогородицкому и новосергиевским сотникам, что Войско Запорожское хочет итить для разорения под самарские городы.
— Кошевой с ними хочет итти?
— Не хочет. Гордиенко говорит, что он Войско унять от такого намерения не может. И о том была у казаков рада мая в 13-й день.
— Что было на той раде?
— Кричали казаки на куренных атаманов: для чего вы не позволили в великий пост итти с Булавиным?
И потом кричали: пойдем на великороссийские городы!
— Что решили?
— Была в раде меж казаками битва великая, и положили было на том, что итти под самарские городы для разорения. И послали было и конное стадо для того походу. Да отложили.
— Почему?
— В тот день присланы были из Киева в Сечю к церкви черные попы на перемену прежним попам; и те попы выносили из церкви в раду святое евангелие и крест и от такова злова намерения их, запорожцев, уговаривали и отвращали.
— Уговорили?
— Уговорили будто. Раду отложили до следующего дня.
— Что еще видели и слышали?
— В той раде видели мы русского человека с присланным некаким письмом.
— Какое письмо? О чем?
— От кого то письмо и для какова дела, о том мы не уведомились. В тот же день поехали из Сечи поздно. Что после того в Сечи станет чинитца, того нам неведомо.
Через неделю тому же Шеншину о событиях в Сечи рассказывал новобогородицкий житель Василий Любейченский:
— Был я в Запорожской Сечи для своих потреб. И в бытность мою мая в 13-м, и 14-м, и 15-м числех были в Сечи рады многие.
— Что на них говорили? Какие решения приняли?
— Казаки скинули судью с судейства. И кричали в радах казаки, голудба, чтоб итить им под самарские городы, под Новобогородицкой и под Новосергиевской для разорения. И просили у кошевого и у всей старшины, чтоб наставили им полковника и дали б клейноты.
— А как кошевой и старшина?
— Костя Гордиенко и куренные атаманы им от того намерения возбраняли, ходить не велели.
— Почему?
— Послано-де у них из Сечи на Москву для челобитья великому государю о жалованье 76 человек казаков. Если-де вы пойдете под самарские городы, то тех казаков на Москве задержат, заневолят.
— Послушали казаки?
— Попервости не послушали, кричали против. И оттого Гордиенко кошевство покинул, с себя сложил.
— Дальше.
— Рада завопила, чтоб остался. И учинили его кошевым по-прежнему. После того Костя Гордиенко им опять возбранял, войсковых клейнот, знамя им не дал и полковника им не наставил.
— А казаки?
— Те своевольники кричали, чтоб итить им к вору Булавину на помочь для добычи. Кошевой им сказал: как хотите, пойдите для себя (по своей охоте, инициативе. — В. Б.). И они, многие своевольцы, конные и пешие, ис Сечи пошли.
— Ты видел таких, какие пошли к Булавину?
— Видел, едучи дорогою из Сечи по той (западной. — В. Б.) стороне Днепра, многих казаков. Едут из Сечи купами и оказывают, бутто идут к вору Булавину. А в урочище Кочкасе (севернее Сечи на Днепре. — В. Б.) сказывают те же казаки, что идут: есть-де в том урочище и конницы немалое число. А куды их намерение: собрався и выбрав себе старшину, пойдут к вору Булавину или под самарские городы, того я подлинно не ведаю.
Для властей постепенно становится ясной картина волнений в Сечи, намерений запорожской голытьбы идти на самарские (по реке Самаре — левому притоку Днепра) великороссийские города «для добычи», «разорения», на помощь Булавину. По данным Голицына и Шидловского, 21 мая в Ямполь пришли повстанцы Беспалого, который до этого «стоял с ворами ж по юртам». В тот же день в Бахмуте читали «воровское письмо» Булавина из Черкасска: тот сообщал, что скоро будет в том городке. За три дня до этого Илья Чириков, каменнозатонский воевода, узнал, что запорожские казаки плывут вверх по Днепру «в 17-ти дубах (лодках, выдолбленных из дуба. — В. Б.) многолюдством». Он послал своего человека в Сечь, чтобы узнать: «Куда их поход намерян?» О том же спрашивал письмом кошевого. Посланец быстро вернулся. Воевода в нетерпении ждал его:
— Ну, что? Видел кошевого?
— Видел. Гордиенко говорил, что те казаки пошли и впредь многие пойдут для лесу довольного на Самару с их войскового ведома, а не бездельно.
— Ну, понятно. Так, значит, говорил. Что-то не верится. А ты узнал: среди казаков какие слова носятся?
— Казаки говорят, что многие из них выбираютца в степь конницею с ружьем и з запасом, одвуконь. Слышал я в Сечи, что на сих днях приехали в Сечю от Булавина два человека и зовут их к себе. И по тому их возмущению в степь из Сечи выбралось в два дни человек с 300 и больши. И всеконечно запорожцы идут к Булавину. И те приезжие два человека с ними же. Собираются они в степи, в верховье реки Соленой, на Берде да близ Кленников, где преж сего он же, Булавин, стоял.
— Для чего они идут? Говорят о том казаки?
— Намерение их воровское: разорять полковников и рандарей и богатые домы.
В Белгород поступили сведения о сборе нескольких сот запорожцев в Кодаке; ожидают они себе полковника из Сечи. Московские власти наставляют воевод, гетмана Мазепу, «чтоб они запорожских казаков, которые похотят приставать к вору Булавину и к ево единомышленникам, от того воровства удерживали, а над ослушниками чинили военной поиск и промысл».
В Сечи, как и на Дону, происходит раскол: одни казаки идут к Булавину, собираются в разных местах, готовят конские табуны, берут с собой припасы; другие, во главе с кошевым, опасаются, ведут себя осторожно — гультяям, настроенным весьма решительно, поход разрешают, но на свой страх и риск; остальным, колеблющимся, «старым» казакам, «возбраняют», и они остаются в своих куренях.
С противоположной, восточной стороны донского пограничья власти тоже получали тревожные вести. Вскоре после избрания Булавина войсковым атаманом на Волге, в районе города Дмитриевска, что на Камышенке (Камышин), появился повстанческий отряд. О событиях, там разыгравшихся, рассказывал две недели спустя поручик Иван Муханов Никите Кудрявцеву, коменданту Казани, куда бравый солдатский командир бежал со страху из Дмитриевска:
— Сего мая против 13-го дня, в ночи, часа за три до дни (до рассвета. — В. Б.), спал я в доме своем и услышал в Дмитреевску пушечную стрельбу. И, прибежав к той стрельбе, увидел я в городе воровских казаков, конных и пеших; стреляют они из пушек по воротам воевоцкого двора — для того, что воевода Данила Титов от них заперся в том дворе.
— Где же были твои солдаты? — Комендант недоверчиво смотрел на поручика. — И сам ты что делал?
— Дмитреевские солдаты тут же в городе по улицам ходят с ружьем. Я стал им говорить, чтоб они с теми воровскими казаками учинили бой. А они мне сказали: иди ты от нас прочь, до коих мест сам жив! А воры ездят на лошадях по улицам и им, солдатам, говорят: вы нас не бойтесь, нам дело не до вас; надобны нам воевода да начальные люди.
— Дальше что было?
— Те воры у воеводского двора ворота выбили и пошли на двор, а другие, отделясь, пошли в пороховой погреб и поставили у него свой воровской караул.
— Что учинили они с воеводой?
— Того я не ведаю, потому что, видя дмитреевских солдат с теми ворами согласие, побежал из города тайно в степь к Саратову, чтоб тебе о том ведомость учинить в Казани. И шел до Саратова семь дней один.
Муханова охватил такой панический ужас, что он в течение недели добрел до Саратова, откуда еще через неделю перешел в Казань, весьма далеко от места своей службы. Из дальнейших расспросов выявились новые любопытные подробности:
— Сколько тех воров было в Дмитреевске?
— По моему присмотру было с 400 человек.
— А до их приходу в Дмитреевске об их намерениях ничего не знали? Не слыхали?
— Воевода дмитреевской Титов до их приходу для проведыванья про них, воров, в казачьи городки посылал дмитреевских солдат почасту.
— Что те посыльные говорили?
— Они приезжали к воеводе, в доездах писали и на словах сказывали, что у казаков никакова воровства и вымыслу на государевы городы нет.
— Значит, знали и скрывали?
— Так, получается. Теперь стало явно, что те посыльщики, дмитреевские солдаты, такой их (казаков-булавинцев. — В. Б.) воровской вымысел ведали и нарочно ему, воеводе, не сказывали.
Взятие булавинцами Камышина, неожиданное и стремительное, причем по достигнутой заранее договоренности с солдатами местного гарнизона, всполошило воевод. Они ожидают похода булавинцев к Саратову и другим городам по Волге, вплоть до Казани. Позднее стало известно, что булавинцы побили в Камышине солдатских офицеров, посадили в воду бурмистра и двух целовальников; воевода же «укрылся, а где, — ныне неведомо».
Повстанцы взяли воеводские пожитки, пушки, порох, свинец, «также таможенную и кабацкую и соляной продажи казну»; эти пошлины, сборы и взимали утопленные ими бурмистр и целовальники. Они же выбрали из камышинских солдат атамана и старшину и велели обоим «чинить право казачье, а соль велели продавать по 8 денег пуд».
В Камышине, как и во всех других местах, повстанцы вводили порядки казачьего самоуправления, расправлялись с начальными людьми. Снизили цену на соль. В Черкасске Булавин то же сделал для хлеба.
Продолжалось восстание в Тамбовском и соседних уездах. Власти должны были успевать всюду — помимо. Дона и соседних уездов, волнения и восстания продолжались или начинались в Башкирии и под Астраханью, в Запорожье и других местах. Массовое недовольство, выплескивалось наружу в разных местах. Канцлер Гаврила Иванович Головкин, сообщая царю о взятии Булавиным Черкасска, о «шатости» Сечи Запорожской, добавляет: вся шляхта смоленская бьет челом, что многие их крестьяне бегут из деревень с семьями к Брянску, «в новозаведенную от Василья Корчмина слободу на Ипуть реку», «их, помещичьи, дворы разоряют, животы (имущество. — В. Б.) грабят и людей их бьют до смерти». Из письма к нему, Головкину, смоленского воеводы Салтыкова стало известно: посылал он за теми беглыми крестьянами воинские команды с капитаном и прапорщиком. Но крестьяне с ними бились, убили одного солдата, другого ранили. То же сообщил дорогобужский воевода: бегут к Брянску крестьяне из Вяземского и других уездов с семьями. У них имеются пищали и рогатины. Идут «большими станицами» — человек по 100, 200, 300, 500 и более, «кроме женского полу», «поднявся целыми селы и деревни, через Дорогобужский уезд; идучи, чинят великое разорение и по селам и деревням крестьян с собою подговаривают, и многие к ним пристают. А которые их помещики и их люди и крестьяня за теми беглецами гоняютца в погоню, и по них стреляют (беглецы. — В. Б.) из ружья и бьют до смерти».
Головкин писал к Салтыкову, приказывал послать против беглецов «в прибавку» солдат, шляхту, конных рейтар «пристойное число с добрыми офицеры»; ловить тех крестьян, возвращать их помещикам, а тех, кто будет «боронитца ружьем», вешать «по дорогам, где пристойно».
Почти по всей Европейской России поднимается па борьбу угнетенный люд, и Булавин с повстанцами знают об этом. Новый войсковой атаман, избранный волей восставших, принимает энергичные меры для расширения движения.
ПОДЪЕМ ДВИЖЕНИЯ
Лихорадочная деятельность Булавина и его сподвижников в мае — июне преследует две главные цели: успокоить царские власти, чтобы предотвратить посылку новых карательных войск и тем самым получить передышку; увеличить ряды повстанцев, привлечь новых союзников и развернуть более широкое восстание. Замыслы эти удалось осуществить только отчасти. Прежде всего не удалось, конечно, ввести в заблуждение Петра и его окружение. Канцлер Головкин, узнав о письмах Булавина с повинной и сообщением о событиях в Черкасске, в письме царю резонно замечает:
— ...Те воры, опасаяся на себя приходу Вашего величества ратных людей, являют себя бутто с повинною, а, по-видимому, хотят себе тем отдух получить, дабы вяще усилитца и присовокупить себе таких же воров, как и ныне являютца.
Головкину вторит князь Василий Владимирович Долгорукий, брат убитого прошлой осенью карателя, назначенный Петром новым главнокомандующим войсками против булавинцев:
— А что, государь, писали они отписки до Вашего величества с покорением, и то, государь, все воровством своим поступали обманом.
В майской отписке на имя Петра, присланной в Посольский приказ, Булавин, как войсковой атаман, выступает от имени всего Войска Донского:
— Слышно нам чинитца, что нашего Войска Донского вор, бывшей наш атаман Лукьян Максимов да Ефрем и при них будущие (при них бывшие, служившие. — В. Б.) писали тебе, великому государю, воровски, ложно, отбывая воровства своего, бутто мы, собрався с Войском Донским, хотим тебе, великому государю, изменить и бутто хотим итти на твои государевы городы войною. И те их, Лукьяновы с товарыщи, на нас ложные письма.
Булавин объясняет цель выступления против Максимова и других «воров» — старшин:
— А мы Войском Донским собрались со всех рек и станиц, и Запорог (Запорожской Сечи. — В. Б.), и гребенские, и яицкие старые служилые казаки, пришли в Черкаской укрепить по-прежнему и быть так, как отцы и деды наши и мы служили прежде сего благочестивым бывшим государем нашим и тебе, великому государю.
Взятие Черкасска, по словам отписки, произошло при помощи и по воле «правых казаков», которые «поневоле» сидели в осаде вместе с Максимовым и другими старшинами. Они тех «воров» «выдали и все с нами соединились служить тебе, великому государю, верно». Старшин казнили за многие разорения, которые они чинили без царского указа и «без нашего, войскового, ведома».
Снова повторяется мотив сохранения старых донских порядков и обычаев:
— А собралися мы не на войну, только для утверждения, чтоб у нас, в Войску Донском, было по-прежнему, как было при дедах и отцах наших.
После новых уверений в «верности» Булавин затрагивает самый острый вопрос:
— А ныне нам, твоим государевым рабам, слышно по таким прелестным письмам воров, бывшаго атамана Лукьяна Максимова с товарищи: посланы от тебя, великого государя, полки на наше Войско Донское войною; и то напрасно.
От просьб атаман переходит к предупреждению:
— И буде посланные полки будут наши казачьи городки войною разорять, и мы вам будем противитца всеми реками, и с нами вкупе и кубанские.
Призывая царя и «государевых наших бояр», «чтоб было безсорно и без всякого разорения меж собою», войсковая грамота заключает:
— Все мы християня. А не так бы было, как и преже сего: много людей погубили. А наше помышление только, что на зачинающих бог помощник.
Подобные же мысли развиваются в обращениях Булавина и его сподвижников к «полководцам» (командирам карательных войск), воеводам некоторых городов. В отписке начала мая Булавин, опять от имени Войска Донского, перечисляет те же и новые обвинения в адрес черкасских старшин: «многие к нам неправды и разорение, и всякие нестерпимые налоги»; не давали казакам на дуван (дележ) государево денежное и хлебное жалованье, а также деньги (20 тысяч рублей) «за астраханскую службу» (участие в подавлении восстания в Астрахани за два года до этого) ; вопреки государевым указам и грамотам из Посольского приказа «о непринимании новопришлых с Руси людей» они, Максимов и старшины, тех людей многих принимали, давали им письма «о заимке юртов без нашего войскового ведома», брали за то многие взятки. Они же высылали с Дона в Русь не только новопришлых людей, но и многих старожилых казаков, а их самих, их жен и дочерей, даже малых детей в воду сажали, вешали, давили между колодами, всякое ругательство чинили, городки многие огнем выжгли, а пожитки наши себе отбирали. «И то они чинили не против его, великого государя, указу».
Обвинения в адрес Максимова и его приспешников были верными. Они действительно принимали беглых, селили их на Дону, в том числе по своим заимкам, в глухих местах, брали с них взятки. Но попытка свалить вину за прием беглых на одних черкасских старшин — не более чем уловка, тактический ход, мало, впрочем, убедительный. Столь же наивен довод о том, что старшины чинили жестокости не по царскому повелению. Он повторяется, когда речь заходит об осенних событиях прошлого года:
— А присланного ево, великого государя, полковника князь Юрью Долгорукова убил не один Кондратей Булавин, с ведома с общаго нашего со всех рек войскового совету, потому что он, князь, поступал и чинил у розыску не против его, великого государя, указу.
Сообщают донцы о казни черкасских старшин, об избрании Булавина войсковым атаманом, новых старшин, «кто нам, Войску, годны и любы...; и по договору для крепкого впредь постоянства и твердости в книги написали». Никаких замыслов против государевых городов, продолжает отписка, мы не имеем, никакого на них нашествия и разорения не замышляем; как служили прежде русским государям (перечисляются по именам, начиная с деда Петра — Михаила Федоровича), так «и ему, великому государю, всем Войском и всеми реками все-усердно по-прежнему непременно служить и всякого добра хотеть обещаемся». И в том «в правде» всем Войском целовали крест и евангелие; «и меж себя, Войском, учинили мы Войском в любве и в совете за братство по-прежнему».
После столь идиллического изображения обстановки в Черкасске и по всему Дону и сообщения о казни старшин и избрании Булавина следуют призыв к «полководцам» не ходить с ратными полками к Черкасску, по Дону, Донцу и Хопру и предупреждение:
— А буде вы, полководцы, преслушав ево, великого государя, указов, насильно поступите и какое разорение учинили, и в том воля ево, великого государя; мы Войском Донским реку Дон и со всеми запольными реками уступим и на иную реку пойдем.
Снова, на все лады повторяя слова о верности великому государю, составители отписки в конце ее уже исходят из того, что по воде царя его полководцы и ратные люди будут и дальше «насильно поступать» против Bойска Донского. К угрозе «противитца» их действиям добавляют угрозу уйти «на иную реку», то есть оставить Дон, родные очаги и перебраться в другое место, сменить российское подданство на другое. Слова об «иной реке» — отнюдь не пустая угроза, и это верно уловил канцлер Головкин:
— Тако ж разсудили мы, — пишет он Петру, — потребно быти о помянутом воре Булавине дать знать чрез письмо к Петру Толстому (русский посол в Стамбуле. — В. Б.), за секрет вкратце объявляя, что такой вор, присовокупи к себе некоторых единомышленников, шатается по Дону; и ежели то у Порты (в Турции, — В. Б.) отзовется, то б он то старался уничтоживать и с прилежанием тамо у турков предусматривать: не будет ли от него, Булавина, какой к Порте или татарам подсылки пли их ко оному склонности.
В новой отписке «полководцам», несколькими днями позже, Булавин упрекает их за то, что они двинули полки в районе Северского Донца «под наши козачьи городки и под Черкаской войною», «и хотитя разорять нас, Войско Донское, напрасно». Снова следуют уверения в верности царю, призывы не ходить войною против донских казаков, наконец, — предупреждение:
— А естьли пойдетя на нас, и мы вам будем противитца вышним своим творцом богом.
Письма «полководцам», помимо Булавина, направлял Хохлач. В одном из них, на имя стольника Бахметева, а также «всех бояр», он призывает его стать заодно за веру, против немцев и прибыльщиков; а до бояр, торговых людей и черни нам, мол, дела нет. В другом, на имя того же Бахметева и полковника Тевяшова, атаман ставит их в известность и призывает:
— Мы, донские казаки, собрались все вкупе с запорожскими казаками, з Белогороцкой ордою, с калмыки и с татары, и з гребенскими, и с терскими, и с яицкими казаками истребить иноземцев и прибыльщиков. И вы б, Степан и Иван, шли с нами заодно.
В начале мая Булавин шлет «отписку за войсковою печатью» в Азов губернатору Ивану Андреевичу Толстому, требует у него прислать пожитки Лукьяна Максимова я Ефрема Петрова, которые они отвезли в Азов и Троицкий; если же губернатор не пришлет, то он, Булавин, «пойдет под Азов и под Троецкой и на море сам. А войско свое пошлет водяным и сухим путем».
От воронежского воеводы войсковой атаман требует присылки «государева жалованья» для Войска Донского в Черкасск, от киевского и белгородского — отпустить из Белгорода его жену Анну Семеновну с сыном «и проводить ее до первых наших казачьих городков на подводах, не задержав»; иначе («если не отпустите») «за то вы, господа, на наше Донское Войско не погневойтеся, за то будет хуже. Пожалуйте ради творца нашего и здравия нашего благочестивого государя, не оставтя нашего донского войскового прошения. Также и освободите будущих с нею». В одной из отписок Голицыну он требует, чтобы жену привезли в Трехизбянскую станицу «с нарочными людьми»; иначе он пошлет к Белгороду 40 или 50 тысяч человек и больше.
Все эти обращения, обещания, хитрые (как казалось булавинцам) уловки ни к чему, естественно, не привели и не могли привести. Да и сам Булавин, его помощники, все повстанцы вряд ли рассчитывали, что власти примут их заверения, признают законность их действий и оставят в покое Дон и его жителей. Поэтому в те же майские дни они шлют письма в Запорожскую Сечь, просят о помощи. Булавин от имени Войска Донского извещает кошевого Гордиенко и все Войско Запорожское, что они, донские казаки, встали за то, «чтоб в нашем Войску Донском и по иным рекам утвердить по-прежнему, как казачья обыкновения у дедов и отцов наших и у нас». Напоминает о своем житье в Сечи, общем договоре:
— А как атаман наш Кондратей Афонасьевич Булавин был у вас, атаманов молодцов, в Запорогах об сырной недели, у тебя, Костентина Гордеевича, и у писаря, и у многих атаманьев, и меж себя советовали и души позодовали, чтоб всем вам с нами, Войском Донским, быть в соединении и друг за друга родеть единодушно.
Далее следует упрек, не во всем справедливый:
— И от вас к нам помощи к Черкаскому для совету нихто не пришел.
«Для совету» — о смене старшины в Черкасске, — Гордиенко действительно никого не прислал, исходя, очевидно, из того, что донские дела должны решать сами донцы. Помощь же людьми — дело другое: он ее, хотя и под нажимом голытьбы, разрешил.
Главная цель письма — получить помощь запорожцев против «государевых полков», которые «пришли разорять наши казачьи городки и стоят на Донце против Светогорского монастыря и в иных местех, и хотят итить под Черкаской»:
— И вы нам дайтя помощи, чтоб нам стать вкупе обще, а в разорения нам себя бы напрасно не отдать. А у нас, Войска Донского, в поход посланы тысяч с 15 и больши для того, — естьли государевы полки станут нас разорять, и мы будем им противитца, чтоб они нас вконец не разорили напрасно, также б и вашему Войску Запорожскому зла не учинили.
Намек на возможное «зло», которое могут причинить те же «государевы полки», царские власти и Запорожской Сечи, сопровождается повторным напоминанием:
— А о чем у нас с вами, атаманы молодцы, меж себя был совет обще на ваших рандарей (арендаторов. — В. Б.) и панов, и которым путем обещались вы с нами, так и творите, чтоб ваш совет благой был к нам непременен; и того бы не отстовлять... А мы Войском Донским вам все помощники.
Тайный осведомитель из Черкасска, какой-то предатель из казаков, тогда же сообщал Долгорукому, главному командиру «государевых полков»:
— Да он же, вор (Булавин. — В. Б.), послал в Запорожье сего ж майя в 16-й день казаков Ивана Ляха, Тита Фарафонтьева, Федора Шевырева с прелестными письмами за войсковою печатью, чтоб те запорожцы, собрався, шли в Русь и били б по городам полковников и рандарей и всяких начальных людей, также б и полки великого государя.
Булавин тем запорожцам, которые к нему придут, обещал «давать на месяц по 10-ти рублев денег».
Ту же просьбу о помощи повторил в письме Гордиенко и булавинский атаман Драный: «по письму из Польши» князя Меншикова и «по письму» стольника князя Голицына, киевского воеводы, идут на нас русские полки князя Долгорукого, «хотя наши казачьи городки свести и всю реку разорить». Донцы, продолжает атаман, ожидают помощи от запорожцев:
— И мы войском походным ныне, выступя, стоим под Ямполем, ожидаем к себе вашей общей казачей единобрачной любви и споможения, чтоб наши казачьи реки были по-прежнему и нам бы быть казаками, как были искони казатьство и между нами, казаками, единомышленное братство. И вы, атаманы молодцы, все великое Войско Запорожское, учините к нам, походному войску, споможение в скорых числех, чтоб нам обще с вами своей верной казачей славы и храбрости не утратить. Также и мы вам в какое ваше случение ради с вами умирати заедино, чтоб над нами Русь не владела и общая наша казачья слава в посмех не была.
О посылке в Сечь за помощью, приезде туда трех посланцев с Дона быстро стало известно в Посольском приказе — от подьячего Дмитрия Парфеньева, побывавшего в мае с грамотами в Троицком у азовского губернатора. Последний сообщал царю, что он посылал за теми тремя булавинцами своего «Семеновского шанца атомана», который «гонял за теми посланными до Самары», но не догнал. О самих же «воровских письмах» Булавина в Сечь губернатор пишет, что ими он «возмущает запорожцев к своему воровству». Булавинские «письма» читали на радах, и они сыграли свою роль: многие запорожцы пошли на помощь к донским казакам.
Вел переписку Булавин и с Кубанью. Здесь проживали казаки и татары, подвластные турецкому султану. Среди первых имелись участники недавнего Астраханского восстания, бежавшие после его разгрома в пределы турецких владений, и донские казаки-раскольники. Письма адресованы атаману кубанских казаков Савелию Пахомовичу и ачуевским владельцам Хасану-паше и Сартлану-мурзе. Казаков Булавин убеждает в необходимости быть в «мировом (мирном. — В. Б.) между вами и нами и крепком состоянии, как жили и наперед сего старыя казаки». Неправедные действия прежних черкасских старшин и князя Юрия Долгорукого, по словам Булавина, идут от «бояр», с которыми «списывался» Лукьян Максимов:
— И стали было бороды и усы брить, также и веру христианскую переменить.
После подробного рассказа о событиях восстания на Дону, победах и поражениях Булавин призывает кубанских казаков к единству, чтобы забыть «многия ссоры и разорения», которые были «от неправедных бывших наших старшин с кубанцы».
В другом письме Булавин приглашает кубанских казаков прислать в Черкасск своих представителей для «совета». Утверждает, что «у нас, казаков, в единогласии тысячь со 100 и больши»; и далее:
— Много русские люди бегут к нам на Дон денно и нощно з женами и детьми от изгоны царя нашего и от неправедных судей, потому что они веру християнскую у нас отнимают.
Откровенные и неприязненные слова о Петре I, адресованные кубанцам, дополняются угрозой в его же адрес:
— А естьли наш царь на нас з гневом поступит, и то будет турской царь (турецкий султан. — В. Б.) владеть Азовом и Троицким городами. А мы ныне в Азов и Троицкий с Руси никаких припасов не пропущаем, покамест с нами азовский и троецкой воевода в согласие к нам придет. А мы к городам не приступаем и христианской крови проливать не станем. А к нему, государю, мы Войском пишем от себя письма, а сами к нему не едем. А естьли царь нас не станет жаловать, как жаловал отцов наших, дедов и прадедов, или станет нам на реке какое утеснения чинить, и мы Войском от него отложимся и будем милости просить у вышнего творца нашего владыки, а также и у турского царя, чтоб турский царь нас от себя не отринул.
Далее следует обращение Булавина и Войска Донского к турецкому султану:
— ...У тебя, турского салтана, милости прося и челом бью. А нашему государю (Петру. — В. Б.) в мирном состоянии отнюдь не верь, потому что он многия земли и за мирным состоянием разорил и ныне разоряет. Также и на твое величество и на царство готовит корабли и каторги (катАрги, морские суда. — В. Б.), и иныя многия воинския суды и всякой воинской снаряд готовит.
«Мирное состояние», о котором здесь упомянуто, — это мирный договор между Россией и Турцией, заключенный в Стамбуле в 1700 году. Булавин пытается воздействовать на султана, настроить его против Петра и тем самым получить поддержку в борьбе с войсками царя, который разоряет, помимо прочих, и донскую землю. В письме подданным султана на Кубани — «Кубанския орде владетелю Сартлану мурзе (из Ногайской орды. — В. Б.) и всем кубанским мурзам» — Булавин предлагает жить в дружелюбии и мирном согласии: «Черкаских старшин, которые чинили кубанским татарам многие разорения и неправды, брали ясырь (пленных. — В. Б.) и конские табуны, мы переменили. Поэтому пришлите к нам двух человек для обмена ясырей и заключения мирного договора между нашими двумя юртами. Также торговать с обеих сторон можно без опасения», «За многия к вам и к нам от калмык абиды и многое разорения» Булавин предлагает, если они, кубанские владетель и мурзы, захотят, «на них (калмыков. — В. Б.) итить войною» — в поход за Волгу.
Булавин стремится уладить отношения донцов с кубанцами, которые отнюдь не отличались безоблачностью. Взаимные нападения, отгон скота, пленение жителей — все это было довольно частым явлением в их жизни. То же и с калмыками. Предлагая кубанцам наказать их, Булавин в то же время привлекал часть калмыков для совместных действий, например, в Тамбовском уезде. Те же калмыки, которые исполняли приказы своего хана Аюки, воевали против булавинцев.
«Торговых турок», то есть турецких купцов, с которыми Булавин отправил письма к Сартлану-мурзе и Хасану-паше, перехватили в степи посланцы азовского губернатора. Толстой отослал письма Петру; так что они не достигли цели. Губернатор, кроме того, пишет:
— И по тем, государь, воровским ево письмам и по ведомостям из Черкаского от Василья Фролова с товарищи (осведомители Толстого из черкасской старшины. — В. Б.), уведав я, что оный вор хочет из Черкаского с единомышленники своими бежать вскоре на Кубань, посылал я, раб твой, к Черкаскому для отгону воровских ево конских табунов, чтоб оному вору бежать было не на чем, И те, государь, посланные мои, согласясь с ним, Васильем (Фроловым. — В. Б.), с товарыщи, конские табуны от Черкаского отогнали к Азову. И они, Василей Фролов с товарыщи, приехали в Азов.
Переписка Булавина с кубанцами, перехват писем, отгон лошадей происходили в конце мая — начале июня. Войсковой атаман в этом кубанском направлении не достиг чего-либо существенного. Хотя не исключено, что выходцы с Кубани, например ногайские татары, могли помогать булавинцам. А возможный уход на Кубань повстанцы постоянно имели в виду, как резервный вариант, на случай поражения в борьбе с царскими войсками. В следующем году они им и воспользовались.
БОльшую, подавляющую часть писем Булавин и другие предводители направляли к донским казакам, жителям русских и украинских городов, сел и деревень. Это — обращения к повстанцам и тем, кто должен, по мысли руководителей движения, к ним присоединиться. Булавин рассылал «прелестные грамоты» по всей территории Войска Донского — «по всем рекам». Сообщал о перемене и казни старшин, виновных во многих неправдах и разорениях, призывал казаков в Черкасск, к борьбе с государевыми полками. Постоянно звучит мотив «старого поля», которое нужно «не потерять», то есть сохранить независимость Войска Донского, его права и вольности.
Переписку повстанцы вели очень обширную. Е. П. Подъяпольская, изучая «повстанческий архив» Булавина и булавинцев, выявила до 150—200 их писем, отрывков, упоминаний о них в правительственных документах. И это, конечно, далеко не все из того, что они составляли и рассылали во время восстания. Булавин и его атаманы — Хохлач, Драный, Голый, Некрасов, Колычев, Павлов и иные — посылали воззвания по многим донским городкам с призывами идти на соединение с их войсками, отрядами, «для совету». Атаманы переписывались друг с другом. «Советные» письма Булавину, Некрасову, Павлову посылали саратовские и камышинские жители-повстанцы. Жители деревни Михайловки Козловского уезда вручили булавинцам «верное письмо» — в преданности делу восстания. То же делали другие жители Козловского и Тамбовского уездов после чтения прелестных писем Булавина. Крестьянам дворцовой Битюгской волости читали воззвание в присутствии атамана Лукьяна Хохлача.
Никита Голый в майском «прелестном письме» обращается «в руские великого государя городы» к воеводам и приказным людям, «а в селех и в деревнях заказным головам и десятником и всей черни». Со мной, говорит атаман, 7 тысяч донских казаков и 1 тысяча запорожских. Мы идем на Рыбный. Другие атаманы с войсками идут на Изюм, Саратов, Козлов, Азов. Цели повстанцев объясняет Голый просто и ясно:
— А нам до черни дела нет. Нам дело до бояр и каторые неправду делают. А вы, голотьва и вся, идите изо всех городов пешие и конные, нагие и босые, идите, не опасайтеся: будут вам кони и ружье, и платье, и денежное жалованье. А мы стали за старою веру и за дом пресвятые богородицы, и за вас, за всю чернь.
Атаман предупреждает начальников:
— А вы, стольники и воеводы, и всякие приказные люди, и заказные головы, не держите черни, и по дорогам не хватайте, и пропускайте вы их к нам в донецкие городы. А хто будет держать чернь и не будут пропускать, и тем людем будет смертноя казнь. А хто сие письмо станет в себе держать и будет тоить или хто издерет, и тем людем будет смертная казнь.
Подобное же воззвание в русские города, села и деревни послал еще в марте Булавин. Оно адресовано не только «черным», но и «начальным добрым» людям; тоже призывает к единству — стоять за истинную веру, за великого государя, за Войско Донское. Чернь, как говорит булавинское «прелестное письмо», пусть не опасается никакой обиды, а «худым людям» из бояр и князей, прибыльщиков и немцев не молчать и не спускать; тем, кто будет таить это «письмо», будет смертная казнь.
Призывы повстанцев поднимали на борьбу массы людей — казаков, донских и запорожских, русских крестьян, бурлаков, работных людей, жителей украинских городов и уездов, всякий нищий люд. Сочувствовали и примыкали к ним раскольники — им импонировали слова булавинских воззваний о защите старой веры. Было известно, что раскольниками являются Некрасов, Драный и многие другие участники восстания; возможно, раскольничьи убеждения разделял и Булавин.
Намерения и действия царских «полководцев» и воевод у Булавина не вызывали иллюзий — за несколько дней до взятия им Черкасска каратели разбили, во второй уже раз, повстанцев Хохлача. Несколько дней спустя после избрания войсковым атаманом Булавин направляет своих близких соратников с войсками по трем направлениям — на западное, северное и восточное пограничья Войска Донского. Именно там еще ранней весной начались новые выступления повстанцев — из числа казаков и их соседей, жителей Белгородского разряда, южнорусских, поволжских городов и уездов.
...Снова на черкасском майдане шумит и волнуется, негодует и смеется народ. Казаки, старые и молодые, кто побогаче, кто победнее одетые, но обязательно с саблей на боку. От них отличны гультяи казачьей породы — беглые крестьяне, одетые и вооруженные кое-как, чем попало; обуты многие в лапти, на плечах латаные-перелатаные армяки. То же — и работные люди, бурлаки, ярыжки всякие. Хотя у некоторых можно увидеть то сапоги новые, то платье доброе с чужого плеча, а то, глядишь, и ружье с насечкой или саблю кривую, турскую или пистоль за поясом. Походили с казаками по Дону да по русским уездам, пошарпали богатых, разжились добром, раздуванили, — и живи, радуйся, душа христианская! Покозакуем, пока силушка есть в добрых молодцах, пока кровь горячая по жилкам течет-переливается, а сердце горит на обидчиков-супостатов! Молодцы казаки — не терпят надругательства, горой встали за Дон-батюшку; да и нам вспоможение оказывают — с Дону не выдают, к себе зовут, привечают. И не только нас, а и других — вон нехристи, басурманы всякие, среди нас; как свои, не боятся, вместе со всеми нами в походы против бояр и значных ходят. И в самом деле, нет-нет да и мелькнет среди казаков и нововыходцев с Руси скуластое, узкоглазое лицо калмыка или татарина; сходятся они друг с другом, лопочут по-своему, не понять ни слова; а как засмеются, совсем глаз не видно; одно слово — басурмане! А люди, видно, хорошие, такие же, как и мы, грешные, нищие и голодные, и голову подклонить некуда.
— Для чего созвали? — спросил плохо одетый мужичок стоявшего рядом казака, степенного и молчаливого. — Може, дуван будет?
— Ишь ты, какой шустрый! — Казак насмешливо, но добродушно прищурился. — Видно, пондравилось тебе пожитки получать? Сколько же разов дуванить? Уже был дуван.
— Да вить я так, к слову. А пожитки — какие пожитки? Много ли тут получишь? Смотри, народу-то пропасть сколько! На всех-то хватит ли?
— Это верно! Одначе ты, я вижу, шапку вон новую на голове носишь с красным верхом.
— Точно, получил на дуване. Спасибо атаману, Булавину.
— За что получил-то?
— За бой и за раны. Был с Кондратием Афанасьевичем в пешем войске. Плыли судами вниз по Дону. По пути сшибки бывали. И на Лисковатке участие имел и рану получил.
— То добре. Вижу я: не тутошний ты, не черкаский.
— Прихожий я. Из владения светлейшего князя Римской империи и российского князя Ижерския земли Меншикова Александра Данилыча.
— Это — что в Тамбовском уезде?
Там, милостивец. Царь-батюшка те землицы ему пожаловал. А земли у нас хорошие, родят жито помногу, особливо когда дождички бывают.
— Что же ты ушел из таких райских местов? И, поди, не один?
— Ушли многие. И из нашей, и из других деревень. Приезжал к нам этой весной атаман Хохлач Лукьян Михайлович с казаками, и читали лист от Булавина. Вот мы и снялись, пошли к ним.
— Воли захотелось небось?
— Кому ж ее не хочется, родимый? Воля она и есть воля, одно слово сказать. Слаще ее ничево нету.
— Твоя правда. Сами то же думаем. Многие из казаков ведь недавно здесь, на Дону, поселились. И я вот тоже.
— Сколько годков живешь на Дону?
— Да лет с десять будет.
— О-о! И как? Хорошо?
— Да лучше, чем на Руси-то было, при барине. Это уж что говорить. Да ведь указ вышел — возвращать нашего брата. Тех, кто после взятия Азова сюда бежал. А с той поры уж тринадцатый год пошел. Вот и получается...
— Иди, мол, обратно — на барщину к господину своему?
— Вот-вот. Прислали в прошлом году Долгорукого-князя с солдатами. Начали хватать, бить и высылать. Но, слава богу, хоть и длинные руки у того полковника были, да отрубили их. Был я в том деле.
— Не врешь?
— Не вру. Что мне врать?
— Ну, спаси тя Христос. Молодцы-то вы какие, — скороговоркой зачастил мужичок, — одно слово: казаки. А вот теперь и Черкаск взяли, неправедных старшин казнили. Хорошо!
— Хорошо, конечно. Но что дальше будет? Бояре-то так дела не оставят.
— Авось господь помилует. Да царь-батюшка призрит на нашу бедность.
— Великий-то государь на войне, не до того ему. А бояре полки посылают на нас. Вот тебе... Постой! Никак, идут?
Толпа загудела еще сильней, по ней прошло волной движение. По направлению к помосту. К нему мимо расступившихся людей, как по коридору, шла новая войсковая старшИна — Булавин со своими помощниками. Атаман выглядел подтянутым, строгим, глаза его, сосредоточенные и серьезные, изредка взблескивали веселыми искрами; власть над этими людьми (а многие шли с ним от Пристанского городка, другие присоединились позже), их поддержка радовали и опьяняли его лучше всякого хмельного пития. Быстро поднялся на помост, соратники встали рядом.
— Казаки! — Голос Булавина звенел над притихшей толпой. — Собрались мы со всей реки, с Дону, и Хопра, и Медведицы, и Бузулука, и Северского Донца, и всех запольных речек, старожилые и новоприхожие казаки, а также крестьяне, работные люди и иные многие люди из Руси и Украины, чтобы заодно встать за истинную веру и за старое поле, как было при отцах и дедах наших. Помощию божиею переменили мы старшин, которые неправду делали, нас изгоняли, вешали и били. Встали мы за Дон и за чернь против бояр и воевод, прибыльщиков и немцев. А ныне бояре снова, как и в прошлом году, посылают на нас полки, чтобы реку нашу разорить и известь старое поле!
— Не дадим!
— Умрем за старое поле!
— Чтоб как при дедах и прадедах было!
— Побить бояр всех и шильников!
— Веди нас, атаман!
Круг кипел, бушевал, как море в непогоду. Крики слились в общий вопль:
— Смерть боярам!
— Побьем всех воевод!
Булавин продолжал:
— Ныне стало нам известно, что московские полки идут на нас по письму князя Меншикова, и стольника, и воеводы князя Голицына...
— От бояр московских все зло!
— А царь-государь о том не ведает!
— Творят, что хотят!
— ...И с теми полками идет князь Василей Володимерович Долгорукий!
— Еще один Долгорукий сыскался!
— Сколько их там у бояр на Москве?
— И ему руки укоротим!
— Господа казаки! — Выждав, когда станет потише, Булавин возвысил голос: — Мы ждать не будем, а станем противитца тем полкам всеми нашими силами!
— Правильно! Любо!
— Все Войско Донское пойдет!
— Мы все, — Булавин протянул руку в сторону своих сподвижников, — войсковой атаман, полковники и есаулы, сдумали послать три войска; на Изюм и другие города Белгородского разряда пойдет полковник Семен Драный, с ним Никита Голый, Сергей Беспалый; на Хопер — атаман Игнат Некрасов; на Волгу — Хохлач и Павлов. То и будет указ всего великого Войска Донского. Любо ли вам?
— Любо! Любо!
— Все пойдем!
— Умрем за старое поле!
— Побьем бояр!
— А в Запорожскую Сечь и на Кубань послали мы верных людей помочь просить. — Кондрат сделал передышку, вытер пот со лба. — И письма по иным многим местам послали, чтоб чернь вся шла к нам бить бояр и полковников, рандарей и приказных. А как их побьем, пойдем на Азов и Троицкой. Потом — по другим русским городам до Москвы. Пора нам с боярами московскими повидаться, как Степан Тимофеевич Разин хотел.
— Мы с ними посчитаемся за все!
— Правильно!
— Разин-то хотел, — раздался голос из задних рядов, — да не вышло! Сила силу ломит!
— Верно говоришь, казак! — Булавин метнул взгляд в его сторону. — Не вышло. У бояр силы много. — Помолчал минуту. — Дак ведь и у нас немало! Вон нас сколько! Три войска посылаем и здесь, в Черкаском, оставим тысячи с две!
— А если побьют нас? — снова прервал его тот же настойчивый голос. — Что тогда?
— Тогда? — Булавин оглядел притихших было людей. — Ну что ж, казаки. Если побьют нас государевы полки, то мы с Некрасовым и другими полковниками и есаулами решили: собираться нам на Цымле (у Цымлянской станицы. — В. Б.), а, собрався, оставить нашу реку и итти на другую реку.
— Куда, атаман?!
— Мыслимое ли то дело?!
— Любо! Уйдем!
— Неужли государь бояр не уймет?
Булавин по тому, как кричали все громче и злей казаки, да и новоприходцы от них не отставали, видел, что тронул больное место. Легко ли оставить родные курени, избы, могилы отцов и дедов, все эти просторы, вольные до сих пор места? Не для всех, понятно, одинаково вольные и щедрые, по все же свои, родные.
— Великому государю в поход и в Посольский приказ, — решительно и твердо говорил войсковой атаман, — мы писали, что мы ему хотим служить верно, как и прежним государям; и чтоб бояре и воеводы наше старое поле не порушили. И еще напишем. Да царь в армии, воинским промыслом против шведов занят. О нас и знать не знает. А у бояр московских одно на уме: выслать с Дону беглых с Руси людей, а нашу казацкую обыкность вывесть начисто. Потому и говорю: отстоим наше поле! Если не выдет — уйдем!.. На Кубань-реку уйдем!
— Не дадим!
— Веди против бояр и полководцев!
— Если што, то и на Кубань можно!
— Там и сейчас наша братья живет!
Булавин, уставший, но довольный, молчал, наблюдая, как в толпе повстанцев, при всем шуме и разноголосице, наметился перелом. Большинство поддерживало предложение о походе войск по трем направлениям, горячо желало и надеялось отбить царские полки от Дона, отстоять его независимость от бояр. Смирились, видно по всему, и с возможным уходом на Кубань. Хотя не все, конечно, думают одинаково. Одни затаились, молчат, выжидают; от этих согласия не дождешься. Да и не надо; главное — за ним, атаманом, идут и стоят за общее дело тысячи и тысячи людей. И еще будут. Пойдем против бояр! Не выдюжим — и на другой реке курени устроим. Не все, конечно, туда пойдут. А многие, поди (ах ты, мать, пресвятая богородица! Помилуй нас и спаси!), и не доживут, не успеют уйти...
— Так как, господа казаки? — очнувшись от мимолетных дум, встрепенулся атаман. — Согласны?
— Согласны, согласны!
— Любо!
— Выступать в поход!
— Хватить гутарить! Бить бояр надо!
— На том и решим! — Голос Булавина звучал громко, торжественно и твердо. — По указу всего великого Войска Донского выступаем в поход против московских боярских полков!
Круг медленно расходился. Полковники и есаулы, сотники и десятники собирали повстанцев в условленных местах. В лагерях Драного и Некрасова седлали коней, приторачивали на запасных лошадей походные сумки с поклажей. Волжское войско грузилось на суда, с казаками вместе отплывали черкасские бурлаки и ярыжки. Булавин выделил им две пушки, чтобы способнее было крепости воевать и разбивать купецкие караваны. А потом, глядишь, на море Хвалынское, как разинские шарпальники, вымахнем и пойдем гулевать по простору синему, к берегам шемаханским да персидским!
Войско Драного по степям вдоль Северского Донца быстро двигалось в сторону Бахмута, Тора и соседних городов. Туда, где булавинцы бросили смелый вызов обидчикам и притеснителям, начали борьбу с карателями и вешателями, которых, как они считали, прислали к ним московские бояре брюхатые. Мало им, видно, того, что Долгорукого и прочих с ним бросили в волчьи ямы. Другим того захотелось! Получат, и сполна! Дайте только срок, всего изведают!
Драный собрал более чем 10-тысячное войско. Имелись у него пушки, много ружей и пистолей. Во главе полков стояли Беспалый, Голый, Шучка и другие атаманы. Действовали они то вместе, то раздельно. Один из них, Беспалый, пришел к Бахмуту с двумя тысячами повстанцев, и здесь к нему присоединились четыре тысячи запорожцев и многие бахмутцы.
Еще в начале мая Шидловский жалуется Голицыну на ненадежность жителей городов Изюмского полка, возможность возмущения на Украине; «а им оного вора украинцам удержать невозможно. И во всем Белогородцком розряде ни одной крепости нет, где б мочно оного вора одержать» (удержать, отбить).
Беспокоится и В. В. Долгорукий:
— ...Имеют, — пишет он царю из Воронежа, — ево воровские Булавины товарыщи Голой да Беспалой свое злое намерение итти в великом собрании под украинные городы для возмущения и разорения.
Из Усердца воевода Вердеревский пишет Тевяшову, острогожскому полковнику, о действиях повстанцев:
— ...Пришли на Бахмут запорожцев 4000. И те запорожцы идут с Сережкою Беспалым под Изюм. А из Ровенков Никита Голой, которой разорил полатовское село, пошел под Валуйку, под Полатов, под Усерд, под Верхососенск, под Ольшанск.
Беспалый с повстанцами воевал на южной, Крымской стороне Северского Донца; Голый — на другой, Ногайской, в верховьях Айдара и севернее Валуек. Беспалый, как думали воеводы, собирается идти на Изюм, Тор, Маяцкий городок. Так оно и произошло — Шидловский жалуется в Черкасск Булавину:
— А какое от Безпалого вашего воинского полку моего под городами починилось грабительство, прикажите Войском розыскать и учинить справедливость. А будет справедливости учинить не похочете, то о том дайте мне знать вскоре.
В Москву доходят вести о действиях повстанцев под Валуйками; а около Бахмута стоят Драный и Беспалый с 8-тысячным войском, и им Булавин послал помощь: две тысячи человек — против Шидловского, три тысячи — против Бахметева. Потом Драный, Беспалый, к которым присоединился и Щучка, оказались уже на реке Жеребце, то есть продвинулись от Бахмута на север, по направлению к Валуйкам, где воевали повстанцы Голого. С ними было 7 тысяч человек; другие отряды действовали, очевидно, отдельно от них.
Московские агенты и воеводские шпики жаловались, что под Изюмом, Валуйками и в других местах трудно проехать — «от воров булавинцов проезду не стало»; «в настоящее время на Дон в Черкаской належащею прямою дорогою на Бахмут за заставами (из-за застав. — В. Б.) воров булавинцов никому посыльщиком проехать невозможно». Толмача (переводчика) Посольского приказа Кузьму Оттаганова, ехавшего с грамотами из Москвы в Азов и Черкасск, Шидловский «держал... у себя 4 дня» — опасался повстанческих караулов. Когда же посланец прибыл в Азов, то губернатор его в Черкасск не отпустил:
— С теми государевыми грамотами в Черкаской ехать тебе не для чего, потому что черкаской вор Булавин взял и войскового атамана Лукьяна Максимова и старшин казнил смертию.
При нем же, Оттаганове, к Шидловскому были присылки:
— Воры булавинцы, — говорил он в Посольском приказе, — человек с 300, приехали под Мояк и привозили к мояцким жителем прелестные свои воровские письма за войсковою печатью: чтоб те мояцкие жители выдали им своих старшин, которые им всякие налоги чинят. И те мояцкие жители из городка выстрелили к ним из дву пушек, и те воры от городка отъехали. А письма у тех приезжих булавинцов мояцкой сотник принял и привез к нему, брегадиру Шидловскому.
Главный успех объединенное войско Драного, Беспалого и Голого стяжало под Валуйками. Здесь, на речке Уразовой, они 8 июня разгромили Сумский казачий полк А. Г. Кондратьева, которому за два дня до сражения устраивал смотр сам Долгорукий, стоявший обозом около Валуек, Повстанцы убили полковника, нескольких старшин, взяли весь обоз, коней, ружья. Оставшиеся в живых спасались бегством или попали в плен к повстанцам. Некоторые из них — полковые есаулы Трофим Яковлев, Кондрат Марков и зять убитого полковника Василий Савин — на следующий день после поражения явились в походную канцелярию к Долгорукому. Главнокомандующий карательными войсками подробно их расспрашивал:
— Когда вы пошли в поход против воров? Где стояли?
— Мая в 29-м числе сумской полковник Андрей Кондратьев с нами, старшиною, и полку своего с козаками для нынешнего донского походу, пришед, стояли обозом за Валуйкою в степи, в урочище у речки Уразовой.
— Когда на вас те воры пришли?
— Июня против 8-го числа, в ночи, перед светом за час или за полчаса те воры булавинцы многолюдством пришли безвесно.
— А караулы полковые что? Проспали?
— С одной нашей отъезжей сторожи, которая стояла от нашего обозу в версте, прибежал к нам в обоз казак и сказал: идет войско великим собранием, а какое войско, — я, мол, не знаю.
— Дальше. Что сделал полковник?
— Послал меня, — докладывал есаул Трофим Яковлев, — доведатца про то войско. И как я, вскоча на лошадь, поехал за обоз свой, и со мной встретились с другой сторожи казаки и сказали, что идет войско великое.
— Ну, дальше.
— И в таких скорых часех ударили на обоз з дву сторон. И я по той ведомости прибежал в обоз к полковнику. И полковник, видя их такой воровской незапной скорой приход, велел старшине, и урядникам, и всем рядовым казакам с ружьем против тех воров выступить за обоз.
— Как проходил бой?
— Был у нас бой с теми ворами конницею и пехотою часа з два и больши. И бились с ними, покамест у нас сила была. И они, воры, многолюдством своим со всех сторон ворвались в обоз и полковника у обозу, подле пушек застрелили до смерти.
— Кого еще побили?
— Кричали они по обыкновению своему донскому кругами, чтоб старшИну всю побить. И из нас воробженского сотника Дмитрея Скрицкого ранили и, что он с ними, много противясь, бился, взяв его в круг, разстреляли. Да они ж, воры, полковницкого племянника Емельяна Григорьева, да хорунжего полкового Андрея, да Лебединского и неврыгайловского и грезнянского сотников, и иных старшин, и урядников, и рядовых казаков многих побили. А миропольского сотника раненого взяли с собою.
— А с вами, — Долгорукий глядел на них хмуро — что потом было? Как живы остались?
— Нас, Трофима, и Кондратья, и Василья, и иных старшин, и урядников, и рядовых козаков, и весь обоз разобрали. И четыре пушки, и всякую артиллерию, и запасы, и коней, и ружье, и все, что у нас было, взяли. А взяв, вели нас степью по речке Уразовой верст с пять. И стояли подле той речки и на том стану разбирали убитые тела, которых с собою увезли. И, разобрав, похоронили. А коней, и ружье, и все наши взятые пожитки меж собою дуванили.
— Сколько всего наших побито?
— Убито от них, воров булавинцов, один полковник, да атаман, да рядовых козаков человек с 300 и больши.
— Что ж вы так оплошали? — Долгорукий свирепо глянул, сжал зубы, процедил. — Присягу великому государю забыли?
Старшины молчали, понурив головы, не смели шелохнуться. Помолчав, князь поднял опущенную в раздумье голову:
— Все ж таки с вами-то что случилось? Воры вас, что ли, пожалели, выпустили?
— Как воры нас на тот стан привели и, собрав всех в круг, говорили нам: которые из вас похотят с нами итить, и тем кони, ружье и платье отдадим. А которые не похотят, тех в воду посадим и перевешаем.
— Так. А вы?
— Мы, старшины и все Сумского полку казаки, которые у них, воров, были, единогласно сказали: кони и ружье, все ваши пожитки перед вами; а мы с вами итти не хотим. И после того они, воры, нас отпустили. Оставили у себя только Василья Савина и Кондратья Маркова, велели их держать за караулом.
— Как же вам, — обратился к ним майор, — удалось уйти от воров?
— Когда те наши казаки, — ответил Савин, — из обозу пошли, и мы замешались меж ими. И так ушли, воры нас не заметили.
— Повезло вам всем. А когда были у тех воров, что они меж себя говорили? Какие у них замыслы?
— Говорили те воры в обозе: одни, чтоб итти под Изюм; а другие, чтоб ударить и разорвать твой обоз, господин майор. А впрямь ли они по такому своему злому намерению учинить хотят, того мы подлинно не знаем. Только от них, воров, надобно иметь крепкое опасение, потому что их, воров, великое собрание.
— Сколько же их всего?
— По рассказанию их, воров, тысяч с 40.
— А сами вы приметили?
— Мы думаем: столько их не будет. А с 20 тысяч, конечно, будет. Да с ними ж было четыре пушки да четыре шмаговницы. С ними ж есть запорожцев с полковниками и с старшиною тысячи с полторы и больши. И прибавляетца к ним голутьба всякая. Да еще к себе ожидают запорожцев же в помощь тысячу человек.
— Скажите мне вот что: почему полковник, когда начался с ворами бой, мне вести не прислал?
— Как они, воры, на наш обоз напали и почела быть из пушечного и из мелкого ружья стрельба, и в то время в таких скорых часех о том к тебе, господин майор, в полк с ведомостью и о вспоможении полковник Андрей Кондратьев ускорить не послал, потому что оные воры послать не допустили, многолюдством своим захватили путь со всех сторон.
— Так. Теперь все ведомо. — Долгорукий помолчал, повернулся к Трофиму Яковлеву. — А ты что так тряпками обвязан?
— Голову те воры пробили да левую щеку ободрали.
— А вас?
— Нас, — хмурясь, сказал Марков, за себя и Савина, — били они плетьми и киями.
— То-то ходите вы еле-еле. Ну, ин ладно. Дома-то были?
— Нет, господин майор. Не заходя в домы свои, пришли к тебе в обоз о том бое объявить.
— Ну, идите домой. Нет, погодите-ка. У вас в Сумском полку, я помню, старшин и казаков более тысячи будет? Правильно я говорю?
— Так, господин майор. 1200 человек.
— Все-таки как же вы так оплошали? Дали ворам подойти к нам тайно, изгоном. Почти половину полка потеряли!
— Так, господин майор. Около того. Еще мы хотели сказать: когда мы были у воров в обозе, видели у них одного волуйченина.
— Ну, и что?
— Мы его и раньше видели.
— Где? Кто он такой? Как его зовут?
— Калашник он, а как зовут и какого он чину, мы не знаем. А до приходу воровского был он у нас в полковом обозе, продавал хлеб и калачи.
— Так, так. Выходит, он и подвел воров тайно к вашему стану?
— Знатно, он и подвел.
— Каков он собой?
— Ростом тот калашник высок и долголиц, борода продолговата, рыжа.
— Где он теперь? В Валуйках?
— Нет, господин майор. Когда мы уходили от воров, он остался с ними, в их обозе.
После победы у Уразовой повстанцы Драного переправились через Донец. Сам предводитель, как узнали воеводы, «поехал к себе в Ойдар, где живет», а казаков распустил по домам. Это известие подтвердилось, но не во всем.
Маяцкие казаки Алексей Башкотов, Иван Полубояринов и Василий Боландин донесли Шидловскому, что они по его приказу возили указ от Долгорукого к Семену Драному. Явились к нему, когда он «выбирался под Сумской полк. И принял он тот указ и послал в Черкаское», а их, всех троих, велел отвести в Боровское и посадить в земляную тюрьму. Неделю спустя приехал к ним от Драного войсковой есаул его походного войска Федор Задорный и отдал им отписку для Долгорукого. Сказал при этом:
— Наш полковник Семен Драный свое войско распустил по домам.
Долгорукий в своем указе потребовал, чтобы Драный прекратил борьбу, принес повинную. И теперь, после разгрома Сумского полка, атаман ответил, что он якобы выполнил указание и тем самым восстание в этих местах закончено, Действительно, маяцкие казаки-посланцы, возвращаясь домой, во многих местах видели партии едущих казаков — человек по 100 «и больши и меньши». Но дальнейший их рассказ показал, что Драный и повстанцы не собирались складывать оружие:
— А, едучи к Сухареву, наехали мы шлях великой, которым знатно, что они, воры, через Донец переправлялись к Бахмуту. И у Донца видели многие стоячие возы. И как мы приехали в Сухарев, то слышали от многих бурлак из наемных людей, что бутто он, вор, переправя Донец, пошел на Багмут, а с Багмута конечне хотят итти под Тор и под Мояки. И которых людей по юртам распустили, тем снова велели всем на Бахмут собираться июня к 10-му числу.
Драный, сообщив ложные сведения Долгорукому, чтобы ввести его в заблуждение, переводил свое войско в другое место — к Бахмуту. Части же казаков разрешил посетить свои станицы, несомненно, те, которые лежали на пути их следования или близко от него.
Шидловский, слушавший своих посыльных, спросил:
— О Сумском полке они, воры, что говорили?
— Говорили, что сумского полковника разбивали они без ведома Булавина. Для того разбили, что он, полковник Кондратьев, стоял на их донском угодью и похвалился их юрты, как ему господин маеор Долгорукий велел, разорить, а их, воров, в Донец топить.
— Сколько их, воров, побито на речке Уразовой?
— Говорят, что убито их больши 50 человек.
— О Булавине разговоры были?
— Слышали мы, что от Войска (из Черкасска, от Булавина. — В. Б.) к ним прислан был Леонтий Познеев, чтоб он, Драной, будучи тут, чинил промысл над городами. А к Булавину, говорят, пришло Кубанской орды 2000 человек да их, донских, раскольщиков с Кубану и с Орокани 1100 человек. Еще слышали мы, что запорожцов бутто несколько сот пришло, и отправлены они к Булавину в Черкаское.
План похода на города Изюмского полка, принятый на круге в Черкасске, как «указ великого Войска Донского», по-прежнему оставался в силе, и повстанцы повернули на юг, к Бахмуту, чтобы затем идти под Тор, Маяцкий и другие города. Еще один житель Маяцкого, Никита Брагин, известил Шидловского, что «от Драного передовые в Багмут приехали».
Руководители восстания были озабочены тем, чтобы пополнить ряды повстанцев. В Черкасске их оставалось очень мало, из него уходили сотнями — одни потому, что «испроелись», другие, не веря Булавину и его делу, убегали в Азов и иные места. По уходе трех войск из Черкасска у войскового атамана осталось до 2 тысяч человек; вероятно, появлялись и новые охотники. Но он посылал помощь своим атаманам. Силы его уменьшались. Он имел одно время немногим более полутысячи человек. Конечно, подходили новые люди, другие уходили. Такая текучесть среди повстанцев, в большей или меньшей степени, была вообще характерна для движения. То же происходило и в войске Драного по Северскому Донцу.
Заставы булавинцев разъезжали по всему району, охваченному восстанием. Драный делал все, чтобы собрать в повстанческое войско побольше людей. Изюмский житель Левко, бывший целовальник, рассказывал, вернувшись домой из Бахмута, Семену Осипову, из изюмской старшины:
— При мне на Бахмуте збирали бахмутцов всех в круг и в кругу читали войсковую от Булавина грамоту: чтоб во всех юртовских городках, также и в Бахмуте, поверстали казаков в десятки, а з десятка высылали по 7-ми человек в Черкаское со всеми войсковыми припасы; а по 3 человека оставляли в куренях.
— Как бахмутцы? Согласились?
— На кругу многие кричали: высылать уже некого! Разве все, собравшись, пойдем в Войско!
— Что задумали те воры? Говорили о том?
— Среди бурлаков такая молвка носитца, что, собравшись, хотят быть на князя (Долгорукого. — В. Б.) под Валуйки и Валуйку взять. А, взявши Валуйку, итить по Осколу, разоряючи городки, до Изюма и Изюма добывать.
— О Шидловском что говорят?
— На его панскую милость паче всего великие похвалки чинят, чего, боже, им да не положи, как бы ухватить его хотя на дороге где, на переезде разбоем или каким-нибудь фортелем (выдумкой, хитростью. — В. Б.).
Шидловский, которого так старались захватить повстанцы, помня обиды от его изюмцев, посылал разъезды для наблюдения за передвижениями войска Драного. Один из его сотников, вернувшись «из степи», сообщил ему:
— Был я близ калмиюских вершин (в верховьях реки Калмиус. — В. Б.), и наехал запорожцов человек с 400; стоят в долине. Знатно, они идут к Багмуту. А расстоянием то урочище от Багмута миль с четыре.
В этих местах скапливаются повстанцы, в том числе, по словам Шидловского (в донесении Долгорукому), «Тихон Белогородец з бурлаками и со всякою сволочью, и последних бурлак от казаков к нему в полк выгнали. А Драного и Безпалого ожидают. И явно все говорят, что прибираются под Изюм, и под Мояки, и на Тор на здобичь (для добычи. — В. Б.). И наказывают на Тор, и на Мояки, и на Изюм, чтоб им, ворам, меня отдали и казну без бою. А буде без бою не выдадите, то-де всех вырубим и розграбим, как и Сумской полк».
Долгорукому стало известно, что запорожцы появились у Сухарева, разграбили шесть будар и хотят идти под те же Тор, Маяк и Изюм. Драный же со своими казаками идет с реки Красной на реку Жеребец, «от Мояк 7 верст». Жители Маяцкого пребывают «в страхе великом». В связи с намерением Петра прибыть в Воронеж он пишет:
— По нынешнему, государь, воровскому замещению (волнению, восстанию. — В. Б.) здешней край до моево приезда гораздо был в великой шатости; и естьли б я к здешним городам не пришел, то б и от своих было великое бедство. А теперь, слава богу, Вашего величества приходом ратных людей оные городы стали лутче.
Другие командиры, из-под Изюма и иных мест, тоже признавали: «меж здешним народом зело стало слабо, и обдержаны они стали страхом, как оные воры разбили Сумской полк». О Драном говорили разное: то будто идет к Булавину, то — против Долгорукого, то — на город Изюм. «А подлинно собирается» — готовится к какому-то походу. Его казаки, человек с 50, пошли под Воронеж и под Усмань «для коней» — добывать их для своего войска; «повел их русской человек».
Намерения Драного скоро прояснились. К Шидловскому в полк прислали с Тора «колодника» (арестанта) Герасима Власова. Допрашивали его с пристрастием — «пытан на огне, клещами зжен». Под пыткой он рассказал:
— Пограбили у меня булавинцы коня, и я за конем до них, булавинцев, ходил до Драного и до Безпалого. И был у них в войску две недели. И мне того коня они отдали.
— Куда ты после того пошел?
— С тем конем приехал я в Изюм без седла и, взяв хомут у родственников своих, у Ивана Скряги с товарищи, и поехал с Изюма просто на Бахмут, минуючи Тор, боячись, чтоб меня не поймали.
— А ты не шпионом ли от Драного послан? А! Говори! — Шидловский дал знак, и палач спустил Герасима, подвешенного за руки к перекладине, пониже, к огню.
— Признавайся! Высматривал государевы, харьковские и иные, полки, чтоб тем ворам довесть?
— Что ты, господин бригадир! Помилуй! Меж войсками государевыми я не ходил и про полки не розведывал! Только ездил в Изюм за хомутом, чтоб из Бахмута воз с солью взять.
— Что видел и слышал в том стану у Драного?
— При мне пришли от Булавина 300 человек запорожцев с полковником; как его зовут, не знаю. И стала голудьба кричать, абы их не держали в одном месте. Нам-де, запорожцам, и всяким пешим и конным людем позволено, як возможно, где кому добывать коней.
— А казны тем запорожцам те воры давали?
— При мне казны из Войска не присылано. Только сказывают те запорожцы, что сам Булавин из Черкаского вышел и с казною идет в совокупление к Безпалому.
— А потом?
— Хотят они итти под Валуйки для разорения городов, взявши от Валуйки вниз по Осколу до Изюма. И для того походу они, Безпалой и Драной, собрали со всех станиц войска с юртов, наголову (поголовно. — В. Б.) выгнали казаков; только во всякой станице велели оставить по пяти человек казаков. А то всем в поход велено итти.
— Сколько же их, воров, будет всего?
— Для того походу собралось войска при Драном и Безпалом близ 10 000 конных и пеших.
— Что еще скажешь?
— Больше я ничего сказать не знаю.
Шидловский, окончив допрос, приказал Власова повесить. Известил Долгорукого, а тот — царя:
— Шидловский ко мне писал и присылал нарочно в один день дву человек наскоро, чрез почту, сотника да писаря, что конечно Драной с войски идет на меня.
То же подтвердил и шпик, побывавший по приказу того же Шидловского «в войсках воровских». Долгорукий готовится к сражению. В начале июля выступает с полками против повстанцев. Сетует, что «тут (на Валуйках и по Украине. — В. Б.) люди зело шатки и ненадежны». В момент отправления в поход («сего ж часа и минуты») князь получает новое сообщение Шидловского и наскоро дописывает письмо царю:
— Пишет (Шидловский. — В. Б.), что вор Драной, собрався с войски, пришел к Тору и стал обозом. И я сего ж часа и минуты пошел к Шидловскму в соединение.
Вести, полученные князем, в целом были верными. Но не во всем. Булавин не шел к Драному на помощь. Ему не до этого — и в Черкасске хватало хлопот и неприятностей, и с другими повстанческими войсками нужно держать связь, помогать чем можно. Отнюдь не все шло так, как предполагали, когда обсуждали на кругах планы походов. Игнат Некрасов, посланный в середине мая с 2-тысячным войском на Хопер, должен был идти в Пристанский городок — «для бережения городков (по Хопру, Медведице и другим соседним рекам. — В. Б.) от московских войск для того, что Лучка Хохлач с войском от московского войска побит; и чтоб хоперских и иных городков до разорения не допустить». Но Некрасов туда не дошел, и по очень важной причине — в Черкасске раскрыли заговор старшин против Булавина, и атаман срочно вернул ближайшего своего соратника. Правда, заговор оказался непрочным, распался. Булавин, успокоившись, снова направляет Некрасова, но не на Хопер, а на Волгу — на «Аюкиных калмык». С ним пошло 5-тысячное войско. На северном направлении активные действия затихли, хотя «шатость» в тех краях продолжалась. Долгорукий, например, пишет Петру о неспокойном состоянии Воронежского края. А Волконский, козловский воевода, шлет вести Меншикову о тамбовских делах:
— Воровския колмыки в сем июне месяце, подъезжая воровским наездом по подсылке Буловина, Танбовского уезду в селах, которые от Танбова в 15-ти и в 5-ти верстах, одного на заставе дворянина убили до смерти, а иных многих ранили, также многих с женами и з детьми в полон побрали, а домы их жгли и разорили, и пожитки и всякую скотину, и лошадей пограбили. И от Танбова за несколько верст вблизости, в степи, колмыков и козаков тысячи с полторы человеков, собрався, стоят.
Главные события восстания разворачивались в эти майские и июньские дни по Северскому Донцу, где боролись повстанцы Драного, и на Волге. На восточном фланге повстанческих действий объединили свои силы Павлов, Хохлач и Некрасов. Еще до прихода Игната повстанцы Хохлача овладели городом Камышином (Дмитриевск на Камышевке). В конце мая Хохлач и Некрасов подошли к Саратову. С ними пришли четыре тысячи повстанцев. Они ночью «жестоким приступом» пошли на город. Но их отбили. Два дня спустя повстанцы снова ринулись на штурм. В ходе боя у них в тылу неожиданно появились калмыки, посланные ханом Аюкой. Булавинцы, разбитые под стенами города, отступили вниз по Волге. Они оставили под Саратовом несколько сот убитых и раненых. Не удалось повстанцам, как они хотели, «прибыльщиков на Саратове и в иных городах порубить».
Южнее, у Царицына, действовало войско Ивана Павлова. Он пришел с тремя тысячами повстанцев. Воевода Афанасий Турченин имел гарнизон в 500 человек и еще роту солдат. Не в силах оборонять город, он перешел в «малую крепость». Старый город Павлов взял в начале июня. Осада же цитадели затянулась более чем на месяц.
Менее чем за два месяца повстанцы одержали несколько побед — разбили целый полк регулярной армии, взяли несколько городов, в том числе Царицын (исключая крепость) и Камышин, осаждали Саратов. Их войска и отряды действовали под Тамбовом, Валуйками, Изюмом и другими городами. Успехам восставших способствовали внезапность нападений, численное превосходство (иногда, как это было на реке Уразовой, очень большое) над противником. Район движения расширился, прежде всего за счет волжских мест, а также на западе; кое-где (под Тамбовом, например) и на севере.
Но не все шло так, как хотели бы повстанцы и их руководители. Под Саратовом они потерпели поражение и отступили. За ними двинулись карательные войска сверху, со стороны Казани. На западной стороне, от Валуек и Изюма, нависает такая же угроза для повстанцев Драного.
СБОР КАРАТЕЛЕЙ
Зима, весенняя распутица приостановили продвижение шведов, и пребывание Петра в своем «парадизе» затянулось. Еще в конце марта Петр заболел — непрерывные и лихорадочные переезды в санях и верхом на коне, спешные дела, нервотрепка, холода и слякоть измотали его вконец, и он слег в постель. Впрочем, вскоре оклемался, и пошли снова дела, заботы, распоряжения. Не забывал и увеселения, особенно на море, отвоеванном у шведов, — на буерах плавал от Петербурга к Петергофу и Кронштадту, приучал к морю членов своего семейства.
К этой суете и заботам в начале апреля добавилась новая, точнее — старая, но отошедшая на второй или третий план, докука — сообщили, что на Дону снова разгорается восстание. Прошлогодняя Либерия, как видно, не погасла, и царь снова вынужден заняться ненавистными ему бунтовщиками.
На границе с Доном, в районе Острогожска, стоял С. П. Бахметев, поставленный во главе карательных сил. Ему с «москвичами», входившими в его полк, велели перейти в Тамбов — охранять Тамбовский и Козловский уезды. Он получил помощь из Воронежа — 500 драгун и 500 солдат. В Острогожске остался Тевяшов со своим полком «на стороже». Имелись силы и в других городах. Но их воеводы, сообщая царю, московским властям о действиях повстанцев, постоянно жалуются на слабость своих гарнизонов, просят прислать московские или иные полки.
В конце марта московские Разрядный и Посольский приказы, получившие известия из Киева и Азова, Острогожска и Козлова, рассылают распоряжения. Киевский и белгородский воевода князь Голицын получает предписание:
— Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич указал тебе, ближнему стольнику и воеводе князю Дмитрею Михайловичю, о военном поиску и промыслу над бунтовщиком Булавиным с ево единомышленники и о бережении великороссийских и малороссийских городов Белогородского и Севского полков ратными людьми чинить по прежнему своему великого государя указу и от прелестных писем иметь осторожность и своевольных людей, где такие явились и впредь явятца, удерживать и до своевольства не допускать, и о искоренении того вора всячески промышлять. А к посланным от гетмана (Мазепы, который послал против булавинцев Полтавский и Компанейский полки. — В. Б.) на того ж вора послать каких чинов и сколько пристойно.
Помимо мазепинских полков, в помощь Голицыну должен был идти и курский воевода:
— А для того военного промыслу и поиску и береженья городов и на страх булавинцом ис Курска воеводе князь Андрею Гагарину итить с ратными людьми без замедления и стоять в том месте, где до ево ближняго стольника и воеводы разсмотренью доведетца.
Приказания получили козловский воевода князь Волконский («от булавинцов иметь опасение и осторожность и до разорения не допускать»), Бахметев (о переходе с ратными людьми в Тамбов), Тевяшов (оставаться «для осторожности ж» в Острогожске), боярин князь П. И. Хованский, находившийся у Казани (иметь осторожность от булавинцев, которые «бутто пошли под Саратов», проведывать про них), окольничий П. М. Апраксин, астраханский воевода (тоже следить за «ворами и бунтовщиками», которые пошли к Саратову).
Козловский воевода пишет о малолюдстве козловцев: «а танбовцы всяких чинов люди к отпору тех бунтовщиков в город Танбов збираются оплошно». Ему вторит тамбовский воевода Василий Данилов:
— Ис Танбовской волости ни единый человек в город Танбов не бывал. А как учинился сполох (действия булавинцев в районе Пристанского городка на Хопре. — В. Б.) и они все убрались в леса за реку Цну.
Обоих воевод беспокоит воздействие булавинских прелестных писем на местных жителей, которые присоединяются к булавинскому «воровству». Нужно бы послать ратных людей «для розыску и истребительства таких к злому делу склонителей на страх другим. Но за тем, государь, что в Козлове и в Танбове ратных конных и оружейных людей нет, послать в те места немочно, потому, государь, что таких склонителей к злому делу жилище близко того Пристанского городка».
В случае, если Булавин со своими людьми возьмет Черкасск, а потом пойдет под Тамбов и Козлов «для злаго возмущения и разорения», то положение там, по словам Волконского, будет очень трудным:
— И в тот их воровской приход тех Танбова и Козлова городов и в них драгунских и артилерных и нового заводу лошадей и полковых припасов без присланных с Москвы драгунских и салдацких полков и ружья, и припасов, и пороху, и свинцу охранить и отпору дать никоторыми делы немочно.
Волконский, испуганный размахом восстания булавинцев, просит царевича Алексея прислать в Козлов «драгунских и салдацких полков, сколько Ваше величество поволит да... ружья и припасов по 1000 мест, фузей, шпаг с портупеи, сум салдацких, бердышей да по 200 пуд пороху и свинцу. Также, сверх полков, начальных людей, кому козловцы править» (командовать козловцами. — В. Б.).
Особенно нужна для борьбы с восставшими, настаивает Волконский, конница:
— А паче, государь, требуем в Козлов конницы драгунских полков, потому что они, бунтовщики, естьли будут не истреблены, чаю, что начнут разорять конницею в розных местех села и деревни; и пехотою от их воровского разоренья охранить будет немочно.
Беспокоит полковника и состав полков, которые будут присланы из Москвы:
— Да и то Вашему величеству доношу: естьли с Москвы присланы будут полки из рекрутов, которые из волосных и из помещичьих крестьян и тамошних краев, и набраны те полки не в давных временех, то чаю, государь, что они к отпору их, изменников, будут ненадежны для того, государь: обносится у нас слово, что нынешней бунт и начался от таковых беглых крестьян, которые бегают из волостей и из-за помещиков, а паче ото взятья в рекруты; и от иных здешних крестьян есть в бунтовщиках братья или детей и свойственники. И чаю я, холоп твой, что прелестные письма, каков список (копия. — В. Б.) при сем письме, и в иные городы от них, воров, тайно разосланы. И естьли в Танбове и в Козлове простаго народу полками не охранить и не удержать, то чаю, государь, что их воровской намерак размножится.
В начале апреля Посольский приказ из «похода в Литве, в Витепске», сообщает в Черкасск о посылке на Дон «многого числа ратных людей, конных и пеших», им в помощь «из воинского походу из Литвы» послано несколько драгунских полков, «которые за излишком были». Всем им велено собираться на Туле; будет их с 20 тысяч человек. Кроме того, против Булавина велено идти Голицыну с полками Белгородского разряда и слободскими полками, Мазепе — послать несколько своих компанейских полков.
Власти получают из разных мест известия о действиях булавинцев в козловских, тамбовских, воронежских местах, в городах Борисоглебске, Боброве и др. — отгоне лошадей, конфискации казны, расправах с воеводами и прочими начальниками. Распоряжаются придать Бахметеву полк Рыкмана, драгун и солдат; из Воронежа выделить ему же пушки, пушкарей и подъемных лошадей. Московские дворяне должны были собираться в Ряжске. Козловскому воеводе велено послать с Москвы тысячный драгунский полк Ефима Гулица «без мотчанья» (без промедления).
Полк Гулица вскоре прибыл в Воронеж, и местный воевода Степан Колычев отправил его «в поход по воронежской границе и до Битюга, до Бобровского и до Чиглянского юртов, и до иных сел и деревень, которые обретаютца по Битюгу, для охранения к Воронежу присудственных городов и сел, и деревень и для охранения ж морского флота, который обретаетца в Воронеже и в Таврове, и на устье, чтоб тех воров не допустить в близость и не дать им розмножитца, и тот их воровской вымысл весьма искоренить».
Рыкман непрерывно посылает разъезды, чтобы вызнать силы и намерения восставших. Его приход на Битюг не остался без последствий — повстанцы из Боброва, Чиглы и других сел и деревень по Битюгу «побежали» в свои хоперские жилища, к Пристанскому городку. Рыкман арестовал шесть человек из бобровских и чиглянских жителей, которые «приобщались» к булавинцам.
Местные воеводы ведут переписку между собой, договариваются о взаимной помощи. Полки из Москвы подходят медленно. Сил для борьбы с Булавиным явно не хватает. И Петр, извещенный о тревожном состоянии дел на Дону, принимает срочные и энергичные меры. Назначает нового командующего карательными войсками — майора князя Василия Владимировича Долгорукого, брата убитого за полгода до того князя Юрия Долгорукого:
«Min Her! [28] Понеже нужда есть ныне на Украине доброму командиру быть, и того ради приказываем вам оною. Для чего, по получении сего письма, тотчас поезжай к Москве и оттоль на Украину, где обретаетца Бахметев. А кому с тобою быть, и тому посылаю при сем роспись. Также писал я к сыну своему, чтоб посланы были во все украинския городы грамоты, чтоб были вам послушны тамошния воеводы все. И по сему указу изволь отправлять свое дело с помощью божию, не мешкав, чтоб сей огнь зарань утушить. Piter. Из Санкт-Петербурха в 12-й день апреля 1708».
Царь предоставляет Долгорукому, человеку, одержимому жаждой мести за убитого донской «сарынью» брата, чрезвычайные полномочия — подчиняет ему в районе предстоящих военных действий против «внутреннего врага» все наличные силы и местные власти. Не ограничиваясь общим распоряжением, добавляет еще два, более конкретных. Говорит о выделенных ему полках:
— Роспись, кому быть: Бахметев со всем. С Воронежа 400 драгун, С Москвы полк драгунской фон Делдина да пехотной новой. Шидловской со всею брегадою, также из Ахтырского и Сумскова полков. К тому ж дворянам и царедворцам всем и протчих, сколько возможно сыскать на Москве, конных.
Наставляет нового командующего о том, как действовать против повстанцев:
— Разсуждение и указ, что чинить. Понеже сии воры все на лошадях и зело лехкая конница, того для невозможно будет оных с регулярною конницею и пехотою достичь; и для того только за ними таких же посылать по разсуждению. Самому же ходить по тем городкам и деревням (из которых главной Пристанной городок на Хапре), которыя пристают к воровству, и оныя жечь без остатку, а людей рубить, а завотчиков на колесы и колья, дабы сим удобнее оторвать охоту к приставанию (о чем вели выписать из книг князь Юрия Алексеевича) воровства у людей, ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть. Протчее полагается на разсуждение господина маеора.
Царь дает приказ о жестокой и беспощадной расправе с булавинцами, распоряжается пройти огнем и мечом по всем местам Войска Донского, которые охвачены восстанием. Говорит об этом так, как говорил и действовал за десять лет до этого в Москве, в дни страшного стрелецкого розыска. В указе нет ни слова, ни намека на особое положение Войска Донского, его старинные права и привилегии, как будто речь идет о какой-либо внутренней российской губернии или уезде. Донские казаки для царя — всего только «воры», «бунтовщики», которых нужно рубить, колесовать, сажать на кол; они сарынь, которую, как и стрельцов-мятежников, можно унять только беспощадной жестокостью. Недаром царь вспоминает князя Юрия Алексеевича Долгорукого — кровавого и беспощадного душителя разинского восстания. Этот палач в одной своей ставке — Арзамасе — замучил более 10 тысяч повстанцев; а всего в ходе подавления крестьянской войны погибло до ста тысяч ее участников. Подобный пример и вдохновляет Петра с его помощниками, они берут на вооружение кровавые методы своих предшественников.
Долгорукий, отозванный с фронта, прибыл в Москву недели две спустя после царского указа. Столько же ему потребовалось, чтобы добраться из второй столицы до Воронежа. За это время, с середины апреля до середины мая, произошло немало событий. С одной стороны, Булавин разбил Максимова, взял Черкасск и казнил старшину, стал войсковым атаманом; восстание быстро расширяется, булавинцы одерживают победы на западном и восточном театрах военных действий. С другой, каратели постепенно стягивают силы, одерживают первые победы над повстанцами (два поражения Хохлача и др.) . По расчетам Петра, Долгорукий получил достаточно войск, чтобы выступить против восставших:
— Будет наших около 7000, с которыми безопасно поступать возможно.
Светлейший князь Меншиков послал к Козлову и Тамбову 1100 конников полковника Яковлева. Но и этот полк, как и полк Е. Гулица, и московские царедворцы, шли медленно; Волконский из Козлова снова и снова напоминает, жалуется на малолюдство, на плохие «ведомости», которые он получает и «по которым значит весьма, кроме худости, добра ждать нечего, естьли оплошиться и запустить вдаль». Просит у Меншикова ускорить высылку полков из Москвы, прислать еще Ярославский полк. Бояре торопят московских царедворцев, полк фон Делдина (Фалделдина) из Вязьмы, сообщают Войску Донскому о посылке В. В. Долгорукого — «вышнего командира», которому все обязаны подчиняться.
Долгорукий, еще выезжая из Невеля в Москву, писал Петру, что по его указу ему надлежит «немедленно, прося у бога милости, как возможно скоряя, тушить, чтоб тот проклятой огонь больши не разгорался». Запало ему в душу и наставление царя о его старшем родиче:
— В письме, государь, написано ко мне, чтобы мне выписать ис книг князь Юрья Алексеевича. И мне, государь, и бес книг памятно; ежели бог милость свою даст, то буду больше делать с примеру князь Юрья Алексеевича, а нежели Шеина, о чем от вашего величества наслышался.
Майор собирается полностью следовать царскому указу и совету, «примеру» князя-вешателя, погибшего от рук восставших еще при восшествии Петра на престол. Весьма любопытно упоминание о боярине Шеине, о котором, как говорит Долгорукий, не раз ему рассказывал царь. Шеин во время поездки Петра в Западную Европу («Великое посольство») подавлял восстание четырех московских стрелецких полков — разбил их под Истрой, у стен Новоиерусалимского Воскресенского монастыря, взял большинство повстанцев в плен. Провел следствие, после которого повесили 140 человек, около двух тысяч разослал в ссылки по разным городам. Петр, срочно вернувшийся из Вены, остался очень недоволен розыском Шеина и начал новый, жестокий и кровавый, — около 1200 бунтарей-стрельцов стали жертвами необузданного царского гнева и произвола.
Как повстанцы из поколения в поколение передавали друг другу эстафету борьбы с угнетателями, так и каратели передавали свою эстафету пыток и казней повстанцев. Об этом же говорит и ответ Долгорукого-младшего на царскую шутку:
— В цыдулке, государь, ко мне написано, что Ваше величество опасаешься, чтобы я Булавину за ево ко мне дружбу понаровки какой не учинил. Истинно, государь, доношу Вашему величеству: сколько возможно, за его к себе дружбу платить ему буду.
Какую «дружбу» Булавина к майору Долгорукому имеет в виду царь? Несомненно, Петр в такой своеобразной форме напоминает князю об убийстве Булавиным его брата. А тот обещает за то отплатить мятежному атаману самым беспощадным образом. Царь и князь, обмениваясь подобными шутками, понимали друг друга с полуслова: нужно карать, жечь, рубить и вешать без всякой милости. Это и жаждал осуществлять Долгорукий, приближаясь к району восстания.
Булавин в это время шел вниз по Дону, разгромил войско Лукьяна Максимова. Движение ширилось. Волконский шлет панические письма:
— Ныне нам во опщение в путь господина Бахметьева и подполковника Рыкмона в поход итить не с кем, понеже здесь у нас жилых только 2 роты драгунских, п те по короулом в Козлове в гварнизоне и для разъездов. А которые ис козловцов, и ис танбовцов, ис старых и ис каких мошно набраные человек 1000 и другая есть, и тем весьма для нынешних в них случаев не точию в походе быть, но и здесь ружья дать им нельзя для того, что им в страх полков с Москвы никаких нет; и держим и с ними обходимся под страхом, а иное и иным случаем, о чем Ваша княжая милость (Меншиков. — В. Б.) изволишь в разсуждение предложить.
Волконский заклинает Меншикова прислать на помощь полки из армии, из Москвы, чтоб они быстрее шли «в поход по строгим нынешним ведомостям, чтобы однолично не допустить их (местных жителей. — В. Б.) ко всенародному возмущению и разорению здешняго края». После поражения Максимова на простой народ трудно надеяться:
— А ныне им, ворам, то больше в порадование, и здешний народ по нынешним вестям зело стали быть под сомнением.
Полковника берут раздумья: нет ли у Максимова, потерпевшего такое быстрое и сокрушительное поражение от Булавина, какой-нибудь с последним договоренности?
— Истинно, государь, светлейший князь, — повторяет Волконский, — Вашему сиятельству доношу верно: довлеет охранить здешнею украину в самой скорости, чтобы не допустить до превеликого бедства.
Волконского удивляет, что к нему не идет на соединение бригадир Шидловский; наоборот, пишет, чтобы сам Волконский шел к нему на помощь. Бахметев в это время со своими москвичами движется к Пристанскому городку.
Москва шлет в помощь Бахметеву, помимо полка Рыкмана, драгунский полк фон Делдина и солдатский полк майора Давыдова; на Воронеж «для бережения», вместо Рыкманова полка, — 500 драгун. К Бахметеву же «для разорения донских воровских городков» направляют из Воронежа солдатский полк Неклюдова, а вместо него в Воронеж — тысячу человек «из московского гварнизона».
Объединение полков Бахметева, Тевяшова и Рыкмана привело к разгрому отряда Хохлача на реке Курлаке в конце апреля. Об этом узнал на пути из Москвы в Воронеж князь Долгорукий. Послал им указ: не расходиться, как они хотели (Бахметев — в Тамбов, Тевяшов — в Острогожск, Рыкман — в Воронеж), «ежели вестей крутых нет». О взятых в плен на Курлаке 143 булавинцах князь в письме Петру шутить изволит, вспоминая прежние царевы намеки:
— И как, государь, прибуду я на Воронеж, стану по розыску вершить: оставя несколько человек впредь для розыску, пущих колесовать, а других на колья и вешать и о всем чинить по твоему государеву указу и по своей к ним дружбе.
Изюмский бригадир Шидловский пошел было к Чугуеву, оттуда — на урочище Вершины Айдарские. Но, узнав, что повстанцы Драного разоряют хутора Изюмского полка, повернул назад, к Тору и Маяцкому острогу. Он тоже просит помощи, пишет Голицыну в Киев:
— В людех своих я не весьма надежен, и большая в них слабость являетца. Зело я опасаюсь, чтоб на Украине какого возмущения от их, украинцов, не показалось. И у русских людей шатость являетца.
Голицын тоже настроен весьма пессимистично:
— Нам оного вора (Булавина. — В. Б.) украинцам удержать невозможно. И во всем Белогородцком розряде пи одной крепости нет, где б мочно оного вора удержать.
Киевский и белгородский воевода обеспокоен: против «воров» направлены полки Бахметева, Шидловского, Волконского, Гагарина, а единого командира у них нет:
— И ежели указу не будет прислано, что оным полкам быть под одною командою, разумею я, что ис того не будет никакой пользы.
Тот же Голицын «по ведомостям» от азовского губернатора Толстого распорядился, чтобы Шидловский и Бахметев шли против Булавина и для охраны Азова и Таганрога; «а паче смотреть неоплошно, чтоб оный вор не поворотился назад для разорения украинных городов». К началу мая Шидловский собрал свою бригаду, Харьковский, Ахтырский и Сумский полки и чугуевских донских казаков, а также калмыков и стал на Изюмской черте под Маяками. Неделю прождал здесь, но Бахметев не явился.
Долгорукий при подъезде к Воронежу пишет царю из Богородицка, что не знает, где сейчас находятся Шидловский и Бахметев. Драгунский полк Гулица, продолжает князь, прошел Богородское, полк фон Делдина скоро будет на Туле, а пехотный полк Давыдова переправился через Оку у Серпухова. Яковлева с 300 драгунами из недорослей отправляют с Москвы. Всем полкам он велит собираться в Воронеже, а не в Ряжске:
— 1) Государь, что ближе к казацким городкам; 2) государь, что з Бахметевым и с Рыкманом податнее соединитца. Также, государь, и ворам будет страшнее, что тут будем збиратца... И, потамошнему смотря, куды случай позовет, всюды податно.
Будучи в Москве, Долгорукий принял меры, чтобы собрать царедворцев, которых по приказам нашлось 725 человек. Предполагалось оставить только «для нужды» «малое число и старых», остальных — послать в поход. Он же приказал немедленно идти из Курска в Воронеж драгунскому полку Мещерского, пехотному полку
Нелидова «да полковой службы 400 человек». Уверяет царя в их боеспособности:
— И мню, что всех скорая они будут ко мне. И сказывают, государь, что ети люди гораздо добры. И я на них надежен, лутче, нежели на тех, которые полки пошли с Москвы, потому, государь, что те полки новые.
Приехав в Воронеж, Долгорукий в нем не задержался. Решил продвинуть свои полки еще ближе к району повстанческих действий — разослал воеводам и командирам письма с указанием идти к Валуйкам. Князь срочно велел собрать по уезду подводы для драгун и солдат, припасов и провианта. С собой взял отряд Бахметева — 300 царедворцев, полк Рыкмана, драгун. В Воронеже оставил 500 драгун из Военного приказа с Москвы, 500 солдат из московского «гварнизона» и 500 рекрут из Поместного приказа, а также полк Неклюдова «оставил на Воронеже, а с собою не взял для опасения флота и для всякого случая». Относительно 143 пленных була-винцев, «в том числе старых казаков 23 человека, а достальные все розных городов сходцы», Долгорукий «по своей к ним дружбе» принял решение:
— И я, государь, по дороге к Пристанскому велел поставить 20 виселиц и буду их вешать 17-го числа (17 мая. — В. Б.), а некоторых из них, несколько человек, четвертовать и по кольям ростыкать.
Долгорукий сообщает Петру, что до сих пор не пришли к нему три полка: драгунский Яковлева, солдатский Давыдова, фон Делдина, «а из царедворцов единово человека не бывало». Полку Рыкмана велено с Москвы быть с ним, Долгоруким, а в Воронеже воевода Колычев показал ему письмо адмирала Апраксина: тому полку быть в Воронеже. Шидловский без московских войск «на своих надежду имеет худую». Толстой из Азова просит помощи. Булавин же после взятия Черкасска очень усилился:
— Тебе, государю, самому извесно, что он ныне в великом собрании как людьми, так и припасами, и пушками, и порохом, и другим всем.
О прибытии В. В. Долгорукого, его намерении идти на «донские воровские городки» быстро узнали по всему Дону. Как и раньше в письмах «полководцам» и в Посольский приказ, Булавин и его помощники обращаются теперь к Долгорукому с теми же уверениями в верности государю. Несколько дней спустя после его приезда в Воронеж к нему явились станичники с реки
Битюга Мартын Панфилов и Фетис Туляев. Их ввели к майору. Они поклонились ему:
— Ты будешь царев посланец князь Долгорукой?
— Я, лейб-гвардии Преображенского полку майор князь Долгорукий.
— Мы к твоей милости от Войска Донского.
— С чем приехали?
— Привезли войсковую отписку за войсковою печатью к царскому величеству да другое письмо за войсковою же печатью к стольнику Степану Бахметеву.
— Давайте сюда, все будет передано. Что у вас в Черкаском было? За что Лукьяна Максимова и иных старшин казнили?
— В войсковой нашей отписке к царскому величеству то написано: пришли мы к Черкаскому, собрався изо всех городков и станиц, для перемены и выбору иных старшин. А от атамана Лукьяна Максимова и старшин Ефрема Петрова с товарищи были к нам многие неправды и нестерпимые обиды. И за то мы их побили.
— Это всем ведомо. Что дальше?
— А вместо них всем Войском выбрали иного атамана и старшин и по договору для крепкого впредь постоянства и твердости в книги записали.
— Так. А о дальнейшем как мыслите?
— Дальше, как и в прежние годы, быть нам в верности ему, великому государю. И в том мы крест и святое евангелие целовали, что служить нам великому государю верно и непоколебимо.
— О верности говорите, а что делаете? Государевых посланцев, князя Юрия Долгорукого, брата моего, и иных, убили до смерти. Войскам великого государя противитесь. Замыслы свои воровские не оставляете.
— В том мы виноваты, просим отпущения вин своих и ожидаем к себе от великого государя премилосердного указу.
— О том великому государю известно. А вам для верности прислать к нему, великому государю, от всего Войска Донского из знатных старшин и казаков и с ними против ево великого государя указу прислать на письме отповедь за руками. И велеть им явитца в полкех мне, майору, где буду обретатца, немедленно в скорых числех безо всякого опасения.
— Благодарствуем, господин майор. А ты уж, сделай милость, будь предстателем нашим перед великим государем царем Петром Алексеевичем.
— Буду писать о том великому государю и вашу отписку отошлю тот же час. А великий государь милосердно на вас призрит, и вы против отписки своей ожидайте от великого государя премилосердного к себе указу, опасения и страху себе не имейте.
После того разговора Долгорукий направил от себя грамоту «на Дон в Черкаской и во все нижние и верхние юрты по реке Дону и по Хопру, и по Бозулуку, и по Медведице, и по иным запольным речкам всех станиц атаманам и есаулам, и старшине, и всем рядовым козаком». Характерно, что здесь не названо, как это обычно делалось, имя войскового атамана — власти не признавали законность избрания Кондрата Булавина, считали его мятежником, «вором». Долгорукий извещает Войско Донское, что он послан из армии Петром:
— Велено мне быть со всеми москвичи, с стольники, с стряпчими, з дворяны и с царедворцы, и со всеми городовыми и всяких чинов ратными людьми, и с конными драгунскими и с пешими салдацкими и з слободцкими черкаскими, и с кумпанейными полками, и гетманскими многими региментами на Украине командиром. И во все украинные городы по имянному ево великого государя указу посланы к воеводам грамоты, велено во всех городех на Украине воеводам быть мне во всем послушным.
Впрочем, Долгорукий свой железный кулак, который показывает донским мятежникам, прячет пока в бархатную перчатку:
— И я к вам пишу надежно, что великий государь, памятуя прежняя ваши услуги, милосердно на вас призрит. И для верности к вам послан сей великого государя указ за подписанием руки моей.
Еще более осторожно, даже елейно пишет в Черкасск Шидловский:
— Его царского пресветлого величества верным Войска Донского атаманом-молотцом, моим благодетелям, здравствовать вам обще желаю.
Сообщает бригадир о получении войсковой отписки из Черкасска «к полководцам»; копии с нее он отправил в Белгород к Голицыну и в Рыбный к Долгорукому. Снова речь идет о сосредоточении войск на Украине, приезде Долгорукого. Упоминает о показаниях одного пленника в Черкасске:
— А что вам в допросе сказал взятой волошенин Кожуховского полку Федор Хохлач, бутто мы посланы для разоренья ваших донских юртов, и то он сказал ложно; а у нас такова государева указу нет.
Утверждение Шидловского — откровенная ложь. Государев указ о разорении донских городков, причем жестокий и беспощадный, не только был, но и начал проводиться в жизнь Долгоруким и его подчиненными. Собственно говоря, и Булавин с повстанцами, и Петр с Долгоруким и прочими карателями, с одной стороны, говорили о мирных намерениях, лавировали, каждая сторона по-своему; с другой — делали то, что задумали, к чему стремились. Булавин в эти дни послал из Черкасска три войска для борьбы с царскими войсками. Петр и Долгорукий стягивают полки, чтобы по указу царя донские городки и деревни «жечь без остатку, а людей рубить».
Булавинцы в мае и июне рассылали свои воззвания в разные стороны, поднимали на восстание новые массы людей, разгромили Сумский полк, взяли Дмитриевск на Камышенке, Царицын, осаждали Саратов. Готовились к походам на другие города, вплоть до Москвы.
Долгорукий регулярно информирует царя Петра о всем происходящем в районе восстания. Пишет воеводам, передвигает полки, торопит те, которые только подходят с севера. Сам князь не может быстро выехать из Воронежа в Острогожск и далее на Валуйки:
— А замедление, государь, мое за полками, также и за подводами. А естьли бы, государь, как я приехал майя 12-го числа на Воронеж, не токмо, чтобы все были в готовности, хотя бы меньши половины было, я бы без всякого мешкания того ж часу пошел. И коево часу я приехал, того часу послал указы к Волконскому, к Гагарину и к другим, чтоб они немедленно шли в указанные места, куда от меня писано, и Ваш великого государя именной указ им объявил, что велено им меня слушать. И оне, государь, и по се число в указные места не бывали.
«С великою нуждою» Долгорукий собрал подводы и лишь в конце мая вышел из Воронежа в Острогожск. С ним пошли Бахметев с царедворцами, воронежский драгунский эскадрон, солдатский полк Неклюдова. Цель его — поход к Азову:
— И к нему, губернатору (Толстому. — В. Б.), я писал что иду я к Азову с немалыми войски. Также писал, что я Ваше величество изволит поход свой иметь за ними к Азову немедленно.
Петр постоянно беспокоился о судьбе Азова и Таганрога, особенно после взятия Булавиным Черкасска. Однажды он сообщил Долгорукому:
— Дай знать в Азов, что ты идешь туда с немалыми людьми. Также дай слух, что и я буду туды.
Указание царя начали выполнять, чтобы воздействовать на восставших — предполагаемый приезд самого Петра на театр военных действий должен был внушить страх, показать, что борьбе с повстанцами власти придают большое значение, не меньшее, чем войне со шведами.
Долгорукий пришел в Острогожск. Снова его задерживают хлопоты с подводами, провиантом, задержкой подкреплений. Не без юмора говорит он о прибытии царедворцев из Москвы:
— А царедворцев, государь, всего записалось 4 человека... А которые, государь, царедворцы приехали — 2 брата Дуловы да 3-й Жуков, лет они будут по 90 и паралижем (параличом. — В. Б.) розбиты. И которые, государь, уедут с Москвы царедворцы, сказывают про них куриеры, что все старики, которым служить невозможно. И не знаю я, что мне с ними делать.
Взяв с собой на месяц провианту, Долгорукий двинулся в начале июня к Валуйкам. Князь рассылает по Дону увещательные письма к повстанцам, чтобы они отстали от движения. Следует приказу Петра «ласково поступать» с теми из них, кто принесет повинную, и не мстить «смерти брата своего». В частности, после получения повинной от Войска Донского из Черкасска он задержал казнь 143 пленных булавинцев, захваченных Бахметевым:
— И мне, государь, какая то польза, что смерть брата своего мстить. Я, государь, желаю того, дай бог, чтобы они тебе, великому государю, вину свою принесли без великих кровей.
Командующего смущает ненадежность Полтавского полка, возможность объединения полтавцев с запорожцами и «ворами» — донцами. Полтавскому полковнику велит вести своих к Валуйкам, «будто жалея их, что у них провианту нет, чтоб шли для приему провианту. А как они придут, и я их поставлю межь своих полков и буду над ними смотрить, чтоб не мошно было им бежать». А Шидловский должен был смотреть «недреманым оком, как бы не пропустить запорожцов к соединению с ворами».
Солдаты, пришедшие с Долгоруким из Воронежа, по его словам, «зело изрядно стреляют для того, что солдаты старые»; а полки фон Делдина и Давыдова «зело плохи и ненадежны. И как ко мне пришли, и до моево приходу ни однова не стреливали; и офицеры зело плохи, ничего не знают».
Снова Долгорукий сетует по поводу четырех царедворцев:
— И то все старики и паралижем розбиты.
Просит царя послать новый указ, чтобы собрали и выслали остальных царедворцев, которые сидят в приказах и канцеляриях у дел:
— А они, государь, зело нужны на етех воров и на противников. Извесно тебе, государю, самому, каковы донские казаки — нерегулярное войско. А царедворцы на них зело способны будут... На шведов они плохи, а на етот народ зело способны.
6 июня Долгорукий пришел под Валуйки. К нему здесь присоединились солдатский полк Нелидова, стрелецкий Колпакова, курчане и белогородцы полковой сотенной службы. Он устроил им смотр. Сумский полк, тоже выделенный в его распоряжение, стоял на реке Уразовой, в 15 верстах от Валуек. Вскоре булавинцы разгромили его, и Долгорукий, получив о том известие, поспешил к месту сражения. Но, отойдя от Валуек верст с пять, узнал, что повстанцы «отошли верст с 30 и больши». Принял решение вернуться к Валуйкам:
— И мне их никоторыми делы догнать было невозможно для того, что я иду обозом, а конных драгун послать было невозможно для того, что у них конница лехкая и многолюдно, и при них же и запорожцы.
Сообщает князь царю о словах, сказанных ему казаками Сумского полка, потерпевшего поражение от повстанцев:
— А которые, государь, выходцы сумские вышли ко мне и сказывали: слышали-де они от них, воров, что говорили они, воры, чтобы им на меня ударить. И я, государь, по тем их словам жду их во всякой осторожности. И по се, государь, число они не бывали. А по ведомости, государь, сказывают их гараздо людно. Атаманами у них: первой — Драной, другой — Беспалой, а полки у них у всяково особые.
Узнал майор и о присылке к Драному посланца от Булавина:
— И ведомость, государь, такая есть через Шидловского и через других, что, конечно, к ним будет вор Булавин сам вскоре с полками.
В связи с этим он испрашивает у Петра инструкции:
— Что повелит Ваше величество мне делать: к Черкаскому ль итти или украинные городы оберегать?
Долгорукий планирует объединение своих полков с бригадой Шидловского. Полк Андрея Ушакова, подходивший к Изюму, должен идти к Азову, и князь велит ему пока обождать, не выступать прежде, чем удастся выяснить, можно ли двигаться к Азову, поскольку, по словам самого Ушакова, «от воров пройти не без страху».
Воеводы-каратели с немалым опасением следили за действиями повстанцев, вели себя осторожно. Их командующий ожидал подхода самого Булавина с полками и потому готовился к обороне украинных городов. Правда, от Толстого он получил обнадежившие его известия: у Булавина в Черкасске осталось менее двух тысяч человек; казаки из верховых городков «разбежались все по домам, опасаючи приходу наших полков. И с такими, государь, малыми людьми итти ему под Азов невозможно». Азовский губернатор не раз уже получал вести, в том числе и из Черкасска, от казаков-заговорщиков, о предполагаемом походе Булавина на Азов. Но посылка войск Драного, Некрасова и других атаманов существенно уменьшила силы повстанцев в донской столице, распылила их. К тому же Булавин направлял новые подкрепления своим атаманам, и бывало так, что у него самого оставалось всего пять-шесть сотен человек. Но появлялись новые, и силы его увеличивались. Одни уходили домой, другие, наоборот, покидали родные очаги и шли в войско Булавина.
Силы повстанцев, их успехи в мае — июне производили соответствующее впечатление, в том числе и на карателей. Долгорукий после разгрома восставшими Сумского полка приходит к выводу, что от булавинцев вряд ли дождешься покорности; с ними нужно расправляться так, как царь указывал в первых своих весенних распоряжениях («жечь без остатку, а людей рубить»); да вот беда — войск мало:
— Ежели бы, государь, довольно у меня было войска легулярного, по здешнему, государь, состоянию смотря, конечно, надобно в их воровские городки вступить и чинить против твоего государева первого письма. А что, государь, писали они (Булавин с повстанцами. — В. Б.) отписки до Вашего величества с покорением, и то, государь, все воровством своим поступали обманом и явно, государь, воровство свое оказали над сумским полковником.
Долгорукий выпрашивает у царя новые полки:
— На Украине, государь, есть у Неплюева 5 полков салдацких. Ежели бы там они были не нужны, зело бы мне были способны на здешних противников. Только, государь, я чаю, по здешнему смотря, что без них на Украине быть невозможно для того, что опасно от запорожцов; и там быть без людей неможно.
Правда, майор с радостью узнал, что по указу Петра и «по отправлению» Меншикова к нему от Могилева, то есть из действующей армии, идет полковник Гаврила Кропотов с двумя драгунскими полками. Долгорукий по-прежнему стоит обозом около Валуек, собирает провиант и подводы, ждет подкреплений. Неделю спустя после его прихода к Валуйкам к нему привели двух донских казаков. Майор встретил их строго:
— Кто такие?
— Из Донецкого городка казак Степан Тимофеев Кандратьев.
— А ты?
— Федор Павлов. Из того ж городка.
— С чем явились?
— Привезли отписки Войска Донского. Одна к великому государю, а другая — к полководцам.
— Опять отписки! Майор развернул их, бегло глянул. — О верности государю пишете, с покорением. Только за таким вашим просительным челобитьем и обещанием являетца ваша неправда!
— Какая, господин майор? Мы, казаки Донецкого городка, и иные многие как служили верно великому государю, так и впредь служить готовы.
— Правду говорите?
— Правду, господин майор. Вот тебе крест святой, ей-ей не врем!
— Ну, хорошо. Рассылал я увещательные письма по городкам. В вашем городке такое письмо получили? Читали?
— Получили и читали. И, радуючись тому, служили молебен.
— Вон как... А государевы запасы, провиант, который в городке, целы?
— Целы, господин майор, И по се число мы тот провиант не тронули.
— Хорошо. Правильно делаете. Не так, как другие ваша братья. Про Луньку Хохлача, который против Степана Бахметева ходил, знаете?
— Знаем. По того Луньку из Черкаского была присылка, и взят он к розыску. И другие казаки, которые лошадей отгоняли, тоже присланы к розыску — в Донецкий городок.
— Слышать о том мне утешительно. Что будет по тем розыскам, мне знать надобно. — Майор помолчал, пытливо глядя на казаков. — Мне говорили о Донецком городке, что вы, тамошние казаки, к воровству не приставали, пушки ворам не дали. Сие зело похвально. Но... — он снова бросил на них острый взгляд. — Вот привезли вы отписки войсковые с обещанием и покорением. А вы знаете, что Драный, Беспалый и Голый учинили над Сумским полком и его полковником? Где же ваша правда?
— Мы ничего не знаем, господин майор. Ей-богу, не знаем.
— Не знаете? Что товарищи ваши Драный и другие, собрався многолюдством, пришед за Валуйкою на речку Уразову, воровски разбили Сумского полку обоз? А самого полковника, старшин и казаков многих побили до смерти безвинно, а иных ранили и в полон взяли? Кони, ружье и пожитки, которые были при них, забрали без остатку. А иные воры под Усердом конские стада отогнали и во многих местах разорения чинят. Ничего этого вы не знаете, господа казаки?
— Ничего не знаем. И слыхать не слыхали. От тебя первого весть получили. И о том скорбим скорбию великою.
— Не знаете? — недоверчиво протянул князь, но не стал настаивать, помня о наказе царя о снисхождении к лояльным казакам. — Ну, хорошо. Отписку Войска Донского к его царскому величеству пошлю я немедленно через установленную почту. А на ту, которую послали к нам, полководцам, отпишу сам сегодня же в Войско Донское, в Черкаское. Вы подождите малое время.
— На том благодарим, господин майор.
Прошел час-другой, и казаки вновь предстали перед Долгоруким:
— Вот грамота в Черкаское и во все донские станицы. Сверх того листовного к вам, казакам, писания, должны вы донести словесно: всему Войску Донскому любительно я отзываюся и отдаю звычайный поклон.
— Спасибо, господин майор. — Донцы поклонились. — Все обскажем, как ты приказать изволил.
— И еще: скажите на словах, чтобы впредь такую неправду не оказывали. Когда просите у великого государя милосердия и винам своим отпущения, то делать так, как над Сумским полком учинили, ненадобно. Ведь если бы от великого государя по моему доношению какой склонности не было, то уже бы его государские ратные люди со всех сторон на вас давно наступили и в городках ваших было бы не без разорения. Однако ж то все моим доношением по се время удержано и разорения никакого не учинено, покамест вы по обещанию своему ему, великому государю, будете в совершенной верности.
— Передадим, господин майор, все слово в слово.
— Далее, — голос князя звучал твердо и резко, — Семена Драного, и Беспалого, и Никиту Голого, и иных своевольцев, которые без вашего войскового совету то чинили, взять и ко мне прислать. А как вы их ко мне пришлете, и то вам будет во оправдание и во всем очистка. И за такую верную вашу службу от него, великого государя, получите себе пребогатую милость и жалованье.
— Все сделаем. Нам можно ехать, господин майор?
— Сейчас поедете, господа казаки. — Долгорукий открыл кошель. — Вот вам по рублю. Поезжайте, никакого задержания вам не будет. Да передайте казакам Донецкого городка от великого государя и от меня похваление.
— Спасибо, господин майор. Христос тебя сохрани. А мы завсегда служить великому государю ради, как отцы и деды наши служили.
— Ну, хорошо. Ступайте.
Казаки поклонились и пошли к выходу. Долгорукий задумчиво смотрел на них. Не удержался, сказал вдогонку:
— А ваша станица лутче иных.
Князь выделил этих казаков потому, что они были из Донецкого городка, который, в отличие от большинства других, не склонился, как считал князь, на сторону Булавина. Главное же — он в соответствии с инструкцией царя продолжал проводить «политику пряника» по отношению к Войску Донскому. Петру в предвидении решительных действий против шведов хотелось развязать руки на «внутреннем фронте» — в борьбе с восстаниями па Дону, в Башкирии и других местах. Этим и объясняется примирительный тон Долгорукого, его обещания на тот случай, если булавинцы одумаются и прекратят борьбу. Обе стороны ведут свою линию — собирают силы, готовятся к схваткам; Булавин уверяет в верности и послушании царю, а Долгорукий как будто не сомневается в его искренности и журит повстанцев за некоторые нарушения верности. Интересно, что посланцев к Долгорукому Булавин выбрал из казаков Донецкого городка, «непослушного» новым черкасским властям и вроде бы лояльного к Москве. Этот жест должен был продемонстрировать лояльность самого Булавина и повстанцев. Но никого это не могло обмануть.
Долгорукий, Толстой и прочие воеводы каждый день получали, в том числе и из Черкасска, все новые известия о действиях и планах Булавина, его переписке с Запорожской Сечью, Ногайской ордой, кубанскими казаками. Азовский губернатор ожидает прихода повстанцев к его городу. Другие воеводы опасаются нападений булавинцев на Валуйки, Изюм, придонские и поволжские города.
Долгорукий приказывает Шидловскому немедленно послать в Азов солдатский полк Андрея Ушакова, усилив его 500 казаками из черкасских (украинских) полков. Сообщая о том царю, делает характерную приписку:
— И писал к нему (Шидловскому. — В. Б.): буде мошно, всеконечно б его отправил, ежели страху нет. А буде невозможно и страх есть, то бы подождал господина Кропотова.
Полк Кропотова подходил к Белгороду, и Долгорукий торопит полковника, «чтоб он шел днем и ночью немедленно прямо на Изюм, а с Изюма з драгунскими полками, и з салдацкими, и с вышеписанными черкасы прямо к Троецкому».
В Азове и Троицком, что недалеко от Таганрога, обстановка была тревожной, хотя Толстой и бодрился. Он прислал к Долгорукому капитана Ивана Семенова в сопровождении десяти солдат, и тот, по приказу начальника, уверял:
— В Азове и в Троицком за помощию божиею жилые салдацкие полки и казаки, тамошние жители во всяком добром состоянии. Приказал мне губернатор Толстой словесно донесть, что оные служивые люди все, которые обретаютца ныне в Азове и в Троецком, великому государю верны и надежны, и к нынешнему булавинскому случаю худого намерения от них по се число не было и впредь не чает.
Но по дороге на Валуйки к Долгорукому капитан не раз видел со степных курганов, «выше луганских и маяц ких вершин», булавинские сторожи из двух или трех казаков-повстанцев. В разговоре с майором Семенов настойчиво просил разрешения ему и сопровождавшим его десяти солдатам дождаться в Изюме полки Кропотова. Князь удивился:
— Для чего?
— Для того, что со мной приехали в провожатых солдаты из Азова и Троицкого. Надобно, чтобы они со мной те кропотовские полки видели и с Изюму с ними хотя полдни или день шли вместе.
— Ну?
— И чтоб потом мы поехали с подлинною ведомостью, что полки с Изюма к Троицкому пошли, и тем бы обнадежили губернатора и солдат.
— Ты сам и без дожидания тех полков можешь о том сказать губернатору и солдатам.
— Верно, господин майор. Но солдаты своей братье о походе тех полков поверят больше.
Положение в Азове было не таким спокойным, как изображал губернатор. Не только сюда бежали от Булавина казаки-изменники, из богатых и боязливых, но и из Азова в Черкасск уходили недовольные, те, кто сочувствовал Булавину, хотел вступить в его войско. Среди азовских солдат тоже ходили всякие разговоры и слухи.
Долгорукий ведет себя весьма осторожно и осмотрительно, поскольку чуть ли не каждый день слышит, что повстанцы «хвалятца итти» на него. Под Маяки, около которого стоит войско Драного, посылает драгунский полк Мещерского в тысячу человек. В обоз под Валуйки к командующему подходят новые силы — царедворцы, драгуны Яковлева, Волконский с двумя ротами драгун и двумя же ротами полка Гулица. Гулиц собирается идти к Азову, губернатор которого просит подкреплений, поскольку Булавин «в Черкаском чинит часто круги и наговаривает козаков итить к Азову и к Троецкому войною и всяко желает воровства своего умножить». Толстой убеждает царя:
— А что к Вашему величеству является оный вор с повинными письмами, и сему, государь, верить ненадобно, понеже то чинит под лукавством, одерживая полки (царские войска. — В. Б.) ко продолжению времени своего воровства.
Губернатор сообщает об аресте племянника Кондрата Булавина — «Левки Екимова сына Буловина», которого дядя посылал вместе с И. Некрасовым на Хопер против Бахметева, а потом — с ним же и Хохлачом на Камышенку и к Саратову; «и ехал от них с ведомостью в Черкаской к дяде своему Кондрашке. И ныне он, Левка, держитца в Троецком за крепким караулом».
О сборе Булавиным казаков для похода на Азов Долгорукий, уже на исходе июня, сообщает Петру. Сам он вместе с Шидловским хотел идти к Азову. Но его остановил новый царский указ:
— Больше над казаками и их жилищами ничево не делать. А войско збирать по прежнему указу и стать в удобном месте.
Солдат Пашков, приехавший с указом Петра, добавил словесно, что его величество изволит идти на Воронеж. До конца июня царь не оставляет мысли о том, что ему самому нужно поехать на фронт военных действий против Булавина. Делится со светлейшим сим замыслом:
— Необходимая мне нужда месяца на три туды ехать.
Но выехать в Воронеж царю не удалось — отвлекли дела, связанные со «шведом». Вместо Воронежа выезжает 25 июня в армию. Шлет письма Шереметеву:
— Скоро буду к вам. И прошу, ежели возможно, до меня главной баталии не давать.
По пути в Белоруссию царь заехал в Нарву, где отметил свои именины — фейерверком на воде. Затем направился к Великим Лукам и здесь 5 июля получил весть о сражении под Головчином за два дня до этого — военные действия возобновились, и произошло неожиданное и малоприятное для русских событие.
Карл XII возобновил движение на восток, имея целью Москву.
По-прежнему, одержимый манией величия, он жаждал свергнуть Петра, заменить его Яковом Собесским. Север и северо-запад России, в том числе Новгород и Псков, отойдут к Швеции; Украина и Смоленщина — к «состряпанному» им польскому королю Лещинскому, причем в Киеве будет сидеть вассал последнего «великий князь» Мазепа; южные русские земли предназначались им туркам, крымцам и прочим сторонникам. В России, говорил Карл Лещиискому, будут отменены все реформы, распущена новая армия, воцарятся старые порядки; здесь он непреклонен:
— Мощь Москвы, которая так высоко поднялась благодаря введению иностранной военной дисциплины, должна быть уничтожена.
Королю грезилось, что Россия будет обращена вспять — ее растащат на куски, отбросят от Балтики (Петербург — стереть с лица земли!), а сам он будет верховным судьей во всем, что происходит от Эльбы до Амура. Для этого необходимы решительное наступление и генеральное сражение. Карл вел армию в 35 тысяч солдат, опытных, закаленных и прославленных воинов. За нею двигалось войско Левенгаупта в 16 тысяч с огромным обозом.
Речь шла, таким образом, о национальном существовании России как государства, его жизни или смерти. До сих пор Петр, его полководцы и войска действовали успешно, осмотрительно, хотя и случались неудачи. И вот теперь — Головчино, в Белоруссии. На корпус Репнина напало войско Карла. Из восьми тысяч сражавшихся русских солдат немало осталось на поле боя; шведы, действовавшие более успешно, потеряли меньше. Репнин отступил, хотя разгрома и не потерпел. Петр вскоре узнал, что несколько русских полков во время сражения отступили в беспорядке, их пушки достались шведам. Другие оказывали сопротивление врагу, но вели бой «казацким, а не солдатским» обычаем. На этот раз, в отличие от более раннего неприятного случая с Шереметевым, царь не проявил снисходительности — враг подошел с главными силами к России, и небрежность, неумение могли ей обойтись очень дорого. Он распорядился предать военному суду Репнина и Чамберса — боевых генералов, к которым до сих пор относился с немалым уважением, считался с их мнением. Лишь отвага, проявленная Репниным во время сражения, спасла его от смерти — генерала по решению военного суда разжаловали в солдаты (вскоре, в сражении при Лесной, он снова покажет себя храбрецом и вернет себе чин и должность). Чамберса отстранили от должности, но звание генерала ему, человеку престарелому, сохранили.
Сражение под Головчином — успех для шведов, тоже понесших большие потери, невеликий. Но он способствовал дальнейшему ослеплению короля. Для русской же армии это был полезный урок, и Петр извлек из него все, что только можно. Он устроил показательный суд над генералами. Затем составил «Правила сражения» — в них речь идет о взаимодействии разных родов войск в сражении, стойкости и взаимовыручке солдат:
— Кто место свое оставит или друг друга выдаст и бесчестный бег учинит, то оной будет лишен живота (жизни. — В. Б.) и чести.
Карл, несмотря на всю свою самоуверенность и самовлюбленность, не может достичь чего-либо существенного. Его армия, не получая припасов в выжженной и разоренной местности, которую оставляют русские, идет медленно, долго стоит на одном месте (например в Могилеве — целый месяц). Король ожидает прибытия Левенгаупта с обозом — у него много продовольствия; да и 16 тысяч солдат — помощь немалая. Сначала шведы сидели в Могилеве, по выражению Петра, «тихо», поскольку «голод имеют великой». Русское 25-тысячное войско стояло к северо-востоку от города, в Горках.
Царь, занятый военными заботами, не упускает из виду и донские дела. За прошедший месяц там, у Долгорукого, многое изменилось. Командующий по приказу Петра получил подкрепления: помимо полка Кропотова, еще Ингерманландский, Бильсов, гвардии майора Глебова батальон Преображенского полка. В конце концов под началом Долгорукого собралось 32-тысячное войско — ненамного меньше русской армии, действовавшей под Нарвой в начале Северной войны (40 тысяч человек)! С такой армией Долгорукий вполне мог выступить против войск какого ни есть иноземного неприятеля.
Между тем командующий медлил — ожидал еще не подошедшие полки, приезда государя. Впрочем, в последнем он не очень уверен, испрашивает у царя указ, поскольку его уже сильно беспокоит промедление в решительных действиях против Булавина:
— А ежели не изволишь итти, изволь указ ко мне прислать немедленно, что делать, чтобы не дать вору продолжением (замедлением. — В. Б.) нашего походу в силу войти и чево бы он воровством своим за продолжением нашим не учинил бы над Азовом и над Троицким, от чево боже сохрани!
Прелестная грамота К. А. Булавина.
Царицын. Гравюра начала XVIII века.
Воронеж. Верфи. Гравюра начала XVIII века.
Саратов. Гравюра XVIII века.
Астрахань. Гравюра начала XVIII века.
Московский Кремль. Гравюра начала XVIII века.
Петербург. Гравюра XVIII века.
Петр I.
А. Д. Меншиков.
Вооружение и обмундирование русской армии 1700—1732 годов.
Д. М. Голицын.
Гвардейские гренадерские офицеры 1705—1732 годов.
Указ местным властям об оказании поддержки полковнику Кропотову, посланному против отрядов Булавина.
«Пункты» А. Д. Меншикова полковнику Кропотову.
Наказ полковнику Кропотову, посланному на борьбу с отрядом Булавина.
Артиллерийский обстрел.
Артиллерия. Гравюра XVIII века.
Ведомость 1708 года с сообщением о разгроме Булавина.
Петр I. Гравюра XVIII века.
Воскресенский собор.
Старочеркасск.
Долгорукий собирает подводы, отдает указания воеводам и командирам. Тем из них, которые еще не пришли к нему в соединение, велит собираться в Острогожске, охранять воронежский флот и Украину. Сам собирается идти к Бахмуту против Драного, Беспалого и Голого. Для того нужно соединиться с Шидловским и другими:
— А Кропотову, государь, и Гулицу с их треми полками пройти невозможно одним без нас для того, что на заставах воры стоят — Драной, Беспалой, Голой — многолюдством с воровскими своими войски. Также, государь, и путь им надлежит мимо их воровских городков, которые на Бахмуте. А на Бахмуте, государь, кроме тех воров, многолюдно. И для того со всеми вышеписанны-ми я, соединясь, пойду на них, воров, прямо.
Петру же сообщает А. Ушаков, пришедший со своим полком в Изюм для следования к Таганрогу:
— ...Доношу вашему величеству: больши удержаны мы под Ызюмом чрез письма господина маеора Долгорукова, что меж здешним народом зело стало слабо; и обдержаны они (местные жители. — В. Б.) страхом, как оные воры разбили Сумской полк. Ис того полку иные принуждены быть с ними, ворами, заедино.
О ненадежности положения среди местных жителей Ушаков говорит верно, в отличие от его же уверения о том, что «иные» из Сумского полка присоединились к повстанцам Драного по принуждению. На самом деле Драный и другие атаманы разбитых и плененных казаков Сумского полка не приневоливали: кто хочет, оставайся с нами; кто не хочет, идите к себе домой. Об этом рассказывали Долгорукому некоторые из старшин, отпущенные вместе с другими из лагеря Драного.
Петр, убедившись, что верности и покорности от донских повстанцев не дождешься, снова переходит к политике кнута. Из Нарвы, за день до своих именин, к которым готовилась огненная потеха на реке, он диктует указ Долгорукому:
— Господин маеор. Письма ваши до меня дошли, ис которых я выразумел, что намерены оба полка, то есть Кропотов драгунской и пешей из Киева, у себя держать. На что ответствую, что пешему, ежели опасно пройтить в Азов, то удержите у себя; а конной, не мешкав, конечно, отправьте в Таганрог.
Далее переходит к главному:
— Также является из ваших писем некоторая медление, что нам не зело приятно. И когда дождетесь нашего баталиона (из Преображенского полка. — В. Б.) и Ингерманландского и Билсова полков, тогда тотчас подите к Черкаскому и, сослався з губернатором азовским, чини немедленной з божиею помощию промысл над теми ворами; я которые из них есть пойманы, тех веди перевешать но городам украинским. А когда будешь в Черкаском, тогда добрых обнадежь; и чтоб выбрали атамана доброго человека. И по совершении оном, когда пойдешь назад, то по Дону лежащие городки тако ж обнадежь, а по Донцу и протчим речкам лежащия городки по сей росписи разори и над людьми чини по указу.
Это было повторение прежнего указа — «жечь» и «рубить» без всякой пощады. Роспись, о которой упоминает царь, отличается точностью, неумолимой и жестокой:
— Надлежит опустошить: по Хопру сверху Пристанной по Бузулук. По Донцу сверху до Лугань, По Медведице по Усть-Медведицкой, что на Дону. По Бузулуку все. По Айдару все. По Деркуле все. По Калитвам и по другим запольным речкам все. По Илавле по Илавлинской. По Дону до Донецкого надлежит быть, как было.
Царский гнев, точно отразивший жгучую ненависть всего шляхетства российского к донской либерии, которая взяла под защиту беглых из Руси крестьян и прочих гультяев, обрушился на места наиболее активных действий повстанцев — казачьи городки по левым притокам среднего Дона (Хопер, Бузулук, Медведица, Иловля), по верхнему и среднему Донцу, его левым притокам «запольным речкам» (Айдар, Деркула, Калитвы и другие).
Долгорукий активизирует свои действия — погоняет идущие к нему полки, Кропотова и Гулица торопит, чтобы к Троицкому «немедленно шли днем и ночью». Посылает повсюду свои разъезды — следить за булавинцами. Жалуется Шидловскому:
— А я походом своим позадержался за тем: ожидал к себе денежной казны с Воронежа и правианту с Коротояка на дачю ратным людем, которым довелось дать. А паче же из городов нерадением воеводцким в подводах мешката самая вящея и олтилерных припасов, без чего в походе пробыть невозможно.
Сам поход князь собирается начать в первый день июля. Тогда же к нему в обоз Тевяшов, острогожский полковник, прислал ведомость строителя Донецкого монастыря Ионы — духовный пастырь подробно информирует о положении в Черкасске, из которого Василий Фролов со многими казаками ушел в Азов и «угнал войсковой табун коней от Черкаского»; о действиях Некрасова под Саратовом, Хохлача в Камышине, Павлова под Царицыном. Павлов после неудачи у Царицына присылал своих людей в Донецкий городок «брать пушек и ядер и огнянок». Но атаман Микула Колычев и другие казаки «станицею не дали». От Булавина привезли из Черкасска грамоту в Донецкий же городок, чтоб там «накладывали в будары запас государев и гнали б к Войску, что у них на острове (в Черкасске. — В. Б.) запасом скудно». Иона же пишет о действиях калмыков по Медведице, Бузулуку и Хопру. А Драный «собираетца и хочет итить под князя Долгорукова, а инии кажут: бутьто под Ызюмь. А подлинно собираетца». Далее — «воровские казаки», человек с 50, пошли под Воронеж и под Усмань «для коней»; повел их русский человек. «А к Войску (в Черкасск к Булавину. — В. Б.) велено итить з десятку по 3 человека; а не знать: для чего. А после им, бурлакам, велено итить к Царицыну».
Донос Ионы привез Тевяшову казак Тимофей Яковенко, специально посланный полковником в Донецкий монастырь «для ведомостей о ворах булавинцах». Тимофей побывал «тайным обычаем» и в Донецком городке. Собеседникам из местных казаков он выдавал себя за человека, который хочет приехать к ним в городок для продажи вина. Лазутчик поведал Тевяшову немало интересного и важного; причем в ряде случаев его сведения отличались от того, что описал строитель Иона в своей ведомости и что еще раньше говорили Долгорукому казаки из Донецкого городка, посланцы Булавина:
— Видел я в Донецком городке, — рассказывал Яковенко полковнику, — из Черкаского присланого казака Бориса Яковлева и с ним человек с 30 бурлаков.
— Зачем они присланы?
— Прислан он от Булавина для взятия пушек, и ядер, и хлебных запасов.
— И что донецкие казаки? Дали ему те пушки и хлебные запасы?
— Тот Яковлев шесть пушек поставил на станки для взятья с собою. Да для грузки хлебной конопатят будары. И две будары уже выконопачены и совсем готовы к груженью. А иные будары и лотки конопатят и, нагрузя хлебными запасы, погонят в Черкаской.
— А пушки?
— Про пушки слышал я, что будут ставить их по городкам, которые городки в приточных [29] местах.
— Много ли казаков в Донецком городке?
— Малое число осталось. Все высланы к Булавину. А достальные пошли на Хопер для обороны городков, которые в осаде от калмыков. Также и изо всех городков вышли казаки в Черкаской.
— О чем еще были речи с казаками?
— Тот Борис Яковлев, присланный от Булавина, и донецкой атаман и иные казаки спрашивали у меня: будет ли пришествие царского величества? И адмирал Федор Матвеевич Апраксин и Преображенской и Семеновской полки на Воронеж, также и х князю Василью Володимировичю Долгорукому полки идут ли?
— Что ты им ответил?
— Что царского величества и адмирала, и полков Преображенского и Семеновского на Воронеже ждут с часу на час. И про обыход его царского величества всякие припасы изготовлены давно. А х князю Василию Володимеровичю полки идут конные и пехотные непрестанно.
— Еще что слышал? Какое намерение имеет Булавин и иные воры?
— От строителя Ионы слышал я, что Булавин конечное намерение имеет, управясь с войсками, итить вверх по Дону на русские городы. А в Донецком и иных городков казаки и бурлаки хвалятца итить под Рыбной и под иные городы для отгонки конских стад в сих числех вскоре.
Из этих сообщений Долгорукий узнал важные для себя вещи. Казаки Донецкого городка, несмотря на некоторые прежние колебания, тоже склонились к единомыслию с Булавиным, помогают ему всем, чем могут, как и многие другие их собратья из иных городков. Булавин и его атаманы собирают людей, пушки, припасы, провиант для походов, борьбы с царскими войсками. Правда, известия о сборе полков к Долгорукому (в том числе двух лейб-гвардейских, что, впрочем, слухи преувеличили — к Дону шел только один батальон Преображенского полка), приходе самого царя и адмирала Апраксина смутили некоторых повстанцев — из Черкасска бегут домой казаки верховских городков, повинную Долгорукому принесли атаман Иван Наумов и казаки Сухаревой станицы, что под Валуйками, недалеко от лагеря карателей.
Долгорукий, получив в конце июня от Шидловского и его шпика известие, что «воры з Драным переправились Донец и конечно идут на меня», сообщает царю:
— И я, государь, сего числа пошел против их и буду чинить промысл, сколько господь бог помочи подаст.
Но майор по-прежнему жалуется царю на малолюдство: одни полки он посылает к Толстому для охраны Азова и Троицкого, другие медленно идут к нему, Долгорукому; к тому же «зело надобно оставить несколько (полков. — В. Б.) на Волуйке и по Украине для того, что тут люди зело шатки и ненадежны».
— Сего ж часа и минуты (было это 2 июля. — В. Б.), — лихорадочно дописывает Долгорукий донесение царю, — получил я письмо от брегадира Шидловского. Пишет, что вор Драной, собрався с войски, пришел к Тору и стал обозом. И я сего же часа и минуты пошел в поход к Шидловскому в соединение.
На западной окраине Войска Донского назревали решающие события. Булавин, понимая, что каратели готовят удар в районе Донца, а потом пойдут к Черкасску (для того и шлют полки в Азов — не только же для его охраны!), приказывает Драному с его войском выступить против Долгорукого. Так изображает, и не без оснований, ход мыслей и действий Булавина бригадир Шидловский в письме Меншикову:
— Вор Булавин, уведав о отправлении Гулицына полку в Азов, отправил от себя единомышленника своего вора Сеньку Драного против войск, которые у меня в команде, а паче, чтоб не пропустить вышеписанного полку к Тагань-рогу.
Одновременно каратели сосредоточиваются и на восточной окраине Войска Донского. Сразу же после начала действий булавинцев Хохлача, Некрасова, Павлова и других из Москвы рассылают распоряжения в поволжские города, от Нижнего Новгорода до Астрахани: быть от «воров» во всякой осторожности и готовности, сноситься между собой и помогать друг другу, охранять Волгу от булавинцев. Власти распорядились послать 500 солдат из «гварнизона московского» к Нижнему Новгороду «для безопасного от тех воров торговым и всяких чинов людей проезду», а также чтобы «чинить над ворами военный промысл» и для того ехать до Нижнего, Макарьевской ярмарки и до Казани.
Боярин князь Петр Иванович Хованский, подавлявший восстание башкир и татар, послал в конце июня по указу Петра на помощь Долгорукому полк Иуды Болтина. Он сожалеет, что сам не может пойти против донских «воров»:
— А намерение мое было, — пишет боярин царю, — чтоб с вором Булавиным видетца под Черкаским, да теперя неколи, потому что итти стало не с кем. А, окроме того драгунского полку, солдаты у меня в полку ненадежны. А буде поволишь тот полк поворотить или иные драгунские полки прислать, и я который час на Царицын приду, того часа под Черкаской пойду; только изволь в Азов к господину губернатору послать указ, чтоб прислал ко мне мождеры (мортиры. — В. Б.) и бонбы. А о том твое величество и сам известен, сколь далеко от Царицына Паншин (казачий городок на Дону, у переволоки на Волгу. — В. Б.). А лутче с ним, вором, отведатца под Черкаским, не упустя вдаль; только без драгунских полков итьти на нево мне невозможно.
Сам Хованский вскоре, в самом конце июня, «для отпору против воровских казаков булавинцов от Камы реки, с полками поворотясь, пошел и товарыщей своих, генерала-маеора Гульца да стольника Афанасья Дмитриева-Мамонова, с пехотными полками ис Казани отпустит в судах на низ Волгою рекою. А сам с конницею, пере-брався на нагорную сторону (правобережье Волги. — В. Б.), пойдет к Саратову или где будут воровские казаки являться и над ними поиск и промысел чинить станет».
В другом письме царю Хованский сетует:
— Да ты ж указал у меня взять драгунский полк и послать к господину Долгорукому. И я о том зело плачю: на что у меня надежда была, и та вся отнята. А что в письме твоем написано, что вор Булавин отправил на Волгу некоторую часть (своих повстанческих войск. — В. Б.), и я известую милости твоей: которая часть отправлена от вора Булавина на Волгу, и та теперя добывает зело крепко Царицын и с пушками.
Далее воевода пишет, что он сам и его «товарищи» с полками идут днем и ночью, сухим и водяным путем «на отпор не только против тех людей (которые осаждают Царицын. — В. Б.), и до самого вора Булавина, где сыщем. Только тебя прошу, дабы драгунской полк, который от меня взят, возвращен был ко мне, да еще в прибавку другой драгунской или иной какой полк, чтоб были не низовых (из Нижнего Поволжья. — В. Б.) городов».
Хованский довольно смело пишет к царю, хотя его отец четверть столетия тому назад сыграл немалую роль в событиях, связанных с восстанием в Москве, когда мальчик Петр, тогда десяти лет, натерпелся немало страху. Потрясение, которое он испытал и в дни Хованщины, и позднее, во времена «заговора Шакловитого» и стрелецкого восстания конца столетия, он помнил всю свою жизнь. С тех именно пор его временами, в минуты гнева, мучили конвульсии, у него дергалась голова. И своих врагов, в первую голову сестру-соперницу Софью, ее родственников но матери Милославских, их сторонников, а заодно и стрельцов-бунтарей он ненавидел люто и беспощадно, Правда, Хованский-отец, князь Иван Андреевич, которого прозвали Тараруем (пустомеля, пустобрех, хвастун), в их число не вошел. Его самого и сына Андрея, казненных по приговору Софьи, Петр, когда стал реальным правителем (после свержения сестры), не поминал недобрым словом. А одного из сыновей Тараруя, Петра Ивановича, не раз использовал на важных службах, неплохо к нему, члену боярской думы и исправному воеводе, относился. Этим и объясняется подобный тон писем-доношений князя Петра к царю-батюшке. Петр Хованский в чем-то унаследовал отцовские качества. Его хвастливость, к примеру:
— А вору Булавину, — заявляет он царю, — не только что против господина Долгорукова итьти, вряд ли и с нами управливатца.
Просит у Петра, чтобы Апраксин, астраханский воевода, прислал к нему, Хованскому, два полка, Смоленский и Казанский, на смену двум же его полкам, которые ему «ненадежны», а также астраханских драгун, дворян, детей боярских, мурз, табунных голов и татар — «а они мне нужны». Воевода заранее уверен в успехе (он только что усмирил восставших башкир):
— А буде бог поручит нам булавинцов, что мне над ними делать: к Москве к тебе их присылать или у себя по розыску указ им чинить? О том учини мне указ, не помешкав.
Петр посмеивался, слушая подобные ретивые слова из доношений Хованского («В батюшку Тараруя пошел!»), но его прыть и старание ценил. Долгорукий же, как царь иногда думал, морщась, что-то уж очень медлителен. Хотя понимал, что сам же его подчас удерживал, осаживал — не спеши, мол, с огнем и виселицами, остудись; что ж, жалко, конечно, брата Юрия, которого Булавин убил; но ведь дело-то какое тонкое: швед стоит на пороге, ко времени ли сейчас еще расхлебывать эту кашу с донской Либерией, крутая она слишком; может, без большой крови обойдется? Замирятся казаки, принесут повинную?
Но, поняв, что не замирятся, не согнут смиренно спину булавинцы, начал торопить и погонять своего лейб-гвардейца. Тот и сам старался вовсю, собирая и рассылая полки, обеспечивая их всем нужным для решительных схваток с повстанцами.
Булавин, его сподвижники, все повстанцы хорошо видели, что наступает час серьезных испытаний. Собрав большие силы, довольно, конечно, разношерстные по составу, вооружению, дисциплине, они смело выступили против карателей.
ГИБЕЛЬ БУЛАВИНА
С самого начала восстания его участников разъединяли разногласия. Главные их причины — неодинаковое социальное положение, противоположные стремления разных слоев казачества и их союзников, отсутствие единой и крепкой организации, разнородность повстанческих сил, пестрота участников, их сословные ограниченность и эгоизм. Среди казаков — главной и наиболее организованной части восставших — еще в пору выступления против Юрия Долгорукого одни шли за Булавиным, другие вешали и топили их в воде. То же продолжалось и в пору подъема движения. Но волна народного гнева смела одних домовитых и их сторонников, других заставила смириться, затаиться или даже увлекла их, ненадолго, впрочем, за собой. От рук булавинцев погибли не только черкасские старшины во главе с Лукьяном Максимовым, но и их собратья по другим донским городкам. Значные типа Зерщикова, Поздеевых и многих других, их сторонники выступали якобы вместе с восставшими, на деле же были их временными попутчиками. Их цель — использовать движение голытьбы для сохранения своих экономических и политических позиций в Войске Донском. И они, и многие иные казаки всегда были прагматиками: на чьей стороне сила, тому и служить надобно. То они, домовитые, — верные помощники Максимова, то, после его казни и победы Булавина, становятся есаулами нового войскового атамана, выступившего за «старое поле». Но, как говорится, сила силу ломит — угроза со стороны «Руси», царя и его полков, диктует прагматикам из домовитых поиски другого выхода, что неизбежно ведет их к разрыву с гультяями, которых возглавил Булавин, к предательству. То же думают и делают и другие казаки, в том числе и из верховских городков, — недаром многие бегут из Черкасска к своим куреням; их гонит туда не только голод («испроелись»-де в войске у Булавина), но и страх возмездия от царских «полководцев», самого грозного государя-батюшки, который, слышно, сам, своей царской особой, едет то ли в Воронеж, то ли в Азов. А это не шутка: полетят головы, как у стрельцов в Москве-матушке!
Наиболее стойкими казаками показали себя в дни восстания гультяи из новопришлых, беглых казаков, наемных работников, которых на Дону звали бурлаками, из русских и украинских крестьян, работных и мелких служилых людей из Подонья и с Волги, всяких неустроенных и нищих людей. Именно они составляли подавляющее большинство и главного повстанческого войска, и сермяжно-казацких ратей Драного и Беспалого, Голого и Хохлача, Некрасова и Павлова, других булавинских атаманов. Повстанцы выделяли из их числа Драного и Некрасова, считая их главными помощниками Булавина. Правительственные документы, каратели считали «главным вором» Игната Некрасова. Ход восстания очень ярко показал выдающееся значение этих двух сподвижников Булавина: первого — Драного, главного героя победы под Валуйками над Сумским полком, которого, как вожака восстания, неустрашимого и последовательного, некоторые из его участников ставили даже выше, чем Булавина; второго — Некрасова, стойкого, убежденного раскольника, врага всех угнетателей, продолжателя дела Булавина и булавинцев.
...Уже несколько дней после избрания Булавина войсковым атаманом старшины пяти черкасских станиц (Черкасская, Средняя, Павловская, Прибылая, Дурная) собрали тайный совет. Присутствовали Зерщиков, два Василья Поздеевых — Большой и Меньшой, Василий Фролов, Тимофей Соколов, Иван Юдак (Юдушкин), Никифор Плотников, Степан Просвирнин, Кузьма Минаев, Ян Грек — все из Черкасска; Кирилл Нос из Бирской станицы, Максим Иванов из Кагальницкой и другие «знатные казаки», всего человек двадцать. Они от имени полутысячи своих сторонников, которых сумели тайно привлечь на свою сторону, вели речь о том, как противодействовать Булавину и повстанцам. Старожилым, значным казакам не нравились планы восставших — идти на Азов, другие русские города, вплоть до Москвы, побивать бояр, всех начальников, богатых и знатных, которые «неправду делают». Пугала их голытьба, которая на кругах в Черкасске чуть ли не каждый день кричала против «природных», домовитых казаков, требовала их побить, их пожитки раздуванить. Непосредственная угроза их жизни и имуществу сплотила домовитых, старожилых. Они, поддерживая до времени Булавина, надеялись, что он отобьет охоту у царских карателей возвращать на Русь их работников из беглых. А тут получается совсем иное — эти самые беглые, гультяи из гультяев, подымают руку не только на царских посланцев, но и на своих хозяев из домовитых казаков. Тут уж не до единочества с «ворами» и их атаманами! Подальше от них! А еще лучше — избавиться и от Булавина, и прочих «союзников». К тому же новый войсковой атаман был не из их среды, не из знатных черкасских старшин.
— Господа казаки! — Зерщиков, душа и глава заговора, говорил тихо и вкрадчиво. — Не будем говорить, что сталось с прежним атаманом Лукьяном Максимовичем и его товарищами. Что было, то прошло. Над всеми нами топор висел. Да и сейчас...
— Верно говоришь, Илья Григорьевич, — подхватил Поздеев. — Думали мы одно. А выходит-то другое.
— М-да... — Соколов сумрачно уставился на Зерщикова. — Хитрый ты, Илья Григорьевич. В прошлые годы, когда казаки наши изюмцев с Бахмута изгоняли, а потом и князя Юрия Долгорукова с прочими убили до смерти, верные ты речи гутарил: надо, мол, за наши старинные права стоять. А Булавин, мол, наш брат, из старшины, за наши интересы стоит. А сейчас что он и его воры вопят? На Азов и Москву пойдем, всех богатых перебьем! Вот тебе и наш брат...
— Что говорить... — Зерщиков задумчиво массировал правой пятерней висок. — Думал, как лучше нам сделать. Да и вы тоже, я помню, тако же мыслили. Ну, так ведь, — Илья Григорьевич хитро оглядел тягостно молчавших заговорщиков, — человек предполагает, а господь располагает. На кого грех да беда не бывает. Я что хочу сказать? Наперво то, что царевых посланцев все же отбили, беглых многих и наших работников тоже им не дали; вольности наши не порушены остались. А второе...
— Что второе? — Поздеев с укоризной посмотрел на Зерщикова. — Второе, брат, плохо зело.
— Плохо, — согласился тот. — Да не совсем, если с умом подойти.
— Как это? Говори!
— Не тяни душу!
— Что тут тянуть? Все свои собрались. Скрывать нечего. — Зерщиков взглянул на Соколова. — Вот ты, Тимофей, есаулом у Булавина ходишь...
— Да и ты при нем не из последних. Куренной атаман как-никак.
— Верно. Да и другие тоже с Булавиным одной веревочкой вроде бы связаны.
— Как бы та веревочка на шеях наших не захлестнулась.
— Вот к тому я и веду: чтобы веревочка эта не наши шеи, а булавинскую перевила, да покрепче. Да и прочих его единомышленников не минула.
— Что же, — у Юдака заблестели глаза, — делать для того надобно?
— А надобно держаться вместе. Это — главное. Другое — подговаривать к нашему делу казаков, старожилых, природных в первую голову.
— Это можно. Многие к тому склоняются.
— Знаю. Далее — надобно нам держать связь с воеводами великого государя, чтоб отвести от себя беду, а ворам-булавинцам руки укоротить. Перво-наперво известить господина Толстого, азовского губернатора, о замыслах Булавина; о том, что в Черкаском многие с ним не согласны. Кто может это сделать?
— Я готов, — поднял голову Фролов, — этими днями дам весть в Азов.
— И я тоже. — Соколов переводил взгляд с Фролова на Зерщикова. — Давно то надобно было учинить.
— И сейчас не поздно, — в глазах у Ильи заискрилась веселая искорка, — а в самый раз будет. На том и порешили: вы двое найдете людей, кого послать в Азов и про наши обстоятельства все обсказать подлинно. Авось господин Толстой известит о том великого государя, и нам от того не без пользы будет.
— Придумал ты хорошо, Илья Григорьевич, — сказал Фролов. — А дальше-то? Как с Булавиным-то будем?
— Погоди маленько. Сейчас у него сила большая. А вот когда ее помене будет, тогда другое дело. Вы же видите — Кондрат рассылает войска на Донец, Хопер, Волгу. А что у него останется? Да и как долго те, кто с ним здесь находится, будут сидеть в Черкаском? Потерпеть надо, выжидать, готовиться.
— К чему?
— К тому, чтобы себя спасти. И от Булавина избавиться. А такожде воеводам и царю показать, что мы им, а не Булавину служим; у них ведь та самая веревочка не только для Булавина приготовлена...
— Верно говоришь. Ох, верно...
— Господи, спаси и сохрани!
— Да, страшен гнев царский...
Разошлись заговорщики, довольные друг другом: все вроде бы предусмотрели, приготовились ко всем оборотам. Но беспокойство их не покидало — все на виду у Булавина и его горлопанов живем, мол, и замышляем для себя полезное; а знают или догадываются о том не пять-десять единомышленников, а почитай, до пяти сотен казаков. Такое не скроешь — не иголка в стоге сена!
И действительно, вскоре о заговоре стало известно Булавину, и он срочно отозвал Некрасова, пошедшего с войском на Хопер. Заговор как-то сам собой распался. Его участники активных действий пока не предпринимали, больше помалкивали. Булавин и другие руководители на той большой волне успеха, которая привела их в Черкасск как победителей, не придали особого значения недовольству кучки черкасских казаков. И допустили очень серьезную ошибку, имевшую, как показали события двух ближайших месяцев, роковые последствия для дела восстания и самого Булавина.
Заговорщики, естественно, поджали хвосты, затихли, попрятались по норам. Но время от времени выползали из них, и азовский губернатор, а потом и князь Долгорукий, новый командующий царскими войсками, получают от них, одно за другим, тайные донесения о всем, что происходит в Черкасске, о планах Булавина и просьбы о присылке полков, чтобы укротить «воров»-мятежников.
В тот же день, когда Булавин посылает три войска на донские пограничья, а старшины устраивают свой тайный совет против него, их лазутчик казак Андрей Шилков привозит Толстому ведомость (послание) о черкасских делах — казни Максимова и его товарищей, о повстанческих кругах; «а с ним, вором (Булавиным. — В. Б.), первые в замыслех... вор Игнашка Некрасов да Сенька Драной». На одном из кругов Некрасов просился в поход:
— И в том кругу ево единомышленник Игнашка Некрасов просился у него, Кондрашки, з голудьбою для добычи на море на морских струшках. И тот вор ему, Игнашке, сказал: если губернатор Иван Андреевич Толстой из Азова пожитки Лукьяна Максимова и Ефрема Петрова не пришлет, то он, вор, с ним собрався (т. е. Булавин вместе с Некрасовым. — В. Б.), пойдет под Азов и под Троицкой и на море сам. А войско свое пошлет водяным и сухим путем.
Сообщают старшины азовскому губернатору и о посылке повстанческих войск на Хопер и Донец, куда «пришли великого государя ратные полки и городки разоряют и казаков рубят».
— И по тем ведомостям, — просят старшины-изменники, — добро бы полками к Черкаскому поспешить, чтоб оного вора с воровским ево собранием ис Черкаского не выпустить, дабы оный вор, вышед ис Черкаского, не прошел к украинным городам и воровства ево не умножилось.
Стало известно Толстому и о переписке Булавина с кубанцами-ногайцами и турками, донскими казаками-раскольниками. Он сообщает Петру о планах побега булавинцев на Кубань, о чем узнал не только из их «воровских писем», перехваченных в степи его агентами, но и из сообщений черкасских осведомителей:
— И по тем, государь, воровским ево письмам и по ведомостям из Черкаского от Василья Фролова с товарыщи, уведав я, что оный вор хочет из Черкаского с единомышленники своими бежать вскоре на Кубань, посылал я, раб твой, к Черкаскому для отгону воровских его конских табунов, чтоб оному вору бежать было не на чем.
Еще в конце мая к Толстому «прибежали» из Черкасска три казака. Губернатор принял их сам:
— С чем приехали, казаки? От кого?
— Приехали мы, господин губернатор, от донских старшин и казаков, которые с вором Булавиным не в соединении. А привезли к тебе просительные письма.
— О чем просите?
— Чтоб прислать к Черкаскому государевых ратных людей конных добрых.
— Сколько и для чего?
— Тысячи дне иди три. Когда те ратные люди присланы будут, тогда не токмо мы, но и те, которые с вором Булавиным в соединении, убоясь приходу государевых людей, ево, вора Булавина, выдадут.
— Где сейчас тот вор? Сколько с ним силы?
— Булавин ныне в Черкаском. А при нем единомышленников ево, воров, человек с 500 или немногим больше. Только многие от него бегут врознь по донским городкам в свои жилища, потому что, будучи при нем, чрез многое время испроелись.
— Корм им Булавин дает?
— Про то мы ни от кого не слыхали.
Трое беглецов-изменников довольно верно обрисовали положение в Черкасске, хотя, конечно, сгустили краски. Сообщили о бегстве от Булавина казаков из-за голода, но умолчали о тех новых людях, что приходили к нему в войско. Кроме того, войсковой атаман принимал меры для снабжения повстанцев хлебом из других донских городков. Но, во всяком случае, часть, и довольно значительная, черкасских жителей была недовольна, и их представители, из старшины и старожилых казаков, перебегали в Азов, просили помощи против Булавина. Один из них, «казак из старшины; а как зовут, — запамятовал», рассказывал в начале июня в московском Посольском приказе толмач Кузьма Оттоганов, только что приехавший из Азова, «объявил губернатору, что он от вора Булавина был держан за кораулом и скован и приговорен к смерти за то, что он был с войсковым атаманом Лукьяном Максимовым согласен. И для того он ис Черкаского ушел в Троецкой. И губернатор, взяв того казака к себе, распрашивал о донских ведомостях и о воре Булавине особо. А что тот казак в роспросе сказал, того он не ведает».
В разговоре же с толмачом тот казак подробно рассказал ему о майских событиях в Черкасске, нам уже известных.
В начале июня бегство казаков из Черкасска продолжается, в чем нельзя не видеть, среди прочего, и результаты работы старшин-изменников. Капитан Иван Семенов, присланный губернатором Толстым, докладывал Долгорукому:
— Ис Черкаского казаки от вора Булавина из-за караулу бегут и приходят в Азов на день человека по два и по три и больши.
— Для чево бегут? Из каких черкаских станиц?
— Говорят, что быть с ним, вором, многие не хотят. Бегут из всех почти станиц. Только с ево сторону держатца Рыковские обе станицы. А паче же оттого бегут: опасаютца они в Черкаском твоего, князя Долгорукова, приходу.
— А Булавин?
— И сам Булавин о том твоем приходе имеет опасение. И чтоб ему, Булавину, о том приходу безвесну не быть, приказано от него, чтоб по всем дорогам и сакмам [30], жилыми и стенными местами, перестерегать твои, князя Долгорукова, письма. И буде хто с теми письмами переймет и к нему приведет, и он тем дает жалованье.
— Что мыслят казаки в Черкаском о Булавине? О том что слышал?
— Говорят те беглые казаки: хотя б один полк государевых ратных людей пришел к Азову, то, конечно, они, казаки, ево, Булавина, руками выдадут.
Острогожский посадский человек Федот Осьминин в конце июня рассказал на допросе полковнику Тевяшову:
— Был я по реке Дону до городка Тернового и слышал по городкам, что идет войско судами из Черкаского к Паншину городку.
— Для чего?
— Говорят: который есть государев хлебной запас в Паншине и на усть Хопра, и тот запас со всех городков казаки берут и готуют толчь [31]. А для чего тое толчь готуют, того я не слыхал.
— О Черкаском что говорят?
— Слушал, что из Черкаского ушло 10 человек казаков, в том числе бутто ушли дети атамана Лукьяна Максимова и иных стариков, которых показнили воры-булавинцы. И отогнали те утеклецы табун войсковой из-под Черкаского.
— Куда отогнали?
— Про то я не ведаю.
Те же вести сообщил Тевяшову строитель Донецкого монастыря Иона:
— Ведама тебе буди о всем, что ис Черкаского Фролов сын Василей пошел са многими козаками, с тумами [32], в Озов и угнал войсковой табун от Черкаского.
Помимо Фролова, очень активную шпионскую работу вел Трофим Соколов, один из есаулов Булавина. Позднее Толстой специально просил царя наградить этого соглядатая и изменника:
— Всемилостивейший государь! Доношу Вашему величеству: донской казак Тимофей Соколов в бунт вора Булавина и ево единомышленников, будучи в Черкаском при оном воре Булавине есаулом, служил Вашему величеству радетельно и чинил в Азов ко мне всякие ведомости про их воровские злые замыслы.
Сложная обстановка в Черкасске, на Дону, предательская деятельность старшин-заговорщиков, колебания старожилого казачества, распыленность сил повстанцев, концентрация полков карателей диктуют Булавину меры и действия в зависимости от быстро меняющейся ситуации. То он шлет войска против карателей, для наступления в районе Изюмского и Харьковского полков, Тамбовско-Козловско-Воронежском крае, на Волге — в сторону Саратова и Астрахани. То уверяет царя и «полководцев» в верности, лояльности, рассылает грамоты своим атаманам, «чтоб отнюдь казаки и своевольцы на Русь под городы и на Волгу для разорения и на войска государевы войною не ходили», грозит ослушникам смертной казнью, присылает «розыщиков» для сыска их вины (нападения на государевы полки и города без его, Булавина, согласия). То направляет грамоты с воззваниями к голытьбе идти к нему для борьбы с царскими полками; к запорожцам и кубанцам — с призывами о помощи.
Помимо понятных тактических соображений — оттянуть время, удержать карателей от перехода в наступление, собрать дополнительные силы, заметно в действиях Булавина и другое — колебания в проведении своей линии, воздействие на него разнородных социальных сил, сословных групп и их интересов. Отсюда, при наличии явных успехов (создание большого повстанческого войска, взятие Черкасска, смена руководства Войска Донского, расширение восстания, победы над карателями), столь же заметны и явные, все нараставшие промахи: промедление с походом на Азов после захвата Черкасска, когда каратели не собрали еще достаточное количество полков; раздробление сил, рассылка из Черкасска наиболее способных и преданных атаманов; довольно терпимое отношение к старшине из «московской партии», вербующей все больше сторонников.
На одном из черкасских кругов, в конце мая или начале июня, против Булавина, снова говорившего «многие непристойные слова» (о борьбе с царскими войсками, походе на Москву), группа казаков верховых городков, несомненно, из числа «природных», старожилых, открыто угрожает ему:
— Ты много говоришь, а с повинной к великому государю не посылаешь.
— Посылал. И не раз, — ответил Булавин, — да без толку. Царевы воеводы наступают и нас бьют. И мы пойдем их бить и государевы городы разорять, бояр и прибыльщиков искоренять.
— У великого государя силы поболе твоей. А нас всех ты не перекуешь. Ныне нас в согласии много. Можем тебя и в кругу поимать.
«Природные», домовитые и их сторонники от тайных козней переходят к открытым угрозам. Булавин арестовал некоторых крикунов-изменников. Его личную охрану усилили — в караулах при нем стоит человек по 50 повстанцев. Более того — Булавин настоял на том, чтобы запретить вообще говорить о возможности повинной царю. Василий Фролов сообщил об этом в Азов:
— Да он же, Булавин, учинил в Черкаском заповедь под смертной казнью, чтоб никто про именование великого государя не вспоминал; а буде кто станет говорить, чтоб принесть великому государю повинную, и тех людей похваляетца казнить смертью.
«Заповедь» была оформлена, как решение войскового круга, возможно, того самого, на котором часть казаков угрожала Булавину «поиманием» и тем самым расправой. Это постановление, принятое по инициативе Булавина, в ходе борьбы на круге, ярко и недвусмысленно говорит о важнейшем, кардинальном моменте восстания — значительная часть его участников показала себя способной отойти от безусловной, беспредельной веры в «доброго царя», отказаться от верности, службы его священной особе. Подобное явление не так уж часто можно отметить для народных движений феодального времени.
Напряжение не спадает. Однажды в Черкасске объявили тревогу — «стреляли из двух вестовых пушек». На следующее утро войсковой атаман устроил во всех станицах острова смотр. Не все казаки явились — стало быть, убежали в Азов. Булавин собрал в один курень жен и детей беглецов, на их имущество наложил арест — «пожитки их в куренях все запечатал и приказал караулить тех станиц казакам».
На одном из кругов Булавин, которого о заговоре старшин известил Кирилл Нос, один из его участников, предложил:
— Господа казаки! Стало известно, что среди нас появились изменники. Доподлинно мне ведомо, что черкаские старшины сносятся с азовским губернатором, меня хотят схватить и убить, а вас всех выдать Долгорукому и боярам.
— Смерть изменникам!
— Что делать будем, атаман?
— Говори!
— За ту измену всех их побить! — Булавин обвел глазами притихший круг.
— А потом?
— Царские полки сюда идут! Не помилуют!
— В таком разе, — атаман решительно поднял руку, — Черкаской весь выжжем, а сами уйдем на Кубань. Любо?
— Любо!
— Любо-то любо! Да не совсем...
Обстановка в Черкасске изменилась, что Булавин давно почувствовал. И это его настораживало. Снова принял меры предосторожности. И не напрасно.
Однажды, в первый день июня, Булавин решил попариться в бане. Поздеев предложил пойти к нему на хутор. По дороге атамана пытались схватить заговорщики — Василий Фролов, Климент Кабан, Степан Ананьин, Семен Ребрин, Алексей Каршин и другие, всего до 30 человек. Булавин и его друзья были начеку, заговорщики разбежались. Но они продолжали делать все, что могли. Одни бежали в Азов, другие плели интриги за спиной Булавина.
Василий Фролов, один из участников тайного совещания заговорщиков у Ильи Зерщикова, начал, и не без успеха, осуществлять их предательский план. Азовский губернатор не скрывал своего удовлетворения, послал по договоренности с ним своих людей к Черкасску:
— И те, государь, посланные мои, согласясь с ним, Васильем, с товарыщи, конские табуны от Черкаского отогнали к Азову. И они, Василей Фролов с товарыщи, приехали в Азов.
Случилось это в ночь с первого на второе июня.
Зерщиков доносит в Азов, что Булавин, ввиду такой сложной и угрожающей обстановки, хочет бежать на Кубань, а Черкасск выжечь. Но сбор и наступление карателей властно диктуют необходимость организации отпора на западе и востоке, наступления на Азов, этот нарыв на донском подбрюшье. Булавин планирует вернуть в Черкасск войска Драного и Некрасова с Донца и Волги, чтобы вместе идти на Азов. Но и там, как и в верховьях Дона, на его левых притоках, каратели начинают давить на повстанцев. Драный сам просит Булавина о помощи:
— Идут на меня полки Долгорукого. И стоять против тех полков мочи моей нет. Пришли, Кондратий Афанасьевич, мне людей на помочь.
Булавин призывает на помощь для похода на Азов Кубанскую орду. Толстой узнал от черкасских казаков Тимофея Гаврилова и других (они жили в Азове, ездили к Черкасску «для проведыванья про замыслы вора Булавина»:
— Вор Булавин в верховые казачьи городки посылает письма непрестанно, чтоб изо всех городков казаки съезжались в Черкаской.
— Как те казаки? — Толстой смотрел на Гаврилова. — Послушались?
— По тем письмам из верховых городков казаки в Черкаской едут з десятку по шести человек.
— Для чего их созывает Булавин?
— Намерение у него итить к Азову войною. Для того он, вор, приказал приезжим кубанским татарам, которые поехали от него на Кубань с письмами, чтоб пригнали к нему с Кубани в Черкаской 2000 лошадей.
— Пригнали кубанцы? Сколько?
— Пригнали для продажи с 500 лошадей.
— О запорожцах что слышно?
— К нему, вору, пришли в Черкаской запорожских казаков 60 человек.
— Что еще узнали?
— Июня в 13-й день у того вора в Черкаском был круг. И в том кругу говорил он своему воровскому собранию, чтоб они были готовы на приступ к Азову июня к 14-му числу.
— И как решили?
— В том кругу воровского его собрания казаки говорили ему, чтоб под Азов не ходить, а дождатца б сверху казаков для того, что в Черкаском их малолюдно; а отпустил бы их сено косить.
— Что ж Булавин?
— Он сено косить их отпустил.
Другие осведомители сообщают Толстому:
— А знатно Булавин с единомышленники своими и Рыковских станиц с казаками хочет бежать на Кубань вскоре. А Рыковских станиц казаки лошади и телеги готовят.
Долгорукий со слов губернатора извещает царя:
— Вор Булавин хочет Азов и Троицкой добывать; чтоб мне поспешить с полками к Азову. И приказывал Толстой посланному своему капитану. (И. Семенову. — В. Б.) сказать мне словесно, чтоб хотя один полк прислать, то казаки, конечно, ево, Булавина, руками выдадут.
Уверенность черкасских старшин-изменников и воевод, которых они информировали, имела некоторые основания, хотя и отличалась преувеличениями. Они явно торопили события, до того не терпелось им расправиться с Булавиным и повстанцами. А они, со своей стороны, готовились к решительным боям, сознавая, может быть, что упустили время, не сделали все, что нужно. Но и то, что восставшие успели совершить, в тех условиях нельзя не признать выдающимся. Силы и возможности повстанцев, с одной стороны, и их врагов — с другой, были несравнимы, и нужно удивляться смелости и решимости булавинцев, бросивших вызов мощной абсолютистской монархии Петра, нарождающейся Российской империи, всему российскому шляхетству.
Первая половина июля — время решительных сражений повстанцев с карателями, время героическое и трагическое. Начал Драный со своим многочисленным и разношерстным воинством. В конце июня он подошел к Тору. Осадили городок, били по нему из пушек. Обе стороны несли потери — осаждающие потеряли до полутора сотен человек. Ушаков, подошедший сюда с полком для соединения с Шидловским, писал царю:
— Всемилостивейший государь! Доношу Вашему величеству: писал я с Ызюму, что пойду в Тоганрог июня 30 числа. И доведовся по взятью от воровских языков, что вор Буловин отправил на тех шляхах, которыми мне итти в Тоганрог, единомышленника своего вора Сеньку Драного, и того ради принужден я ожидать близ Ызюма при полках козацьких брегодира Шидловского Кропотова с полками, а паче по письмам господина маеора Долгорукова. Июня ж 31-го числа он, вор Драной, с воровским своим собранием пришел Изюмского полку под местечко Тор и под Мояк. И под тем городком Тором читали прелесные свои письма, просили его, Шидловского, и казну, чтоб отдали без бою. И того городка люди сели в осаде. А они, воры, их доставали с пушками, и под тем городком их многих побили.
Вместе с Драным под Тор пришел и Беспалый. С ними было пять тысяч донских и полторы тысячи запорожских казаков. Под Тором они стали обозом, а к Маяцкому Драный «распустил загоны» — отряды. В прелестных письмах повстанцы, по сообщению Шидловского Меншикову, говорили:
— Стали мы за правду и идем к Москве, уведомляючись, — где государь; и для ускромления бояр. И многие свои воровские бредни о Вашей светлости бредили. И чтоб меня им и казну отдали без бою.
Под Тором соединились полки Ушакова и Шидловского. Увидев это, Драный отвел свое войско к Донцу, версты за четыре от прежнего лагеря. Расположил свои силы близ реки и леса, у урочища Кривая Лука, «в самом крепком месте... устроя обоз, стал со всем своим воровским собранием».
Противники провели беспокойную ночь. На следующий день, первый день июля, к Ушакову и Шидловскому подошли полки Кропотова, и вечером каратели, объединившие свои регулярные части, пошли в бой против иррегулярных сил казаков и других, кто вступил к ним в войско. Бой начался за три часа до темноты и длился «до второго часу ночи».
— И по общему совету, — читал Меншиков доношение Шидловского, — покинули мы обозы свои под Тором и пошли на них, воров, с кавалериею, и с пехотою, и с казацкими, с Харьковским, с Охтырским, с Полтавским, полками к тому урочищу. И сего ж июля 2-го числа, как зближились мы к тому урочищу, увидели они, воры, ис того своего воровского обозу вышли против нас с конницею и с пехотою и с пушками, от того обозу 2 версты, и учинили с нами жестокий бой, которого было 3 часа дни и 2 часа нощи.
Сражение носило ожесточенный характер. В конце концов повстанцев «збили и до обозу их кололи и рубили». Погибло до полуторы тысячи восставших, в том числе пал в том бою и Драный. Остальные отступили через лес и Донец на левую его сторону, многие погибли при переправе, в болотах. Весь обоз достался карателям. Они взяли одну пушку, сотен с пять мелкого ружья, два знамени, «праперов 4». Каратели о своих потерях умалчивают. Сообщают только о ранении в ногу полковника Гулица, полтавского полковника — в руку, ранении еще нескольких офицеров инфантерии и кавалерии.
Каратели, «тот их обоз разобрав и побрав ружье», вернулись в свой обоз под Тор. Потом до основания разорили и выжгли Бахмут, один из главных повстанческих центров еще со времени первого выступления Булавина. Разбили здесь повстанческий отряд, включавший, помимо прочих, и запорожских казаков.
Полки Кропотова и Гулица отправились к Таганрогу, чему так хотел воспрепятствовать Булавин, боясь усиления полков Толстого в непосредственной близости от Черкасска.
— Доношу Вашему величеству, — с удовлетворением пишет Ушаков, — хорошо б при таких случаях козацких полковников и козаков милостию своею повеселить за их верность, понеже Булавина прелесть непрестанно к ним присылается; а паче же гетманского регименту (полка, присланного Мазепой. — В. Б.).
Кропотов и Гулиц через неделю пришли в Таганрог. В ту же сторону, к Азову и Черкасску, направился и Долгорукий. Повстанцы Драного после поражения у Кривой Луки, под Тором, разошлись в разные стороны:
— После виктории нашей над вором Драным, читал Меншиков очередное донесение Шидловского, Ж многие из них, воров, оставя жилища свои пусты, побежали на низ Донца и стоят ниже Ойдару в зборе несколько сот человек. Еднак милостию божию в замыслех своих они, воры, являются слабы перед прежним, и многие из них разъехались на свои работизны.
Запорожцы ушли в свою Сечь. Булавин же хочет идти к Азову. Позднее Долгорукий узнал, что Голый и Беспалый с четырехтысячным войском повстанцев стоят на речке Боровой, в 15 верстах от Сухарева городка.
О разгроме войска Семена Драного принес весть в Черкасск его сын:
— Отца моего убили и все войско розбили.
Положение Булавина осложнилось. Он лихорадочно собирает силы. Некоторые его единомышленники уже давно внушают ему:
— Надо итти к Азову-городу. И как мы возьмем Азов, так нам крепчей будет.
Перебежчики из Азова, «человек з 20 тумов», обратились к Булавину, чтобы его повстанцы «пришли в Ошв, и они Озов здадут». В городе имелись люди, сочувствующие булавинцам. Булавин еще в июне в отписке азовскому губернатору пишет «з грозами» (слова Толстого):
— За все ваши, бояр и воевод, неправды пойдем мы Азов и Троицкий добывать. А ныне послали мы всем Войском вверх по Дону и по всем рекам во все свои казачьи городки, чтоб для того съезжалось Войско все в Черкаской перед прежним со излишним, как были под Черкаский (когда войско Булавина от Пристанского городка пришло к Черкасску в конце апреля. — В. Б.); и велели збиратца до 7-ми человек з десятка. И войско уже в собрании у меня есть, а изо всех рек еще будут ко мне в Черкаской многие люди вскоре. А тебя, воевода, и азовских и троецких офицеров всех побьем до смерти.
Булавин требует выдачи изменников — Фролова и других казаков:
— Отогнали у нас от Черкаского конской табун к Азову, и ездить нам стало не да чем. А черкаские природные казаки многие, Василий Фролов с товарыщи, человек с 15 ушли от нас ис Черкаского и живут ныне в Азове. И им ныне мы вины их отдали (простили. — В. Б.), и чтоб Василья Фролова с товарыщи и конской табун ты, воевода, нам прислал. А если нас не послушаете и тех казаков и табун не пришлете, и за то всех вас, азовских сидельцев, побьем до смерти.
Поход на Азов, который хотел возглавить сам Булавин, не раз откладывался — из-за малолюдства, козней заговорщиков, многих спешных дел и забот. К нему подходили на помощь запорожцы, кубанцы. Он собирает хлебные запасы, лошадей. На кругах непрерывно обсуждается план дохода на Азов;
— ...Оный вор, — по словам Толстого в письме Петру, — в Черкаском чинит часто круги и наговаривает козаков итить к Азову и к Троецкому войною и всяко желает воровства своего умножить.
— И еще Вашему величеству, — вторит ему Долгорукий, — повторяю до ведомостям, что вор Булавин збираетца и хочет итти под Азов. И по письмам, государь, губернатора Толстого конечно мне надлежит, соединясь с Шидловским, итти к Азову, чтоб не допустить ево до великого воровства.
Спешат и каратели, которые боятся объединения сил Булавина и Драного, и повстанцы — их тоже страшит приближение к Азову царских полков. Долгорукий настойчиво требует от Шидловского отправить полки Кроиотова и Гулица, придав им 500 казаков, к Таганрогу:
— Господа ради, изволь отправить немедленно, чтоб не беспечно в Азове и в Таганрогу от оных воров.
Наконец, Булавин высылает войско к Азову. Возглавляют его Лукьян Хохлач и Иван Гайкин. Войсковой атаман остается в Черкасске. 5 июля конный казачий разъезд из Азова наткнулся за рекой Каланчой на 12 повстанцев, погнался за ними.
— И за ними гнали, — сообщает Степан Киреев, помощник («товарищ») азовского губернатора, своему патрону, — и они (повстанцы. — В. Б.) их навели на многолюдное воровское свое собрание. И те объезжие казаки, видя тех воров многолюдно, возвратились в Азов.
Киреев выслал конных казаков полковника Николая Васильева. Они должны были не допустить повстанцев, а их было до пяти тысяч человек, переправиться через Каланчу, один из протоков Дона в его нижнем течении. Но Васильеву не удалось их задержать — восставшие переправились и ночевали на берегу Каланчи напротив Азова и Петровского городка. Рано утром, «в первом часу дни», повстанцы, «ополчась воинским поведением», пошли на приступ к Азову и Петровскому. Подошли к Дону и «засели в лесные припасы» у Делового двора. Здесь, у корабельной пристани, лежало много бревен, брусков, досок, теса для постройки кораблей. Рядом располагались слободы — Посадская, Пушкарская, Плотничья, Матросская и другие, разные мастерские, кузницы; жили там работные люди, крестьяне, мелкие посадские и служилые люди.
Васильев со своим полком и черкасскими казаками-перебежчиками вступили с повстанцами в бой около Делового двора. Но его конница ничего не могла сделать с пехотой повстанцев. К нему на помощь выслали четыре роты солдат. Три часа обе стороны обстреливали друг друга «непрестанно». Одновременно из Азова, с раскатов (бастионов) его крепости — Алексеевскою, Петровского и Сергиевского, с морских кораблей на повстанцев обрушила огонь артиллерия. Они несли большие потерн, но держались долго и стойко, укрываясь за «лесными припасами». В конце концов мощный огонь заставил их отступить к Каланче, повстанцев преследовали азовские солдаты и казаки. Спасаясь от преследователей, булавинцы бросались в Каланчу, многие тонули.
Под стенами города погибло более 420 повстанцев, столько же примерно утонуло, 60 человек попали в плен. Остатки разбитого повстанческого войска из-под Азова прибыли в Черкасск. Тогда же явился из-под Тора сын Драного. Известия о тяжелых поражениях, по существу разгромах, взбудоражили Черкасск. Рассказы тех, кто участвовал в сражениях, разговоры и слухи, неизбежно преувеличенные, о царских полках, мысли о неизбежных и жестоких расправах карателей не могли не внести смятения в ряды повстанцев. И этим воспользовались заговорщики. Илья Зерщиков, Степан Ананьин, один из булавинских есаулов, причем из Рыковской станицы, его телохранитель, другие старшины и казаки-изменники поняли, что для них наступает решающий час. Пользуясь общим расстройством, сумятицей и растерянностью, они переходят в наступление.
После прибытия из-под Азова разбитых Лукьяна Хохлача, Карпа Казанкина, командовавшего кавалерией восставших, и других заговорщики сразу же созвали тайное совещание. Инициаторами выступали Зерщиков, Степан Ананьин, Карп Казанкин, Василий Поздеев, Тимофей Соколов и прочие. Разговор был недолгим:
— Господа казаки! — Собранный и натянутый, как струна, Зерщиков говорил без обычных своих лисьих ужимок. — Долее ждать нельзя. Везде государевы полки гультяев бьют. Так и до нас скоро дойдут...
— Верно! — Казанкин от возбуждения привстал с лавки. — Сколько можно нас терять напрасно в боях? Булавин послал нас под Азов, а помощи не подал, когда нам невмочь стало.
— Казаки кричат гвалтом, — добавил Ананьин, — требуют Булавина на круг. Говорят: нас не выручил и нам изменил! Обманул нас! Убить его до смерти!
— Дело ясное. — Зерщиков остановил взглядом Ананьина. — И без круга обойдемся. Надо поймать Булавина и отвесть царю, чтобы нас помиловал.
— Верно!
— Согласны!
— Идем к куреню Булавина!
Заговорщики вышли на улицу. Их ждали многие сторонники, вооруженные, готовые к действиям. Кто-то из доброжелателей предупредил Булавина, и он с некоторыми своими сподвижниками, друзьями укрылся в своем доме.
...Дом Булавина, бывший до конца апреля резиденцией Лукьяна Максимова, стоял недалеко от войсковой канцелярии, собора.
7 июля около куреня появились заговорщики и их сторонники, числом значительно превышавшие Булавина и его защитников. Они скопом приступили к дому, где закрылись осажденные, стреляли из ружей и пушки. Начали ломать двери и окна, рубить их топорами. В схватке Булавин и его помощники, отстреливаясь, убили двух или трех заговорщиков. Но изменники довольно быстро взломали двери, и Булавин, защищавшийся до последнего в одной из комнат куреня, увидел ворвавшихся заговорщиков:
— Степан! И ты с ними?!
— А как ты думал?
— Карп! — Булавин повернулся к Казанкину. — Ах, вы, сволочи!..
— Сдавайся!
— Я тебе сдамся, гад! Получай!..
Но Степан Ананьин опередил его — пуля из его пистолета попала атаману в левый висок, и он рухнул на вол. Между тем озверевшие заговорщики бросались из комнаты в комнату, хватали и вязали булавинцев — сына и брата убитого предводителя, Лукьяна Хохлача, Ивана Гайкина и иных. Труп Булавина выволокли на майдан, и тут же на круге заговорщики объявили войсковым атаманом Зерщикова. Переворот, который он и его единомышленники начали замышлять два месяца назад, был совершен. Его глава вступил в права войскового атамана, и главной заботой его самого и таких же, как он, стало выгораживание себя в глазах властей, спасение собственных жизней.
Они сразу же выдвинули версию о самоубийстве Булавина. Им это было выгодно по всем статьям: убитый атаман многое знал об их причастности к восстанию; теперь об этом, как они думали, никто и не будет вспоминать; нужно было оправдаться перед властями и в том, что они не получили, как хотели, Булавина живым. Кроме того, все — и заговорщики, и власти — не прочь были изобразить смелого народного вожака самоубийцей, трусом, испугавшимся расправы, человеком малодушным. Самоубийц, по тогдашним понятиям, не считали достойными похорон по православному обряду — отпевания в церкви, провожания на кладбище, захоронения в могиле. Их бросали, как животину, на свалку, в общую яму или отхожее место. Тем самым на главного предводителя народного движения, на само восстание бросалась тень презрения и проклятия. Имя его предавалось анафеме. Все это — для обработки общественного мнения, воздействия на умы и души людей.
— В нынешнем 708-м году июля в 7-й день, — писал Зерщиков азовскому губернатору в день убийства Булавина, — пересоветовав мы Войском Донским на острову у себя тайно, согласясь с рыковскими и с верховыми козаками и собрався с воинским поведением, с ружьем и пришед х куреню вора и изменника проклятого Кондрашки Булавина и чтоб его, вора, с ево единомышленники поймать.
После описания осады куреня, перестрелки Зерщиков продолжает:
— И видя он, вор, свою погибель, ис пистоля убил себя сам до смерти. А советников ево проклятых всех переловили и посажали на чепи до великого государя указу и поставили крепкие караулы. А тело ево, проклятого, мы Войском Донским для уверения посылаем к вам в Азов.
Тело Булавина привезли к азовскому губернатору на следующий день после переворота, и он смог известить о том царя:
— А по осмотру у того вору голова прострелена, знатно ис пистоли, в левый висок, и от тела ево смердит. И мы, холопи твои, велели у того воровского тела отсечь голову и тое ево воровскую голову велели лекарям до твоего великого государя указу хранить. А тело его за ногу повешено у рек Коланчи и Дону, где у присланных ево воров был бой.
Так началась посмертная месть врагов Булавина, надругательство над его телом. Ложную версию о самоубийстве Булавина, пущенную в ход Зерщиковым, от Толстого восприняли московские власти, Петр, Меншиков, Долгорукий и другие. Царь получил сообщение Толстого две недели спустя после гибели Булавина и, находясь в Горках, под Могилевом, распорядился отслужить молебен и сделать салют. Хотели сделать то же и в Москве, но отказались — вдруг простой народ заволнуется, а тем паче забунтует...
По поводу смерти Булавина Хованский и Долгорукий получили противоречивые известия:
— А про Булавина многие говорят, — сообщает первый из них, — что конечно в Черкаску ево и Луньку Хохлача убили казаки. А другие говорят, что они сами себя убили.
Неделю спустя после гибели Булавина в походную канцелярию Долгорукого под Тором привели запорожского казака Трофима Ильича Верховида. В числе 60 запорожцев он приходил из Сечи в Черкасск к Булавину на помощь. Участвовал в походе на Азов. Обо всем на допросе рассказал командующему. Того заинтересовало:
— Что ты видел и слышал после бегства воров из-под Азова?
— Пришли мы от Азова в Черкаской немногие люди и стали кричать гвалтом, что по посылке его, Булавина, под Озовом, побито из них многое число и многие потонули в воде. А Булавин нас-де не выручил и нам изменил. И за то ево хотели убить до смерти.
— Что сделал тот вор Булавин?
— Булавин от них ушел и заперся в комнате.
— Так. Дальше.
— И донские казаки учели комнатные двери рубить топорами, и он, Булавин, зарезал сам себя ножом, разрезав брюхо, и внутреннее из нево выволилось. И выволокли его, Булавина, в круг, чтобы все видели.
Это известие, совсем уж неправдоподобное, Долгорукий тут же, наскоро, «сего часа и минуты», вписал в уже заготовленное письмо Петру. Верховид в обстановке суматохи бежал из Черкасска, и слух о самоубийстве Булавина в его сознании принял какой-то патологический, ужасающий оттенок.
Версию о самоубийстве распространяли петербургская газета «Ведомости», московские власти, иностранные послы в Москве. Реляцию Толстого по приказу Петра издали за границей на латинском и немецком языках.
Но уже в те дни многие говорили и писали другое. Иван Наумов, атаман Сухаревой станицы, принося повинную Долгорукому от имени своего и всех станичников, сказал о Булавине:
— А в те ж числа (после сражений под Тором и Азовом. — В. Б.) в Черкаском и Булавина самого убили и выбрали атаманом Илью Зерщикова. А Василья Поздеева Большого посылают к его величеству с повинною.
Новобогородицкий житель со слов булавинцев сообщил воеводе Шеншину:
— Донские казаки Булавина в Черкаском убили.
Бригадир Шидловский тоже говорит определенно и уверенно:
— И верно Вашей княжой светлости (Меншикову. — В. Б.) доношу, что и Буловина в Черкаском убили. Початок тому делу — Сеньки Драного погибель. Скоро от сына Драного в Черкаском весть взяли, на другой день и Буловина убили, потому что тот вор Драной у него, Буловина, в замыслех ево воровских первым человеком был.
О том же позднее, когда Долгорукий вступил в Черкасск, говорили ему старшины из Рыковской станицы, подчеркивая свою роль в расправе над Булавиным:
— А в убивство вора, ежели бы не мы, то черкаским жителем одним етово было не сделать.
— И губернатор азовский, — добавляет к этим словам Долгорукий в письме к царю, — мне сказывал, что Рыковской станицы вора убили.
Да и Зерщиков в войсковой грамоте, разосланной вскоре после переворота «по Дону и по городкам», признает то же самое:
— Убили мы Войском, всею рекою, Кондратья Булавина.
Истинную правду знали все, вплоть до Петра. Уже в конце правления и жизни он, редактируя «Гисторию Свейской войны», повествующей о его царствовании, слова о самоубийстве Булавина вычеркнул и вместо них вписал:
— Главного вора бунтовщика в Черкаске казаки убили.
Тогда, незадолго до кончины, император предпочел сказать, что произошло на самом деле. В июльские же дни донской либерии и он, и его присные предпочитали ложь. Она была им нужна, выгодна — восстание еще продолжалось, чернь нужно было образумить. И ложными версиями, и, главное, ружьями и пушками.
ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРЬБЫ
В сообщениях о смерти Булавина довольно часто мелькают слова: его убили «казаки», «донские казаки». Эта фраза и верна, и ошибочна. Народного предводителя, действительно, убили его же земляки-казаки из Черкасской, Рыковской и других станиц. Но отнюдь не все казаки, не «все Войско», как пытался уверить новый войсковой атаман Зерщиков, предатель, властолюбец и интриган, а заговорщики, такие же предатели и шкурники, как и их главарь, — Степан Ананьин и Карп Казанкин из Рыковской станицы, Василий Фролов и Тимофей Соколов из Черкасской и прочие. Имелись у них сторонники, и немало, — из числа тех же старшин, «природных казаков», «стариков». Но не только — на их сторону перешли и многие другие, из рядовых, низовых и верховских, маломощных: одни поддались панике после поражении повстанцев, чувству страха перед карателями; другие давно колебались, хотели отсидеться в сторонке; третьи почувствовали, что дело Булавина проигрывает, нужно, мол, о себе позаботиться. Но так думали далеко не все.
В самом Черкасске после гибели Булавина на кругах продолжалась борьба, порой весьма ожесточенная. Одни поддерживали нового атамана, другие нет. Первые соглашались послать к царю станицу (делегацию, посольство) с повинной и выдать плененных соратников Булавина. Вторые против этого возражали, и довольно резко.
Во всяком случае, арестованных булавинцев — Никиту и Ивана Булавиных, сына и брата Кондратия; Михаила Драного и других из Черкасска не сразу отослали к Толстому и Долгорукому, как они того требовали. К губернатору вместо них отправили 18 запорожских казаков. А Долгорукому Зерщиков и другие отговаривались:
— Тех воров к тебе везть через степь опасно от воровских людей, чтобы не отбили. Отдадим их тебе, когда придешь к Черкаскому.
Казаку, которого князь послал к Зерщикову, последний приказал:
— Скажи господину майору, что я сам хочу выехать к нему навстречу, когда он к Черкаскому подойдет.
Зерщиков хитрил и юлил: с одной стороны, чтобы задобрить Долгорукого, выгородить себя; с другой, боясь вызвать гнев части казаков, недовольных переворотом и тем, что за ним последовало. Василий Фролов и прочие, убежавшие в свое время в Азов от Булавина (а им Долгорукий доверял за их «верность», в отличие от Зерщикова и ему подобных), рассказывали князю:
— У них, казаков в Черкаском, намеренье такое, что тех воров (пленных булавинцев. — В. Б.) не отдавать. Был у них круг, и в кругу черкаские жители приговаривали отдать; а другие отговаривали, что не отдавать. И зело они все в великом розмышлении и в страхе.
Некоторые казаки «со страху» бежали из Черкасска. Настроение среди них было неодинаковым. Какая-то их часть не хотела склонять голову перед царскими воеводами. Долгорукий понял это и высказал неудовольствие Василию Поздееву Большому. Тот явился к нему две недели спустя после переворота:
— Господин майор, всемилостивейший князь! Послан я от всего Войска Донского с повинною к великому государю.
— Это хорошо. За премногую милость государеву тебе и всему Войску Донскому надо его величеству служить верно и раденье свое показать.
— Мы все рады душою и телом служить и прямить великому государю.
— Хорошо ты говоришь. Только какая же это повинная? По вашим оборотам видно, что от вас, казаков, будет противность. Так?
— Что ты, господин майор, говоришь? Какая противность? Мы великому государю верность показали: тебя и азовского губернатора о воре извещали и его самого убили.
— Верно. А сейчас, как мне известили, казаки в Черкаском кричат в круге, достальных воров булавинцов выдать не хотят и тем противность показуют великому государю.
— Кричат, господин майор, да не все. Покричат и перестанут. Погоди малое время, и тех воров мы пришлем к великому государю.
— Медлить не для чего. Надобно, чтоб в Черкаском мне отдали не только тех воров и заводчиков, а всех их, воров, мне отдали, чтоб впредь не отрыгнулось.
— Так и сделаем, господин майор, как указываешь.
— Также вам раденье показать и переловить пущих заводчиков Беспалого, Голого, Драного (князь запамятовал, что Драный погиб в бою у Кривой Луки. — В. Б.), Некрасова, сына Лоскута и других таких же по всем станицам заводчиков.
— Согласны мы, господин майор.
— Также которые городки по Донцу, и по Айдару, и по Медведице, и по Хапру, и по Базулуку, кроме воровства, ничево в них нет, и надлежит его величеству верность показать. А повинная, с которой ты пришел, Я какая эта повинная? Слова одни!
— Твоя правда, господин майор. Так и будем поступать всем Войском. Только это при полках государевых зело надежно делать.
Поздеев Большой, один из заговорщиков-предателей, понимал, что ситуация на Дону не такова, чтобы немедленно всех повстанцев хватать и выдавать карателям. Новая черкасская старшина не надеялась на свои силы и способности. Уповала на царские полки, чтобы справиться с булавинцами после гибели самого Булавина.
Царские же полки продолжали неумолимо, со всех сторон наступать на Дон, Придонье, Украину, Поволжье и другие места, где продолжало бушевать восстание. Летом этого года повстанцы продолжали борьбу в Козловском, Тамбовском, Борисоглебском уездах. Появились и в других — Верхнеломовском и Нижнеломовском. Волконский, козловский воевода, пришедший еще в конце июня к Долгорукому под Валуйки, обеспокоен положением в своем уезде, из которого вынужден был уйти со своими драгунами по приказу командующего, и во всем «тамошнем крае»:
— Сего июня 29-го числа, — пишет он Меншикову, — получил я ведомость, что воровские калмыки в сем июне месяце, после нашего отъезду, подъезжая воровским наездом по подсылке Булавина, Танбовского уезду в селах, которые от Танбова в 15-ти и в 5-ти верстах, одного на заставе дворянина убили до смерти, а иных многих ранили, также многих з женами и з детьми в полон побрали, а домы их жгли и разорили, и пожитки и всякую скотину, и лошадей пограбили. И от Танбова-де за несколько верст в близости, в степи колмыков и козаков тысячи с полторы человеков, собрався, стоят.
Недели полторы спустя он снова информирует светлейшего о повстанцах из тамбовцев, в числе коих — и те, кто принадлежит князю:
— Вашему сиятельству во известие предъявляю о возмущении во единогласии к воровству злаго намерения вора Булавина ис танбовцев, служилых и волосных крестьян, такжо черкас, которые поселены на имя Вашего сиятельства (в селах и деревнях Тамбовского уезда, пожалованных Меншикову. — В. Б.). А имянно оных воров было во отложении к их воровству в разных селах и в деревнях дворов сот с 7 и больше. И от них было многое разорение и грабеж, и смертные убивствы.
В Тамбовском крае восстание, в которое включились многие сотни крестьянских и иных дворов, а жителей — и того больше, приняло довольно широкие размеры. К местным повстанцам присоединялись, усиливая тем самым их борьбу, булавинские казаки и действовавшие с ними вместе калмыки. Волконский досконально знает места жительства и действий повстанцев, жаждет предать их огню и мечу:
— И как вышеозначенное воровство донских и хоперских козаков прекратитца, и оным людем (тамбовским повстанцам. — В. Б.) за их воровство что Ваше сиятельство поволит чинить, чтобы впредь так делать иным было неповадно? Или поволит Ваша княжая милость оным людем умолчать до времени, покамест мне повелено будет ехать до Вашего сиятельства в армию? И тогда явне вашей княжой милости донесу, какова оные люди состояния и где, в которых местех их поселения.
В Тамбовский и Козловский уезды «для охранения тамошнего края» власти прислали полки Болтина (из-под Казани) и Гулица (с Донца). Они обеспечивали «успокоение» местных жителей. По пути сюда усмиряли другие места, охваченные восстанием.
Продолжались действия повстанцев по Волге, где они захватывали торговые суда и, по сути дела, овладели волжским путем. К булавинцам переходили многие работные люди с судов. Они участвовали еще в июне в осаде и взятии Царицына.
В начале июля повстанцы штурмовали цитадель, в которой отсиживался воевода Афанасий Турченин. До этого они в тяжелом бою у Сарпинского острова задержали солдатский полк Бернера, посланный из Астрахани на помощь Турченину. Сражение длилось с третьего часа пополудни до ночи, повстанцы потеряли до 800 человек, но заставили Бернера отступить к Черному Яру. Бернер, которого ранили в бою, потерял около полсотни солдат убитыми, более 140 солдат и офицеров были ранены. После этого повстанцы бросились на очередной штурм крепости — «наметав дров и всякого смоляного лесу и берест, зажгли и с великою силой приступили и тем огнем осадной городок взяли». Воеводу, подьячего и еще нескольких солдат казнили. В городе, теперь полностью перешедшем под контроль восставших, они установили порядки казачьего самоуправления.
К сожалению, среди местных повстанцев не было единства. После событий в Черкасске, окончившихся переворотом и убийством Булавина, в Царицыне собирается круг. Проходит он бурно, в криках и спорах. Его участники, а все они — не только собственно казаки с Дона, но и другие (работные люди, местные горожане и пр.) — стали называться казаками, не пришли к одному мнению по вопросу, поставленному Некрасовым и Павловым, их атаманами: что делать дальше? Первого из них поддерживали казаки, второго — всякая голытьба.
— Господа казаки! — серьезный и твердый голос Некрасова отчетливо звучал на царицынской площади, — Из Черкаского пришли худые вести: Зерщиков и иные старшины пишут, что по приговору всей реки Дону убили Кондратия Афанасьевича Булавина; а за какие вины, не сказывают. Войсковым атаманом избрали Зерщикова. А знатно, что зделано сие без нашего общего совету, изменно. И надобно то вызнать доподлинно, для чего, взяв в Царицыне артилерию, итти со всем на Дон, в Черкаское.
— Погоди, Игнат! — Павлов отодвинул его в сторону и вышел вперед. — Не спеши! Господа казаки! Того, что предлагает Некрасов, делать нам ненадобно.
— Правильно! Любо!
— Нет, неправильно! Надобно мстить кровь Булавина!
— Убили его напрасно!
— Убили, и теперь его не вернешь!
Круг разбушевался — поднялся общий гвалт, со всех сторон виделись поднятые кулаки, сверкающие глаза; некоторые уже схватились за грудки, другие их разнимали. Павлов подождал немного, потом крикнул:
— Верно говорите казаки: Булавина теперь не вернешь! А власть в Черкаском у Зерщикова и иных старшин. За ними, кабыть, идут казаки многие, и низовые, и из верховых городков. Зачем нам на рожон лезть? Выждать надобно.
— Верно!
— На Дон итти ненадобно!
— Не пойдем!
— Вы не пойдете, мы пойдем!
— Любо! Пойдем! Пущай Игнат гутарить!
— Нет, Иван пусть говорит!
Павлов видел, чувствовал, что местная голытьба на его стороне, и это его подбодрило:
— Не пойдем! И артилерию не дадим! Самим надобна — пойдем плавною на море мимо Астрахани для добычи!
— Зачем? Ты что говоришь, Иван?! — Некрасов, обычно сдержанный и степенный, кипел гневом. — Какая добыча, когда наши братья-атаманы побиты без вины?! А бояре на Дон идут. Вот о чем мыслить надобно! Идем на Дон!
— Пойдем!
— Любо!
— Не пойдем!
— На море давно не ходили!
— Пойдем зипуна добывать!
Крики и споры разгорелись с новой силой. Начались стычки между группами повстанцев, сторонников Павлова и Некрасова. Они переросли в драку. В ход пошли кулаки, и многих некрасовцев на том круге «били и пограбили». Кончилось тем, что Некрасов со своими ушел из Царицына. Пришел на Дон в городок Голубые. С ним было 400 повстанцев.
На следующий день после злосчастного круга, разъединившего силы повстанцев, к Царицыну подошел новый полк из Астрахани. Его командир Левингстон привел тысячу солдат регулярной армии, и они пошли на штурм. Повстанцы Павлова, а у него тоже было до тысячи человек, сопротивлялись бесстрашно, но устоять не могли — побежали из города на лодках вниз по Волге. За ними послали погоню, и они, потопив лодки, ушли пешком на Дон, к Паншину. По пути к Павлову приходили новые люди, и он привел в Паншин городок три тысячи повстанцев. Сюда к нему на совет приезжает Некрасов. Вскоре они объединились в Голубых. Многих повстанцев, плененных в Царицыне, вешали в городе по дороге на Дон.
— Июля в 29-й день, — сообщает Зерщиков царю, — ведомо нам, холопем твоим, Войску, учинилось, что вор и изменник Игнашка Некрасов с реки Волги, с Царицына города на Дон в свой Голубинской городок с своими единомышленники перешел, и к своему воровству проклятый людей прельщает и к себе собирает. И по той ведомости мы, холопи твои, Войском судовою и коною (пехоту на судах и конницу берегом. — В. Б.) из Черкаского для искоренения послали и по всем рекам в городки свои войсковыя письма наскоро писали, чтоб изо всех городков так же б с нами, Войском, судовою и коною для искоренения заедино поступали.
С этой отпиской атаман-предатель послал к царю «легкую станицу» во главе с Василием Поздеевым. В нее включили Степана Ананьина, убийцу Булавина, и еще более тридцати казаков из черкасских и других станиц.
Тем временем с севера по Волге подходила карательная армия Хованского. Власти расправились с участниками башкирского восстания, предотвратили их возможное объединение с булавинцами, в чем помог калмыцкий хан Аюка — богатые царские подарки подвигли его на посылку 20-тысячной калмыцкой конницы на Волгу и в Башкирию.
Главные события разворачивались на Дону. Долгорукий с войском прибыл на реку Миус, недалеко от Таганрога, Азова и Черкасска.
— Губернатор (Толстой. — В.Б..), — пишет князь Петру 22 июля, — сего дня хотел ко мне быть, и я ево дожидаюся на Миюсе, а полки пехотные отпустил наперед. И увижусь с ним, губернатором, и с общево совету положим и так будем, прося у бога милости, поступать, как лутчи.
Князь планирует свои действия по Дону, распределяет полки, ставит перед ними задачи:
— Губернатору буду говорить, чтоб обще со мною с полками своими к Черкаскому приступил. Писал я к маеору Глебову и к Дедюту, чтоб оне приступили к Донецкому. А фон Делдина з драгунским полком, Давыдова с салдацкими полками оставил на Тору и на Маяках. Гульцу и с ним козловцев, всего с ним з 2000 человек с лишком, ис Тонбова велел приступить к Пристанскому. Для того, государь, тем вышеписанным полком велел в назначенные места приступить.
Далее командующий излагает свои замыслы по части расправ над повстанцами:
— Коли милостиею божиею и Вашим государским счастием в Черкаском утвержу, завотчиков всех возьму, — и, утвердя в Черкаском, сам пойду по Дону по городкам вверх, завотчиков и бунтовщиков буду брать и чинить за их воровство по указу. А в городках всех буду обнадеживать Вашею государевою милостию, чтоб они жили по-прежнему.
Насчет «обнадеживанья» и житья «по-прежнему» майор перехватил через край — инструкция Петра предусматривала оставить так, «как было», то есть по-прежнему, не разорять городки по нижнему Дону — от Черкасского до Донецкого, населенные преимущественно «природными», значными, старожилыми казаками. Других городков — по среднему и верхнему Донцу и его притокам, по левым притокам среднего и верхнего Дона — это не касалось, и сам Долгорукий прекрасно о том помнит:
— И, пришед на устье Медведицы, разделю тут на три части (свои силы. — В. Б.), — по Медведицы, по Хапру, до Базулуку — и буду чинить над людьми и над городками против первого Вашего государева указу, каков ко мне прислан Вашею государевою рукою в Невль.
Долгорукий вспоминает здесь тот весенний указ, в котором Петр повелел ему те городки «жечь без остатку, а людей рубить, а завотчиков на колесы и колья... ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть». Эту «жесточь» и собирается пустить в ход Долгорукий против городков и их повстанцев, исключая тех немногих, кто показал верность царю-батюшке:
— А ете, государь, городки по вышеписанным речкам всеконечные воры и всякому злу начальники. И сами казаки, которые Вашему величеству в верности, мне сказывали, что всеконечные ето воры; только два городка по Медведице и по Хапру воровству не причасны; и как вор (Булавин. — В. Б.) шел, и они ево не пустили и отсиделись, и во всю ево бытность к нему, вору, не пристали. И я, государь, будучи там, усмотря, ежели надлежит там им быть, и я их обнадежу Вашею государевою милостью и велю жить по-прежнему. А буде же не надлежит им тут жить для приходцов сверху (беглых, повстанцев из верховых городков. — В. Б.), и я, сказав им Вашу государеву милость, велю им перейти на Дон в донские городки.
Далее майор переходит к мятежному Донцу:
— И как, государь, приду я к Донецкому, и Глебова и Дедюта с собою возьму для вышеписанных городков по рекам (Медведице, Хопру и Бузулуку. — В. Б.), а другую, государь, половину пошлю от Черкаского вверх по Донцу. И, исшедчи Донец по Айдару, и х тому придут в случение (соединение. — В. Б.) с Маяк и с Тору фон Делдин и Давыдов.
Донцы со страхом ждали прихода Долгорукого, но не все склонны к покорению:
— Писали, государь, ко мне из Троицкого капитаны морские Матвей Симантов и другие, что казаки в великом розмышлении и в злом намерении.
Закончив письмо царю, Долгорукий приказывает срочно отправить его с курьером. Но входит посланец от Зерщикова с письмом, и князь снова диктует писарю:
— По написании сего письма. Атаман Зерщиков прислал ко мне отписку: пишет и просит меня слезно, чтобы мне по всем городкам послать с указами, чтобы они были надежны и безбоязненны и чтобы не разбежались.
Уверяет царя, что он и до этого старался не озлобить и излишне не перепугать донских казаков:
— И я, государь, и до тое отписки (Зерщикова. — В. Б.) по всем городкам послал указы, чтобы они вины свои заслужили и воров и завотчиков переловили и ко мне приводили. И оне против тех указов стали быть надежны. И я, государь, со всеми с ними обхожусь ласково; и которые казаки от меня посыланы были в Черкаской, которые Вашему величеству в верности, так же и я их задолжил деньгами и другим приказывал с ними, чтобы они всячески наговаривали и обнадеживали. И они, приехав, сказывали мне, что зело в великом сумнении были и злом намерении. А ныне по посылке моей и по письму стали быть лутче.
Вспоминает он и царский намек на его особое, мстительное отношение к донцам:
— Зело, государь, были (казаки. — В. Б.) опасны, чтоб я не мстил смерти брата своего. И я, государь, писал к ним с клятвою и казакам говорил, что от меня того не будет. И оне, государь, зело тому ради и верят.
Князь, собираясь жечь и вешать, в то же время успокаивает казаков, чтобы отбить их от «злого намерения», то есть от дальнейшего сопротивления, дает обещания и клятвы, ведет речь о выдаче только заводчиков-предводителей, наиболее активных деятелей, участников восстания. Все это — чистой воды притворство, камуфляж. Слова его рассчитаны на обман основной массы казаков и привлечение на свою сторону «верных», «природных» казаков, особливо тех, кто еще при Булавине изменял ему и сносился с карателями, воеводами, предавал восставших, наносил им удары в спину, сначала исподтишка, а потом и в открытую. Одного из таких предателей и его помощников он, не жалея слов, расхваливает царю:
— Доношу Вашему величеству: Василей Фролов так Вашему величеству служит, что лутче тово быть невозможно. Истинно, государь, удивительно, что из естово народу такой правдивой и верной человек. Также и все, которые при нем, зело изрядные люди и работают Вашему величеству, как лутче быть невозможно. Василья Фролова вор Булавин разорил совсем дом ево, также и других. И они (Фролов и иные. — В. Б.) то ни во что вменяют. Губернатор Толстой ко мне писал, чтобы мне их милостью Вашего величества наградить за их службу и родение. И мне, государь, дать им нечего для того, что денег со мною с Москвы ничево не отпущено. И о том, государь, как изволишь.
Предателей, конечно, ждала царская награда. Как и карателей, начавших свой кровавый поход по районам действий повстанцев. Долгорукий день спустя пришел на речку Тузлову, верстах в 50 от Троицкого и Черкасска. Остановился обозом в урочище, и сюда приехал к нему в тот же день Толстой, как он писал Меншикову, «для общаго согласия». Речь шла о положении в Черкасске, возможном сопротивлении казаков и совместных действиях против них:
— И естьли в Черкаском и в иных станицах донские казаки явятца противники, и при помощи божии будем над ними чинить промысл с общаго согласия и оное воровство искоренять.
В том же письме, посланном «из обозу с реки Тузловой», Толстой с удовлетворением сообщает светлейшему о прибытии в Троицкий полков Кропотова, Ушакова и Гулица. Не может скрыть удивления по поводу быстрого и легкого разгрома булавинцев под Азовом:
— Воистинно, милостивой государь, удивлению достойно, какими малыми людьми такое великое воровское собрание побито, на котором бою и бывшие афицеры, присланные в Азов, Кольцов-Масальской с товарыщи, зело стояли мужественно и многих воров взяли в полон.
Удивление губернатора странно — нетрудно ведь понять, что регулярные войска своей боеспособностью намного превосходили иррегулярные воинские отряды казаков, калмыков и прочих, не говоря уже о многочисленных, но плохо организованных и вооруженных толпах повстанцев из крестьян, работных людей и прочего люда, совсем непривычного к военному делу. Войска восставших иногда одерживали победы над врагом — помогали многократное численное превосходство, неожиданность нападения, беззаветная, несмотря на огромные потери, храбрость. Но коренные недостатки в организации, вооружении повстанческих сил в конечном счете приводили к их поражениям.
Долгорукий с Тузловой двинулся к реке Аксай, правому донскому рукаву, и здесь к нему явились Зерщиков, его есаулы и вся старшина. Со знаменами подъехали они к полкам, которые командующий «поставил во фрунт». Сошли с лошадей, «далеко не доезжая» до князя, подошли к нему, положили на землю знамена и сами распластались перед ним. Долгорукий приказал:
— Встаньте!
— Господин майор! — Зерщиков переглянулся с другими, тоже поднявшимися, старшинами. — Просим милости у великого государя и твоего заступления.
— Великие вины имеете вы перед его величеством. Его милостию и терпением в прошлом и нынешнем году ваши городки разорены не были. И вы, донские казаки, все то поставили ни во что и великому государю всякие противности показали. И за то достойны вы наказания.
— Всемилостивешний князь! Свои вины мы приносим к твоим стопам и просим за нас заступить перед его величеством. Тебе небезызвестно, что мы, природные казаки, в прошлом году тех воров, которые были с Булавиным, многих побили и показнили. А как тот вор с Сечи пришел в Пристанской городок и пошел вниз по Дону, мы противились ему, на речке Лисковатке был у нас с ним бой.
— И на том бою вор Булавин, — вставил Долгорукий, — вас побил, и вы от него бежали в Черкаской. А многие ваши братья к нему, вору, пристали.
— Так и было, господин майор. — Зерщиков опустил голову. — А потом, когда вор пришел к Черкаскому острову, мы сели в осаду и ему противились. А другие казаки, из Рыковских станиц, такие же воры, как и булавинцы, склонились к вору и нас выдали. И тот вор, пришед в Черкаской, многих из нас побил и домы наши разорил. И, видя от него такой страх и убивства, мы молчали. И в том вины свои приносим великому государю. А потом мы, собрався всем Войском, того вора и изменника в дому его осадили и его убили, а тело прислали в Азов; многих товарыщев ево поимали, и они сидят за крепким караулом.
— Которые из вас, — Долгорукий постукивал пальцами по эфесу шпаги, — верно служили великому государю, и от него будет вам похваление и милость великая. А вам тех воров, которые поиманы, также и других воров и бунтовщиков, которых вы знаете, всех поимать и привести ко мне без замедления.
— Всемилостивейший князь, все сделаем по твоему указу.
Старшины уехали в Черкасск. На следующий день, 27 июля, Долгорукий подошел к Черкасску и стал обозом. Зерщиков и вся старшина снова явились к нему и привели закованных в кандалы 20 пленных повстанцев, взятых в курене Булавина; в их числе — его сына Никиту и брата Ивана, Михаила Драного. Еще день спустя черкасские старшины и «природные» казаки вместе с представителями других станиц, «кои по Дону и с Усть-Медведицы и с Усть-Хопра», пришли в обоз командующего. Присутствовали священники, и к ним по очереди подходили атаман и другие, прикладывались ко кресту и евангелию:
— Великою клятвою, — Зерщиков говорил от имени всех пришедших казаков, — и со многими слезами клянемся мы всем Войском Донским в верности быть великому государю и служить ему безотступно и безо всякого сумления.
— А с теми, — спросил Долгорукий, — кто не явится к крестному целованию, как быть?
— Тех, кто по городкам не явится целовать крест и святое евангелие и великому государю окажется в противности, всех приговорим побить до смерти. Правильно, — Зерщиков оглядел своих подчиненных, — я говорю, господа казаки?
— Правильно, господин атаман!
— Верно!
— То наш общий приговор!
— На том и порешим. — Долгорукий одобрительно улыбнулся, После вашего крестного целования спросить я вас хочу: когда вы мне отдадите тех воров из Рыковских станиц, которые больше других в воровстве винны?
— Рыковской станицы, — смутился Зерщиков, — начало в их воровстве. Но, всемилостивейпшй князь, в убивстве вора Булавина, если бы не рыковцы, то одним черкаским жителям етого бы не сделать.
— Знаю, про то и азовский губернатор мне говорил. А вот воры, которых вы ко мне привели, сказали, да и по другим ведомостям известно, что как Булавин к Черкаскому острову пришел, и прежде всех склонились к нему рыковцы.
Старшины молчали, понурив головы. Долгорукий с едва скрытой насмешкой смотрел, как они прячут от него глаза. Продолжал:
— И первым, говорят, поехал к Булавину Василей Поздеев Большой и договорился с ним, что атамана Лукьяна и старшин отдать. А потом ты, — князь повернулся к Зерщикову, — тех старшин, посадя в лодку, отвез к нему, вору Булавину. Было такое дело?
— Было, — совсем сник Илья Григорьевич, — бес попутал за грехи мои. Да и сам, господин майор, посуди: и надо мной, и над другими старшинами тогды смерть ходила. Что нам оставалось делать?
— Хорошо, что сам признаешь,— жестко подчеркнул Долгорукий. — Не только рыковские, но и вы, черкаские, все сплошь в том воровстве равны. Правильно я думаю?
— Правильно, — эхом отозвался войсковой атаман, — разве иное что тут скажешь?
— Все мы, — вступил Тимофей Соколов, етому делу виновны.
— Ежели то дело розыскивать, — признал и Зерщиков, — то все кругом виновны.
Долгорукий молча слушал, не возражал, давая понять, что всех их считает причастными к восстанию. Об этом он не раз говорил в своем окружении, писал царю. Таких, как Фролов или, как он потом узнал, Соколов, князь среди казаков видел мало. Но пока осторожно и ловко вел свою линию: сперва умирить Черкасск, овладеть положением, потом — казнить и жечь. Припирая к стенке, обличая черкасских старшин во главе с новым войсковым атаманом, он не считает возможным подвергать их сейчас же репрессиям. Делится мыслями о том с царем:
— А что, государь, Ваше величество, изволил ко мне писать, чтобы выбрать атамана человека доброго, и ручатца по них невозможно. Самому о том Вашему величеству известно и без нынешней причины, какова они (донские казаки. — В. Б.) состояния. А с нынешней причины (имеется в виду Булавинское восстание. — В. Б.) и все ровны, одново человека не сыщешь, на ково б можно было надеетца.
Действовать в Черкасске он собирается осмотрительно, без спешки:
— И я, государь, сколько мог выразуметь, — и больше того не здумал, что надлежит по здешнему состоянию, у твердя в Черкаском сколько возможно, оставить в нем полк салдацкой. И скажу им (старшинам.— В. Б.), что оставляю для охранения их, чтобы по отступлении моем от Черкаского бунту какова и возмущения не было; и им при полку надежнее. А жестоко, государь, поступить мне с ними было невозможно для того, что все сплошь ровны в воровстве, разве было за их воровство всех сплошь рубить. И тово мне делать без указу Вашего величества невозможно.
Долгорукого переполняла ненависть ко всем донским казакам. Жгучие чувства классовой и личной мести перехлестывали в нем через край, застилали глаза, и, ослепленный ими, он готов был, будь на то царское соизволение, рубить и вешать всех подряд, не разбирая ни голытьбу, ни старшин, по крайней мере — большую их часть. Однако он сдерживал себя, помнил наказ Петра: тех, кто непричастен к восстанию, и даже тех, кто причастен, но принес повинную, щадить, с ними «ласково поступать». Пока он так и делает, в том числе и прежде всего со старшинами. Но потом дойдет очередь и до некоторых из них...
— Конечно, государь, — переходит князь к очередным заботам, — мне отсель (от Черкасска. — В. Б.) надобно итти скоро, чтоб не допустить до большево воровства Некрасова. А Некрасов писал Булавину, что будто он Царицын взял. И то письмо послал я до Вашего величества.
Помимо Некрасова, обосновавшегося в Голубом городке на Дону, помнит князь и о Донце:
Также, государь, по Донцу, в Старом Айдаре воры Голой, Беспалой, в собрании при них с 1000-чью человек голудьбы. И, управясь под Черкаским против выше-писанного, надлежит мне отправить по Донцу против Голово и Беспалово, Также, идучи по Донцу, чинить против росписи (росписи Петра, в которой указаны места, где каратели должны разорять станицы. — В. Б.) над казачьими городками.
Командующий продумал все до мелочей, до деталей, предусмотрел все районы восстания. По распоряжению царя писал к Аюке-хану, чтоб он посылал своих калмыков разорять казачьи городки. Под Черкасском к Долгорукому подошел с полками Толстой из Азова; по пути умирил Лютинский городок, из которого атаман и казаки пришли к нему с повинной. Губернатор присутствовал при крестоцеловании Зерщикова и прочих.
Пока происходили описанные события под Черкасском, у города Ровенки, что в верховьях Айдара, полковник Те-вяшов и подполковник Рыкман с драгунами и солдатами, всего с 500 человек, разбили полутысячный отряд повстанцев. Возглавлял его атаман Ефим Ларионов. Погибли сам атаман, его писарь и еще 420 человек, почти весь отряд, большинство которого составляли бурлаки (350 человек). Остальные попали в плен или разбежались. Из карателей убили поручика Воронежского полка Бориса
Врангеля, пять солдат и ранила около двадцати человек, Соотношение в потерях почти 1:20 в пользу карателей, и оно, в большей или меньшей пропорции, характерно для большинства сражений повстанцев с врагом. Такова была трагичная логика и статистика борьбы неорганизованных повстанцев с организованными карателями. Разбитые под Ровенками булавинцы, как и другие, шли в сбор к Старо-Айдарскому городку, у устья реки Айдар, при впадении ее в Донец, чтобы потом идти к Черкасску против старшин-изменников.
Долгорукий получил утешившее его известие о победе под Ровенками. Но одновременно узнал, что царь велел батальону Глебова и полку Дедюта идти назад в Россию. Опечалился:
— И та, государь, у меня сторона (район Донецкого городка. — В. Б.) зело стала безнадежна. И уведают воры, что полки поворотилися, весьма будут в великой утехе. И я, государь, того же часу послал к Глебову и к Дедюту, чтоб они назад не ходили. А послушают ли меня они или не послушают, того не ведаю.
К тому времени командующий вступил в Черкасск. Здесь в начале августа казнили до двухсот повстанцев. Начали с того, что привезли из Азова тело Булавина и «ростыкали по кольям» напротив майдана, где собирался казачий круг, голову, руки и ноги атамана. Здесь же повесили восемь человек, схваченных под Азовом. В рыковских и других станицах повесили у станичных изб еще несколько десятков повстанцев. То же происходило и в других местах.
Вести о сборе людей к Голому на Донце и к Некрасову на среднем Дону заставляют Долгорукого принимать экстренные меры. В письмах к царю он возражает против отзыва с Дона и Придонья не только частей Глебова и Дедюта, но и Кропотова, Жукова с полками:
— И я преж сего писал до Вашего величества, что Жукова взял с собою; и немощно ево отпустить по воровским здешним оборотам. Игнашка вор Некрасов збирает воровское войско и посылает по Дону, по Хапру, по Донцу и по другим всем рекам, велел выгонять (казаков. — В. Б.) к себе. Сам стоит около Паншина. В Есауловой станице собралось тысячи три; сказывают, бутто больши те, кои бежали с низу (с низовьев Дона. — В. Б.) изо всех станиц. И которые станицы блиско Ясауловой, сказывают, бутто он, вор, сам к ним скора будет.
Таким образом, помимо войска Некрасова и Павлова у Паншина-городка, южнее его, у Есауловского, собралось немало повстанцев, бежавших из Черкасска и других нижних донских станиц. Царский командующий стремится во что бы то ни стало воспрепятствовать объединению двух повстанческих войск. Посылает свою конницу, и она быстрым маршем доходит до Верхне-Курманьярской станицы, по пути приводит к присяге царю казаков низовых станиц. Вышел и сам князь из Черкасска, выслал вперед бригадира с конницей. Еще раньше направил партию казаков-курчан.
Принятые меры предотвратили объединение двух войск и присоединение к ним новых казаков из станиц, куда нагрянули отряды Долгорукого. Сам он подошел к Кошкиной станице, стал обозом. Потом, взяв конницу, поспешил к Есаулову городку:
— Для тово: воры сказывают и Горохов (посланный во главе отряда курских казаков. — В. Б.) писал ко мне, что сели (восставшие. — В. Б.) на острову в крепи; и чтоб мне не допустить до них Некрасова. А обозу велел итти, пехота вся при обозе, и конницы оставил больши тысячи. Я чаю: завтра к ним приду.
Писал об этом князь царю четвертого августа. Спешит он еще и потому, что сюда же, к Паншину и Есаулову, идет с войском и Голый:
— Голой пошел по Донцу плавною (войском на судах. — В. Б.) и пришел на усть Донца; а другие конницею хотели итти к Некрасову в соединения. Уведали, что я пришол, усть Донца остановился, немошно пройти для тово, что у меня Доном идет плавная. Ежели б я не поспешил, великое б бедство вор Голой по Дону учинил: все б к нему пристали. Сами мне казаки говорили: коли б Голой снизу, а Некрасов сверху пошли, за неволею бы (поневоле. — В. Б.) все пошли с ними.
То, что встречные казаки говорили такие слова командиру карателей, неудивительно — одни, из маломочных, боялись царских полков, другие, из «природных», значных, — полков Голого и Некрасова. По-прежнему в казацкой среде отсутствовало, и это естественно, единство: одни хотели покориться царским «полководцам», другие — бороться против них и домовитых, предававших интересы голытьбы.
Долгорукий, вскоре вернувшийся в Черкасск, не упускает возможности, чтобы нет подчеркнуть перед царем свои заслуги:
— Зело, государь, по милости божией случай счастливой, что воров до соединения не допустили. И мне было по етаким случаем как отпустить Жукова? Ежели б не пошли Вашева величества полки по Дону, истинно б пуще Булавина воровства родилось.
Долгорукий и Толстой сообщают царю о выезде к нему из Черкасска с повинной делегации — Василия Поздеева Большого, Степана Ананьина, Карпа Казанкина и других старшин. Подчеркивают в доношениях, что они имеют вины перед государем, но у них «трудов и раденья к Вашему величеству много».
На Дону по-прежнему неспокойно. Вынашивают опасные для властей замыслы Голый и Некрасов, не хотят приносить повинную казачьи городки, что по Дону выше Донецкого городка. Об этом пишет Колычев, воронежский воевода, князю Меншикову. По его посылке сержант Воронежского полка Петр Рогов ездил на реку Битюг, чтобы узнать что-нибудь новое о булавинцах. Он прислал к воеводе двух донских казаков — Евсея Мельникова и его сына Потапа. Потап Мельников по приказу Долгорукого ездил «вверх по Дону с увещательными письмами во все казачьи городки до Донецкого».
Потап привез в Воронеж воеводе Колычеву неутешительные вести:
— Тем увещательным письмам во всех казачьих городках казаки учинились непослушны и от воровства своего не престают, но паче в воровство свое умножаютца.
— О Некрасове что слышно?
— Говорят казаки, что Некрасов пришел из-под Царицына со всеми своими войски. И сказывали, что Царицын взяли и воеводу царицынского убили, и весь Царицын разорили без остатку.
— А из верховских городков он, Некрасов, казаков к себе призывает?
— Посылает тот Игнашка Некрасов от себя воровские свои письма по всем верхним городкам и по запольным речкам в розные станицы по Хопру, и по Донцу, и по Бузулуку, и по Медведице, чтоб изо всех станиц и городков казаки по половине ехали в Паншин и збирались к нему, вору Игнашке Некрасову, в воровское войско.
— А его, Некрасова, замыслы им, казакам, ведомы?
— О том говорят казаки: намерен он, вор Игнашка, с воровским своим войском иттить к Черкаскому против войск великого государя, которые ныне с князем Васильем Володимеровичем Долгоруким.
— О Голом и Беспалом что говорят?
— О Беспалом слышно, что в трехстах коней перелез реку Дон с Крымской стороны на Ногайскую.
— Для чего?
— О том ничего я не слышал.
— Казаки верхних донских городков ныне спокойны, к бунтовству не пристают?
— Видел я, что воровские казаки из многих розных станиц, в том числе из Донецкого городка, собравшись, пошли под украинные государевы городы и по реке Битюгу для разорения сел и деревень и отгонки лошадей и скотины.
После эйфории в связи с гибелью Булавина и Хохлача, вступлением в Черкасск обеспокоенные власти снова напрягают силы, чтобы противодействовать новому расширению восстания. Долгорукий, вышедший из Черкасска конным и судовым войском (второе возглавлял Тимофей Соколов), требует, чтобы не только низовые, черкасские, но и верховские казаки шли с ним против Некрасова. Верховские, как мы убедились, не очень-то его слушались. С ним же шел Жуков с 500 драгунами. Преображенский батальон Глебова и полк Дедюта по его настоянию пошли к Донецкому городку.
К Некрасову и Павлову, как донесли князю, уже приехали в Голубые по два человека из многих городков по Дону и Донцу, Айдару и Хопру, Медведице и Бузулуку:
— А для чего и какой у них совет, того подлинно не ведаю. Однако ж, государь, добра от них не чаеть, больши худа. Также, государь, ведомость у нас есть: которые воры ис Черкаского и ис тутошних станиц, кои блиско Черкаского, ушли к ним, ворам, больши 200 человек.
То же происходило на Донце и его притоках:
— Так же и з Донца и с Айдару, и з других рек бегут пущие воры и завотчики к нему ж, Некрасову. А в Новом, государь, Айдаре (в среднем течении реки Айдар, недалеко от Шульгина городка. — В. Б.) збираетца Голой многолюдством же.
Правда, часть повстанцев, собиравшихся в районе Айдара, разбили Тевяшов и Рыкман. Но их было всего 500 человек. У Голого же и других атаманов людей гораздо больше. И это беспокоит командующего:
— И не токмо, государь, что по Дону, и по Донцу, и по другим рекам, но и в Черкаском трети нет, на ково б было надеетца; а то все сплошь воры и готовы к бунту всегда, что час от часу то бедство от воров прибавливаетца.
Уже в который раз Долгорукий напоминает Петру его указ о разорении донских городков, жалуется на недостаток воинских сил:
— И по указу Вашего величества, какова ко мне роспись прислана, надобно было мне по Северскому Донцу и по Хапру, и по Айдару, и по Медведице, и по Базулуку, и по другим запольным речкам розделить полки, чтоб над городками чинить. А ныне, государь, за малолюдством, хотя и над воровским собранием какой поиск учиним, и потом по прежней росписи по городкам некем будет управитца.
Жалобы князя имели определенные основания. Число повстанцев снова умножалось. Их предводители мыслили взять реванш — снова захватить Черкасск, разбить государевы полки и старшин-изменников. Кропотов, полки которого вызвали было в действующую армию, остался с одним полком на месте, в Троицком, «впредь для опасения гварнизонов от тех воров»; другой полк с Жуковым во главе выделили Долгорукому, «выбрав добраконных драгун». Долгорукий снова настаивает, чтобы Дедют с полком шел к Донецкому городку, оттуда — к Паншину, против Некрасова.
— Макаров ко мне пишет, — уговаривает князь Дедюта, — что тот указ к Глебову (об уходе его и Дедюта из района борьбы с повстанцами. — В. Б.) послан от царского величества по первому письму Толстова (азовского губернатора. — В. Б.), что он писал, бутто все смирно.
Толстой, действительно, убеждал царя, что на Дону все замирилось, а Долгорукому и в Черкасск не нужно было вступать, «обнадеживал, что тихо». Долгорукий решительно не соглашался с подобной оценкой ситуации в Черкасске и по всему Дону. Положение в «тихом», как полагал губернатор, то есть замиренном, крае оказалось не таким тихим и «смирным». Князь был прав в негласном споре с Толстым:
— Изволь сам, — втолковывает он Дедюту, — разсудить, что у вас делаетца на Айдаре, какие беды. А на Дону Некрасов збирает великие войска воровские. Боже, сохрани от него, ежели зберетца! Не плоше Булавина! А я завтра на него пойду.
Майор Глебов, собирающийся все-таки идти на Тулу и на Калугу по указу царя («к назначенному от Вашего величества мне месту»), сообщает ему:
— Только, государь, есть ведомости, что в ойдарских и в донецких городках воровской атаман Голой чинит возмущение. А другие ведомости есть, что тот вор от раны лежит, и воруют другие под его именем.
Тот же Глебов получил тревожные вести из Воронежа от Колычева:
— А круче, государь мой, тех вестей быть невозможно, о которых вестях в допросех сказал приезжей казак Евсевей Мельников, что воры казаки от городка Голубых и выше Паншина и по иным запольным речкам, во всех верхних городках от воровства и бунту не перестают, но паче множатца и по воровским письмам вора Игнашки Некрасова сбираютца по половине изо розных городков и станиц в Паншин. И намерены итти против войск царского величества, где полки обретаютца.
Восьмого августа Долгорукий снова выступил против Некрасова и Павлова из Черкасска, куда он вернулся после первого выхода из него, несколькими днями ранее, к Кошкиной станице. В тот же день в донскую столицу пришло письмо от Некрасова и Павлова с «грозами» в адрес Зерщикова и других старшин. Князя в эти дни «при-сыльные казаки» с Донца и Дона, один за другим, извещают о продолжающемся сборе повстанцев у трех атаманов. Положение на Дону кажется ему лучше, чем по Донцу:
— По Дону по се число еще не все к вору (Некрасову. — В. Б.) пристали для тово: как я в Черкаской пришел, скоро их привел я ко кресту и обшелся с ними ласково и обнадежил Вашего величества милостью. А по Донцу все сначалу в жесточи воровской стоят и по се время, и большое воровство от них. Из одной Сухаревской станицы ко мне приехали с повинною, — и тех многих побили (повстанцы. — В. Б.), а иных посажали на чепи.
Самое страшное для Долгорукого — возможность того, что Голый объединит свои силы с повстанцами Некрасова:
— И пишут (с Донца. — В. Б.) к вору Некрасову, чтоб он с ними совокупился в воровстве, и, собравшиеся б, на меня им всем итти. Нимало у них, воров, к покорению вин их к Вашему величеству намерения нет, больши к воровству. И я иду на них с великим поспешением, а со мною из Черкаского казаки плавною и конною и из городков, кои по Дону (нижнему Дону. — В. Б.); две доли идут с нами, а треть дома остаетца. В Черкаском оставил для охранения Гульца с полком. Губернатору азовскому довольно я говорил, чтоб он имел недреманное око над Черкаском.
Беспокоится князь по поводу вероятного перехватывания писем булавинцами:
— Немошно, государь, почту отпускать. От воров ныне есть нам ведомость, бутто воры поимали почту от меня или от Вашего величества. О том еще подлинно не ведаем. Изволь, государь, списать какие указы цыфирью, а я буду писать, государь, так же.
Восстание, как опасались и страшились Долгорукий и другие воеводы, командиры, грозило вспыхнуть с новой силой, как при Булавине, а то и «пуще» того. На авансцену повстанческого движения выходит один из самых стойких и последовательных борцов за народную волю, предводителей-булавинцев — Игнат Некрасов.
ИГНАТ НЕКРАСОВ И ДРУГИЕ БУЛАВИНЦЫ
В начале августа самыми горячими точками восстания стали два района: Паншина, Голубого и Есаулова-городков на Дону, что западнее и юго-западнее Царицына; среднего и нижнего течения Северского Донца. Им и уделял главное внимание Долгорукий. Одновременно продолжалось наступление карателей по всей периферии восстания.
Долгорукий вышел из Черкасска к Есаулову и Паншину 8 августа. В тот же день Зерщиков получил письмо (отписку) от Некрасова и «от собранного войска»:
— Государем атаманом молотцом войсковому атаману Илье Григорьевичю и всему великому Войску Донскому ис Паншина от собранного войска атаманов молотцов донских городков, и хоперских, и бузулуцких, и медведицких, и с новых мест из горотков челом бьем и ведомо чиним вам, государи атаманы молотцы.
Начало отписки внешне традиционно, уважительно но отношению к новому войсковому атаману. Но здесь же Некрасов и повстанцы без обиняков заявляют, что они пишут в Черкасск от «собранного войска», как представители донских, хоперских и прочих городков, в том числе и «новых», то есть выражают мнение основной массы казачества. Дальше тон отписки становится еще более жестким:
— Прислано к нам по Дону и по городкам ваша войсковая грамота, а в ней писано: убили-де мы Войском, всею рекою Кондратья Булавина; а таво не написано: за какую вину и с войскового ли суда? И то знатно, что не Войским и не с войскового договору. Да вы же Войским бутто учинили и посожали многих атаманов-молодцов, стариков из верховых городков, при нем (Булавине. — В. Б.) бывших, которые молодцы покинуты ради совету и думы, по человеку со станицы, знатных людей; и, собрав их, посажали на цеп и, поковав, посажали по погребам; и тисните неведамо за какие дела.
Некрасов и его помощники прямо говорят о незаконности с точки зрения донского войскового права убийства Булавина и ареста его сподвижников — «не Войском», без войскового суда и приговора (договора). Упоминают они и требование новых властей Черкасска о выдаче им Ивана Павлова, но не отвечают на него, очевидно, не считая это нужным. Наоборот, сами выдвигают требование к Зерщикову и старшинам:
— И мы, собранное войско и верховые многих городков, извесно чиним, чтобы вам Войским, Илья Григорьевич, учинить отповедь: за какую вину вы убили Булавина и его стариков? Вы же сами излюбили и выбрали ево атаманом и тех стариков вы придумали покинуть при Войску. А ныне вы же их посажали по цепям и по погребам.
Более того, некрасовцы угрожают старшинам-изменникам приходом в Черкасск для «подлинного розыска»:
— И если вы не изволите отповеди учинить о Булавине, — за какую ево вину, и тех стариков бы вам освободить и отпустить. И они не отпущены будут, и буди по воли вашей. И мы всеми реками и собранным войском будем немедленно, совокупяся, к вам в Черкаской ради оговорки и подлинного розыску, и за что вы бес съезду реки так учинили; и знатно, что учинилось не от всего Войска. И у нас по рекам и по городкам на том положили, что итить к Черкаскому.
В конце отписки ее составители намекают на возможность компромисса, при соблюдении Зерщиковым и прочими определенных условий:
— А буде вы, атаманы молодцы, Войским Донским верховых наших молодцов и стариков освободите в домы свои и теснение им не будите чинить, и мы изо всех станиц малыми людьми ради совету, и оговору, и поклону.
Однако угрозы и требования повстанцев Некрасова на черкасские власти и стоявших за их спиной Долгорукого и прочих карателей впечатления не произвели. Полки царских командиров и старшин-предателей двигаются против повстанцев.
Долгорукий по-прежнему не верил Зерщикову и его помощникам. Но проявлял сдержанность, исходя из местной обстановки. Несмотря на то, что один из царских посланцев, Полибин, ему «сказывал словом от Вашего величества, чтоб мне с ними (казаками. — В. Б.) жестоко поступать», Долгорукий не мог этого сделать:
— И я для того не так жестоко поступаю, что невозможно. И так х каторому городку приду, бегут в леса, а иные к Некрасову. А ежели б я поступил жестоко к первым городкам, все б к вору ушли в соединение.
По той же причине князь не мог осуществить приказ царя — арестовать Зерщикова и взять его с собой в поход:
— Указ сей получил я, отошед от Черкаского, не в ближних урочищах, прошед Кочетовскую станицу (южнее впадения Северского Донца в Дон. — В. Б.). И взять ево (Зерщикова. — В. Б.) нагла за караул по нынешнему их состоянию немочно, чтобы больше от них не умножилось воровства. И бес сей причины вор Некрасов возмущает по Дону и по всем рекам, бутто их всех и городки жгут (каратели Долгорукого. — В. Б.) по Дону. Как я прошел, те не верят вору; а кои перед нами, и из многих к нему, вору, бегут многие з женами и з детьми.
Исходя из этого, Долгорукий написал Зерщикову, чтобы он приехал к нему — показать «службу и радение» царю. Тогда, мол, убеждает он Петра, можно и взять его под караул:
— И я чаю, что он будет. А как будет, и я ево, не озлобя, возьму с собою и дам ему такую причину, что он не признает (о замысле арестовать его. — В. Б.). И, прошед по Дону, возьму ево с собою.
Главное для командующего — поход против Некрасова, преемника Булавина:
— Вор Некрасов, сказывают, в большом собрании, бутто с ним больши 15 000. И тому я не верю. Однака ж прислана была застава на усть Донца, атаман, а с ним с 500 конных. И сказывали они казакам Кочетовской станицы, что он будет сам вскоре плавною и конною. И конечно, бутто хочет дать со мною боталию.
Сведения о количестве повстанцев у Некрасова, конечно, весьма преувеличены, что князь и отмечает. Верно говорит он и о замысле Некрасова идти вниз по Дону для «баталии» с Долгоруким, соединившись перед тем с Голым в устье Донца. Впрочем, объединение повстанческих сил провести не удалось; посланную Некрасовым к устью Донца заставу в 500 человек, которая, вероятно, и должна была подготовить слияние обоих войск, каратели «сбили» с ее позиции, и повстанцы «побежали».
Голый тоже проявлял стремление соединиться с Некрасовым. Подполковник Рыкман, будучи под Валуйками, узнал, что этот атаман еще после разгрома Сумского полка взял две медные пушки, с которыми потом пошел к Некрасову в Голубые. Рыкман писал Колычеву, воронежскому воеводе, что из городков по Донцу и его левым притокам с Голым пошли казаки «по половине, а другая половина оставлена для обережения от полков, чтоб противитца до смерти их». На речке Уразовой, где недавно повстанцы разбили Сумский полк, к Рыкману привели «шпиона булавинца», который после пытки сказал:
— Прислали меня ис казачьих городков Сухарева и ис Кабанья для проведыванья: есть ли под Волуйками полки (царские полки. — В. Б.)? И с тою ведомостью быть мне в Кабанье городке.
Несколько дней спустя поймали пять повстанцев под Сватьей Лучкой в районе реки Красной, и они рассказали Рыкману о Голом, настроениях местных казаков:
— А з Донца казаки к Некрасову пошли все. Итого с ним, Голым, пошло 2000 человек.
Каратели со всех сторон наступали на повстанцев. Рыкман жег городки по Донцу, вешал повстанцев. Хованский, шедший с войском к Дону, выслал саратовцев и калмыков к «воровскому казачьему Перекопскому городку», севернее Паншина, и они его взяли, «людей порубили и многих в полон побрали, также лошадей и скота побрали многое же число. И тот Перекопский городок разорили и выжгли весь до основания». Трех пленных перекопских казаков прислали к Хованскому. Один из них, Дмитрий Григорьев, «в роспросе» сказал воеводе:
— Слышал я от казаков, которые ходили под Царицын: атаман Игнат Некрасов и другие казаки взяли тот город и, взяв его, покиня, бежали. И те казаки, также и другие, гулящие люди и царицынцы, которые не были в осадном городке (крепости, цитадели. — В. Б.), пристали к их же воровству и пришли на Дон, и ныне в Паншине. А атаманом над ними Игнашка же Некрасов да другой Ивашка Павлов.
— Какие у тех атаманов замыслы?
— В нынешний пост было в верховые казачьи городки от Игнашки Некрасова и к нам в Перекопский городок письмо. А в том письме написано, чтоб атаманы и казаки шли к ним в Паншин к сроку. — Казак, помолчав, добавил: — А хочет итить з Дону; а куды подлинно, о том не ведает.
— Казаки идут к нему?
— Одни идут, другие не хотят.
— Кто не хочет?
— Лутчие люди. Многие из них съезжались из верховых станиц к Игнату Некрасову на Дон и от такова ево намерения унимали. И он их не послушал.
— А потом что лучшие люди сделали?
— Возвратились в свои городки. И после того учинили во все станицы ведомость, чтоб съезжались изо всех верховых станиц лутчие люди по десять человек в Усть-Хоперский городок. А слышно было, что хотят в деле, куды он, Игнат, хочет итить, отказать. И от нас ис Перекопского городка поехали в тот Усть-Хоперской городок десять человек.
— Что в иных казачьих городках чинитца?
— Того я не знаю.
Хованский убедился в отсутствии единства среди казаков в верховых городках — многие «лучшие люди», природные казаки не хотели идти к Некрасову, продолжать восстание. Другие казаки, маломочные, голытьба, не разделяли их позиции еще со времени событий конца зимы и весны, когда большинство из них поднялись на восстание и собирались в Пристанском городке, чтобы начать движение к Черкасску. Это хорошо понимал воевода:
— А как вор Кондрашка Булавин учинил на Дону бунт, — и начаток воровству и приобщение к нему пущее учинилось верховых городков от казаков, которые городки вверх по Бузулуку, и по Хопру, и по Медведице.
И потому Хованский с войском пошел «на искоренение тех воровских казаков» к Паншину, а оттуда вверх по Медведице, Хопру и Бузулуку.
По сведениям других воевод и командиров, Некрасов имел 10-тысячное повстанческое войско, Голый — две тысячи человек. В Есаулове по прелестным письмам от Некрасова, посланным по всему Войску Донскому, собралось три тысячи человек.
Некрасов вышел из Голубых вниз по Дону к Есаулову-городку. С ним шли атаманы Иван Павлов, Сергей Беспалый, Лоскут и другие, «хотели итти в Есаулов городок в соединение к тем же ворам сухим путем и плавной».
— И дошли до Нижнего Чиру (недалеко от Есаулова, вверх до Дону. — В. Б.), — пишет далее царю Долгорукий, — и я, покинув пехоту и обоз свой, пошел одною конницею наскоро. Да ис Черкаского казаки плавною, чтоб их, воров, в соединение не допустить. И те воры сели в осаду и покорения Вашему величеству не принесли.
И здесь Долгорукий опередил повстанцев — не дал соединиться Некрасову с есауловцами. Последних возглавлял атаман Василий Тельный, при нем же были «пущие воры и завотчики» Чекунов, Кобыльский, Беляев «да самые ж воры, которые бежали ис Черкаского».
Есаулов городок лежит на острове и, по словам Долгорукого, «зело крепок, кругом вода великая; только с одну сторону сухой путь, и тот зело тесен».
Долгорукий, подошедший к нему, имел около полутора тысяч человек, конницу Шидловского («Вашему величеству известно, — каковы черкасы», — так он аттестует их царю), черкасских казаков с тысячу человек, на которых князь не очень-то надеялся:
— А по их состоянию чаять больши бы они им (восставшим. — В. Б.) в помочь, а не нам.
Каратели подошли к Есаулову 22 августа. Сразу пошли на приступ. Их встретил «жестокий бой» из пушек и ружей. Обе стороны несли потери. На следующий день есауловцы, «видя, что им в том городе не отсидеться», а Некрасов не сможет прийти к ним на помощь, сдались. Еще день спустя они принесли присягу на верность царю. Долгорукий не упустил возможности провести жестокие, устрашающие казни:
— И я пущих воров и завотчиков взял с собою 10 человек. А атамана их походного (В. Тельного. — В. Б.) да двух старцов-роскольщиков четвертовали и поставили на колье. А других переказнили и перевешали круг того городка; и поставели висилицы на плотах, и, перевешав, пустили по Дону. Всего кажнено больше 200 человек.
Одновременно Хованский подошел к Паншину. Здесь собралось до четырех тысяч повстанцевв («кроме жен и детей»). Они собрались идти вниз по Дону к Голубой станице с семьями, с обозом (полторы тысячи телег), чтобы соединиться с Некрасовым. Но тот ушел из Голубой и стал у Нижнего Чира. Впрочем, эта группа восставших далеко не ушла. Ратники Хованского в пятя верстах от Паншина ворвались в обоз. «Была баталия великая» — признавал воевода. На обоз, шедший берегом реки, налетели драгунский батальон, полк стольника Дмитриева-Мамонова, «несколько дворянских и мурзинских рот», калмыки Чеметя-тайши, Донду Омбо — внука хана Аюки и Байсулунта. Повстанцев полностью разбили, многих «покололи, а иных потопили»; их жен и детей, пожитки «побрали по себе немалое число» русские ратные люди и калмыки.
Каратели взяли на поле боя шесть знамен восставших, два значка, восемь пушек медных.
Некрасов, Павлов, Беспалый, Лоскут и другие, узнав о двух поражениях своих собратьев, понимали, что их положение безнадежно — они попали в клещи: с севера на них шел Хованский, с юга Долгорукий; оба были довольно близко. С двумя тысячами восставших, с семьями они, побросав пожитки, переправились через Дон у Нижнего Чира и пошли на Кубань. Погоня, посланная за ними, их не догнала.
Оба командующих пошли дальше усмирять казачьи городки. Долгорукий повернул на Донец, взял с собой и черкасскую судовую рать. Во главе ее поставил Зерщикова, а Соколова отпустил домой. Донские казаки, уверен командующий, ныне, после расправ у Есаулова, «в великом страхе». Не то на Донце — там «еще немалое воровство и шатость», и он, князь, идет туда, где действуют «Голой да Тишка Белогородец с товарыщи их».
Долгорукий жалуется на тяготы похода: выжженная степь, отсутствие провианта, бескормица для лошадей. Он шел от Есаулова на запад степью. В начале сентября дошел до Обливенского городка. Около него встретили его местные казаки, сказали: Голый, собравший по Донцу до трех тысяч человек, шел к Некрасову, но от их городка повернул назад, узнав о событиях под Есауловом. Далее они добавили:
— Тот Голый положил на том, чтобы ему к тому воровскому войску собрать больше и дожидатца тебя, князя, на Айдаре.
Голый стоял в Обливах шесть дней вместе с другим атаманом — Рыскуловым. Потом, взяв с собой спутников, «на 40 конех», поехал в Чирскую станицу. Узнал, что Долгорукий идет на Донец. Вернулся в Обливы, откуда Рыскулов, узнав о походе карателей, ушел с полу-тысячей восставших. У Голого осталось две с половиной тысячи, и он двинулся на Айдар.
Долгорукий перед выходом из Обливенского городка казнил в нем «пущих заводчиков». По пути к Айдару, вдогонку за Голым, сжег Дегтярный городок. Он спешил к Айдару. Туда же шел по его приказу Шидловский, о чем он доносил Меншикову:
— И сего августа 29-го числа от реки Дону пошли мы с полками к реке Северскому Донцу для истребления оной же донской Либерии и для искоренения таких же воров и завотчиков Голого и Тишки Белогородца, и для опустошения по росписи (Петра I. — В. Б.) по Донцу построенных городков. И того ради по Донцу отправлен я з брегадою, с фан Дельдиным и з гетманскими полками. А господин командир путь восприял ойдарскими городками.
В тех местах продолжались, и довольно еще долгое время, действия повстанцев. Воеводы и командиры жаловались на трудности для проезда курьеров, посылки почты.
То же происходило в верховых донских городках и в придонских русских уездах. 8 сентября в Тамбовском уезде на речке Малый Алабуг в бой с карателями, продолжительный и ожесточенный, вступили местные крестьяне из «отложных» деревень (вышедших из подчинения властям и помещикам), 1300 «воровских казаков» и 1200 «казаков» с пристани во главе с атаманом Степаном Шиваевым.
Хованский с войсками в эти дни шел по верховым городкам Дона, Медведицы, Хопра, Бузулука. «И, шед по Дону до Кременных, — сообщает он в Москву, — многие их казачьи городки взяли и выжгли, и вырублены все без остатку».
В Кременном городке, на полпути от Паншина к Усть-Медведицкому, вверх по Дону, воеводу встретили местные и другие, съехавшиеся из разных станиц казаки. Принесли повинную. К отписке Хованский приложил роспись городков, им выжженных: Голубые, Паншин, Качалин, Иловлинский, Сиротин, Старый и Новый Григорьевские, Перекопский; всего — восемь городков. У крестного целования были, то есть принесли присягу в верности, 12 городков по Дону, три медведицких, десять хоперских, 14 бузулуцких; всего 39 городков.
Но полного замирения здесь не получалось. Болконский, козловский воевода, пишет в Москву:
— А о злом возмущении и о бунте оных воровских казаков, также и о воинских людех колмыках вести и доныне множатца. Естьли, государь, от воровских козаков и колмыков х Козлову и к Танбову будет приход, и противу их отпору будет дать нечим.
Князь имеет в виду недостаток в Козлове ружей, пороха и свинца. Беспокойное состояние этого края озлобляло воевод и позднее; Долгорукий глубокой осенью еще придет сам в эти места для наведения порядка по своему, карательному способу. Пока же главной заботой командующего стало преследование Голого — самого смелого и решительного из атаманов, оставшихся после гибели Булавина, Драного, Хохлача, бегства с Дона Некрасова, Беспалого, Павлова, Лоскута.
Шел уже сентябрь, а восстание, хотя и сильно ослабленное после июльско-августовских поражений, продолжалось. Голый и его войско, преследуемые карателями, ушли с Айдара и появились на среднем Дону. Здесь, у Донецкого городка, местные казаки во главе с атаманом Викулой Колычевым на бударах переправили их через реку. По приказу Долгорукого черкасские старшины послали против повстанцев Голого свое войско — «судовое и конное» во главе с Герасимом Лукьяновым, а также отправили «по всем рекам» войсковые письма о поимке атамана. Петр Емельянов, оставшийся в Черкасске за войскового атамана, поскольку Зерщиков сопровождал Долгорукого, известил князя:
— Да сего ж сентября в 29-й день писали к нам, Войску, сверх с Дону пятиизбенские, верхние и нижние чирских станиц казаки в письме своем, что Григорьевской станицы вор, и изменник, и богоотступник, и от государя отметник Сенька Селиванов, а прозвищем Ворон, забыв страх божий и к великому государю обещание и крестное целование, прибрав к себе таких же воров и приехал в Нижнюю Чирскую станицу с Ногайской стороны, и возмутил в том городке малыми людьми на злое воровство.
Восстание, поднятое на нижнем Дону, в, казалось бы, уже «замиренных» карателями местах, было подавлено. Казаки двух Чирских и Пятиизбенской станиц «едва тех воров из станицы вон выбили». Этот эпизод показал, что усмирение и здесь, в местах проживания наибольшего числа природных казаков, проходило не без осложнений. Однако Селиванов достиг своего: казаки Нижнечирской, Есауловской и Кобылянской станиц вместе с семьями ушли с ним на Кубань к Некрасову. Очевидно, сам приход сюда Селиванова с Ногайской стороны был предпринят по согласованию с атаманом-раскольником Некрасовым.
Между тем Голый, обосновавшийся у Донецкого городка, провел смелую операцию, закончившуюся победой над царским полком. О событиях, с нею связанных, пишут царю командующий и другие лица. Долгорукий пришел к Новому Айдарскому городку в середине сентября. Поскольку Голый ушел оттуда за четыре дня до него, князь послал за ним погоню — две тысячи в полках фон Делдина и Тевяшова, царедворцев и даточных. Они догнали его в Богучаре, что в 20 верстах от Донецкого городка, вверх по Дону. Уже стемнело (шел третий час ночи), враги стояли в трех верстах друг от друга. Но ночью Голый ушел к Донецкому:
— А он, вор (Голый. — В. Б.), — сетует майор, — переправил за Дон большую половину людей, и обоз, и скот. А из Донецкого атаман Колычев с товарищи учинили ему, вору, великов споможение, дали будары и ево перевезли в городок совсем за Дон. И сами все вышли к нему, вору, в помочь. И как оне (каратели. — В. Б.) догнали вора под Донецким, и вор Колычев вывес пушки, и стали в крепи.
Приняли Голого в Донецком городке не без сомнений и борьбы среди казаков. В ту ночь, когда каратели подошли к лагерю Голого у Богучара, атаман прислал с вестью о том дьячка в Донецкий. В городке зазвучал набат. Атаман и многие казаки, собравшиеся на майдане, стояли на том, что Голого нужно впустить в городок. Другие кричали против. Победили первые, и Колычев сообщил Голому, чтобы тот шел к ним. Атаман привел четырехтысячное войско с пушками, обозом, скотом. С повстанцами прибыли и их семьи.
Фон Делдинн и Тевяшов ни с чем ушли назад — ничего не могли сделать с войском Голого и казаками Донецкого городка. Долгорукий пришел под Острогожск, южнее Коротяка и Воронежа, и здесь в начале октября узнал о разгроме Голым полка Бильса:
— Сего, государь, числа (3 октября, день написания и посылки письма царю. — В. Б.) получил я ведомость, что вор Голой под Донецким полковника Бильса с полком розбил, и ево, полковника, и афицеров посадили в воду, а салдат ево, отобрав у них ружье, держат за караулом.
Полковник Илья Бильс плыл с полутора тысячами солдат на 170 бударах, а на них — 1200 работных людей; он вез из Провиантского приказа хлеб для Азова и «денег тысечь с 8». Несколько человек — тот же Колычев, «провиянт Строев», старец из Донецкого монастыря — писали и говорили Бильсу, чтобы он не плыл к Донецкому и дальше к Азову. Но он не послушал и в конце сентября прибыл к городку. Пристал к берегу. Голый и Колычев пришли к полковнику «с почестью, с хлебом», «и он их за то подчивал». Оба атамана прошлись по бударам, увидели пушки, свинец и прочее. По просьбе донецкого атамана Бильс дал ему бочку пороха в шесть пудов. Полковник попросил у них провожатых и, получив их, поплыл дальше.
На другой день сильный ветер поднял волну, и будары «розбило врознь», некоторые сели на мель — не без помощи провожатых из казаков. По берегу за караваном шли Голый и его повстанцы. Воспользовавшись бурей, они захватили будары. Бильса и других офицеров перевязали, потом утопили. У солдат отняли ружья и знамена. Взяли денежную казну, пушки, офицерские пожитки, провиант.
Селиван Извалов, казак из Распопинской станицы, сообщая в Черкасск о действиях Голого против Бильса, добавляет:
— А возмущает (Голый. — В. Б.) народу и сказывает, что будто тот караван шел к ним в городки с войною.
Толстой опасается по поводу того, что замышляет повстанческий атаман:
— И жон своих и детей хотят розвести по казачьим донским, и донецким, и хоперским, и медведицким городкам, а самим, собрався, итить под украинные городы, а иные для прелести по Дону и по иным рекам.
Восставшие Голого по-прежнему не хотели складывать оружие. Планировали снова поднять на борьбу казаков и других людей по всему Дону, идти в русские уезды. Позднее «вышедшие из Донецкого и из воровского войска Голого» пленники в допросах поведали о событиях того памятного для них дня 27 сентября. Всего дали показания 52 человека. Двое из них, казаки Донецкого городка, сказали:
— Как они (повстанцы Голого. — В. Б.) князя Долгорукого разобьют, и им итить под украинные городы и до Москвы.
Два острогожских казака, присланных в Донецкий к Колычеву с указом о поимке Голого, убедились, что местные казаки имели совсем другие намерения:
— Как тот указ в Донецком чли в кругу, и воры кричали, что ево, Голова, и иных никаво не выдадут, потому что и Булавин потерян напрасно. И итить бы им на князя Долгорукова. Да в то же время к нему, Голому, пришли ис Казанской, из Мигулинской, ис Тишанской, из Еланской, из Решетовской, из Вешек и из ыных станиц. Да, они же, воры, говорили, что бутто вор Некрасов с Кубани, подняв орду (Ногайскую орду. — В. Б.), идет к нему, Голому, на помочь.
Два монаха из Мигулинской станицы вызнали о местопребывании Голого после разгрома Бильсова полка:
— Голой ныне стоит в Старой Тихой станице, и мать и жена ево с ним же. А воровское ево собрание стоит около той станицы.
Другие допрошенные рассказали о безуспешной попытке поймать Голого:
— Как Голой пошел от Донецкого вниз по Дону, и Распопинской станицы атаман Селиван Извалов, собрався с казаками человек с 500 и больши, пошел было для поимки Голого и стоял на Решетовском рубеже с неделю. И он, Селиван, уведав, что у него, Голова, многолюдство, поворотился назад.
На самом деле Извалов не просто «поворотился назад» — его Голый разбил в Мигулинской станице, недалеко от Донецкого городка. К тому же на помощь Извалову шло из Черкасска войско, конное и судовое, во главе с атаманом Давыдом Тимофеевым. Оно дошло только до Обливенского городка и с полпути, узнав о поражении Извалова, «убояся за малолюдством», вернулось назад. Сам же разбитый распопинский атаман бежал «с малыми людьми» в Правоторовскую станицу, на Хопер, к атаману Митрофану Федосееву. Последний, собрав казаков из близлежащих станиц, пришел в Усть-Медведицкий городок «для препятия и поимки Никитки Голого».
— А ныне, — сообщает черкасская старшина Долгорукому, — вор Голой идет меж Доном и Хопром з женами и з детьми.
Сам Долгорукий, находясь в Острогожске, собрал подводы для похода против восставших, трудности которого его очень смущают:
— И пехотные, государь, полки с Коротаяка хочю я отправить на бударах, других лехких судов нет и лоток только 12. Сказывают тутошние промышленники, что за нынешнею мелью скоряя на бударах не поспеешь дву недель; драгунским полкам зело трудно итти, что степь вся вызжена. А бес конницы никоторыми делы итти невозможно для того, что их, воров, собралось многое число; и сказывают, что их, воров, умножаетца от часу больши. Зело, государь, поход мой труден: первое, что позно время, кормов нет, все вызжено, люди и лошади томны (истомились. — В. Б.). А у них, воров, ружья и пороху довольно, которое отобрали у Бильса, и пушек в Донецком блиско 100.
Командующий по пути к Острогожску точно выполнял указ Петра:
— А по Айдару, государь, городки все и по Донцу от Лугани вверх все же против росписи (Петра. — В. Б.) вызжены и над людьми учинено по указу.
За командующим оставались выжженные городки, убитые, повешенные, колесованные.
Как нередко бывало и до этого, к Долгорукому, закончившему письмо к царю, на этот раз из Острогожска в начале октября привели нескольких людей, и он узнал новые сведения, которые тут же продиктовал писарю. Два казака, Василий и Семен Ананьины дети Богомолова, бежали из Донецкого городка от Голого и Колычева. Князь спросил:
— Для чего?
— Для того, что вор Голой пришел к нам в Донецкую станицу с воровским своим собранием.
— Когда?
— Тому недели з две.
— Кто его принял в Донецком?
— Атаман Микула Колычев с казаками да ясаул Тимошка Щербак, Антошка Гай и иные их единомышленники, имян их я не помню.
— Колычев сносился с ним, вором?
— Атаман Колычев писал к нему, Голому, на Айдар, чтоб он с воровским своим войском, з женами и з детьми и скотиною пришли к ним в Донецкую станицу; а у них запасу много и в той станице жить им безопасно, что то место крепко. И по тому ево Микулкину письму он, вор Голой, прислал к ним в станицу полковника своего воровского Ивашку Рябого.
— Что говорил тот Ивашка Рябой?
— Говорил он атаману Колычеву: по ево-де, Колычева, письму он, Голой, со своим войском, з женами и з детьми идут к ним в Донецкую станицу. И пришли и стоят на Богучаре. И он, Колычев, с товарыщи велел им быть к себе в Данецкою станицу. И тот Рябой поехал к нему, Голому.
— А потом?
— После того ж дня, в ночи прибежал от нево, Голова, с Бугучара в Донецкою станицу Закотницкой станицы дьячок Ивашко с товарыщи и сказал, что ево, Голова, с товарыщи государевы полки на Богочаре осадили, и чтоб ево выручить и дать помощи.
— Что ответили в Донецком?
— В Донецком почали бить в набат, в колокол. И атаман Колычев, и иные многие козаки говорили, чтоб ево, Голова, пустить в Донецкую станицу. А иные казаки, Леонтей Сафронов, Федот Чернушкин с товарыщи, пустить ево, Голова, в тое станицу не хотели.
После прихода Голого к станице, переправы через Дон за ним подошли каратели — фон Делдин и Тевяшов с полками. Но, не решась на сражение, отступили:
— И он, Голой, стал в крепи под горою к реке Дону. А на отпор к ним, полковником, выслал он, Голой, воровских своих козаков с ружьем на гумна. И те полковники, усмотря, что он, Голой, от них ушол и стал в крепи, от того городка отступили и пошли к Острогожску.
После рассказа о разгроме Голым полка Бильса Богомоловы подтвердили сведения о планах повстанцев:
— Собрався, хотят итить под украинные городы, где стоит с полками господин князь Долгорукой. И как евот князя Долгорукова, с полками разобьют, то чернь к ним, собрався, пристанет от многих несносных податей, и от тягости, и от прибыльщиков к нам, ворам. И, поймав городы, пойдут до Москвы побить бояр, и немцов, и прибыльщиков.
Те же Богомоловы упомянули о караулах, которые повстанцы поставили в разных местах, и непрестанных разъездах, ими же посылаемых. Зиновий Кузьмин, дворовый курского помещика Алексея Авдеева, убитого «казаками бурлаками» в Букановской станице, рассказал Долгорукому в его походной канцелярии в Острогожске:
— К Голому идут с Хопра, снизу, сухим и водяным путем многие из Мигулинской, Решетовской, Вешков-ской, Тишанской и Казанкинской станиц казаки, переправлялись конницею через Дон при них в Казанке. А иных которых станиц идут, того я не знаю для того, что многие городки обходили ночью. И в Казанке многие казаки и бурлаки говорят, что им, собрався, итить на самого князя Долгорукого или, как он придет в Донецкой, умереть им всем заодно, а Голого не выдать.
Решительные настроения восставших, их планы борьбы с Долгоруким, похода на украинные русские города и на Москву с тем, чтобы расправиться с боярами, иноземцами и прибыльщиками говорят, что они по-прежнему не оставляли своих надежд на успех. К ним шли со всех сторон люди, бежавшие от «несносных податей» и прочих тягот. В то же время они не исключали и возможность неудачи, поражения. В этом случае готовы были умереть, но не выдать отважного предводителя — Голого.
Каратели передвигают, концентрируют полки для окончательного «искоренения воровства» — восстания в верховых городках. Волконский из Козлова пишет Меншикову, что «по Медведице и по Бузулуку весьма надобно искоренить их (казаков. — В. Б.) воровские жилища без остатку»; «хоперским, и бузулукским, и медведицким казакам, чтоб в тех местах не быть; а естьли быть указным городкам, и то б по одному Хопру такова ради случая, что в Озов повсегодно всякая лесные припасы ходят Хопром». Пристанский же городок на Хопре все же «весьма надлежит искоренить весь, понеже всему их воровству в нем начало и большое возмущение украины (окраинных южных русских уездов. — В. Б.)».
Воевода испрашивает, в частности, инструкции у Меншикова по поводу бунтующих жителей Борисоглебского, Козловского и Тамбовского уездов:
— Борисоглебский городок и уезд весь и доныне с ними, ворами, в бунте; также из козловских и танбовских сел будет дворов с 1000-ю да черкас ста с 4 и доныне в воровском состоянии — им что повелено будет учинить?
Царь и Меншиков, занятые борьбой с Карлусом, следят внимательно и за донскими делами. Царю кажется, что все там закончено, бунтари усмирены. В начале октября он шлет Долгорукому указ:
— Ежели ты дело свое на Дону окончал, тогда б оставить на Воронеже столько, сколько из ваших полков надобно, а з остальными полками шел бы к Москве, не мешкав.
Однако Долгорукий, только что говоривший о разгроме Голым Бильсова полка, выражает сомнение:
— И по вышеписанному случаю за воровством вора Голово к Москве итти опасен от Вашего величества гневу. И на сие мое доношение требую от Вашего величества указу.
Меншиков же узнал от Шидловского о разорении его бригадой и другими полками городков по Северскому Донцу по приказу Долгорукого:
— И, будучи в тех донецких юртах, которых городков по Донцу люди во время нашего приходу сели было в осаде и чинили с нами бой, а по указу (Петра. — В. Б.) довелось опустошить, достав те городки, не только поселение, но и хлеб, все без остатка выжгли и разорили, а именно 6 городков. И самих пущих воров переловили и отослали в полк к нему, лейб-гвардии маеору. А других таких же воров многое число показнили, и перевешали, и на каторгу послали; а прочих выслали в старые места, хто откуда схож.
Каратели действовали без пощады, проходили огнем и мечом по станицам, принявшим активное участие в восстании, новопришлых отсылали в прежние места. Жителей тех городков, которые не велено было сжигать и разорять, приводили к присяге, обнадеживали царской милостью, но «заводчиков» и отсюда забирали для расправы. Шидловский напоминает светлейшему князю, что при нем в армии служат донские, черкасские казаки, которые неизбежно узнают о том, что происходит у них на родине:
— Многие отцы их и свойственники показнены и повешаны, и на каторгу разосланы, домы их без остатку разорены и жон их разослали по городам, хто откуда бежали. А иные жоны их побежали на Кубань с вором Некрасовым, а иные з Голым на Медведицу.
Шидловский считает, что с этими казаками нужно иметь предосторожность:
— Извольте о сем пространно разсудить: ежели они придут ведомы, чтоб не уросло от них какого зла. Мню, чтоб там им сыскать новое где поселение. А естьли и отпущать, — разве изволишь отпустить самих черкаских жителей, только те домы совсем целы. А юртовские мало хто своего дома сыщет цела.
Долгорукий в это время преследовал Голого и других повстанцев. С Коротояка он подошел к Донецкому городку. «Чрез языков» (пленных) узнал, что Голый ушел вниз по Дону к Усть-Хоперскому городку с четырехтысячным войском — против распопинского атамана Извалова, который снова собрал против него казаков из городков Усть-Хоперского, Усть-Медведицкого и Распопинского. Атаман, взявший с собой по половине казаков из станиц — с Донецкой до Усть-Хоперской, с дороги прислал «загонщиков», чтобы они собрали и привели к нему другую половину. Долгорукий, снова «покиня обоз и пехоту», с одной конницей поспешал к Донецкому городку. Пришел утром 26 октября. В нем «засели в осаде насмерть» до тысячи человек — казаки, бурлаки и прочие. Каратели пошли на приступ:
— Воры донецкие, — писал князь царю, — сели в осаду и палили ис пушак и из мелкого ружья стреляли. И я пошол з двух сторон.
Пушечная и ружейная перестрелка длилась часа полтора. Долгорукий в конце концов взял верх:
— И милостию божиею их, воров, розбил и что было их воровского собрания, — побили; и многие в Дон метались и потоплись; а драгуны побили их, воров, на воде и живьем взяли с полтораста человек, тех всех повесили. А донецкого атамана Викулки Колычова брата ево родного Микитку да наказного атамана Тимошку Щербака четвертовали и поставили на колья. А Донецкой, государь, весь выжгли.
После беспощадной расправы над повстанцами в Донецком Долгорукий, узнав, что Голый перешел в Букановскую станицу, недалеко от устья Хопра, планирует идти на него через Казанскую станицу, чтобы подойти к его лагерю с севера. А с юга сюда же приказывает поспешить Извалову с устья Хопра и походному атаману, который шел из Черкасска.
Но встретились противники не у Букановской, а у Решетовской станицы, около того же Донецкого городка, ставшего в октябрьско-ноябрьские дни центром движения. Голый имел войско в семь с половиной тысяч человек, в том числе пять с половиной тысяч пришли с Айдара, две тысячи привели два атамана: Прокофий Остафьев из Качалинской станицы, недалеко от Паншива-городка, и Зот Зубов из Федосеевской станицы, с нижнего течения Хопра. В войске Голого были также солдаты и работные люди из полка Бильса. Долгорукий имел 4200 человек регулярного войска. Правда, он считал, что у Голого не более 4 тысяч человек.
С обеих сторон в сражении участвовали конница и пехота.
— И я, — писал царю князь, — построя полки пехотные и конные, с помощью божиею пошел на них, воров. И воры учинили на нас напуск пехотою и конницею. И мы их сорвали, и в городок вбили, и из городка выбили, и до Дону рубили. Трупом положено с лишком с 3000 человек. А достальные в Дон метались и потонули зело их много, и на воде постреляли. А которые и переплыли небольшие, и те многие померли от великово морозу.
Ожесточенное сражение закончилось разгромом восставших. Каратели захватили 16 повстанческих бунчуков, две пушки, освободили 300 офицеров и солдат из полка Бильса с четырьмя их знаменами. Атаман Голый бежал «сам 3-й». Долгорукий дотла выжег Решетовскую станицу и еще два городка, где жили «ево (Голого. — В. Б.) единомышленники». Каратели казнили 120 повстанцев. Вдогонку за атаманом князь послал Извалова и Федосеева с 900 казаками. Они верно служили карателям, в отличие от черкасского войска:
— Ис Черкасково, государь, судовая и конная, которые по моему письму ехали в помочь Извалову на вора Голова, повернулись назад, боясь Голово, и тою своею трусостью великую беду зделали. Ежели б не поспешили мы тот день, вор хотел итти на Хопер. Извалов сказывал: ежели б он, вор, с своим собраньем пришел на Хопер, великой бы беде быть.
Население верховых городков сочувствовало делу восстания, поддерживало его. И если бы не поражения Голого и Колычева у Донецкого и Решетовского городков, то движение могло бы забушевать с новой силой. Но победы карателей, жестокие казни произвели на всех устрашающее впечатление:
— И зело оне, все казаки, в великом страхе: видели они сами в Донецком побито с 1000, повешено с полтораста человек; и все тела ныне лежат не схоронены, и все вызжено и спустошено; в Решетове видели ж, иные и сами при том были, с 3000 воров посечено, кажнено при них 120 человек, потопло многое число.
Долгорукий понуждает черкасские власти, чтобы они шли на помощь Извалову:
И без них он может делать (преследовать Голого и оставшихся в живых повстанцев. — В. Б.) да для простово народу, что они черкаских больши слушают; и черкаские повернулись (отступили. — В. Б.) не для какова вымыслу: первое — оробели, что пред сим Голой розбил Извалова; другое — что атаманы были выбраны великие дураки, и я их знаю.
Командующий вернулся в Коротояк к середине ноября; поход против Голого, по его словам, «зело труден был от великих снегов и от морозов». Он доволен тем, что сделано; теперь можно быть спокойным за состояние здешнего края, «разве, чтоб на весну не отрыгнулося, не чаял бы по милости господней. Однако ж вовсе надеятца неможно по такому народу слабому» — полной уверенности в том, что весной следующего года восстание не начнется снова, у него не было.
Извалов и Федосеев рыскали по верховым станицам. Действовал приказ командующего: «искоренить» всех повстанцев из войска Голого, самого его схватить; за его укрывательство уничтожать станицы, казнить его пособников. Оба помощника Долгорукого жгли станицы, казнили, сажали в воду приверженцев Голого, его близких — утопили его мать и жену.
Долгорукий, будучи уже в Воронеже, в начале декабря известил царя о поимке Колычева и Стерледева, есаула Голого, в Песковатской станице. Узнал он и о главном атамане:
— А о воре Голом присыльные казаки сказывают, что есть у них об нем веденье, бутто он шатаетца по яругам [33] и с ним человек около 20-ти. И те от нево бегут от великого голоду; не токмо у них хлеба, — и лошадей ели; и того нет. И по моим письмам пошли за ним для поимки его. Также я писал о поимке его, вора, к Извалову и к другим, и по всем рекам разослал указы о поимке ево, вора. А жену и мать вора Голова, поймав в Тихой (станице. — В. Б.), посадили в воду. И многих единомышленников Голова побили и в воду посажали.
Можно представить, как бедствовали и мучились без крова и еды Голый и те, кто оставался ему верен. После беспощадных расправ и опустошений местные казаки жили в страхе, сильно бедствовали. Доносы и предательство некоторым служили средством спасения жизни. Но атаман еще два месяца скрывался от преследователей. Лишь в начале февраля к Долгорукому в Воронеж пришла весть о том, что Голого поймали казаки Митякинской станицы — атаман пробирался к родным местам, и здесь, на Донце, настигли его предатели.
«Казаки знатные» с Хопра сообщали, что «непрестанно по Хопру пущих воров, которые к воровству приличны, выискивают и сажают в воду».
Пленных булавинцев осенью и зимой переправляли в Москву — сначала тех, кого взяли во время убийства Булавина, в том числе его сына и брата; потом Голого и других. Многих послали на каторжные работы в Азов и Троицкий, хотя, по словам губернатора, им быть там «ненадобно впредь для таких же шатостей». Уже весной, в конце апреля 1709 года, когда Долгорукий перешел с полками из Воронежа в Коротояк, чтобы идти дальше, к Изюму, к нему прислали из Черкасска еще шестерых повстанцев:
— Прислали, государь, ко мне лехкую станицу, Ивана Фролова с товарыщи; да с ними ж прислали воров шесть человек, в том числе один полковник, был при Голом, а другой коротояцкой подьячей, великой вор, — был сначала в воровстве з Булавиным, при убивстве брата моево, писарем и у Булавина в кругах возмущал, и просил ево, чтобы он вступился за них и шел бы на Коротояк и Воронежского присутствия по городам; и говорил, — какая им тягость. И сам в том не запирался и сказывал, что от Зерщикова письмо чел в кругу о убивстве брата моево.
Тех шестерых повстанцев Долгорукий приказал казнить. Всего во время карательных походов летом, осенью и зимой 1708 и 1709 годов Долгорукий, его помощники из воинских командиров и знатных казацких старшин, как он вспоминал полтора десятка лет спустя, казнили до 23 с половиной тысяч человек казаков, бурлаков, крестьян, работных людей, мелких приказных и «от священного чину» (попы, дьяконы, чернецы).
Каратели получили немалые награды. Долгорукому царь пожаловал целую Старковскую волость в Можайском уезде с почти полутора тысячами годового дохода. Офицерам и солдатам его полков, гарнизонов Азова и Таганрога тоже вручили награды, в соответствии с чинами. Предателям Фролову и его помощникам выделили 1400 рублей, а сам старшина, кроме того, стал обладателем нагрудного знака — портрета Петра, усыпанного алмазами. По 100 рублей выдали Извалову и Федосееву, помогавшим Долгорукому в преследовании, поимке и расправах над Голым и его повстанцами.
Но жестокости и преследования повстанцев осенне-зимней поры, несмотря на то, что нанесли им огромный урон, не сломили их окончательно. Казаков на Дону волновали слухи о Некрасове и других казаках, бежавших на Кубань. Ходили разговоры о том, что «Некрасов с с Кубани, подняв орду, идет к Голому на помочь». Казаки станиц Есауловской, Кобылинской, Нижнечирской в конце сентября ушли с семьями на Кубань к Некрасову.
Еще два года, в 1709-м и 1710-м, восстание продолжалось. Некрасов присылал с Кубани своих представителей, которые звали казаков продолжать борьбу или идти к ним на Кубань. А в мае 1710 года сам Некрасов с трехтысячным войском из казаков, калмыков, кубанских татар пришел на реку Берду. Полсотни его посыльщиков приехали на Украину «в малороссийские городы для возмущения и прельщения в народе, чтоб шли к нему, Некрасову, на Берды».
Некрасов, непреклонный и мужественный последователь Булавина, замышлял поднять, как и его предшественник, большое восстание не только на Дону, но и по Украине. Один из посланных им на Украину эмиссаров успел установить связи с есаулами в украинских городах Кременчуге, Власовке, Голтве. Но замыслы эти не удалось осуществить.
Казаки и особенно крестьяне продолжали борьбу в разных районах, прилегавших к области Войска Донского. Повстанцы из верховых городков по рекам Медведице и Терсе стояли станом около города Петровска, в саратовской степи. Петровский воевода Жмакин вступил с ними в бой «с пушечною стрельбою», разбил их, взял трех казаков в плен, а у убитых — многие «заговорные письма» (заговоры от пули и т, д.). Один из пленников признался, что он — крестьянин из вотчины под Воронежем, другой — пушкарский сын из Валуек, третий — крестьянин села Кочетовки Козловского уезда. Все они — из работных людей с будар полковника Бильса, перешедшие после его разгрома к Голому, а потом оказавшиеся в повстанческом отряде под Петровском. С ними вместе к повстанцам перешли и многие Бильсовы солдаты. Они с работными людьми «пришли на реку Терсу в пустое село и жили в том селе недель з десять». В начале следующего года к ним явились медведицкие казаки во главе с Афанасием Ивановым и есаул из Петровска Иван Петров, и они направились с ними в степь к городу Петровску, где и потерпели поражение.
На той же реке Терсе, уже в мае 1709 года, «стояли» повстанцы — булавинец Василий Булакин (Мельников) и «ясаул-голова» Родион Туменок. Действовали они «во многих местах», взяли, в частности, село Карай на Хопре, громили плоты по этой реке. В начале следующего месяца взяли городки Казаринский, Высоцкий, Островский по Бузулуку. В середине июня пришли на Медведицу и захватили Арчагинский городок.
Войско Бахметева, шедшее с Медведицы в армию, и тайша Чапдержап, сын хана Аюки, с тремя тысячами калмыков напали на отряд Булакина. Повстанцы «сели в крепость при речке в лесу», но осаждавшие «немалым приступом тех воров взяли всех и многих побили». Главного атамана застрелили, потом четвертовали; Туменка и других, всего 18 человек, взяли в плен. На допросе они показали, что их товарищ Семен Щипаный недели две до этого «побежал» от них ночью и говорил, что «итти ему, собрався, на Русь» — в русские уезды, где в это время происходили крестьянские восстания.
В последние два года третьей крестьянской войны, когда движение донских казаков сошло почти на нет, продолжают вести борьбу крестьяне южнорусских, поволжских и центральных уездов. В одних случаях они генетически связаны с событиями на Дону и в Придонье при Булавине и его преемниках, в других эту связь уловить трудно или совсем невозможно. Главное заключается в том, что все эти крестьянские выступления, а они охватили до 60 уездов Европейской России, объединяет одно — недовольство существующим положением вещей, гнетом и произволом господ, властей.
Из Тамбовского, Воронежского, Харьковского уездов они распространились на Орловский и Курский; с Нижней и Средней Волги на Верхнее Поволжье и соседние районы — уезды Саратовский, Нижегородский, Костромской, Ярославский, Тверской, Владимирский, Московский, Калужский. Повстанцы везде громили помещичьи усадьбы, дворцовые, монастырские, архиерейские вотчины. Против них посылали воинские команды. А они вступали с ними в сражения, нападали на торговые суда и караваны, брали провиант, пушки с припасами к ним.
К крестьянам Казанского и Симбирского уездов приезжали с Дона булавинцы с «письмами» — призывами к восстанию. Одного из них задержали и допрашивали в Преображенском приказе «о посылке от шведов, и о соединении, и о низовых, которые явились около Казани, Пензы в таком же воровстве». Относительно пересылки со шведами кнутобойцы из Преображенского приказа перехватили через край. Но их подозрения о возможности «соединения» повстанцев «с низу», то есть с Нижней Волги, а тем самым — и с Дона, и бедного люда Среднего Поволжья, из-под Казани и Пензы, например, могли иметь основания.
По Средней и Нижней Волге оставшиеся в живых булавинцы громят рыбные ватаги, торговые суда. Однако все эти разрозненные действия самих булавинцев, тех, кто к ним приходил после поражений Некрасова и Голого, и тех, кто не был с ними связан, постепенно сходили на нет — каратели один за другим разбивали повстанческие отряды, и классовая борьба на Дону и в придонских районах, продолжавшаяся, с большей или меньшей силой, четыре года, была подавлена. Но ее традиции продолжали жить, волновать и вдохновлять на борьбу за свободу, против гнета и социальной несправедливости новые поколения повстанцев.
ЗАВЕТЫ ИГНАТА
Игнат Некрасов, ушедший на Кубань с несколькими тысячами булавинцев в сентябре 1708 года, продолжал борьбу вплоть до своей смерти в конце 1737 года, в течение трех десятилетий. Появление отрядов казаков-некрасовцев, некрасовских лазутчиков, их призывы будоражили население Дона; многие донцы уходили к Некрасову на Кубань, пополняя ряды тех, кто не желал мириться с наступлением крепостничества, самодержавия на Дон, признавать власть бояр и князей, дворян и чиновников. Помимо казаков, на Кубань, в Туретчину ушло немало русских крепостных крестьян.
Некрасовцы принесли в созданную ими на чужбине общину порядки донского казачьего самоуправления. В нее они перенесли обычаи родного Войска Донского, только без вмешательства царя, Посольского приказа, карательных оргий Долгорукого и козней старшин. Недаром, как магнитом, некрасовская община притягивала к себе обездоленных и недовольных, внушала надежды угнетенным людям России. Издавна они мечтали о свободной, без барина, жизни на своей вольной земле — бежали в ее поисках то в белорусскую Ветку, то в заволжские скиты на Керженце, Ветлуге, Иргизе, то придумывали легенды о таинственной и счастливой Беловодии. Народные социально-утопические легенды сопровождают жизнь социальных низов в течение всей феодальной эпохи истории России. Одной из них стала легенда о «городе Игната» — «царстве некрасовцев»:
— Живут такие люди на берегу большого озера. Город у них большой, пять церквей в нем, обнесен он высокой стеной; четверо ворот — на запад, восток, север, юг. Ворота все закрыты. Только восточные открыты бывают днем. На воротах стоят оруженные часовые, а ночью и по стенам часовые ходят. В город свой те люди никого не пускают. Живут богато. У каждого каменный дом с садом, на улицах и в садах цветы цветут. Такая красота кругом. Занимаются те люди шелками. Обиды ни людям чужим, ни друг другу не делают. Женщины у них раскрасавицы, разнаряжены: носят зеньчуг [34], рубены, золотые монисты, лестовки [35] янтарные. Носят они сарахваны из серебряной и золотой парчи, а рубашки из лучшего шелка. Живут там женщины, как царицы. Мужики их любят, пальцем не трогают. Не дай господь, какой мужчина обидит свою жену — его за то смертью наказывают. Женщины и на круг ходят, и грамоте обучаются с дьяками вместе.
В город свой те люди мужчин не принимают и не пускают, а женщин принимают. Кто ни пройдет, того накормят, напоят, оденут и проводят ласковым словом: «Спаси тя Христос».
«Город Игната» с его равенством и братством, кругами и уважением к женщине, с одной стороны, отразил, в сильно идеализированной форме, порядки, царившие в столице Войска Донского — Черкасске, даже черты его внешнего облика (крепостные стены, ворота), с другой — строгие нравственные нормы, царившие в некрасовской общине на Кубани, в Добрудже (на Дунае) и азиатской Турции. Именно эти порядки некрасовцев и отвечали заветным чаяниям простого народа.
Петр и его помощники, преемники не раз пытались вернуть некрасовцев в Россию. Царь официально обращался к султану с просьбой выдать Некрасова, Лоскута, Павлова, Беспалого и других. Иван Андреевич Толстой, азовский губернатор, побуждал своего брата Петра, умнейшего и хитрейшего из петровских дипломатов, воздействовать на Стамбул:
— О Некрасове, — извещает он царя, — в Царь-град к брату своему писал я прежде сего. А ныне по письму Вашего величества домогатца того стану всячески, чтобы оного вора отдали.
Но властям российским не удалось вернуть некрасовцев. Они обосновались по правому берегу реки Лабы, у ее устья; построили здесь несколько селений. Позднее Некрасов с большей частью поселенцев перебрался на Таманский полуостров. Здесь, между Темрюком и Копылом, поставили три городка — Будиловский, Голубинский, Чирянский.
Уже через три года после ухода с Дона Некрасов с конным отрядом пришел в Саратовский и Пензенский уезды. Их появление подняло местных крестьян на борьбу против помещиков и воевод. Многих они побили и разоряли. С Некрасовым ушло на Кубань немало крестьян. В ответ Апраксин, казанский и астраханский губернатор, привел по царскому приказу регулярные полки, яицких казаков и калмыков на Кубань, разорил некрасовские городки.
Через год Некрасов громит феодалов под Харьковом, посылает прелестные грамоты по Дону, соседним русским и украинским уездам, призывает их жителей к восстанию. Еще через год в тех же местах действуют сорок его лазутчиков — под видом монахов и нищих они распространяют воззвания, подговаривают простой люд идти на Кубань. Два года спустя снова сам Некрасов со своими конниками громит домовитых по Дону — за их измену Булавину и его делу, за содействие царским властям в преследовании раскольников.
Из года в год агенты Некрасова появляются в России, в в 1720 году Петр издает против них специальный указ — их самих и тех, кто их укрывает, казнить без пощады. Беглецов с Дона задерживали специальные заградительные отряды. Но это мало помогало. В конце 20-х годов по призывам некрасовских эмиссаров, а их на Дону и в южных уездах России появилось до двухсот человек, казаки и крестьяне уходили на Кубань целыми станицами и селами.
С кончиной Некрасова походы в Россию прекращаются, а созданная им на Кубани община слабеет. Императрица Анна Ивановна несколько раз предлагала им вернуться на родину. Обещала дать землю, забыть их «измену». Некрасовцы отказались. Донской атаман Фролов по ее указу два года подряд разорял их селения. Екатерина II возобновила попытки вернуть некрасовцев в Россию. Но они не поддавались на уговоры. Несколькими партиями, в начале 40-х и в 60-е годы, они переселились в Добруджу, на устье Дуная и на остров Разельм. Жили в селениях Некрасовка, Слава Черкасская, Журиловка, Большие Дунавцы, Сары-Кей и других. Рыболовство и охота помогали им прожить.
1775 год, когда пришел конец Запорожской Сечи, осложнил и жизнь некрасовцев. В дельте Дуная появились запорожские казаки, основали здесь Задунайскую Сечь. Началась борьба за рыболовные угодья, землю, взаимные нападения. Некрасовцы в конце концов полностью разгромили Задунайскую Сечь, и она прекратила существование. Но и сами победители ушли отсюда — из-за столкновений с запорожцами и еще больше по причине появления царских войск в Измаиле, Крыму. В конце столетия большинство их переселяется в Энос, на берегу Эгейского моря, в западной части Турции, и на озеро Майнос, в восточной ее части, у Мраморного моря. Некоторое время спустя некрасовцы-эносцы воссоединились с майносцами. Те же, что остались на Дунае, постепенно ассимилировались с новыми выходцами, беглыми из России, и утратили многие из обычаев, принесенных с Дона. Майносцы же, в условиях проживания изолированной, замкнутой общиной, окруженные чуждой, турецкой средой, наоборот, держались стойко — сохранили черты общественного казачьего самоуправления, язык, предания, песни своих предков, сказания об Игнате, его «заветах», «Игнатове слове».
На Майносе некрасовцы жили в пяти станицах. Турки называли их поселение Бив-Эвле, то есть «селение из тысячи домов», или, что очень характерно, «Игнат-казаки». Их косили чума и тропическая лихорадка, поскольку обитали они чуть ли не на болотах; преследовали турецкие власти. Но они держались крепко, стояли друг за друга. У них появлялись выходцы с Эноса и Дуная. Этническая, культурная, религиозная стойкость, приверженность языку и обычаям предков помогли им не только выжить, но и сохранить национальную самобытность. Иностранцев-путешественников, посещавших русское поселение на Майносе, поражали трудолюбие, моральная чистота, общественный порядок, грамотность некрасовцев. Сами они считали, что все это потому, что они свято соблюдали «заветы Игната».
Игнат Федорович Некрасов, накануне Булавинского восстания атаман Есауловского городка, убежденный раскольник, как и многие другие повстанцы, отличался крепким характером, стойкостью убеждений. Свои взгляды, устремления, воспитанные в условиях демократической донской общины, он и перенес на Кубань, в основанную им здесь общину. Провозглашенные им принципы, проводимые строго и неукоснительно, стали своего рода конституцией некрасовской общины, а она существовала два с половиной столетия [36].
Более 170 «заветов Игната» некрасовцы, мужчины и женщины, передавали из поколения в поколение, донесли до нашего времени, когда они снова живут па Родине. Созданы они самим Некрасовым, его соратниками, последователями-потомками. Собственно говоря, «заветы» — продукт коллективного творчества, но имя инициатора, первого и главного «законодателя» члены общины закрепили за своей «конституцией» навечно. С самого своего основания ее члены во главе с Некрасовым решили:
— Царизме не покоряться, при царизме в Расею не возвращаться.
Правда, первые партии некрасовцев вернулись из Турции в 1912—1913 годах. Но тогда, в пору революций и Государственной думы, позиции царизма ослабли, и некрасовцы, тяга которых на родину, наоборот, усилилась, предприняли первые шаги.
Как и на Дону, высшим органом власти являлся у некрасовцев круг — общая сходка. Атаман, избиравшийся крутом на один год, осуществлял исполнительную власть. Их распоряжениям обязаны подчиняться все:
— Ни один член общины не может отлучиться без разрешения круга или атамана.
— Никто не имеет права общаться с турками.
— Одну треть заработка казак сдает в войсковую казну.
Третья часть средств, полученных общинниками от рыболовства, скотоводства, охоты, шла на содержание школы, где обучали мальчиков (с начала нынешнего столетия — и девочек), на престарелых, больных, церковь, вооружение.
Некоторые установления отличались большой строгостью:
— За измену войску расстреливать без суда.
— За брак с иноверцами смерть.
— За изнасилование женщины бить плетьми до смерти.
— За измену мужу жену закопать в землю по шею или — в куль да в воду.
— За убийство члена общины виновного закопать в землю.
К женщине некрасовцы относились уважительно:
— Муж должен относиться к жене с уважением.
— Муж, обижающий жену, наказывается кругом.
Все наказания устанавливает круг. Он же может «поучить» или отстранить от должности атамана — за нераденье, корыстолюбие. В работе круга, принятии им решений участвуют все казаки с 18-летнего возраста. С 30 лет они могут занимать воинские должности, с 50 быть избранными в походные и войсковые атаманы, старшины. Виновного круг может лишить казачьих прав, и он тем самым становится вне закона — его всякий может убить.
Круг принимает в общину пришельцев-христиан. Только он может открыто помогать бедным, больным; члены же общины должны делать это тайно (согласно одному из заветов первоначального христианства: «Творите милостыню тайно»), чтобы избежать греха гордыни, не смущать принимающего милостыню («завет от Игната был: дает правая рука, не видит левая»).
Каждый член общины занимается тем делом, ремеслом, на которое способен. Все должны почитать старших. За неподчинение старшим — наказание плетьми. За непослушание и оскорбление родителей — бить батогами или лишить жизни (в зависимости от тяжести поступка).
Столь же суровы религиозные предписания некрасовцев-раскольников:
— Держаться старой веры.
— Попов никонианского и греческого рукоположения на службу не принимать.
— Попа, не исполняющего волю круга, можно выгнать и даже убить, как бунтовщика, еретика.
— За богохульство расстреливать.
Эти и прочие законоположения некрасовцы записали в «Игнатову книгу». Ее хранили в священном ларце в церкви на Майносе. Имелось у них и знамя Игната. Когда оно совсем обветшало, по его образцу в начале нашего века круг решил изготовить точную копию [37].
«Заветы Игната» не были мертвой догмой, пустой бумажкой. Они реально бытовали у некрасовцев. В. П. Иванов-Желудков (Кельсиев), побывавший на Майносе два года спустя после отмены крепостного права в России, посещал их круги, наблюдал повседневную жизнь, обряды. Убедился в реальной власти круга и атамана:
— Атаман решает, виноват или не виноват обвиняемый, а наказать или не наказать — приговаривает круг.
— Если круг прощает, то виноватый кланяется атаману, потом старикам, потом на все стороны; и тем дело кончается. Если круг приговаривает поучить, то учат...
Подобного наказания, если на то появятся веские основания, не может избежать и атаман:
— А что атамана можно высечь и секут, это не подлежит сомнению и вовсе не выходит из ряда обыденных событий майносской жизни. Точно так же (как и других, рядовых казаков. — В. Б.) кладут ничком и точно так же заставляют поклониться в землю и поблагодарить словами: «Спаси Христос, что поучили!» Затем ему вручается булава, символ его власти, которую на время наказания отбирает какой-нибудь старик. Вручив булаву, все валятся атаману в ноги, вопя: «Прости Христа ради, господин атаман!» — «Бог простит! Бог простит!» — отвечает, почесываясь, народный избранник, и все входит в прежний порядок.
Преследования турецких властей, с 1860-х годов заставлявших их служить в аскерах (солдатах) не только в военное, но и в мирное время, потеря земель, новое переселение (с Майноса на остров Маду на Бейшеирском озере), эпидемии, увеличение налогов, вмешательство турок во внутренние дела общины, ее расслоение — экономическое, социальное, религиозное — привели к вымиранию некрасовцев, нарушению «заветов Игната» (к примеру, запрета одному казаку работать на другого). Некрасовцы-земледельцы становились богаче в сравнении с рыбаками. Первые посвящали своих попов в Белой Кринице, то есть приняли австрийское священство; вторые — посвящали их в Москве.
Несмотря на это, некрасовцы сохранили связь с прошлым, свои обычаи, отческие предания, культуру предков. Ни жизненные передряги, ни проживание в Туретчине не заставили их, например, поступиться своим старинным языком:
— Чище нашего языка нет, — уверена П. С. Герасюшкина, одна из женщин-некрасовок. — Сколько мы ездили по чужим странам, сколько языков поменяли: и румынский, и болгарский, и греческий, и турский, и грузинский — один только наш русский язык устоял.
Казачка говорила эти слова лет тридцать тому назад. А почти столетие до нее некрасовец с Майноса выразил то же убеждение в разговоре с Ивановым-Желудковым:
— И ты тоже, — сказал он ему, — хорошо по-русски говоришь, Василий.
— Ну, мне-то оно и не чудно: я родился и вырос в России.
— А самый чистый русский язык, — возразил майносец, — энто у нас. Пройди по всему энто белому свету, чище нашей речи нигде не найдешь.
Действительно, некрасовцы-майносцы, как отмечают специалисты, в неприкосновенности сохранили язык донских казаков булавинско-некрасовской эпохи.
В преданиях, старинах-бывалыцинах некрасовцы сберегли память о народном восстании, которое возглавили Булавин, Некрасов и другие предводители. Некрасов — главный герой их фольклора, авторитетный вождь и законодатель, положивший начало их общины, самоуправлению. Ведь именно он увел часть казаков с семьями, спас их от карателей, от гибели. В народном сознании Игнат наделен даром волшебника, сверхъестественной силой. Неудивительно, что именно ему предание приписывает расправу с Долгоруким. Этот и другие вымыслы понятны — таково обаяние его имени в народно-поэтическом сознании. С ним связываются и борьба с царем Ерохой — Петром, и надежды на освобождение от гнета бояр и воевод, и ненависть ко всем поработителям, обидчикам.
Недаром простой народ создал мечту о земле обетованной — «городе Игната Некрасы и о царстве некрасовцев»:
— Вот наши старики, — повествует Т. И. Капустина, — стали ходить по разным странам и искать тот Игнатов город. Все время искали. Думали: как найдут тот Игнатов город, так и уйдут к своим, в Расею. Во многих странах побывали казаки, да только так и не нашли того города. А есть он! Как ему не быть, когда его люди видали?! Не станут же люди неправду гутарить!
Рассказчица уверена, что другие люди, в отличие от майносцев, видели город Игната:
— Может, Игнат на нас, майносских, сердце поимел, что его завет нарушили? Вот он и прятал тот город от наших казаков. Игнат-то наш силу такую имел. Он и войско свое невидимым делал. Старики так и гутарили: — Игнат дороги прятал к своему городу. Туман напускал на город.
Светлую память сохранял народ о Некрасове и том святом деле, которому он, как и Булавин, посвятил свою жизнь. В одной из песен Игнат говорит, перед уходом на Кубань, «речи грозные»:
Не слыхать вам, казакам, звону колокольного, Да не видать вам, донским казакам, Дону Тихого, Забыть вам, донским казакам, веру христьянскую, Ой-да, привыкать-то донским казакам к бою-подвигу Ой, к бою-подвигу супротив царя да супротив бояр. Ой-да, мы царю не сдадим вольной вольницы, Ой-да, за Булавина отдадим свои бойны головы.ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
Широкое народное восстание, начавшись в среднем течении Северского Донца, в районе Бахмута, как прежде всего казацкое движение, поддержанное беглыми русскими людьми, наймитами — бурлаками, переросло в мощную крестьянскую войну. Она охватила Войско Донское, придонские русские уезды, Слободскую Украину, значительную часть Нижнего и Среднего Поволжья; затем втянуло в свою сферу более северные уезды России. Ее участников источники, а большинство их вышло из правительственного лагеря, именуют то «ворами», изменниками», то «казаками», «воровскими казаками». Изредка можно встретить упоминания о крестьянах, работных, посадских людях, бурлаках, дьячках, чернецах, солдатах, драгунах, в той или иной степени принявших участие в движении. Поскольку среди донских казаков, даже старожилых, не говоря уже о новоприходцах, большинство составляли выходцы из тех же русских, отчасти украинских крестьян, можно сказать, что крестьянский элемент занял значительное место среди участников восстания. Но, конечно, казачество, донское, отчасти запорожское, как особое сословие, сыграло в движении очень большую роль — не только как застрельщик, детонатор восстания, но и в качестве главной боеспособной, более организованной части повстанческих сил. Проживание казаков в условиях относительной свободы от московских властей, отсутствия помещиков, определенные демократические традиции — круги, выборные атаманы и их помощники, казачье самоуправление — делали их жизнь и быт в глазах миллионов простых людей России крайне привлекательными; недаром они толпами бежали сюда от помещиков и поборов, рекрутчины и принудительных работ.
В народе постоянно жили и накапливались воспоминания о славных и бесстрашных делах Болотникова и Разина, московских бунтарей и стойких защитников старой веры — раскольников. Народные выступления с середины «бунташного века» до времени Булавина знают немало примеров своего рода передачи эстафеты борьбы от одного поколения повстанцев к другому. Участники «Медного бунта» в Москве (1662 г.) вливаются потом в ряды разинцев. А разинские соратники участвуют в Московском восстании 1682 года. После его окончания беглые стрельцы, раскольники, да и те же разницы включаются в движение раскольников на Дону 80—90-х годов. Из их рядов вышло немало сторонников Булавина, среди которых — разинец Лоскут и другие.
В плоть и кровь булавинцев, в их душу вошли мысли и чаяния бунтарей — их предшественников. Как и они, булавинцы, отражая затаенные думы народные, выступили в защиту интересов обиженного, обнищавшего, замордованного люда. Это генеральная, так сказать, линия в их взглядах, стремлениях, в их идеологии и психологии. При этом неодинаковое положение отдельных социальных слоев, сословий неизбежно приводило к различию в их взглядах, в поведении. Для казаков главным было сохранить «старое поле» — исконные казачьи права и привилегии, отличные от того, что имели, скажем, крестьяне и прочий простой люд «на Руси». Правда, и здесь немало их сближало: казаки принимали к себе беглых крестьян и прочих бедняков, включали их в свою среду; а сами беглые стремились «показачиться». И те и другие одинаково ненавидели помещиков, чиновников, и недаром они объединялись в борьбе против них. Но сословные отличия оставались, и казаки смотрели нередко на крестьян сверху вниз, а те на них, наоборот, снизу вверх.
Подобные и другие черты идеологического и психологического плана выступают в документах, вышедших из лагеря повстанцев, в их идеологии.
Е. П. Подъяпольская в книге о Булавинском восстании, в результате длительного и скрупулезного изучения материалов о нем, сумела выявить до полутора-двух сотен повстанческих документов — полных текстов (прелестных писем, отписок и др.), их пересказов или упоминаний в правительственной переписке. Но сохранилось далеко не все.
Но и то, что сейчас известно, очень ярко рисует взгляды и требования повстанцев, их идеологию. Собственно говоря, они в начале XVIII столетия продолжили то, к чему стремились Разин и его повстанцы за четыре десятилетия до них. Своими лозунгами они провозгласили расправу с князьями и боярами, помещиками и вотчинниками, панами и арендаторами, воеводами и приказными людьми, воинскими начальниками и казацкими старшинами — изменниками, со всеми угнетателями, обидчиками, народными «супостатами», богатыми и знатными людьми. Конкретно они называли имена Толстого и других азовских «бояр», майора Долгорукого и бригадира Шидловского, воевод Волконского и других ненавистных черкасских старшин.
Булавинцы эти лозунги и стремления реализовали в ряде случаев — расправились с Юрием Долгоруким, его офицерами и солдатами, казнили или убили во время боев Лукьяна Максимова, донского войскового атамана и других старшин, полковников Кондратьева и Бильса, царицынского воеводу Турченина и других. В то же время, в отличие от этих, «плохих», бояр и воевод, других они считали «добрыми» или надеялись на их «доброту». Недаром они писали письма к некоторым воеводам, начальникам, призывая их перейти к ним, восставшим. Рассчитывали, что царь Петр внемлет их просьбам и не велит своим «полководцам» разорять донские городки и убивать казаков-повстанцев.
Но, как они убеждались, ни царь, ни его приближенные не намерены понять их нужды, страдания, тяготы. И повстанцы ищут выход — призывают на помощь запорожцев и кубанцев, мобилизуют чернь из южнорусских, украинских, поволжских уездов, грозят покинуть Дон, уйти на Кубань, в подданство турецкому султану. Более того, в конце мая 1708 года Булавин запрещает под страхом смертной казни говорить об особе царя Петра, о повинной ему. Далеко не все с этим согласны, но характерно уже то, что на каком-то этапе движения хотя бы часть повстанцев сумела порвать с традиционно-царистскими представлениями. Это говорит о том, что в царистской идеологии, психологии повстанцы могли проделать брешь, противостоять утвердившимся императивам. Да и само их требование о сохранении «старого поля» на Дону, то есть исконно казацких привилегий, включало и такую, как право принимать и не выдавать беглых из России; а это ведь тоже брешь, на этот раз не только в идеологии, но и в самой сердцевине феодально-крепостнического режима, в праве феодалов на безраздельное владение «крещеной собственностью», крепостными крестьянами, их трудом и имуществом.
Антифеодальные, антикрепостнические призывы прелестных писем Булавина, Голого и других повстанческих атаманов делали их понятными и близкими широким слоям угнетенного народа. Они обращены к казакам, крестьянам и другим жителям русских сел и деревень, городов и крепостей, к работным людям, всякой голытьбе, а также и к природным казакам, старшинам, «к начальным добрым людям». Главный лозунг, который выходит на первое место в разгар движения, — борьба «за всю чернь».
Несмотря на все противоречия и колебания, отразившиеся в повстанческих воззваниях (призывы к царю, воеводам и «полководцам», надежды на их «доброту» и др.), в целом они отразили интересы и чаяния широких кругов населения России, ее социальных низов, и в этом — их непреходящее значение. Недаром народ сохранил память о Булавине и Некрасове, их соратниках, повстанцах, борцах за народную правду, за справедливость, против зла и неправды, исходивших от бояр и прочих притеснителей.
Представления народа о Булавине и булавинцах складываются, формируются в ходе самого восстания. Сражения повстанцев с карателями, расправы с народными обидчиками, прелестные грамоты с их народным, простым, ярким и образным языком поражали воображение простых людей. Память обо всем виденном, слышанном и пережитом откладывалась в сознании, передавалась детям и внукам.
После кровавого разгрома булавинского движения само имя отважного народного вождя было на Дону, во всей России под запретом. Только некрасовцы, ушедшие на Кубань, не только помнили о славных делах — своих собственных, отцов и братьев, сыновей и внуков, дедов и прадедов, но и воспевали их подвиги. На их мысли, сознание огромное влияние оказал Игнат Федорович Некрасов — ближайший сподвижник Булавина, его преемник. Он и привел несколько тысяч казаков па Кубань. Человек стойких убеждений, суровый и справедливый, он в течение почти трех десятков лет руководил казацкой раскольничьей общиной по очень строгому уставу — «завету». И тем заложил основы того жизненного уклада, который помог казакам-некрасовцам сохранить свою общину в течение почти двух с половиной столетий. Именно эта исключительная роль Некрасова, организаторская, нравственная, духовная, выдвинула его в представлении некрасовцев на первое место среди булавинских атаманов. Более того, его имя в их песнях, сказаниях заслонило имя Булавина, который превратился в них в атамана-помощника, брата Некрасова, наряду с Драным и Голым.
Такова песня «На заре-то было на ранней, утренней» — в ней рассказывается о расправе с Долгоруким, его офицерами и солдатами в Шульгине городке. Главное действующее лицо из казаков-повстанцев здесь — Некрасов. Булавин же, Голый и Драный «много полков изничтожили у царя Ерохи» — Петра Первого.
В то же время песни жалеют Булавина, убитого черкасскими изменниками-старшинами, которых Некрасов, приходя много раз с Кубани на Дон, каждый раз вешает. Казаки-некрасовцы навсегда запомнили «измену черкасских» — старшин Зерщикова «со своими людьми». Терпимое к ним отношение Булавина, по их убеждению, — ошибка:
— Не держи Булавин домовитых, он бы жизни не лишился.
Тем не менее его имя пользовалось уважением. В одной из песен Некрасов говорит о нем:
Ой-да, мы царю не сдадим вольной вольницы, Ой-да, за Булавина отдадим свои буйны головы.На самом Дону о Булавине пели:
На ярочке, на ярочке, на Айдаре на реке, На Айдаре на реке, во Шульгином городке Появился невзначай удалой наш Булавин, Булавин не простак, он — лихой донской казак, Храбрый воин и донец, он — для всех родной отец. Он на турчина ходил, много нехристей побил. Зипун, шитый серебром, сабля в золоте на нем, Глаза горят его огнем, шапку носит набекрень — Не затронься, не задень. По майдану он идет, шапки он своей не гнет, Своей шапочки не гнет, усом своим не ведет. На девчат орлом глядит, подарить казной велит.Образ лихого и храброго казака, смелого и независимого, выглядит в этой песне как олицетворение народного идеала. Исполнители ее и слушатели любуются, восхищаются своим героем, он — образец для подражания, народный заступник и защитник, «для всех родной отец».
Булавинская тема стараниями современников из области устных воспоминаний, из документов, сохранившихся от тех лет, когда повстанцы смело вступали в сражения с царскими полками, заявляли, что пойдут бить бояр до самой Москвы, переходит на страницы печатных памфлетов и газетных полос, мемуаров и исторических трудов.
Уже во времена Петра его сподвижники полагали, что Булавинское восстание стоит в одном ряду с такими движениями, как Разинское. Сам Петр считал необходимым включить данные о нем в историю своего правления:
— Тут же написать, где удобно, о бунте Булавина, как он начал; и о том справитца; и как отправлен господин Долгорукой.
Сведения о восстании заносят на страницы своих трудов тамбовский и украинский летописцы, первые историки и мемуаристы Ф. И. Соймонов и И. А. Желябужский. При составлении «Истории Свейской войны», которую редактировал лично Петр Великий, его кабинет-секретарь Макаров запросил у Долгорукого, бывшего командующего карательными войсками, а теперь — ссыльного, сведения о восстании. Тот представил краткую записку, в которой главный вешатель с удовольствием перечисляет станицы, им разоренные, подсчитывает убитых, казненных повстанцев.
И в «Гистории», и в других апологетических сочинениях о Петре Великом и его царствовании (например, в «Деяниях Петра Великого» И. И. Голикова и т. д..) мысли и дела Булавина и булавинцев фальсифицировались с позиций самодержавия и шляхетства российского. Сведения о «Булавинском бунте» собирали историки донского казачества, но их труды царская цензура или запрещала, или держала десятилетиями под сукном. Книга А. И. Ригельмана «История или повествование о донских казаках», написанная в 1778 году, увидела свет семь десятков лет спустя — в 1847 году. А «Историческое описание земли Войска Донского» В. Д. Сухорукова, близкого к декабристам, было закончено в 1826 году, сразу после подавления восстания декабристов, и лежало втуне более сорока лет; его печатали пять лет, окончив это дело в 1872 году.
Знаменитый историк Соловьев, собравший большое число архивных данных о Булавинском восстании, видел в нем, как и в других казачьих бунтах, анархическое, разрушительное начало, направленное против государства, его установлений. А государство он считал двигателем истории, прогресса. Булавина называл «новым Разиным». Костомаров видел в казачестве, его бунтах «противодействие старого новому», зародыш разрушения, анархического бунта. То же характерно и для других историков дворянского и буржуазного толка. От них пошли выдумки и басни о «лживости и хвастовстве» булавинских манифестов, о сообщничестве Булавина и Мазепы, и эта нелепая версия нашла отражение даже в пушкинской «Полтаве»:
Повсюду тайно сеют яд Его подосланные слуги: Там на Дону казачьи круги Они с Булавиным мутят.Лишь Плеханов порвал с подобной традицией: в его представлении Булавин — один из «титанов» «народнореволюционной борьбы», наподобие Болотникова, Разина и Пугачева.
После Октябрьской революции отношение к народным восстаниям, в том числе и Булавинскому, меняется. Его ставят в связь с выступлениями крестьян-бедняков. Именуют даже «народной революционной вспышкой», а в воззваниях Булавина отмечаются «демократические лозунги»: «обещание дать простому народу хоть миг довольства и счастья», «свободу для беглых, измученных и обворованных помещиками людей» (Н. Н. Фирсов, 1924 г.).
Позднее, в 1930-е годы, появляются научно-популярные труды В. И. Лебедева, Н. С. Чаева, С. Г. Томсинского. В них дается высокая оценка движению, которое они называют то «казацко-крестьянским», то «крупнейшим крестьянско-казацким» восстанием, то «мощной крестьянской войной, переплетенной с колониальной революцией угнетенных народностей».
Обстановка общественно-политического подъема после Октября, пристальное внимание к революционным выступлениям против самодержавия в прошлом, недостаточно высокий теоретический, профессиональный уровень молодой советской науки объясняют свойственные работам 20— 30-х годов преувеличения, теоретические ошибки («революционная вспышка» начала XVIII в., терминологические неточности и противоречия в определении характера крестьянской войны; тем более — выступления нерусских народов — «колониальная революция»!!).
Тогда же и позднее, вплоть до 60-х годов, выходят в свет романы и другие литературные произведения (Н. А. Задонский, Д. И. Петров-Бирюк, А. Г. Савельев и др.). В них подчеркивается роль народа в восстании, но преувеличивается роль казачьей верхушки; Булавин изображен самоубийцей в соответствии со лживой версией Зерщикова.
Начавшийся пересмотр концепции, связанной с крестьянской войной начала XVIII века, связан с появлением коллективного труда «Очерки истории СССР» первой четверти XVIII века (1955 г.), хотя в нем и остались еще противоречия в терминологии («антифеодальное казацко-крестьянское движение» и др.), и особенно книг А. П. Пронштейна «Земля Донская в XVIII в.» (1961 г.) и Е. П. Подъяпольской «Восстание Булавина. 1707—1709» (1962 г.). В последней из них, специально посвященной этому народному движению, оно называется крестьянской войной, что не нашло, впрочем, отражения в заглавии труда.
Последние достижения науки в освещении третьей крестьянской войны в России нашли отражение в обобщающих трудах по истории нашей страны, коллективных трудах о четырех крестьянских войнах в России (Е. П. Подъяпольская, В. И. Буганов).
Булавину посвящены полотна живописцев Б. Курочкина и Н. Овечкина. В их картинах он представлен как сильный духом народный предводитель, русский богатырь разинско-пугачевского склада.
Имя Булавина, как имена Болотникова и Разина, Некрасова и Хохлача, Драного и Голого, Пугачева и Зарубина, многих других борцов за народную волю, вошло в национальное самосознание нашего народа, навечно вписано в летопись славной и героической истории Отечества.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ИСТОЧНИКИ
Булавинское восстание. М., 1935.
О подавлении народного восстания 1707— 1708 гг. Вводная статья В. И. Лебедева. — Исторический архив, 1955, № 4.
Новые материалы о восстании на Дону и в Центральной России в 1707—1709 гг. (Вводная статья, подготовка текста и примечания Е. П. Подъяпольской). — Материалы по истории СССР. V. Документы по истории XVIII века. М., 1957.
Новое о восстании К. Булавина. Подготовила Е. П. Подъяпольская. — Исторический архив, 1960, № 6.
Письма и бумаги Петра Великого, тт. VI — IX. Спб. — М., 1912—1952.
* * *
Фольклор Дона, сб. второй. Составили Ф. В. Тумилевич и М. А. Полторацкая. Ростов-на-Дону, 1941.
Песни казаков-некрасовцев. Запись песен, вступительная статья и сведения о сказителях Ф. В. Тумилевича. Под общей ред. проф. П. Г. Богатырева. Ростов-на-Дону, 1947.
Русские народные сказки казаков-некрасовцев. Собраны Ф. В. Тумилевичем. Ростов-на-Дону, 1958.
ЛИТЕРАТУРА
Броневский В. История Донского Войска. Спб., 1834.
Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII— XVIII вв. М., 1976.
Буганов В. И. Очерки истории классовой борьбы в России XI— XVIII вв. М., 1986.
Гераклитов А. А. История Саратовского края в XVI— XVIII вв. Саратов, 1923.
Дружинин В. Г. Раскол на Дону в конце XVII в. Спб., 1889.
Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края, т. 1. М 1883.
Короленко П. П. Некрасовские казаки. — Известия общества любителей изучения Кубанской области, вып. 2. Екатеринодар, 1800.
Краснов Н. Земля Войска Донского. — Материалы для географии и статистики России. Спб., 1863.
Лебедев В. И. Булавинское восстание. М.— Л., 1934.
Овсянников Е. Булавинский бунт как раскольническое движение на Дону. — Воронежская старина, вып. 13. Воронеж, 1914.
Перетяткович И. Г. Поволжье в XVII и начале XVIII в. Одесса, 1882.
Подъяпольская Е. П. Восстание Булавина. 1707—1709. М., 1962.
Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII в. Ростов-на-Дону
Ригельман А. И. История или повествование о донских казаках. М., 1846.
Соловьев С. М. Булавин. Рассказы о русской истории. — Русский вестник, 1860, № 8, кн. 1.
Сухоруков В. Историческое описание земли Войска Донского, т. II. Новочеркасск, 1872.
Чаев Н. С. Булавинское восстание. М., 1934.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К. А. БУЛАВИНА
Около 1660 — рождение К. А. Булавина.
1689 — участие во втором Крымском походе в составе русской армии В. В. Голицына.
1705 — восстание в Бахмутском городке во главе с Булавиным.
1706 — приезд дьяка А. Горчакова в Бахмут, его арест Булавиным.
1707, сентябрь — начало октября — поход по Дону карательного отряда кн. Ю. В. Долгорукого.
1707, начало октября — совет («дума») казаков в Ореховом Буераке, под Ново-Айдарским городком. Избрание Булавина походным атаманом.
1707, ночь с 8 на 9 октября — нападение Булавина на отряд Долгорукого в Шульгинском городке, убийство Долгорукого и его помощников. Начало восстания.
1707, 18 октября — поражение Булавина под Закотенским городком от войска Лукьяна Максимова, атамана Войска Донского. Бегство в леса по левым притокам среднего Дона.
1707, ноябрь — 1708, март — Булавин в Запорожской Сечи, Кодаке.
1708, конец марта — прибытие Булавина в Пристанский городок на р. Хопре. Сбор повстанческих сил, рассылка «прелестных грамот» от Булавина с призывами к восстанию.
1708, март — апрель — действие повстанцев-булавинцев Л. Хохлача и др. на севере области Войска Донского, в Воронежском, Козловском, Саратовском и других уездах. Захват городов Боброва, Борисоглебска, ряда сел и деревень.
1708, конец марта — большой съезд (совет) повстанцев в Пристанском городке. Начало похода войска Булавина вниз по Хопру и Дону на Черкасск — столицу Войска Донского.
1708, 8 апреля — победа Булавина над войском Максимова на р. Лисковатке у Паншина-городка.
1708, середина и конец апреля — поражение Л, Хохлача на р. Битюг и р. Курлаке.
1708, 1 мая — захват Булавиным Черкасска.
1708, 6 мая — казнь черкасских старшин.
1708, 9 мая — избрание Булавина войсковым атаманом.
1708, около 13 мая — оформление заговора черкасских старшин против Булавина и повстанцев.
1708, 13 мая — отправление Булавиным трех походных войск: И. Некрасова на р. Хопер, С. Драного на Северский Донец, Л. Хохлача и И. Павлова на Волгу.
1708, 13 мая — взятие Л. Хохлачом г. Дмитриевска на Камышенке (Камышина на Волге).
1708, конец мая — начало июня — осада Саратова войском Хохлача и Некрасова.
1708, 7 июня — взятие И. Павловым г. Царицына (за исключением крепости).
1708, 8 июня — разгром Драным, Беспалым и Голым Сумского полка А. Г. Кондратьева на р. Уразовой.
1708, 1 июля — поражение войска Драного под г. Тором.
1708, 6 июля — поражение войска Л. Хохлача и И. Гайкина под Азовом.
1708, 7 июля — убийство Булавина в Черкасске казаками-заговорщиками.
1708, 17 июля — взятие повстанцами Царицынской крепости.
1709, 27 июля — приход карательной армии кн. В. В. Долгорукого к Черкасеку. Казни.
1708, 23 августа — поражения булавинцев И. Некрасова и В. Тельного под Паншином и Есауловом городками на Дону.
1708, сентябрь — уход Некрасова с частью повстанцев на Кубань.
1708, конец сентября — разгром И. Голым полка И. Бильса у Донецкого городка.
1708, 4 ноября — поражение И. Голого под Решетовой станицей.
1709—1710 — продолжение восстания в верховых донских городках по Медведице и Терсе, в южнорусских, поволжских, центральных уездах. Появление Некрасова и его эмиссаров на Дону и Украине.
1737 — смерть И. Некрасова.
СОДЕРЖАНИЕ
Юность. Начало службы.
Бахутская история.
В ставке Петра.
Начало донской либерии.
Москва и Дон.
Булавин в Запорожской Сечи.
В Пристанском городке.
Поход на Черкасск.
Булавин — атаман Войска Донского.
Подъем движения.
Сбор карателей.
Гибель Булавина.
Продолжение борьбы.
Игнат Некрасов и другие булавинцы.
Заветы Игната.
Память народная.
Краткая библиография.
Основные даты жизни и деятельности К. А. Булавина.
Содержание.
Примечания
1
Донская станица.
(обратно)2
Станица — не только поселение, городок на Дону, но и делегация, посольство во главе с атаманом.
(обратно)3
Докука — от слова «докучать»: приносить хлопоты, неприятности.
(обратно)4
Верховые казаки — жители станиц по верховьям Дона.
(обратно)5
Черкасский — украинский, в данном случае имеется в виду Слободская Украина.
(обратно)6
Князь-кесарь — так Петр I и его сподвижники шутливо называли стольника Федора Юрьевича Ромодановского, начальника Преображенского приказа, ведавшего политическим сыском.
(обратно)7
3елейная казна — запасы пороха.
(обратно)8
Отвершек — одна из вершин, ветвей главного оврага, долины.
(обратно)9
Дети боярские — провинциальные дворяне, как правило, мелкопоместные или беспоместные.
(обратно)10
Казаки городовой службы числились в полках по сотням во главе с сотниками.
(обратно)11
В те времена по этим местам шла посольская дорога из Москвы через Валуйки в Крым.
(обратно)12
Имеются в виду: гетман Левобережной Украины И. М. Брюховецкий, изменивший России и убитый казаками на раде в 1668 году, и С. Т. Разин, донской казак, предводитель второй крестьянской войны в России.
(обратно)13
Белгородская засечная черта — оборонительная линия по южному пограничью России. Состояла из городов (крепостей) и острожков, земляных валов и лесных засек (завалов), тянулась от реки Ворсклы на западе через Белгород (центр черты) до Тамбова на востоке, где начиналась Симбирская засечная черта.
(обратно)14
Сажень равняется 3 аршинам, или 48 вершкам, или 2,1 метра.
(обратно)15
Яруг — овраг, буерак.
(обратно)16
Так Петр называл свою сестру Софью, регентшу при и ем в старшем брате Иване в 1682 — 1689 годах. Описываемые события происходили в 1686 году.
(обратно)17
Лука — изгиб реки, излучина; лесистый мыс, огибаемый рекою.
(обратно)18
Кошевой атаман — атаман Войска Запорожского; Кош (военный лагерь, обоз, табор) — название Запорожской Сечи.
(обратно)19
Куренной атаман — глава войскового подразделения, куреня, численностью в несколько сот человек. Запорожская Сечь делилась на 38 куреней.
(обратно)20
Поспольство — имеется в виду основная масса запорожских казаков.
(обратно)21
Севрюк — старинное наименование жителей Северской Украины, района Северской земли (в древности — Чернигово-Северского княжества).
(обратно)22
Армата — пушка.
(обратно)23
Рушиться — от: рушение, ополчение.
(обратно)24
Бyдара — речное судно.
(обратно)25
Монастырский приказ — центральное учреждение, управлявшее в то время землями и доходами монастырей.
(обратно)26
Ярыжка — вольный, бродячий человек, наймит.
(обратно)27
Бригадир — воинский чин, промежуточный между полковником и генералом.
(обратно)28
От mein Herr — мой господин.
(обратно)29
Приток — нечаянный, внезапный, несчастный случай, неожиданная помеха, препона.
(обратно)30
Сакма — путь, которым прешли по степи конные или пешие люди; по ширине сакмы, по «выбитости» почвы можно узнать (сметить) о количестве прошедшего войска и т. д.
(обратно)31
Толчь — толченое, дробленое зерно, сухари.
(обратно)32
Тума — сын казака и татарки, турчанки; тумой был, например С. Т. Разин.
(обратно)33
Яруга — яр, глубокий овраг.
(обратно)34
Зеньчуг — жемчуг.
(обратно)35
Лестовки — четки.
(обратно)36
Потомки некрасовцев вернулись на Родину несколькими группами в течение первой половины нынешнего столетия. Представители майносской ветви поселились в Ново-Некрасовском хуторе Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, в пяти селах Грузинской ССР; представители дунайской ветви — в хуторах Потемкинском, Новопокровском того же района, селе Воронцовка Ейского района и хуторе Некрасовка Кизлярского района. В городе Поти проживают представители обеих ветвей.
(обратно)37
После Великой Отечественной войны старики из хутора Ново-Некрасовского передали ее Ф. В. Тумилевичу, известному собирателю некрасовского фольклора. Позднее он передал знамя в Ростовский-на-Дону музей.
(обратно)
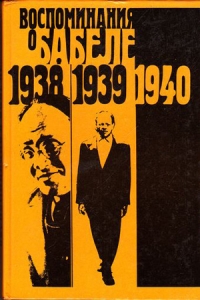
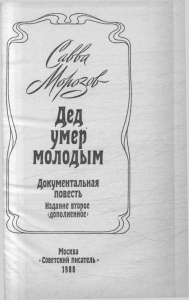

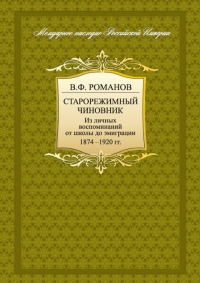

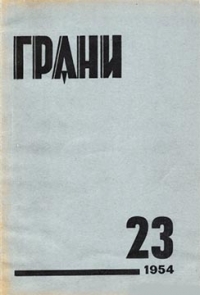

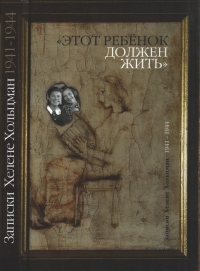
Комментарии к книге «Булавин», Виктор Иванович Буганов
Всего 0 комментариев