Семен ЛИПКИН
ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА
Среди моих бумаг почему-то оказалась копия следующего документа:
АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что шинель специального корреспондента "Красной звезды" тов. подполковника Гроссмана B.C. за три года работы на фронте пришла в состояние полной изношенности.
Полковник (И. Хитров)
Полковник (П. Коломийцев)
Подполковник (Л. Гатовский)
28 июля 1944 г.
Каждая фраза этого акта по-своему замечательна. "Три года работы на фронте" - именно работы - в дыму, в огне атак, в грязи и снегу бездорожья, в пыли окопов, в крови раненых, в болотной, речной, озерной воде. Я видел в том же Сталинграде известных писателей - спецкоров центральных газет. Иные - не все - не чуждались передовой, ходили иногда вместе с бойцами в атаку, но их отчаянность, лихость были однодневными, одноразовыми, потом в землянках больших военачальников начиналась роскошная выпивка. "Это что-то нерусская храбрость", - вспоминается замечание Лермонтова о Грушницком. Храбрость Гроссмана была храбростью чернорабочего войны, солдата жестокой поэзии войны. В то время как его коллеги умудрялись каждый год, а то и два раза в году, одеваться в генеральских пошивочных, шинель Гроссмана "пришла в состояние полной изношенности". Вот в такой, залитой бензином, заляпанной грязью шинели он запомнился мне в Сталинграде.
Если не считать той мелочи, что я остался в живых, мне на войне не везло. Я ее начал на Балтике, а там меня послали в морскую пехоту - в качестве корреспондента, конечно, но понимающие люди знают, что такое морская пехота на Ленинградском фронте. Пережив несколько месяцев блокады, я был временно откомандирован для работы среди войск нерусской национальности в 110-ю кавалерийскую калмыцкую дивизию, в июле 1942 года мы попали в окружение в районе Мечетинской, больше месяца наш разрозненный отряд блуждал в степях по немецким тылам, мы вышли из окружения в районе Моздока в августе, а потом я был направлен в Сталинград, в Волжскую военную флотилию, труднейшую пору Сталинградской битвы находился на борту канонерской лодки "Усыскин", которая погибла, приходилось на бронекатерах переправляться и на правый берег, к полковнику Горохову на Рынок, и в родимцевский штаб в трубе. Однако все мои действия не были результатом моей личной смелости. Я не могу сказать о себе, что рвался в бой, - я просто подчинялся приказам.
Однажды комиссар "Усыскина" предложил пойти вместе с ним и двумя матросами по обстреливаемому немцами волжскому льду, чтобы передать письма, водку, еду повкуснее нашим морякам, установившим свой НП на чердаке одного из сталинградских полусгоревших домов на улице, занятой немцами. Комиссар мне только предложил, не приказал, он не был моим прямым начальником, и, если бы не стыд, я бы отказался.
Другое дело Гроссман. Он подчинялся не сталинградскому военному начальству, а московской редакции. Никто на фронте не мог ему приказывать. Но он с жадностью и отвагой художника искал истину войны, искал ее на той огневой черте, где смерть выла, пела над головой. Бог охранял его, он не был ни разу ранен. Его настигла не немецкая пуля, а другое страшное оружие.
На войне он был целомудренно чист, презирал тех литераторов, кто заискивал перед начальством, то униженно, то нагло выпрашивал награды и звания, кто ленился появляться на передовой. Был верен жене, в отличие от многих нас, грешных.
Его нравственную, а не только художественную силу чувствовали все. Порой боялись ее. Когда мы вступили в Германию и начались постыдные, дикие происшествия, кто-то из фронтовых стихотворцев, пародируя известную песню, сочинил:
Средь огня и насилий Едет Гроссман Василий, Только он не берет ничего.
Далее следовали строки об одном корреспонденте "Правды", родственнике дирижера Большого театра: "Серебро и посуду он везет Самосуду..."
В этих записках я хочу прежде всего рассказать о некоторых событиях, связанных со сталинградской дилогией "За правое дело" и "Жизнь и судьба". Я хочу рассказать о них не только потому, что этими событиями обозначаются последние годы жизни Василия Гроссмана, но и потому, что они с необычайной выпуклостью выявляют черты нашей литературы и - шире - нашей страны. Мне бы полагалось написать не только о том неизмеримо тяжком, что выпало на долю этих романов и свело преждевременно в могилу их создателя, но написать портрет одного из самых крупных русских писателей нашего столетия, поскольку я единственный оставшийся в живых из его друзей, могу сказать, самый близкий его друг на протяжении двадцати с лишним лет. Однако я не чувствую себя сейчас достаточно готовым выполнить эту задачу полностью.
Наша духовная близость, наша будничная близость (если один из нас не был в отъезде, мы встречались ежедневно) не мешали мне понимать, что мой спутник-брат со всеми его мелкими, мне как никому другому открытыми недостатками намного выше меня и по таланту, и по своим душевным качествам. "Вася, ты же Христос", - говорил ему при мне Андрей Платонов, и я понимал, почему он так говорил.
Сосредоточив свое писание на истории вышеназванных романов, я все же чувствую, что обязан, хотя бы кратко, может быть, импрессионистично, кое-что рассказать и о самом Гроссмане, и о других его вещах последних лет, надеясь, что Бог пошлет мне годы и силы для более обстоя тельного рассказа. Надеюсь и на то, что, если у меня найдется читатель, он не посетует на те отступления, на те беглые зарисовки, которые покажутся мне заслуживающими читательского внимания.
Нас познакомил незадолго до войны писатель С. Г. Гехт, наш общий приятель, мой земляк. Хотя литературный стаж Гроссмана к тому времени был невелик, его имя, по крайней мере в писательской среде, произносилось с уважением и было уже более громким, чем имя его почтенного однофамильца Л. П. Гроссмана, автора литературоведческих исследований и популярного романа о дуэли Пушкина "Записки д'Аршиака". Славу Василию Гроссману принес его первый небольшой рассказ "В городе Бердичеве", напечатанный в апреле 1934 года в "Литературной газете". Лучшие наши писатели открыли в Гроссмане человека оригинального таланта, подлинного художника. С похвалой о рассказе говорил мне Бабель: "Новыми глазами увидена наша жидовская столица". А Булгаков сказал: "Как прикажете понимать, неужели кое-что путное удается все-таки напечатать?"
Позднее я узнал, что до этого рассказа Гроссман написал повесть "Глюкауф". Этим немецким словом, которое приблизительно переводится так: "Со счастливым подъемом", наши шахтеры встречали поднявшихся на землю из ее глубины своих сотоварищей. Гроссман по окончании химического факультета московского университета работал химиком-аналитиком на шахте "Смолянка-2" (он с гордостью говорил, что это самая глубокая, самая жаркая угольная шахта в нашей стране) и в своей повести, по-моему, превосходной, описал тяжелую жизнь донбасских шахтеров - забойщиков, крепильщиков, коногонов, полную опасностей при плохой системе охраны труда, и такое описание вызвало недовольство Горького, которому Гроссман через посредство одной своей высокопартийной родственницы (впоследствии репрессированной) отправил свою рукопись. Горький ответил:
"Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже "позиция", но и материал, и автор выиграли бы, если бы автор поставил перед собою вопрос: "Зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?""
Не странно ли, что Горький, обладавший крупным дарованием, а художественный дар всегда рождается от правды, мог предполагать, что правд имеется несколько. А ведь когда-то, осуждаемый Лениным, сам искал Бога единственную правду...
На западе уже шла война, а в Москве стоял мирный светлый день, когда Гехт нас познакомил. И мы вчетвером (Гроссман был с женой Ольгой Михайловной) направились в летнее кафе-мороженое на Тверском бульваре, сели за столик. Я к тому времени прочел первую часть недавно вышедшего романа Гроссмана "Степан Кольчугин" и сказал, что роман отлично написан, но мне кажется непродуманным образ старого большевика Бахмутского - он скорее похож на старого меньшевика, и вряд ли во второй части судьба Бахмутского сложится благополучно, если автор будет правдив. Гроссман свернул пальцы рук, бинокликом приставил их к своим очкам, посмотрел на меня, а губы его улыбались. Он часто делал такой жест - биноклик из пальцев, если ему казалось, что собеседник что-то угадал. Кстати, не случайно вторая часть "Степана Кольчугина" так и не была написана.
Я подумал, что Ольгу Михайловну, большеглазую статную блондинку малороссийского типа, я где-то уже встречал. Впоследствии Гроссман рассказал мне историю своей женитьбы. Ольга Михайловна была женой писателя-перевальца Бориса Андреевича Губера (потомка поэта пушкинской поры Эдуарда Губера, переводчика "Фауста")
Здесь я должен прервать рассказ, чтобы остановиться на перевальцах. Главой "Перевала", как известно, был А. К. Воронский, тот самый, которому Ленин после окончания гражданской войны поручил "собирать" новую советскую литературу. Не буду касаться программы "Перевала", я ее плохо знаю, вернее, никогда толком не знал, скажу только, как воспринимались перевальцы пишущей молодежью, мной и моими друзьями. Прежде всего - как порядочные люди, в отличие от рапповских разбойников: Авербах был той же самой породы, что и Софронов. А перевальцы хотели истинной, не прикладной, литературы, а главное, противопоставляли рапповскому национальному нигилизму искреннюю, бескарьерную любовь к России. Напомню, что это было в годы, когда само слово "Русь" считалось чем-то нелепым, глупо и даже враждебно старомодным. Рапповская критика с площадным визгом высмеивала строки Николая Зарудина (между прочим, как и Пильняк - немца) : "Хорошо это счастье - поплакать над могилкою русской души". Костяк "Перевала" составляли, помимо Воронского, Иван Катаев, Николай Зарудин, Ефим Вихрев (автор первой работы о Палехе), Абрам Лежнев. К ним примыкал Пильняк. Был среди них и Петр Павленко. Считается, что он их погубил. Но, конечно, он был только орудием, перевальцы были обречены. Я был с ними немного знаком (ближе всех - с А. 3. Лежневым и Борисом Пильняком), потому что в Москве писателей было мало, не то что нынешнее многотысячное поголовье, и все печатавшиеся в толстых журналах близко ли, далеко ли знали друг друга, начинающие и известные.
Когда "Перевал" был разогнан, но еще не репрессирован, я однажды встретил на узкой лестнице Гослитиздата на Большом Черкасском А. К. Воронского, спросил его о здоровье, об А. 3. Лежневе. "Разойдись, иудеи, по своим шатрам", - ответил мне своим семинарским голосом бурсак-большевик и удалился в ту комнату, где работал одним из рядовых редакторов. Это, кажется, было за год до его ареста. А был он еще не стар, крепкий, красиво седеющий.
Гроссман, приехавший в Москву из Донбасса после развода со своей первой женой, был радостно встречен перевальцами, подружился с ними. Я думаю, что в дебютном рассказе Гроссмана их привлекал образ Вавиловой, написанный без ангажированного романтизма тех лет. Вавилова, комиссар Красной Армии, лежит в бердичевской хате беременная. Идет гражданская война, а комиссар - беременная. Это должно было понравиться перевальцам. Так еще никто не писал о девушках в походной шинели.
И вот Гроссман влюбился в Ольгу Михайловну. Настал 1937 год. Бориса Губера, в числе других перевальцев, арестовали. Вскоре взяли и Ольгу Михайловну. На попечении Гроссмана оказались два мальчика, Миша и Федя, дети Губера и Ольги Михайловны. Гроссман мне рассказывал: "Ты не представляешь себе, какова жизнь мужчины, у которого на руках маленькие дети, а жена арестована". И тут он совершил один из тех поступков, которые делали Гроссмана - Гроссманом. Он написал всесильному железному наркому НКВД Ежову письмо, в котором сообщал, что Ольга Михайловна - его жена, а не Губера, и поэтому не подлежит аресту. Казалось бы, это само собой разумеется, но в 1937 году только очень храбрый человек осмелился бы написать такое письмо главному палачу государства. И, к счастью, письмо неожиданно подействовало: просидев около года в женской тюрьме (она помещалась в переулке за теперешним зданием американского посольства), Ольга Михайловна была выпущена на свободу. К слову сказать: Ольга Михайловна говорила, что по тюрьме пошел слух, будто бы там в это время сидела Мария Спиридонова.
Когда мы с Гроссманом познакомились, я чувствовал, что он счастлив. Литературный успех, особенно ощутимый после полунищенской, одинокой жизни донбасского инженера (первая жена и дочь Катя жили отдельно в Киеве), новые умные, интересные друзья, красивая жена. "Меня поразило: какие красивые жены у писателей", - говорил он мне, когда мы сблизились и когда он вспоминал о своих первых шагах в литературе. Он был высокого роста, курчавый; когда он смеялся, а смеялся он в те дни часто, не то что потом, на щеках у него появлялись ямочки. Необыкновенными были его глаза близорукие, одновременно пытливые, допрашивающие, исследующие и добрые: редкое сочетание. Женщинам он нравился. От него веяло здоровьем. Тогда я еще не знал, что он боялся переходить московские площади и широкие мостовые: общая болезнь с другим моим великим другом - Анной Ахматовой.
В кафе-мороженом Гехт предложил мне кое-что прочитать. Я прочел два или три стихотворения. Гехт и Ольга Михайловна выслушали их равнодушно, а Гроссман сказал: "Хлебопек" - и пояснил: в девятнадцатом веке поэты были хлебопеками, в двадцатом стали ювелирами. Через много лет он высказал мысль о хлебопеках и ювелирах в последней своей книге "Добро вам", о которой я кое-что расскажу.
После первой последовали другие встречи то у него в коммуналке на улице Герцена против Консерватории, то у Гехта, то у Фраермана, куда приходили также Паустовский, Осип Черный, иногда Гайдар. Гроссмана и меня потянуло друг к другу. Наши встречи прервала война. На пятый ее день я был мобилизован и вместе с Александром Кроном и Леонидом Соловьевым (автором "Возмутителя спокойствия") был направлен в Кронштадт, а Гроссман стал сотрудником "Красной звезды" и отправился на передовую. Мы свиделись только в октябре 1942 года в Сталинграде, где базировалась наша Волжская военная флотилия, - вернее, на левом берегу Волги против Сталинграда. Свиделись мы не случайно. Он знал, что я близко от него. К тому же он захотел побеседовать с моряками. Он был худ, небрит, в грязной шинели, испытующие, исследующие его глаза блестели одушевлением. Мы выпили водки в каюте, которую я делил с начальником БЧ-5 (машинное отделение), потом сошли на берег, чтобы поговорить по душам, без посторонних. Я к тому дню был на сталинградском фронте всего лишь две недели, а он успел уже пройти через все круги августовского и сентябрьского ада, уже был опален тем сталинградским пожаром, который он впоследствии так мощно описал в романе "За правое дело". Между прочим, я ему сказал, что у нас каптеркой ведает мичман, украинец по фамилии Шулъц, он всем нужен, на берегу моряки кричат: "Шульц! Шульц!" и это испугало приехавшего из Москвы важного политработника. Тот со страху решил, что немцы высадились на наш берег. Есть у нас, добавил я, еще один моряк с громкой немецкой фамилией, командир бронетанкера старшина Каутский, но он еврей. Гроссман усмехнулся, потом сказал с укором: "Анекдоты, анекдоты, а люди гибнут. И какие прекрасные люди. Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы. Вы согласны со мной?"
Я ответил, что в военных делах разбираюсь плохо, на все воля Божья. Гроссман не сомневался в том, что идет война между интернационализмом и фашизмом. Эта война, по его мнению, смывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37-го года. Я не помню дальнейших его рассуждений, но приблизительно он говорил то, что написал в романе "За правое дело": "Партия, ее Цека, комиссары дивизии и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии".
Я проводил его до Средней Ахтубы, где он должен был сесть в машину. Длинный путь мы прошли почти молча, холодно расстались, недовольные друг другом.
В Сталинграде мы больше не встречались. Я не помню, когда он оттуда уехал. Хорошо только знаю, что нашего вступления в город он не видел. Я ему рассказывал, как в победную ночь на 3 февраля мы, моряки, шли по льду Волги с хлебом и водкой для жителей, с гармошками, с многоцветными ракетами.
Сталинградские очерки Василия Гроссмана, которые регулярно печатались в "Красной звезде", самой читаемой газете военных лет, сделали его имя широко известным и в армии, и в тылу. Кажется, некоторые из этих очерков публиковались за рубежом. Особенно знаменит был очерк "Направление главного удара", в котором слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами, грохот, которым "можно было оглушить человечество", горел огонь, которым "можно было сжечь и уничтожить государство". Сталин приказал "Правде" перепечатать очерк из "Красной звезды", несмотря на то, что не любил Гроссмана. Было известно, что Сталин еще до войны самолично вычеркнул "Степана Кольчугина" из списка произведений, представленных на соискание Сталинской премии, единогласно утвержденного комитетом по этим премиям. Сталин назвал роман меньшевистским. Между тем в ночь накануне опубликования списка лауреатов Гроссману звонили из главных газет страны, поздравляли. Потом, через несколько лет, Гроссман, рассказывая мне об этом, заметил, лукаво смеясь: "Ты проявил классовое чутье, твое мнение совпало со сталинским".
"Направление главного удара" привлекло к себе всю страну. Точность деталей, пылающая правда сражения рождали мысль о том, что "героизм сделался будничной, каждодневной привычкой". "Вы теперь можете получить все, что попросите", - сказал Гроссману Эренбург. Но Гроссман ни о чем не просил.
Известность его упрочила повесть "Народ бессмертен", первая сравнительно большая вещь об Отечественной войне. Даже после опубликования за рубежом повести "Все течет" и романа "Жизнь и судьба" эта повесть, хотя и гораздо реже, чем прежде, упоминается в нашей печати в почетном перечислении. Написана она выразительно, но сердца моего не затронула.
Летом 1943 года меня вызвал в Москву Военмориздат который выпускал отдельной книжкой мой очерк боевых действий канонерской лодки "Усыскин". Я должен был кое-что исправить, учесть, как водится, замечания редактора. Не скрою, что я обрадовался вызову, возможности поехать в Москву.
Оказалось, что в столице находятся Гроссман и Платонов: они приехали с передовой на какое-то совещание военных корреспондентов. Где мы встретились - не помню, может быть, в Доме литераторов, в восьмой комнате которого кормили сносными, а для военного времени весьма сытными обедами писателей-фронтовиков, вызванных по тому или иному делу в Москву. Были среди них и такие, которые фронта не нюхали, их называли земгусарами.
Мы с Гроссманом крепко обнялись, холод сталинградской встречи был забыт. Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана, мы с ним были и прежде знакомы, но шапочно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: "Моряк красивый сам собою". Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны, оба служили в "Красной звезде".
Однажды, рассказал мне Гроссман, им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфутдинов, а Платонов называл его Сульфидиновым. Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они остановились в прифронтовой избе. Нестарая хозяйка бросила быстрый взгляд на водителя. "Сульфидинов, - сказал Платонов,забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу".
Мы условились вечером встретиться у Платонова, поскольку семья Платонова в эвакуацию не выезжала и, значит, у него был какой-то домашний уют. Решили, что каждый постарается достать выпивку.
Теперь о Платонове пишут, что он чуть ли не работал одно время дворником. Это вздор. У Платонова была в Доме Герцена отдельная (тогда большая редкость) квартира из двух светлых смежных комнат, семья его не голодала, хотя каждая копейка была на счету. Платонова преследовали с первого дня его вступления в литературу. На полях "бедняцкой хроники" "Впрок" Сталин написал одно слово, кажется, "сволочь", и с тех пор пошла писать губерния.
Фадеев, редактор "Красной нови", в которой "Впрок" был опубликован, обрушился на Платонова со статьей о вылазке классового врага. Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клевреты. Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии - несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича. Что же касается Фадеева, то он в этом, как и во многих других, случае был неискренен. Он ценил Платонова, у него вообще был недурной вкус, чуткость к слову, но он всегда с варфоломеевским исступлением выполнял указания Сталина.
Несмотря на страшный отзыв вождя, Платонова не тронули. Но все, что он публиковал, всегда подвергалось такой губительной критике, что все думали: судьба его предрешена. Он жил трудно, его одолевали материальные заботы, ради заработка он то писал с Фраерманом пьесу для детей, то занимался обработкой сказок. Но его талант был настолько оригинален, что даже работы, написанные ради хлеба насущного, вызывали недоумение в редакциях и редко печатались и оплачивались.
В те годы значение литературной среды было большим, чем сейчас (да и есть ли эта среда сейчас?), ее мнения соперничали с государственными, были достаточно влиятельны, и существовали писатели, которые произносили имя Платонова уважительно, нередко с восхищением. Журнал "Литературный критик" вдруг, отступая от своего профиля, опубликовал рассказы Платонова, вызвав гнев литературного и нелитературного начальства. В этом журнале, где главенствовали политэмигрант, венгерский философ-марксист Георг Лукач, и другой марксист, Михаил Лившиц, охотно помещались критические статьи Платонова, подписанные псевдонимом Человеков. Может быть, псевдоним этот не случаен: Платонов говорил, что хотел бы написать роман "Путешествие в глубь человека" - название пародировало популярные книги вроде "Путешествие в глубь Африки" и т. п.
Критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением, например, у него была прекрасная статья об Ахматовой. Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в "Войне и мире" Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодежи, хвалил рассказы Бокова.
Вспоминается замечание Платонова по поводу одного места в поэме Пастернака "Высокая болезнь". Пастернак пишет, что вокзал в годы военного коммунизма
...спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Платонов говорил: "Писатель, заботясь о читателе, сравнивает неизвестное либо с малоизвестным, либо с известным. Пастернак поступает наоборот: вокзал, хорошо знакомый миллионам людей, уподобляется консерватории в пору каникул. А многие ли видели консерваторию в эту пору?"
Я возразил: Пастернак смотрит на опустевшую консерваторию глазами человека, хорошо знакомого с консерваторским бытом. Платонов не принял моего возражения.
Я прочел ему стихотворение Волошина "Дом поэта". Оно ему понравилось, он задумчиво повторил: "При жизни быть не книгой, а тетрадкой". Он, когда ему читали, не высказывался, а несколько раз повторял понравившееся ему выражение, и оно в его устах приобретало особый, значительный смысл. Так, он повторил одну строку из моих стихов "Затоптать свои следы", и я понял, что он придал этой строке, как и строке Волошина, смысл, выстраданный собственной жизнью.
Когда Гроссман читал нам главы из романа "За правое дело", Платонов тоже не высказывался, а повторял после чтения запавшие ему в душу выражения, например: "Отставить матерки!" или "Хана - и перестал существовать", - это относится к фразе о водителе: "Возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал "Хана" - и перестал существовать".
При мне Платонов читал две свои вещи: чудесную "Джан", где с библейской простотой и живописностью рассказал о маленьком племени ("джан" по-персидски - "душа"), кочующем в советские годы в пустыне, и рассказ о солдате, вернувшемся к жене, которая ему изменила, пока он воевал. И читая, Платонов в смешных местах смеялся первым.
Я не помню каких-нибудь пространных высказываний Платонова, обычно он как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы. И это хмыканье, бормотанье, поджиманье губ казались мне значительнее и умнее многих слов. Но он умел кратко и красочно определить самую суть дела.
Об одной литературной дискуссии он сказал: "Совокупление слепых в крапиве". В тот вечер в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме (и Гроссману, и мне удалось достать водку по талонам) и мы выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтового пайка, кусок показался Платонову слишком большим, и наш хозяин выразился обо мне так: "Садист на закуску". Как-то уже после войны мы зашли к Платонову, и Гроссман, поддразнивая его, сказал: "Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают", а Платонов серьезно ответил: "Я теперь в команде выздоравливающих".
Во время этой встречи заговорили о том, что в печати мощным потоком движутся на нас произведения, лишенные не только таланта, но и профессионального умения. Платонов сказал: "В литературу попер читатель".
В моей памяти осталось только одно распространенное предложение Платонова, касающееся вопросов литературы. Он говорил, что не всякое угодливое слово нравится властям: надо, чтобы это лакейское слово было сказано вовремя. Не годится, если оно произнесено с опозданием, и оно часто вызывает гнев, если высказано до срока, - власти терпеть не могут забегальщиков.
Запомнилась мне и такая черта Платонова: его не удивляло самое сногсшибательное, порой нелепейшее сообщение, касалось ли оно политических событий или литературных. В ответ на такое сообщение он всегда спокойно произносил одну и ту же фразу: "Свободная вещь".
К Платоновым был вхож необычный гость - Шолохов. Видимо, он понимал значение Андрея Платоновича, порой заступался за него, добывал для него литературную работу. Очень гордилась таким знакомством Марья Александровна, жена Платонова, красивая, "холодная и злая", если употребить выражение Андрея Белого. Многое в ее характере было мне и Гроссману чуждо, но подчеркну ее преданность таланту мужа. Марья Александровна считала, что Платонов выше всех писателей, незаслуженно, по ее мнению, знаменитых, а такую преданность писательской жены надо ценить.
Среди литераторов нашего круга никто не знал Шолохова, и Гроссман спрашивал: "Ну, скажи, какой он? Умный?" Но Платонов в ответ бормотал что-то невыразительное.
Гроссман всегда живо интересовался Шолоховым - автором первоклассного, по его мнению, романа "Тихий Дон" и весьма посредственной "Поднятой целины". Низкопробными он считал различные его выступления. У Платоновых я упомянул о таком эпизоде. Член Военного совета нашей флотилии взял меня с собой в конце февраля 1943 года в Камышин. Я должен был описать в газете церемонию вручения наград тяжелораненым морякам, находившимся на излечении в камышинском военно-морском госпитале. Оказалось, что в Камышине в большом, видимо, бывшем купеческом доме живет с семьей полковник Шолохов, живет безвыездно, как сообщили жительницы города.
После вручения наград состоялся банкет, на который был почтительно приглашен Шолохов. Предоставили ему слово. Покалеченные войной, безногие, безрукие, ослепшие ждали, что им скажет любимый русский писатель. Шолохов посреди напряженного молчания произнес тост: "Выпьем за Советскую Украину". И больше ни слова. Гроссман очень удивился. "Вы слышали?" - переспрашивал он, потом сказал: "Человек-загадка". А Платонов пробормотал: "Слова из сердца выходят редко, из головы чаще".
Они любили друг друга - известный в ту военную пору, признанный государством член правления Союза писателей Гроссман и гонимый Платонов, чье имя долго ничего не говорило широкой массе читателей. У них было много общих черт, но чувствовалось и различие в каждой из черт. Оба ненавидели и презирали лакейскую литературу, и даже у писателей, считавшихся приличными, даже у тех, с кем приятельствовали, терпеть не могли полуправду, позерство, пустословие, выверты.
Но Гроссман не только в своих писаниях, но и в своих вкусах, относилось ли это к литературе, живописи или музыке, был более привержен традиции, русской и западноевропейской классике девятнадцатого и начала двадцатого века, а Платонов в своих суждениях был независимей. Оба чувствовали влечение к простым людям, к рабочим, крестьянам, но у Гроссмана это шло от социал-демократических воззрений его юности, может быть, внушено ему отцом, Семеном Осиповичем, в прошлом меньшевиком, а у Платонова - от преклонения перед простейшими проявлениями жизни в природе, в человеческом обществе.
Помню, с каким ликованием говорил Платонов о своей работе машиниста: "Паровоз в исправности, и ты летишь, тебе навстречу земля и небо, и ты хозяин всего простора мира". Оба, и Гроссман, и Платонов,не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба исповедовали материалистическую философию, но Гроссман, по крайней мере, до определенного времени считал себя марксистом, а материализм Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению Федорова. Я как-то рассказал обоим сюжет из индийской "Махабхараты".
Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки и, боясь, что даже взгляд на нечистоты загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут же из лепешек восстает бог Индра и говорит им: "Жалкие люди, это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого".
Гроссман сказал: "Интересно". А Платонов медленно повторил: "Нет на земле ничего чистого и нечистого".
Длинное это сопоставление я заключу тем, что оба охотно выпивали, но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была и в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег ему обычно не хватало. Он мог выпивать и с грязным черносотенцем. Гроссмана это возмущало, он был требователен к себе и властно требователен к друзьям, кричал на Платонова, но при этом, как всегда, смотрел на Платонова влюбленными глазами. И такими же глазами смотрел Платонов на Гроссмана.
После войны мы иногда втроем сиживали на Тверском бульваре против окон Платонова. Любимым занятием было сочинять истории о том или ином заинтересовавшем нас прохожем. Я это делал бледно, не обо мне речь, а Гроссман и Платонов в этой забаве проявляли каждый свои свойства. Изустный рассказ Гроссмана изобиловал подробностями, если он считал, что прохожий бухгалтер, то уточнял: на кондитерской фабрике, если - рабочий, то мастер на электрозаводе. Далее шли портреты жены, детей, старого пьяницы-отца, можайского мужика, много юмора и печали. Не то - рассказы Платонова. Они были бессюжетны, в них рисовалась внутренняя жизнь человека, необычная и в то же время простая, как жизнь растения.
Вот так мы сидели как-то в жестокую пору борьбы с космополитизмом на все той же скамейке. Гроссман пошел на угол к табачному киоску, и в это время к нам приблизился шаркающей походкой профессор-стихолюб, милейший старик Иван Никанорович Розанов, и сказал, широко улыбаясь, показывая длинные редкие зубы: "Чувствуете, как воздух очистился, чесноком стало меньше пахнуть", - и удалился, опираясь на палку. Видимо, он по старости забыл о моем происхождении. Когда Гроссман вернулся с папиросами, я рассказал о происшествии. Гроссман сначала опешил: "Такой чудный старик", потом набросился на меня и на Платонова, кричал, как это мы не нашли ответа на противные слова, покорно их выслушали, матерился. Платонов вяло говорил: "Брось, Вася", но был смущен. В "Жизни и судьбе" фразу Розанова произносит старик-педагог.
Когда Платонов заболел (он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына - в каком-то безумии целовал его в губы), Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колюче-светящейся долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий частый кашель.
Смерть Платонова потрясла Гроссмана. При этом, как он мне писал, выехав после похорон за город, он еще измучился "из-за похорон и хлопот, которых никто из писателей в Союзе пис[ателей] не взялся делать".
Я помню проникновенную речь, которую Гроссман произнес над гробом друга в присутствии немногих пришедших почтить память покойного в Союз писателей (а наша кучка еще больше поредела, когда мы хоронили Платонова на маленьком чистом армянском кладбище напротив Ваганьковского). Речь Гроссмана содержала в себе насыщенную умом и болью характеристику драгоценного писателя, умершего недооцененным, почти в безвестности. Напечатать эту речь долго не удавалось, не желали. В январе 1960 года Гроссман мне писал:
"Предложили мне из Радиокомитета выступить по радио об Андрее Платонове. Я согласился, написал маленькую статью. Посмотрим, выйдет ли что-нибудь. Может быть, в жанре акына мне больше повезет".
Статью, основанную на речи на похоронах, Гроссман по радио прочел это было первое разумное и достойное слово, сказанное в России о Платонове. В виде рецензии на посмертно вышедшую книгу Платонова статья была напечатана в "Литературной России". Еще о Платонове мало знали, когда Гроссман писал: "А. Платонов - писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, в самых простых основах человеческого бытия". Поразительная по своей глубине и изящной, математической краткости формула! Гроссман иначе вел свой поиск, чем Платонов, но оба искали одного и того же, и не случайно Гроссман сказал о своем друге, что Платонов "не стал бы писать, если б неутомимо, исступленно и безудержно, всегда и повсюду, не искал человеческого в человеке".
До конца своей жизни Гроссман не переставал вспоминать Платонова, перечитывать его. В одном из поздних своих писем он мне писал:
"Читаю рассказы Платонова. Большущая сила в них - "Такыр", "Третий сын", "Фро". Словно в пустыне слышишь голос друга - и радостно и горько. Человек написал книгу, а это не шутка".
В 1943 году Гроссман приступил к роману "За правое дело". Помню, что Гроссман мне об этом сказал после пережитой им трагедии. Его семья жила в эвакуации в Чистополе, и старшего пасынка Мишу взяли в чистопольский военкомат на допризывное обучение. Во дворе военкомата взорвалась бомба, и Миша погиб. Ему еще не было шестнадцати лет. Ольга Михайловна мне рассказывала, что могилу копал их чистопольский сосед Борис Пастернак, делал это очень умело, с его помощью в татарском городе нашли священника, похоронили мальчика по православному обряду. Горе Ольги Михайловны живет на страницах "Жизни и судьбы" - там, где жена Штрума Людмила Николаевна (Ольга Михайловна вообще ее прототип) приезжает в Саратов на могилу сына, умершего после тяжелого ранения в госпитале.
Гроссман построил "За правое дело" так, как военачальник строит свои войска. Мы видим быстрые переброски героев, молниеносные концентрации отдельных фабул, маневры и подвижность сюжетных линий, словесные контрудары и прорывы флангов, скорости моторизованного оружия фраз и картин. Не случайно некоторые знакомые мне молодые прозаики, а их можно назвать авангардистами, - очарованы конструкцией обоих романов, с которыми познакомились после выхода на Западе "Жизни и судьбы".
Автор не только не скрывает, но нарочито подчеркивает сходство плана книги "За правое дело" с планом "Войны и мира". У Толстого в центре романа - семья Ростовых, у Гроссмана - семья Шапошниковых. У Толстого "за автора" говорит и размышляет Пьер Безухов, у Гроссмана - Штрум. И если семья Ростовых биографически близка Толстому, то сестры Шапошниковы - это Ольга Михайловна и ее сестры. И от толстовской мысли о дубине народной войны происходит мысль Гроссмана о том, что в роковые часы гибели Сталинграда "в крови и в раскаленном каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель ее... Неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека".
Параллель с планом "Войны и мира" была откровенным приемом и приемом осталась. Степени сравнения с "Войной и миром" достигает не "За правое дело", а "Жизнь и судьба" - вершина творчества Гроссмана. Но и "За правое дело" - один из самых значительных романов советского периода русской литературы.
Еще до выхода "Жизни и судьбы" отдельным изданием читатель зарубежного журнала "Время и мы" мог познакомиться с главой из романа. Глава выбрана важная, сильная; предварительная статья Е. Эткинда - умная, дельная, я бы сказал - отличная. Будущие читатели будут благодарны С. Маркишу (сыну поэта) и Е. Эткинду за ту огромную, трудную работу, которую они проделали, опубликовав роман полностью. Заслуживает похвалы и предисловие Е. Эткинда к отдельному изданию, но в предпосланной роману безымянной заметке "От издательства" есть одно место, с которым никак нельзя согласиться. Автор заметки, полагая, что до "Жизни и судьбы" Гроссман был обычным, благополучным советским писателем, считает, что "За правое дело" ничуть не лучше "Белой березы" Бубеннова. Он пишет: ""За правое дело" - обыкновенный роман сталинской эпохи - в одном ряду с "Белой березой" Бубеннова и симоновскими "Днями и ночами"".
Против этого я должен, я обязан резко и доказательно возразить.
Прежде всего, Гроссман не был благополучным советским писателем. В литературе он понадобился на краткое время для войны - так же, как для нее понадобились все умные, храбрые и умелые солдаты и офицеры. Надо отдать должное и писателям - не случайно среди них так много павших на полях войны. Но из тех литераторов, кто до войны вовсю трубил о героизме, о своей боевой готовности сражаться за Родину, одни, оказавшись на фронте, заболевали медвежьей болезнью (буквально), другие сдавали свою мочу на анализ, чтобы не попасть в армию, третьи, надев военную форму, ловко отсиживались в тылу, а скромный, близорукий Гроссман, а гонимый Платонов с талантом и бесстрашием несли свою воинскую службу. Да, был жизненный взлет, но еще шла война, когда очерк Гроссмана "Украина без евреев" вызвал злобу начальства и был с большим трудом напечатан во второстепенном издании. А разгром вскоре после войны пьесы "Если верить пифагорейцам"? А мучительный, страшный, долгий путь романа "За правое дело", когда мы с Василием Семеновичем затаились у меня на даче в Ильинском и каждый ночной порыв ветра, стук ставен, шаги в безлюдной улице пугали: "Они пришли". Да и само "За правое дело" с его реалистическими портретами простых людей, крестьян, рабочих, измученных женщин, с горькой правдой советской обыденной жизни, с гениальным описанием Гитлера, и пожара в Сталинграде, и гибели батальона Филяшкина, и встречи майора Березкина с женой, - нет, это не обыкновенный роман. Как можно было его уподобить плоским, ныне забытым "Дням и ночам" или "Белой березе"? И разве на обыкновенный советский роман обрушился бы столь тяжелый удар, который чуть не уничтожил и "За правое дело", и самого автора?
Надо сказать: если героям романа, написанным творящим пером, суждена долгая жизнь, то рассуждения автора примут не все читатели. "За правое дело" писалось в пору перелома Отечественной войны, когда, после того как немцы водрузили флаг со свастикой на Эльбрусе, Красная Армия погнала их назад, освобождая русские, белорусские, украинские села и города. Гроссман-художник решил ответить на вопрос: как мог произойти такой перелом в ходе войны? И отвечал: побеждали люди, которые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудящихся, побеждали рабочие и крестьяне, ставшие управителями России. К тому же топор, занесенный противником над нами, "был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью Родине". По разумению Гроссмана, верховное командование знало об "уже реально существующем превосходстве советской силы над немецким насилием".
С такими мыслями Гроссман начал писать свой роман. Подчеркивая разум верховного командования, он тогда не думал о том, что нас ведет другой, истинно Верховный Разум.
Как-то в пятидесятых годах, незадолго до венгерских событий, мы, пообедав в шашлычной в парке Горького и слегка захмелев, заспорили о прошедшей войне. Спор разгорался, мы, как безумные, бегали по аллеям парка и кричали каждый свое, наконец, сели в изнеможении на скамью, но спор продолжали и опомнились только тогда, когда увидели рядом сидящего и прислушивающегося к нам человека. Опомнились и испугались. Среди героев военных очерков Гроссмана был полковник (впоследствии маршал бронетанковых войск) Бабаджанян, с которым Гроссман поддерживал знакомство, начатое на войне. Я его не знал, но во время нашего спора высказал некоторые предположения о том, как он и такие, как он, повели бы себя в чрезвычайных обстоятельствах. И вот вскоре после нашего сумасшедшего спора Гроссман узнал, что Бабаджанян участвовал в подавлении венгерского восстания. Гроссман мне позвонил, предложил: "Давай выйдем" (мы уже были соседями по Беговой) и, ничего не объясняя, сказал в трубку: "Дьявол, ты как в воду смотрел".
Вернусь к книге "За правое дело".
Уже с первых страниц романа советский читатель узнает то, о чем ему не сообщали государственные писатели. Старый крестьянин Пухов убежден, что на крестьянине всегда государство стоит, а государство, оно тяжелое. Нынешнюю жизнь он считает хуже прежней, при царе, - и заключает: "Только бы не колхозы". С сочувствием, немыслимым для других советских писателей сталинского времени, говорит Гроссман о репрессированных "врагах народа" о сыне старухи Шапошниковой Дмитрии и об Абарчуке, о работавших на стройке, рядом с комсомольцами, раскулаченных, "а мороз для всех один". И были "овраги, пыль, бараки, проволока". Так другие советские писатели стройку не изображали, разве что намекал Малышкин. О стройке пел Маяковский: "Я знаю, город будет", но в пасторали агитатора и главаря нет репрессированных, нет проволоки. В блиндаже, под грохот разрывов, гул дальнобойных пушек, цоканье зениток расспрашивает начальник отдела кадров подполковника Даренского где его жена, а Даренский ничего не знает о жене, он до войны сидел.
Я мог бы привести еще десятки, сотни подобных мест, но суть, в конце концов, не в них, суть в том, что "За правое дело" всей лексикой своей, всей музыкой, всей живописью, всем пристальным вниманием к таким подробностям быта, человеческих отношений, на которые сознательно закрывала глаза чиновничья литература, всем способом рассуждать (а рассуждения сверх положенного, даже в марксистском духе, не поощрялись, раздражали), наконец, всем своеобразием, всей неуправляемостью истинного таланта было чуждо социалистическому реализму. А ведь иногда читаешь произведения, написанные с позиций несоветских, но не только их словесная оболочка - самый состав их так и прыщет социалистическим реализмом.
Хочу остановиться на одном персонаже романа. Среди неудач романа "За правое дело" я назвал бы фигуру старого большевика Мостовского. Правда, в "Жизни и судьбе", при встрече в немецком концлагере с одноглазым меньшевиком (кстати, отец Гроссмана - Семен Осипович - был одноглазым), Мостовской обретает плоть и кровь, но в романе "За правое дело" высказывания его кажутся мне пресными, оптимизм - казенным. Но и тут дело не так просто. Сталин преследовал старых большевиков, уничтожил их Общество, выгнал их из жилищ на улице Стопани, многих расстрелял или замучил на каторге, и Гроссман, рисуя Мостовского как идейного, образованного большевика дореволюционной закалки, бросает вызов Сталину. Заметим, однако, что зоркость Гроссману не изменила. Мостовской, который, решив остаться в занятом немцами Сталинграде, хвалится своим прежним опытом конспирации, сразу же, ничего не успев сделать, попадает в плен к немцам. Война перечеркивает весь большевистский опыт Мостовского.
Гроссман часто и сознательно прибегает к тому, что Тургенев, говоря о Достоевском, называл "обратным общим местом". Так произошло с Мостовским, так произошло и с няней детского сада Соколовой, на которую заведено дело, она пьет, но именно она, пьяница, своей любовью выходила мальчика Гришу Серпокрыла, мозг которого помутился после того, как погибли при воздушном налете его отец и мать. И как ни ортодоксален Крымов, нас, читателей, что-то в нем тревожит, и на протяжении всего большого романа нас не покидает тяжелое предчувствие.
И случилось неминуемое: роман (он сначала назывался "Сталинград") был отвергнут "Новым миром" - редактором Симоновым и его заместителем Кривицким. Больше года они молчали. Гроссман нервничал, серьезная, столь важная для него работа будто в пропасть канула. И вот наконец ответ: печатать не будем, нельзя. Но не успел Симонов вернуть роман автору, как сменилась редколлегия журнала: редактором был назначен Твардовский, его заместителем - критик Тарасенков. Первым прочел роман Тарасенков - и пришел в восторг, поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский - и разделил мнение своего заместителя. Оба приехали к Гроссману на Беговую. Твардовский душевно и торжественно поздравлял Гроссмана, были поцелуи и хмельные слезы. Роман было решено печатать. Опомнившись, Твардовский выставил три серьезных возражения.
1. Слишком реально, мрачно показаны трудности жизни населения в условиях войны - да и сама война.
2. Мало о Сталине.
3. Еврейская тема: один из главных героев, физик Штрум - еврей, врач Софья Левинтон, описанная с теплотой, - еврейка. "Ну сделай своего Штрума начальником
военторга", - советовал Твардовский. "А какую должность ты бы предназначил Эйнштейну?" - сердито спросил Гроссман.
К обязанностям редактора романа Твардовский отнесся с любовью и ответственностью. На полях машинописи он сделал немало полезных заметок. Между прочим, он заметил следующее. У Гроссмана Крымов назывался раньше Крыловым, а в романе действует другой Крылов, историческое лицо, генерал, начальник штаба 62-й армии, и Твардовский посоветовал назвать этот персонаж Крымовым: замена всего лишь одной буквы в фамилии облегчает правку.
Несмотря на свои возражения, уверенный в том, что автор согласится внести исправления, Твардовский страстно хотел роман напечатать. Он действовал обдуманно, искал поддержки. Твардовский отправил роман члену редколлегии "Нового мира" Шолохову, надеясь, что великого писателя земли советской не могут не привлечь художественные достоинства романа и Шолохов, если он даже почему-то не терпит Гроссмана (был такой слух), все-таки поддержит его своим огромным авторитетом.
Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:
"Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против".
Гроссмана и меня особенно поразила фраза: "Кому вы поручили?" Дикое, департаментское отношение к литературе.
Но Твардовский держался молодцом, был непоколебим, упорен. Он обратился за помощью к Фадееву, возглавлявшему Союз писателей. Такая помощь была необходима, потому что у романа были влиятельные противники на разных уровнях государства. Фадеев прочел роман очень быстро - и согласился с Твардовским: надо печатать. Седоголовый член ЦК приехал к Гроссману вечером, засиделся до глубокой ночи, говорил ему с любовью: "Какой вы нахал", т.е. восхищался художественной дерзостью писателя.
Машинопись размножили, дали прочесть членам секретариата Союза писателей. Заседание вел Фадеев. Гроссман был приглашен. Все высказывались положительно, за исключением, кажется, одного из секретарей, кого, точно не помню. Решили:
1. Рекомендовать "Новому миру" роман печатать.
2. Название романа "Сталинград" изменить, чтобы не получилось, что право писать о величайшей битве берет на себя писатель единолично (в эпоху борьбы с космополитиз
мом подтекст был ясен).
3. Штрум несколько отодвигается на задний план, у Штрума должен быть учитель, гораздо более крупный физик, русский по национальности.
4. Гроссман пишет главу о Сталине.
Все эти предложения - и другие, менее значительные - Гроссман принял, иного выхода у него не было. Когда он меня спросил, что я об этом думаю, я сказал, что надо согласиться, но мне было бы противно писать о Сталине. Гроссман рассердился: "А сколько ты напереводил стихов о вожде?" Я привел поговорку моего отца: "Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком". Гроссман ответил мне словами из армянского анекдота: "Учи сэбе".
Против романа, тайно и явно, выступали все грязные и грозные силы литературные и сверхлитературные, но Фадеев и Твардовский не сдавались, и Гроссман, разумеется, видя в них своих покровителей, шел им навстречу. Написал главку о Сталине, стараясь изобразить его с человеческим лицом, без общепринятых космогонических сравнений, ввел в роман новый персонаж видного ученого Чепыжина, учителя Штрума.
Раньше относившийся к Гроссману холодно, подозрительно, быть может, враждебно, Фадеев несколько раз встречался с ним у него на квартире, он понимал значение романа для русской литературы. При мне зашел разговор о заглавии. "Сталинград", как я уже упоминал, не годился. В то время официальная критика высоко отзывалась о произведении Поповкина "Семья Рубанюк". Это словосочетание почему-то смешило Гроссмана, и он с досадой предложил: "Назову роман "Семья Рубанюк"". Фадеев звонко, с детской веселостью расхохотался: "Да, да, "Семья Рубанюк", что-нибудь в таком роде". Было решено во время этой беседы назвать роман "За правое дело" (выражение из речи Молотова, произнесенной в первый день войны), не помню, чье это предложение - Фадеева или самого Гроссмана.
Неожиданное хорошее отношение Фадеева к роману, как и потом его предательство, нетрудно объяснить. Фадеев любил русскую литературу всем сердцем (а оно у него было), терпеть не мог хлынувшую на нас пакость, но вынужден был, чтобы оставаться у власти, публично хвалить то, что считал бездарным. Может быть, личность Фадеева, наложившую свой отпечаток на целую литературную эпоху, читатель лучше поймет, если я остановлюсь на одном эпизоде.
Когда кончилась война, моя семья жила в такой немыслимой тесноте, что мне пришлось зимой, чтобы иметь место для работы, поселиться с Николаем Чуковским на полупустой даче его отца в Переделкине (дачи в Ильинском у меня еще не было). Дружили мы с вернувшимся из карагандинской ссылки Николаем Заболоцким, нашедшим пристанище неподалеку, часто собирались вместе. К нам иногда приходил по вечерам Фадеев, чтобы прочесть отрывки из "Молодой гвардии", которую он в ту зиму заканчивал, либо - во время запоя, когда он становился удивительно человечен. Вот однажды он нам говорит: "Что делается в нашей литературе, конец света. Прислали мне из Пятигорска повесть "Кавалер Золотой звезды", кому-то наверху она понравилась. Дорогие мои Коли и Сема, дальше идти некуда, дальше табуретки. Остается кричать: "Спасите наши души"". Потом он читал с чувством, наизусть, строки Пастернака "Синий цвет", куски из "Страшной мести" Гоголя, пел "Выхожу один я на дорогу", хорошо пел.
Проходит некоторое время, и меня приглашают в Союз писателей на заседание президиума, посвященное выдвижению книг на соискание Сталинской премии. Как председатель комиссии по киргизской литературе я должен был доложить президиуму мнение нашей комиссии о книге одного киргизского поэта. Сижу, жду, когда очередь дойдет до меня. Заходит речь о "Кавалере Золотой звезды" Бабаевского. Хвалят. Берет слово Фадеев, тоже хвалит и вдруг, налившись краснотой, устремляет волчьей синевы глаза на меня и произносит со злостью: "Есть еще у нас чистюли, которые воротят нос от таких повестей". Никто не понимает, почему Фадеев смотрит на меня, ведь моя роль маленькая, специальность узкая, и я, действительно, Бабаевского ни при какой погоде не читал. А Фадеев, видимо, вспомнил, что ругал этого "Кавалера" при мне, рассердился на себя и перенес гнев на меня...
Но вот наконец все преграды сметены, роман Гроссмана печатается в четырех номерах "Нового мира". Редколлегия волновалась, Тарасенков сказал автору: "Я только тогда поверю в нашу победу, когда куплю в киоске номер журнала".
В январе 1950 года Гроссман написал мне в Малеевку:
"В Москве, в "Новом мире", проходит сейчас третий кусок, верстка, завтра начнут мне раньше срока, чтобы мог в Коктебель поехать, давать гранки последнего, четвертого куска. Разговоров много, пока без шипов, но по закону ботаники будут и они. А ты что слышишь? Ну, что ж! Ты ведь знаешь мое чувство: главное свершается. И я, знаешь, по-прежнему остро и, кажется, глубоко чувствую и понимаю это. Ощущение такое, как при напечатании первого рассказа "В городе Бердичеве". А, пожалуй, даже сильнее. Должен сказать тебе, что я пишу понемногу, до чего же графоманы все же упорны".
Впечатление от романа было огромное как в литературной среде, так и в интеллигентных слоях читателей, истосковавшихся по правдивому и поэтическому слову. Не забудем, что роман печатался в годы одичания общества, когда борьба с космополитизмом довершала медленное вырождение литературы и искусства, когда, как выразился смышленый циник, редактор "Литературной газеты" Ермилов, автор убойной статьи в "Правде" о пьесе "Если верить пифагорейцам", - "Маразм крепчал", когда на сцене МХАТа, столь дорогой русской душе, шли - и с успехом! - пьесы Сурова, о котором остроумный Э. Казакевич сложил сонет: "Суровый Суров не любил евреев", того самого Сурова, которого впоследствии вынуждены были исключить с позором из Союза писателей, так как выяснилось, что даже на бездарные пьесы у него не хватало силенок, их за него писали литературные негры, в том числе и евреи.
Итак, все великолепно. В библиотеках за номерами "Нового мира" длинные очереди, весь тираж журнала мгновенно распродан, в литературных кругах, в печати - восторги. "В колокола ударили и, хотя крестного хода еще не было, хоругви уже поднимают", - сказал Гроссману старый пролетарский писатель Бахметьев. Его фраза, как и другие хвалебные высказывания о романе, отнесена в "Жизни и судьбе" к открытию Штрума в области атомной физики. Формулировки математиков и физиков вроде "классическая работа" или "триумф, настоящий триумф" передают ту атмосферу, которая образовалась вокруг романа "За правое дело". Одна статья о романе была названа "Эпопея народной войны" - в советской печати такое название означает многое.
Уже Военгиз и "Советский писатель" собирались издать роман отдельной книгой, но тут вступили в действие те "законы ботаники", о которых писал мне Гроссман. И какие там шипы - отравленные стрелы и копья вонзились в роман. И что примечательно: именно Чепыжин, которого Гроссман ввел в свою книгу по настоянию Фадеева, для "нейтрализации" Штрума, - подвергся нападкам партийной критики. Мысли Чепыжина о том, что общество представляет собой опару и что в трудные, черные дни в обществе поднимается снизу все дурное, мысли о том, что добро воплощает в себе вечную энергию - "будь то космическая энергия или духовная энергия народа", - эти мысли показались критике антимарксистскими. Вот особенность таланта как дара Божьего: даже под давлением извне он остается верен истине, он не может ей изменить.
13 февраля 1953 года "Правда" опубликовала двухподвальную статью Бубеннова "О романе В. Гроссмана "За правое дело"". Припадочный автор той самой "Белой березы", с которой безымянное зарубежное предисловие "От издательства" сравнивает роман Гроссмана, писал, конечно, го, что думал сам, снедаемый завистью и злобой грызуна, но не только собственные соображения излагал он. Отдавая должное знанию войны, проявленному Гроссманом как участником Сталинградской битвы, соглашаясь, что "свежи, правдивы главы, в которых показывается немецко-фашистская армия", одобряя "сцены в госпитале, бомбежки... случайной встречи Березкина со своей женой и дочерью", Бубеннов быстро переходит к главному заданию:
"Эти отдельные удачи не могут заслонить одной большой неудачи, постигшей В. Гроссмана. Ему не удалось создать ни одного крупного, яркого, типичного образа героя Сталинградской битвы, героя в серой шинели, с оружием в руках... Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе "За правое дело". Нет в нем героев, которые поразили бы воображение читателя богатством и красотой своих чувств... Образы советских людей в романе "За правое дело" обеднены, принижены, обесцвечены. Автор стремится доказать, что бессмертные подвиги совершают обыкновенные люди... Но под видом обыкновенных он на первый план вытащил в своем романе галерею мелких, незначительных людей... В. Гроссман вообще не показывает партию как организатора победы - ни в тылу, ни в армии. Огромной теме организующей и вдохновляющей роли коммунистической партии он посвятил только декларации... Они не подкреплены художественными образами..."
Вот я переписываю пассажи из бубенновской статьи, и меня охватывает то жуткое чувство, которое испытывали люди моего поколения, читая подобное в "Правде" при жизни Сталина. Это пахло тюрьмой, а может быть, смертью. Надо признать, что Бубеннов вместе со своими невидимками-соавторами отчетливо увидел, какую опасность для них представляют собой "обыкновенные", т. е. реальные, люди.
Социалистический реализм не боится декаданса, модернизма, преследует их, ибо должен преследовать, но не боится. Социалистический реализм боится реализма. Так антихрист не боится неверия или язычества, он может их взять в соратники. Антихрист боится Христа.
У Бубеннова в запасе было оружие, хотя и не новое, но испытанное веками, а в советское время пущенное в ход только в последние годы жизни Сталина. Бубеннов пишет о родственных семьях Шапошниковых - Штрумов: "В качестве близкого человека в этой семье живет еще врач Софья Осиповна Левинтон..." Прервем на минуточку Бубен-нова. Софья Левинтон - врач, а в стране задуман процесс врачей-убийц. Бубеннов старается, чтобы читатель понял самую суть: "Семья эта ничем не примечательная и вообще мало интересна как советская семья... А В. Гроссман выдает эту семью за типичную советскую семью, достойную быть в центре эпопеи о Сталинграде".
Действительно, что это за русская семья, хотя имя ее основателя, самарского революционера Шапошникова, носит одна из улиц в городе Куйбышеве, что это за семья, породнившаяся, подружившаяся со Штрумами, Левинтонами, с врагом народа Крымовым, о статье которого изверг рода человеческого Троцкий сказал в свое время: "Мраморно"? Кому Гроссман поручил быть семьей? Разве это не кощунство, что какой-то Штрум "больше всех думает и говорит об исторических событиях"? Каких людей показывает нам Гроссман? Но вернемся к Бубеннову:
"Заняв огромную площадь романа серыми, бездействующими персонажами, В. Гроссман, естественно, не смог уделить серьезного внимания таким героям, которых должен был показать на первом плане в романе "За правое дело"... Неверно идейно осмыслен героический подвиг советских воинов. В ряде эпизодов автор упорно подчеркивает мотивы обреченности и жертвенности... В печати появились статьи, захваливающие роман... Проявилась идейная слепота, беспринципность и связанность некоторых литераторов приятельскими отношениями. Нетрудно видеть, какой ущерб наносит все это развитию советской литературы".
Статья Бубеннова - палаческая, мы, к нашему несчастью, привыкли к палаческим статьям о литературе и искусстве, но тут в палаческом ремесле намечалась какая-то новация, и читатели это поняли. Под "связанностью некоторых литераторов приятельскими отношениями" подразумевался кагал.
Нынешние палачи ловчее, искуснее Бубеннова, и как ужасно, что оборотни превращают великую русскую идею страдающего народа, чью землю Царь Небесный исходил, благословляя, в плаху, на которой обезглавливают как бы во имя России, от имени России русскую красоту, если ее создателями являются Левитан или Мандельштам, Пастернак или Гроссман. Еще много вреда принесут они нашей стране. Одна надежда, что их - кучка и есть у нас люди с умом и сердцем.
В 1970 году Анатолий Бочаров выпустил критико-библиографический очерк "Василий Гроссман". Это хорошая, благородная по замыслу книга. Уже сам тот факт, что А. Бочаров избрал своей темой творчество Гроссмана, заслуживает уважения и признательности. На одной из последних страниц своей довольно объемистой книги критик пишет: "Усилившаяся в его характере неуступчивость, неуживчивость, прямота подчас оставляли его в тягостном одиночестве".
Критик имеет в виду время после ареста "Жизни и судьбы", когда Гроссман заболел раком. Но характер Гроссмана стал меняться раньше, когда началось уничтожение романа "За правое дело". И не прямота оставляла его в тягостном одиночестве, а те друзья-приятели, которые испугались этой прямоты, покинули его в тяжкую пору. О том, что с ним происходило, Гроссман с печальной точностью рассказывает в "Жизни и судьбе", когда его alter ego Штрум (между прочим, как и он сам, боявшийся переходить площади) оказывается в сходном положении:
"Видимо, началась эпидемия близорукости, знакомые, сталкиваясь с ним нос к носу, проходят в задумчивости мимо, не здороваются... Виктор Павлович вел счет - кто отвернулся, кто кивнул, кто поздоровался с ним за руку... Те, кто звонили каждый день, стали позванивать, а те, кто позванивали, вообще перестали звонить".
Гроссман не знал, что худшее впереди, что его ждет еще более ужасное горе - арест книги, и тогда-то его покинут почти все, а сейчас все-таки кое-кто оставался. Но и среди тех считанных, кто оставался, иные вызывали его раздражение. Ему казалось, что они себялюбивы, холодны, отягощены никчемными заботами и сознательно не хотят понять огромность его беды. Нередко у него были на то основания. Еще в начале своей литературной деятельности Гроссман познакомился с одним критиком, похвалившим его рассказы. Знакомство это растянулось на годы. Критик был человек далекий, в сущности, от литературы, мало знающий, но глубоко порядочный, и он безбоязненно не переставал посещать Гроссмана в описываемое время. Однажды Гроссман стал ему рассказывать, как для него тяжело складываются события, а наш критик возьми и скажи: "У меня тоже неприятности, сдал статью в "Учительскую газету", прошел месяц, а ее все не печатают". Гроссман разгневался, прогнал своего знакомого. Действительно, глупо было сравнивать ничтожную, написанную для заработка статейку с романом, на который обрушилась имперская мощь. Критик сделал это не со зла, а по недомыслию, но уж слишком болела душа Гроссмана, кровавилась его рана.
Не надо, однако, думать, что все это время Гроссман находился в непрестанном унынии. Были друзья, которые оставались друзьями. Гроссман выделял и любил Бориса Ямпольского, Виктора Некрасова, литературоведа Николая Богословского, человека чистого, по-детски верующего. У нас на Беговой образовался тесный кружок соседей: Гроссман, Заболоцкий, Степанов (профессор-филолог), к нам приходил Николай Чуковский (потом Гроссман и я с ним разошлись). Гроссман, чтобы на миг забыть о надвигающейся тьме, решил устроить, как он выразился, "маленький пи-рок во время чумы". Он предложил, чтобы каждый из нас написал биографию друг друга, воспоминания - шуточные, конечно, "материалы для будущих энциклопедических трудов". Остроумнее всех написал Заболоцкий - как раз о Гроссмане. Заболоцкий рассказывает о том, как они вдвоем с Гроссманом долго гуляют по городу. Спутник поражает его своей наблюдательностью, все-то он видит, все замечает, каждый пустячок, каждый камешек, кто как одет и прочее. Когда они подходят к дому, Заболоцкий говорит: "Вот и кончилось солнечное затмение". - "Как, удивляется Гроссман, - разве было солнечное затмение?" Развертывалось все это смешнее и ярче, чем в моем пересказе по памяти, и Гроссман от души смеялся. Не знаю, куда делись эти странички.
Почти каждое воскресенье мы проводили в гостях у моей мамы, которая с удовольствием готовила нам традиционный набор еврейских кушаний, до которых Гроссман был большой охотник. С. М. Михоэлс определял это как "гастрономический патриотизм". Гроссман любил мою маму, умел с ней говорить, он вообще умел говорить с каждым человеком, и с крестьянином, и с уборщицей, и со знаменитым физиком, и все, насколько я мог заметить, даже не зная, кто их собеседник, чувствовали в нем человека необыкновенного. Чувствовала это и моя мама, и не только потому, что он известный писатель. Он умел понять ее повседневные заботы, ее горе о дочери, умершей молодой, рассуждал с ней с завидным знанием дела о способах приготовления того или иного блюда, о соседях по коммунальной квартире, запоминая некоторые сообщенные мамой подробности для своей работы.
Посещали мы с ним кафе, рестораны. Запомнился один забавный случай. Впрочем, не такой уж забавный. Мы не могли попасть в знакомые нам "Арагви", "Националы", "Асторию", - происходила какая-то конференция, эти рестораны были закрыты для простых граждан. Решили попытать счастья в "Метрополе", в котором никогда не были. Нас впустили. Все столики были заняты, но за последним, то есть первым от входа, сидел всего лишь один посетитель.. Мы попросили разрешения, подсели. Официант довольно быстро принес заказ. Наш сотрапезник был широкоплеч, коренаст, невысокого, видимо, роста, смуглый. Приступили к делу, чокнулись с соседом. Вдруг из глубины зала к нам подошел едок - большой, толстый и не очень пьяный. Он, вертя одним указательным пальцем вокруг другого на уровне своего живота, проговорил: "Пузики-животики-жидочки, пузики-животики-жидочки". Наш сосед поднялся, сделал едва заметное движение рукой, и большой толстяк упал, не только упал, но и немного покатился по ковровой дорожке. Зал настороженно молчал. Упавшему помогли встать. Он удалился, чуть пошатываясь. Мы познакомились с нашим соседом. Оказалось, то был знаменитый в свое время атлет Григорий Новак. Мы ждали вмешательства администрации, но нас никто не потревожил. "Вы нашли единственный правильный аргумент", - сказал Новаку Гроссман.
Между тем опара всходила, снизу в обществе поднималось все дурное. После статьи Бубеннова, чьи положения были автору явно продиктованы, появились другие, еще более сердитые - и страшные. Распространялся достаточно точный слух, что роман вызвал гнев Маленкова, самого приближенного из слуг Сталина. Сумасшедшая в свою пользу Мариэтта Шагинян выступила со статьей против романа в "Известиях". Наконец, по роману ударил Фадеев - коротким, но сильным ударом. Твардовский на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале. Печатно отреклась от романа и редколлегия журнала.
Заставляли каяться и Гроссмана. Круг друзей и знакомых все больше редел. Случилось так, что и у меня в это время положение стало неважным, хотя, конечно, не шло ни в какое сравнение с положением Гроссмана. Еще осенью 1949 года на меня завели грязное дело. Вопрос обо мне стоял на секретариате Союза писателей: я, мол, пропагандирую как переводчик и пересказчик байско-феодальные эпосы тюркоязычных народов "Манас" и "Идегей", эпос высланных калмыков "Джангар". За меня заступились Фадеев и Симонов (последний - по ходатайству Гроссмана), дело кончилось выговором, но кончилось ли? Были арестованы мои добрые друзья, еврейские поэты, которых я переводил,- Самуил Галкин и Перец Маркиш. Пассажиры в трамваях, автобусах, электричках, прочитав о врачах-убийцах, говорили о том, что евреи-провизоры отпускают такие лекарства, которые заражают людей сифилисом.
Мы с Гроссманом решили это смутное время пережить, вернее, укрыться на моей даче в Ильинском по Казанской железной дороге. Жили мы так. Я закупал в закрытом городке Жуковском провизию (тогда это было просто), мыл посуду, а Гроссман готовил обед, каждый день один и тот же наваристый суп.
Однажды к нам приехала Ольга Михайловна, очень взволнованная: звонил Фадеев, зовет Гроссмана к себе домой, срочно. Гроссман выехал ранним утренним поездом. К сожалению, я не помню всего разговора между ними Гроссман мне его пересказал, - я помню только суть: Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, "ради жизни на земле" - процитировал он Твардовского. Гроссман отказался. Помню еще мелочь: увидев Гроссмана, Фадеев надул щеки, удивленно показывая, как Гроссман поправился. А все наш наваристый суп.
Перед нашим отъездом на дачу у Гроссмана произошло событие, о котором он часто и мучительно вспоминал. Гроссмана пригласили в "Правду": позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в "Правду" Гроссман зашел в "Новый мир". Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа "За правое дело". Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: "Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?" - "Хочу", - сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: "Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят".
В "Правде" собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагалось подписать. Смысл письма: врачи - подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т.д. По словам Гроссмана, особенно противно выступил карикатурист Ефимов, родной брат репрессированного и погибшего журналиста Михаила Кольцова. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями. Но Гроссман, в каком-то затмении решив, что ценою смерти немногих можно спасти несчастный народ, вместе с большинством собравшихся поставил под письмом свою подпись. А может быть, на его состояние повлиял разговор в "Новом мире"? Гроссман возвращался из "Правды" к себе на Беговую пешком - это сравнительно близко, - выпил по дороге полтораста граммов водку при Сталине женщины в грязных халатах поверх тулупов продавали прямо на улице - и чувствовал себя противно. До конца жизни он казнил себя за этот поступок. Читатель "Жизни и судьбы" вспомнит, что и физик Штрум совершает нечто подобное - и горько раскаивается.
Ссора Гроссмана с Твардовским впоследствии сказалась на тяжкой участи "Жизни и судьбы". О, не надо было им ссориться, не надо было! Гроссман любил Твардовского, и его самого, и его стихи, тем более его раздражали некоторые поступки и высказывания Твардовского. Одно время они крепко дружили, в 1948 году их дружба прервалась, потом помирились, и хотя прежних отношений уже не было - было взаимное уважение и стремление друг к другу. Тем большей была обида Гроссмана на Твардовского, не того Гроссман от него ждал. Обида эта не угасала, а усиливалась. Вот что Гроссман мне написал в Душанбе в сентябре 1956 года - через три года после ссоры с Твардовским:
"Расскажу тебе о событиях за время твоего отсутствия. Ходил в Союз. Подал Ажаеву * петицию о том, что нужно создать комиссию, которая от имени Союза возбуждала бы ходатайства о реабилитации погибших писателей, не имеющих родных. Назвал А. Лежнева, Пильняка, Анд. Новикова, Святополка-Мирского. Предложение встретило сочувствие, Ажаев обещал рассмотреть его на секретариате.
* Ажаев Василий Николаевич (1915-1968) - советский писатель, секретарь СП СССР.
Взял в архиве стенограмму Президиума, где Фадеев делал доклад обо мне. Прочел все выступления. Самое тяжелое чувство вызвала у меня речь Твардовского. Ты знаешь, прошло три года, я растерялся, читая его речь. Не думал я, что он мог так выступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных. Ничтожный он, хоть с умом и талантом.
В Союзе встретился с Симоновым. Он очень горячо и очень по-деловому настаивал, чтобы я печатал вторую книгу в "Новом мире". Любопытно, что в момент нашего разговора Кривицкий звонил мне домой с тем же предложением. Сказал Ольге Михайловне: "Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В. С., думал, что он меня пошлет по матушке".
Кстати, я прочел в этой же стенограмме речь Симонова. Он сказал: "Если Гроссман будет дальше молчать, мы с ним заговорим другим языком. Пусть знает, что разговор будет другим".
Вот я и подумал, что он заговорил со мной другим языком, предлагая печатать вторую книгу".
Надо объяснить, что в это время Симонов опять стал редактором "Нового мира", а Кривицкий - его заместителем, а просили они у Гроссмана будущую "Жизнь и судьбу", еще не зная ее содержания. Симонов и Твардовский, как некоторые древние иранские шахи, попеременно надевали на себя корону владык "Нового мира".
Да, другим языком заговорили с Гроссманом после смерти Сталина. Эту смерть мы встретили в Ильинском. Ни радио, ни газет у нас не было, мы ничего не знали, когда одним мартовским утром соседка Маруся, иногда помогавшая нам по хозяйству, сказала: "Слыхали, Сталин болеет".
Мы не поверили. Слишком радостным, сказочно прекрасным показалось нам Марусино сообщение. Взволнованные, мы не могли успокоиться. Решили пойти на станцию, узнать поточнее, там был газетный киоск.
Три километра шли в мартовском рыхлом снегу, в вечернем безлюдье. Не верили и хотели верить. Киоск был закрыт, но рядом с расписанием пригородных поездов висела газета. Все правильно, Сталин болен.
Всю ночь не спали, разговаривали, гадали: подохнет? Конечно, подохнет, иначе не объявляли бы в газете, что болен. А может, его уже нет в живых? Что-то будет? Лучше или еще хуже?
Не сразу, но стало лучше: прекращение дела врачей-убийц, казнь Берии. Если же перейти от крупных событий в жизни страны к делам литературным, то через год после смерти Сталина был созван, после двадцатилетнего перерыва, Второй съезд писателей, Гроссман и я были делегатами съезда. На съезде выступил Фадеев. Он нашел в себе силу, чтобы в присутствии иностранных гостей, что называется, всенародно, извиниться перед Гроссманом за то, что несправедливо нападал на "За правое дело" и на автора романа. И предсмертная речь, и самоубийство Фадеева суть выражение доброго начала в этом человеке, обреченном стать жестоким. Его самоубийство не грех перед Богом, а желание искупить смертью свои грехи. Он обладал талантом весьма скромных размеров, но подлинным, и, живи он при царе, он тоже был бы пусть второстепенным, а писателем, не то что нынешние тусклые, стерильноликие руководители писательского Союза. Этим дела нет до судеб русской литературы, голова у них не болит, и утечка ярких талантов их никак не волнует, наоборот, облегчает им и без того спокойную, сытую жизнь. Им плевать, что книга, здесь не изданная, вышла и пользуется успехом за рубежом, - их больше тревожит предполагаемый конкурент здесь, на родине. На них, правда, нет крови, своими преследованиями они никого не довели до смерти, разве что косвенно, но тут причиной внешние обстоятельства. Думаю, что, будь они на месте Фадеева в годы ежовщины или борьбы с безродным космополитизмом, они превзошли бы его своей жестокостью.
Роман "За правое дело", еще недавно считавшийся политически вредным, решил выпустить Военгиз. Гроссман мне сообщил об этом в Душанбе 22 июля 1954 года:
"Здравствуй, дорогой друг!
Получил наконец твое письмо. Хотя оно не шло, а летело, полет его длился семь суток.
За время твоего отсутствия в моей жизни произошли значительные события. В Загорянку * пришла телеграмма от Фадеева: "Роман "За правое дело" сдается в печать. Обсуждения на секретариате не будет. Вопрос решен положительно и окончательно. Крепко жму вашу руку". Я настолько был далек от подобного сообщения, что даже подумал - не розыгрыш ли это. Но в Москве меня ждало письмо полковника Крутикова: "Вас. Сем.! Все в порядке. Звонил Сурков, сказал, что сделаем большое дело, если В. книгу выпустим к съезду писателей. Был разговор с руководящей инстанцией. Туда не надо посылать".
В тот же вечер (приезда с дачи в Москву) мне позвонил Фадеев и рассказал некоторые подробности (он решил, видимо, перекрыть евангельское чудо и принял посильное участие как в погребении Лазаря, так и в воскрешении Лазаря) .
На совещании в связи с предстоящим писательским съездом, где были оба А. А. **, выяснилось, что нет никаких задерживающих книгу причин и что обсуждать ее на секретариате Союза не нужно.
* Местность под Москвой, где Гроссманы снимали дачу. Свою дачу в Лианозове Гроссман отдал бездомным людям, поселившимся там во время войны.
** Фадеев и Сурков.
Вот краткое изложение фактов. Книга уже подписана к печати, и Крутиков привез мне показать макет переплета и заодно новый договор на массовое издание. Выпустить книгу предполагают в сентябре-октябре. Генерал Щербаков * вдруг прислал мне письмецо, что в 1955 году Военгиз предполагает повторить издание романа вторым массовым тиражом.
Дорогой мой, уверен, что ты прекрасно представляешь себе пережитое мною чувство. Но ты, конечно, не представляешь себе, как было мне горько, что тебя нет в Москве и я не мог поделиться с тобой своими мыслями и чувствами. Долгая, трудная была дорога у книги, но дружба с тобой помогла мне пройти ее, ты по-братски разделил со мной этот путь. Но я вовсе не думаю, что дорога кончилась и начался Парк культуры и отдыха. Я рад тому, что она не кончилась, и если суждено, пусть будет нелегкой, только бы шла.
Вспомнилось мне Ильинское, дачная идиллия, печь, игра в дурака, суп из макарон, прогулки на станцию, оттепель, гремящая ведрами Маня. "Многое вспомнилось, слушая грохот колес непрестанный".
Сёма, когда думаешь в Москву, очень уж надолго уехал ты. Напиши, пожалуйста, точно, когда планируешь возвращение. Письмо твое прочел, и вдруг очень захотелось побывать в этом далеком краю, в котором ни разу не бывал, походить по чудесному саду, поэтически тобой описанному. Печально было читать о смерти Айни **, и то, что ты пишешь о его последних днях, так грустно. Чувствую, что хороший он был человек.
* Щербаков Александр Николаевич - главный редактор издательства Военгиз.
** Айни (1878-1954) - старейший таджикский писатель.
Ты спрашиваешь о Москве, о новостях? Я не был на докладе Фадеева, но мне говорили, что это было коротенькое сообщение, просьба освободить его от большого доклада на съезде. Просьбу уважили, доклад будет делать Сурков, а Фадеев - вступительное слово..."
Как предвидел он, что не кончилась его нелегкая дорога! Между тем съезды - съездами, а вместе с горестями и горькими радостями шла и работа и внутренняя, и на бумаге. Писалась "Жизнь и судьба".
Когда я как-то спросил, как будет называться вторая книга, Гроссман ответил: "Как учит русская традиция, между двумя словами должен стоять союз "и"".
Двигались годы ежедневного труда, и Гроссман мне читал главы, сцены из романа. Я видел в них изобразительную силу, уже знакомую мне раньше, но находил и новое. Гроссмана стала волновать тема Бога, тема религии. Не случайно появляются в немецком концлагере католический священник Гарди и несчастный, так и не нашедший Бога, русский богоискатель Иконников, который не верит в добро, а верит в доброту. Я не мог согласиться с тем, что "Бог бессилен уменьшить зло жизни", но меня поразила мысль Иконникова о том, что "дурья доброта и есть человеческое в человеке... Она высшее, чего достиг дух человека".
Мне стал дорог майор Ершов, заключенные в немецком концлагере "чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, - такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи". Сын раскулаченного, майор становится главарем советских военнопленных командиров. И далее - слова, которые многое объясняют в настроении и убеждении самого автора: "Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев - ложь... Ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец".
И мы видим эти лагеря, советские лагеря. Гроссман собрал воедино и воссоздал все, о чем на протяжении лет, смертельно страшных лет нашей родины, настойчиво расспрашивал выживших чудом и чудом вышедших на свободу лагерников, людей ему близких и далеких, и первым нарисовал обширную картину погибающей за каторжной проволокой России. Ведь один день Ивана Денисовича для читателей еще не занялся, и я, слушая Гроссмана, уже не по отдельным рассказам, а впервые во всей своей безумной и с ума сводящей всеобщности узнал то, что болело, обливалось кровью во мне, о чем я думал постоянно и что в книге Гроссмана ошеломило меня точностью, подробностью изображения.
Есть такое мнение: Гроссман сам в лагере не сидел, писал, значит, понаслышке. Это нелитературный разговор. Державин деятельно участвовал в погоне за Пугачевым. Но не он изобразил крестьянского вожака, а живший в другом столетии Пушкин. И пугачевский тулупчик, и калмыцкая сказочка, которую рассказывает Гриневу Пугачев, памятны нам с детства. Надо ли еще раз говорить о том, что талант художника, соединенный с душевным напряжением и добросовестностью исследователя, способен творить чудо жизни.
В немецком лагере что-то сдвинулось в затвердевшем, казалось бы, сознании старого большевика Мостовского, "многое в его собственной душе стало для него чужим" и все же сидит в нем крепко, он одобряет жестокое решение коммунистов-лагерников способствовать с помощью доноса транспортировке в погибельный Бухенвальд "чудного парня" Ершова, потому что Ершов - "беспартийный, неясный, чужой".
Но и Мостовского убили в лагере, и по-иному погибает - он удавился другой старый большевик, Магар. Перед смертью он говорит своему бывшему ученику, теперь тоже заключенному: "Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее... Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь - и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства..."
В романе "За правое дело" совсем иначе думают и говорят о Марксе идейные большевики Мостовской и Крымов, иначе думает и говорит и сам Гроссман.
Один неглупый литератор сказал мне, прочитав "Жизнь и судьбу": "Как Гроссману не повезло! Если бы свой роман с таким точным, потрясающим описанием лагерей он опубликовал до Солженицына!"
Я с этим не согласен. Конечно, что и говорить, было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о судьбе рукописи раньше, но я твердо убежден, что открытия в литературе не ограничиваются темой.
Открытием в литературе всегда является человек. И каждый по-своему Солженицын и Гроссман - открыли человека в концлагере. А что касается темы, то она глобальна. Какой современный русский писатель вправе пройти мимо нее? Ведь лагерь, тюрьма властно и грозно вступили в дом почти каждого советского человека - в столичную ли квартиру, украинскую хату или кишлачную кибитку, - в семью почти каждого, выражаясь по старинке, обывателя. Если шутливо говорят, что суть русской литературы девятнадцатого века можно определить названиями двух произведений: "Кто виноват?" и "Что делать?", то суть русской литературы нашего века, века тюрьмы, больницы и войны, можно обозначить названиями "Архипелаг ГУЛаг", "Раковый корпус", "Жизнь и судьба".
Многое поведали мне в чтении Гроссмана главы о войне. Сам я в Сталинграде видел только то, что мне было положено видеть, - наши корабли, бронекатера, наши НП на правом берегу, штаб Родимцева в трубе, пятачок Горохова на Рынке. А Гроссман рассказал о том, что рядовой участник войны не мог видеть, не мог знать. Гроссман развернул панораму одной из величайших битв, и развернул ее не только сверху, как бы с вертолета, когда наглядны все фронты, армии, корпуса, дивизии. Он увидел битву и снизу, глазами солдата в окопе. До него только Толстой таким двойным зрением увидел войну.
И вот возникает глава о знаменитом "Доме Павлова". Гроссман называет этот дом "шесть дробь один". Дом окружен немцами со всех сторон. И воюет с немцами, да еще как воюет. Командира обреченных Грекова прозвали "управдомом". И в этом доме, гибель которого куда страшнее гибели дома Эшеров у Эдгара По, потому что все в нем проще - и жизнь, и смерть, - в этом аду сияет любовь Сережи и Кати, светлеет дерзкий разум Грекова. И вот не стало дома, не стало и Грекова, но не умирает в нашей душе отчаянный капитан, обвораживая ее русской удалью, пронзительной русской тоской своего острого, грубого и сердечного ума.
Злоключения Жени Шапошниковой в Куйбышеве, кажется, тускнеют в сравнении с ужасами немецких и советских концлагерей, тюрем, газовых камер, дома "шесть дробь один", но после того, как Гроссман прочел мне эти куйбышевские страницы, я долго находился под впечатлением услышанного. Странное дело, большинство писателей, исходящих из формулы "бытие определяет сознание", обожает писать о сознании и крайне неохотно, стеснительно касается бытия. Читая Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоевского, мы всегда знаем, каковы материальные, житейские заботы персонажей, даже сколько у кого денег в данную минуту. А во многих нынешних книгах деньгами интересуются только отрицательные герои, а у положительных заботы либо производственные, либо - это появилось в последние годы семейные. До Гроссмана почти никто не писал о ссорах и мелких дрязгах на кухнях коммунальных квартир, о скученности в жилищах, когда в одной комнате спят рядом и пожилые родители, и их дочь с мужем, и внуки, "аж хата хыть-хыть", как сказал мне на Кубани один крестьянин, никто не писал о долгих очередях в продуктовых лавках, о скудной зарплате, о духоте в переполненных по утрам автобусах и трамваях, о бескислородном бюрократизме, в котором задыхается беспомощный человек. Нам близки мучения Евгении Шапошниковой, которая не может получить прописку - право на жизнь в городе, мы узнаем знакомых нам мучителей в написанных как бы на заднем плане портретах трусливого начальника конструкторского бюро, в котором работает Шапошникова, и начальника паспортного стола, чьи немигающие глаза выражают задумчивое равнодушие, а в длинной, безнадежной очереди к нему "Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой отказали в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки".
Когда Гроссман прочел мне письмо матери Штрума, он снял очки, чтобы вытереть слезы. Апокалипсис еврейства двадцатого века опалил Гроссмана. Мне известны высказывания читателей "Жизни и судьбы", что Гроссман как человек и писатель изменился под влиянием гитлеровских лагерей уничтожения евреев и жесточайшей борьбы с космополитизмом в нашей стране. Я думаю, что люди, придерживающиеся такого мнения, имеют на то некоторые основания, но они забывают, что Гроссман прежде всего - русский писатель. Прелесть русской природы, прелесть русского сердца, его невыносимые страдания, его чистота и долготерпение были Гроссману важнее всего, ближе всего. Не случайно в письме еврейской матери из-за колючей проволоки гетто есть такие слова: "Как крестьяне грабили кулаков, так соседи грабили евреев".
Эти слова - из последнего дошедшего до Гроссмана письма его матери Екатерины Савельевны, памяти которой посвящена "Жизнь и судьба". Екатерина Савельевна была замучена, убита в бердичевском гетто. На протяжении многих лет ей, мертвой, Василий Семенович писал письма, с ней, мертвой, делился своими мыслями, волнениями, сообщал ей о ходе работы над романом. Письма сохранились у пасынка Гроссмана Ф. Б. Губера.
Еврейская трагедия была для Гроссмана частью трагедии русского, украинского крестьянства, частью трагедии всех жертв эпохи тотального уничтожения людей. Есть ли в украинской литературе книга, которая рассказала бы о поголовной гибели украинских крестьян в годы коллективизации, как это сделал Гроссман в повести "Все течет"? Он не был бы подлинным русским писателем, если бы не искал человеческого в человеке любой национальности.
В этих-то поисках он шел от романа "За правое дело" к "Жизни и судьбе" и, проникая в глубь человека, освобождался от прежних, не всегда правильных представлений, и все больше и больше приближался к божественной правде, к тому "чуду отдельного человека", которое возникает перед Софьей Осиповной Левинтон на пороге газовой камеры. Старая дева подружилась с мальчиком Давидом в теплушке, они вместе вступают в камеру, и вот маленький мальчик с птичьим телом ушел раньше, чем она, тело мальчика осело в ее руках. "Я стала матерью", - подумала она. Это была ее последняя мысль. А глаза Давида перед смертью встретились с любопытствующими глазами немецкого солдата Розе, глядевшего в камеру через стекло. Человек ли Розе? Ведь "человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, когда находит в других то, что нашел в себе".
Гроссман, как и его Штрум, знал лишь с десяток слов на идиш. Широко образованный, сведущий в различных областях знания, читавший с детства французские книги в подлиннике - его мать преподавала французский язык (особенно он любил - и декламировал наизусть - целые страницы "Писем с мельницы" Доде, "Жизни" Мопассана, стихи Мюссе), - он был слабо осведомлен в еврейской истории. Увидев у меня тома еврейской энциклопедии на русском языке, спросил без особого интереса: "Ты здесь находишь что-нибудь важное для себя?"
Но разве он, открывший во время одной из фронтовых поездок Треблинку (очерк Гроссмана "Треблинский ад" в виде брошюры распространялся на Нюрнбергском процессе), разве он, впервые в литературе описавший газовую камеру (главки о ней под названием "Газ" были опубликованы в одной из наших газет еще до ареста "Жизни и судьбы"), разве он, познавший гонения на евреев в стране победоносного социализма, разве он, один из инициаторов и составителей "Черной книги" - о поголовном истреблении евреев гитлеровцами на временно захваченной территории Советского Союза, книги, уничтоженной на Родине и вышедшей за рубежом, - разве он мог, не только как еврей, но, повторяю, прежде всего как русский писатель, остаться равнодушным к одной из самых ужасных катастроф человечества в нашем столетии?
Его мучило, оскорбляло то, что писатели, русские по крови, не ранены в сердце этим ужасом, ему было стыдно за них перед живым взором великих русских писателей, философов, ученых. Когда в начале шестидесятых появилось в печати стихотворение Евтушенко "Бабий яр", Гроссман сказал: "Наконец-то русский человек написал, что у нас в стране есть антисемитизм. Стих сильно так себе, но тут дело в ином, дело в поступке - прекрасном, даже смелом".
Я рассказал о том впечатлении, которое производили на меня отдельные главы "Жизни и судьбы", когда Гроссман - в течение многих лет - читал их мне своим негромким, слегка скрипучим голосом. Но когда он в начале зимы 1960 года привез мне на Черняховскую весь роман, тысячу страниц, и я прочел их и, прочтя, начал тут же читать снова, я понял всем своим существом, разумом и сердцем, что Бог даровал мне счастье одному из первых (до меня, возможно, роман прочли только члены семьи и, конечно, машинистка) узнать творение великое и, надеюсь, бессмертное.
Я настаиваю на том, что было бы неосторожно рассматривать "Жизнь и судьбу" только с той точки зрения, что, мол, политические и философские взгляды автора изменились по сравнению с тем временем, когда он писал "За правое дело". Конечно, было и это, темные стороны действительности часто становятся источником света для сознания художника. "Жизнь и судьба" намного выше, намного важнее романа "За правое дело", но оба романа принадлежат одному и тому же таланту, цельному и мощному, как Пушкину принадлежат "Руслан и Людмила" и "Борис Годунов", Блоку - "Стихи о Прекрасной Даме" и "Двенадцать". И если Пушкин, написав "Бориса", воскликнул: "Ай да Пушкин, ай да сукин сын!", а Блок, завершив "Двенадцать", записал в дневнике: "Сегодня я гений", то нечто вроде этого мог бы о себе сказать и Гроссман, создав "Жизнь и судьбу". Но, увы, невеселы были мысли Гроссмана, когда он заканчивал свой шедевр. Он написал мне 24 октября 1959 года из приморского селения недалеко от Коктебеля:
"Хороши здесь прогулки по пустынному берегу, мне очень хотелось бы, чтобы ты побывал здесь. Очень тут чувствуешь море, оно тут не ялтинское, а какое-то особое, широкое, пустынное, оно для тех, кому есть о чем мечтать, у которых все впереди, и для тех, кому не о чем мечтать, у кого все позади. Ну и, конечно, хорошо оно и для поэтов - им ведь внятны и волнения юности, и печаль прожитой жизни. Вот и хотелось мне, чтобы ты тут побродил несколько дней, объял необъятное...
Я много работал здесь, закончил работу над третьей частью. Правил, сокращал, дописывал. Больше всего сокращал. Вот и пришло мое время проститься с людьми, с которыми был связан каждый день на протяжении шестнадцати лет. Странно это, уж очень мы привыкли друг к другу, я-то наверное. Вот приеду в Москву и прочту всю рукопись от начала до конца в первый раз. И хотя известно - что посеешь, то и пожнешь, - я все думаю: что же я там прочту? А много ли будет у нее читателей помимо читателя-написателя? Думаю, что тебя она не минет. Узнаешь - что посеял.
Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное. Прав ли перед людьми, а значит, и перед Богом? А дальше уж второе, писательское - справился ли я? А дальше уж третье - ее судьба, дорога. Но вот сейчас я как-то очень чувствую, что это третье, судьба книги, от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может не быть. А вот то, что связано было со мной и без меня не могло бы быть, именно теперь и кончается.
Это все, как выражаются наши газеты, думы слесаря Пустякова.
Помимо дум есть и житейская часть - ведь Пустяков ест, ходит в бакалею, пьет пиво. Питаюсь я жутко - со стола не сходит копченая скумбрия. Почему-то Феодосия в этом году завалена скумбрией. Ем я эту скумбрию и запиваю ее белым, мутным молодым вином. Стоит это мутное вино 7 р. 50 к. литр. Иногда я питаюсь кефалью. Хожу очень много, и ты прав - действительно похудел и загорел. Строен, как тополь, не очень молодой, правда. По вечерам играю с Ольгой Михайловной в тысячу.
Дорогой мой, писать мне сюда не надо, письма идут долго, и боюсь, что мы разминемся с письмом. Если санаторный эвакуатор не подведет с билетами, то пятого ноября будем уже в Москве, вечером. И если ты окажешься дома в этот вечер, то поговорим по телефону, условимся о встрече - у основоположника *, наверное. Придумал я народную пословицу: "Рано птичечка запела, вырвут яйца из гнезда". Но это так, не думы, а вообще... Хочется тебя видеть.
Целую крепко Вася".
* Памятник Горькому у Белорусского вокзала.
Я перечитываю эти строки, и сердце мое сжимается. Какая пророческая печаль в письме, написанном в такие дни, когда художника должно было охватить победное, великое счастье. Как он предчувствовал: "Судьба книги от меня отделяется. Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может и не быть". Все сбылось, ведь истинные поэты всегда пророки. А в тот день, когда я читал это письмо, не предвидел я, не мог предвидеть того, что свершится, только с радостью обратил внимание на то, что мой друг впервые написал слово "Бог" как полагается - с прописной буквы.
В этом же письме есть такое место:
"Прочел рассказы Фолкнера, большинство из них печаталось в "Иностранной литературе". Сильный, талантливый писатель, манерный несколько, но манера служит серьезному делу, человек думает всерьез о жизни, прием существует не ради приема. Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант".
Мысли Гроссмана о манере письма дают мне возможность заметить здесь, что в искусстве ничто не устаревает так быстро, как манера письма. А что живет долго, не старея? Характер. Конечно, мы помним, с восхищением повторяем метафоры, тропы, остроумные или глубокие по мысли выражения из любимых книг, и не только из русских, но и переводных. Можно ли забыть фразу Гамсуна: "Любовь - это не глицерин, любовь - это нитроглицерин", или Анатоля Франса о Гамелене: "Он был непостижим. Все люди непостижимы", или сообщение Сервантеса о том, что Санчо Панса отошел в сторонку и сделал в кустах то дело, "которое за него не мог сделать никто". Однако все эти блестящие фразы лишь тогда имеют смысл, когда работают для создания характеров - таких вечных, как Дон Кихот и Санчо Панса, Растиньяк и князь Мышкин. Если писатель не создал долгожителей, то быстро кончится его писательская жизнь.
И вот, прочтя "Жизнь и судьбу" целиком, я увидел, что, как выразился Версилов у Достоевского, "мысль пошла в слова" и среди рожденных словом людей есть по крайней мере два человека, которые встанут в одном ряду с характерами, созданными великой литературой. Я имею в виду Гетманова и Грекова.
Удались все персонажи романа, они живут с нами, эти красноармейцы и генералы, молодые люди и старики, крестьяне и академики, немцы и русские, армяне и татары, арестованные и следователи, лагерники и вертухаи, красавицы и дурнушки. Всех не перечислить, остановлюсь на Березкине, который запомнился нам еще в романе "За правое дело".
Этот майор средних лет в многократно стиранной, но опрятной гимнастерке храбро, умно воевал с лета 1941 года в лесах Западной Белоруссии, прошел через все испытания войны без наград, не замеченный начальством. Его когдатошний подчиненный, преуспевающий военный хозяйственник Аристов думает, оглядывая - уже под Сталинградом - выцветшую гимнастерку и кирзовые сапоги майора: "Эх, брат ты мой, отвоевал бы я хоть ноль целых две десятых того, что ты, я бы здесь не сидел". А старуха, в доме которой Аристов на постое, говорит в его отсутствие майору: "Я вас вполне вижу, настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится. А вот этот приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него все государство на спиртах стоит".
В свой трудный час держава начинает понимать, на ком она держится - на комбате Филяшкине, на беспартийном полковнике Новикове, на загнанном людьми из Отдела науки физике Штруме, на близоруком, отважном писателе Гроссмане. Только вот капитана Грекова держава не сразу поняла - и, по-своему, действовала правильно.
Майора Березкина в Сталинграде повышают в звании, ему доверяют командовать полком, тем самым, которому подчинен грековский дом "шесть дробь один". Накануне решающего боя Березкин тяжело заболевает. Он лежит в блиндаже "с горящим лицом, с нечеловечески, хрустально ясными бессмысленными глазами". Казалось, он ничего не слышит из того, о чем говорят в блиндаже. Приходит письмо от жены Березкина - давно от нее не было вестей. Один из командиров читает: "Здравствуй, ненаглядный мой, здравствуй, мой хороший". Березкин приходит в себя, поворачивает голову и говорит: "Дай сюда". И, прочтя письмо, приказывает: "Меня сегодня надо оздороветь" *. И вот влезает Березкин в бочку из-под бензина, налитую до половины кипятком, "дымящейся от жара мутной волжской водой". Ночью выздоровевшему Березкину звонит генерал Чуйков: "Ты охрип сильно, так тебе немец даст попить горячего молока..." - "Понял, товарищ первый". - "А понял, - проговорил с угрозой Чуйков, - так имей в виду, если вздумаешь отходить, я тебе дам гогель-могелю, не хуже немецкого молока".
* В книге напечатано "оздоровить". Когда я читал рукопись, я тоже, как и издатели, решил было, что "оздороветь" - опечатка, но Гроссман мне сказал: "Не опечатка. Так задумано".
Бой идет в цехах Тракторного завода. Полк Березкина выдерживает напор противника. И опять зазуммерил телефон, и в трубке тугой, низкий голос Чуйкова: "Березкин? Командир дивизии ранен, заместитель и начальник штаба убиты, приказываю вам принять * командование дивизией. - И после паузы: Ты командовал полком в невиданных, адских условиях, сдержал напор. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, дорогой".
Изумительно написан Березкин - и все же: не нов этот характер, это толстовский капитан Тушин в наше время. А вот таких, как Гетманов и Греков, до Гроссмана не изображал никто, и никто и не мог их изобразить, даже Толстой, ибо для этого надо было проникнуть в глубь человека, взращенного нашей действительностью.
"Секретарь обкома одной из оккупированных областей Украины Дементий Трифонович Гетманов был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса. Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на "Дугласе" слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья".
Такими спокойными словами начинает Гроссман повествование о Гетманове. Еще в романе "За правое дело" Гроссман пытался нарисовать секретаря обкома, но Пряхин как тип не получился, путешествие в глубь человека тогда не состоялось. Не обладая талантом критика, трудно в кратких заметках показать колоссальность характера Гетманова, так и хочется, облегчив себе задачу, выписать все, что сказал о крестьянском сыне Гетманове Гроссман, это, кажется, невозможно, - и все же короче не скажешь:
"Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь... Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком... Его мобилизовали на работу в органы безопасности, а вскоре он стал охранником секретаря крайкома... А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили - хозяином области... Партия доверяла ему! Подчас суровы были жертвы, которые Гетманов приносил во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как "отвернулся", "не поддержал", "погубил", "предал". Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна - не нужна потому, что личные чувства - любовь, дружба, землячество - естественно не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладающие даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле... но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедрой, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки..."
Гроссман зорко замечает, что Гетманов, собираясь на фронт, не противником интересуется, а своим комкором Новиковым, человеком не из "номенклатуры", неясным, выдвиженцем военного времени. Гетманов крайне озабочен не формированием корпуса, а тем (он уже это знает, есть материал), что Новиков собирается жениться на бывшей жене Крымова (которого Гетманов на фронте погубит), а у того понатыкано связей и с правыми, и с троцкистами с давних времен.
Перед отъездом Гетманова к нему заходят проститься друзья, среди них свояк его Сагайдак, ответственный работник украинского ЦК, и старый товарищ Машук, сотрудник органов безопасности. Сагайдак раньше работал редактором газеты. Если он считал "целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно невыдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, - события эти не имели для него значения... Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды".
Во время проводов Гетманова происходит нечто неприятное. Перелистывая альбом, Машук находит портрет Сталина, чье лицо размалевано цветными карандашами, к подбородку пририсована синяя эспаньолка, на ушах висят голубые серьги. И хотя собрались свои, близкие люди, Гетманову и его жене становится страшно, и больше других, конечно, страшит их Машук. "Что ж, детская шалость", - успокаивает Сагайдак. "Нет, это не шалость, это злостное хулиганство", - вздыхает Гетманов.
Не стоило бы о Гетманове говорить, если бы он был написан одной краской. Нет, он по-своему умен, неплохо разбирается в людях, а уж в государственной машине разбирается отлично. Он умеет побеседовать с рядовым красноармейцем, понравиться ему своей народностью, простонародностью. Хотя он на фронте никогда не был, в бригадах о нем говорили: "Ох, и боевой у нас комиссар". До Гроссмана были в художественной литературе характеры, чем-то напоминающие Гетманова, но таких, как Гетманов, не было. Его открыл Гроссман. Самое удивительное в Гетманове то, что он всегда искренен. Заведя уже в корпусе любовницу, он искренне негодует на командира Белова, женатого, но полюбившего медсестру, и с непритворным гневом говорит ему: "Не срами себя по личной линии". Когда комкор Новиков с перепугу предлагает выпить за Сталина, Гетманов добродушно поддерживает тост: "Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством". Может сказать и так, похохатывая: "Наше счастье, что немцы мужику за один год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет", - эта смелость, замечает Гроссман, "не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу".
Искренность Гетманова внушает страх. Он и предательство искренне считает прекрасным поступком, если предательство, по его разумению, необходимо. Новиков, ослушавшись командующего фронтом, ослушавшись даже верховного, то есть Сталина, задерживает наступление на восемь минут - и достигает успеха, его расчет был правилен. Сталин выражает ему благодарность, все корпусное начальство ликует. "Спасибо тебе, Петр Павлович, русское, советское спасибо, - говорит Гетманов Новикову, спасибо тебе от коммуниста Гетманова, низкий тебе поклон". И Гетманов искренен. И так же искренне он пишет наверх донос: командир корпуса самовольно задержал на восемь минут начало решающей операции, нарушил приказ товарища Сталина.
Таков этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, с проницательным взглядом умных маленьких глаз, неутомимо деятельный. Таким он запомнился нам, таким он запомнится тем, кто прочтет "Жизнь и судьбу", когда нас уже не будет.
О "доме Павлова" написано множество статей, стихов, он стал священным для тех, кто приезжает в Сталинград (Волгоград), чтобы поклониться подвигу наших воинов. Гроссман - единственный военный корреспондент, кто своими глазами видел этот окруженный немцами дом, но перо его нарисовало не только то, что он увидел в доме смертников, а и то, что увидел в родной стране. Когда я как-то его спросил, есть ли у Грекова черты реального Якова Павлова, Гроссман мне сказал: "У Грекова есть кое-что от Чехова", имея в виду героя своего очерка, снайпера. Очерк был броско назван "Глазами Чехова", привлек к себе во время войны внимание читателей. Эренбург, написавший в 1946 году рецензию на сборник военных рассказов и очерков Гроссмана, назвал рецензию "Глазами Гроссмана". Замечу, что обе фамилии Чехов и Греков - двухсложные, имеют в своей основе наименование нации, и это тоже говорит о близости героя романа к прототипу.
Уже оборвалась беспроволочная связь с домом, то ли передатчик вышел из строя, то ли "управдому" Грекову надоели строгие внушения командования. Уже близится гибель дома вместе с его сражающимися обитателями, но комиссара полка все еще тревожат сведения, полученные от информатора: Греков совсем распустился, говорил бойцам черт знает какую ересь. Правда, с немцами Греков воюет лихо, этого информатор не отрицал. Что же это за ересь говорил Греков бойцам? А вот, например, такую: "Нельзя человеком руководить как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: "Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному"". Между прочим, и мне приходилось в землянках слышать нечто подобное: страх перед начальством отступает, когда наступает смерть и чувствуешь ее дыхание.
В доме "шесть дробь один" люди не были просты. Молоденький Сережа удивляется - как это люди с такой смелостью осуждают наркомвнудельцев, с такой смелостью и болью говорят о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации. И эти же люди отчаянно бьются за последний крохотный кусочек своей родины, за этот дом, находящийся на оси вражеского удара.
Знаменитая загадка русской души разгадывается так: это душа людей. Во время немецкого авиационного налета лейтенант Батраков, до войны преподаватель математики, близорукий, которому не подходят ни одни очки, снятые с убитых немцев, спокойно над обрывом лестничной клетки читает книгу, и Греков произносит замечательную, чисто русскую фразу: "Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?" Он называет дураком Батракова с тем же основанием, с каким русская сказка называет дураком самоотверженного, душевного Иванушку. И никто из этих "дураков", даже имея на то возможность, не покидает дом, в котором - они это хорошо знают - погибнут все. Более того, Сережа без разрешения начальства возвращается в дом Грекова из штабного блиндажа. "Правильно, - одобряет Греков, - дезертировал к нам на тот свет".
Впервые мы узнаем о Грекове от политрука Сошкина, побывавшего в доме "шесть дробь один": "Все этого Грекова боятся, а он с ними, как ровня, лежат вповалку, и он среди них, "ты" ему говорят, зовут "Ваня". Не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна". Так по донесению Сошкина заводится на Грекова дело на уровне - шутка сказать! - Политуправления фронта. А знало бы Политуправление, какие разговорчики ведут между собой смертники, когда тот же Сошкин приводит к ним радистку Катю: "- В дамочке бюст для меня основное.
- Конечно, в наших условиях и такая Катька сойдет, летом и качка прачка. Ноги длинные, как у журавля, сзади пусто, глаза большие, как у коровы.
- Тебе бы только сисястая. Это отживший, дореволюционный взгляд.
- Кому даст? Грекову - это точно".
Так о своем командире рядовые бойцы говорить не вправе. А Грекову, диктующему Кате донесение в штаб полка, хочется схватить ее, ощутить ее тепло. Греков - хозяин, волевой, иногда жестокий, ему в доме подвластно все, и он приказывает Сереже, который любит Катю и любим, отправиться из дома в штаб полка, он дарит ему жизнь, а Сережа думает: "Изгнание из рая, как крепостных разлучает", он смотрит на Грекова с ненавистью, взгляд Грекова кажется ему отвратительным, безжалостным, наглым, но Греков неожиданно говорит: "С тобой пойдет радистка, доведешь ее до штаба полка".
И вдруг Сережа увидел, "что смотрят на него прекрасные, человечные, умные и грустные глаза, каких он никогда не видел в жизни". Греков спасает влюбленных, новые Дафнис и Хлоя - дети войны - избегнут смерти в доме "шесть дробь один".
Пехотный капитан Греков до войны читал книжечки, ходил в кино, играл с приятелем в преферанс, пил водочку, ссорился с женой, которая ревновала его ко многим девицам и дамам. На войне он поражает бойцов и командиров, восхищает их удивительным соединением силы, отваги, властности - с житейской обыденностью. Штаб приказывает ему по радио ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться, но Греков сбивает у радистки ладонь с переключателя, говорит с усмешкой: "Осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладите, когда Грекову нужно будет", ему некогда заниматься отчетностью, он воюет.
В доме "шесть дробь один", за которым "следит весь мир", сталкивает Гроссман с еретиком Грековым ортодокса Крымова, который с опасностью для жизни пробирается в дом, чтобы разобрать дело Грекова. "Все в нем - и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа было дерзким, сама дерзость... "Ничего, ничего, согну я тебя", - подумал Крымов".
Нет, не согнет. Многообразованный сотрудник Коминтерна, знававший Троцкого, Бухарина, видных деятелей международного коммунистического движения, храбрый участник гражданской и Отечественной войн со всем своим марксистско-ленинским учением оказывается бессильным перед народной правдой пехотного капитана. Не ладится у Крымова и связь с бойцами, возникшее в них чувство близкой смерти ослабляло их связь с комиссаром. Сапер с головой, перевязанной грязным окровавленным бинтом, спросил:
"А вот насчет колхозов, товарищ комиссар. Как бы их ликвидировать после войны?
- Оно бы неплохо докладик на этот счет, - сказал Греков.
- Я не лекции пришел вам читать, - сказал Крымов, - я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть
вашу недопустимую партизанщину.
- Преодолевайте, - сказал Греков. - А вот кто будет немцев преодолевать?
- Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу варить.
- Что ж, преодолевайте, - сказал Греков, - варите кашу.
- А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят".
И вот честный, порядочный Крымов решил съесть Грекова, написал донос на него, а подлые, ничтожные карьеристы съели Крымова. Но таково наше родное безумие, что еретик Греков погибает как герой, ему воздают должное, а ортодоксу Крымову суждена бессмысленная мучительная смерть в застенке.
Когда зимой 1960 года я прочел "Жизнь и судьбу", когда я думал о людях, с которыми встретился в романе, рождалась во мне такая мысль: как не похожи друг на друга эти русские люди - Гетманов и Греков, Крымов и тот особист-подполковник, который бил Крымова. Но, думал я, незаметный поворот судьбы - и их жизнь сложилась бы иначе, они могли бы стать близкими друг другу. Недаром "в человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчишкой плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического манифеста - "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Это чувство близости поистине было ужасным".
Не сразу понял я, читая книгу, что иной связью, куда более сложной, чем я думал раньше, связаны жизнь и судьба. Эта связь непостижна нашему разуму. Судьбу не изменишь, ее рождает жизнь, а жизнь есть Бог. И напрасно писатели, философы, политики гадают, что было бы с Россией, если бы умнее был царь Николай, серьезней и деятельней Керенский. Все это пустые разговоры. Путем, ей определенным, пошла Россия, и на этом пути, как светильники надежды, светятся Березкин, Греков, Штрум, Ершов, Левин-тон, Иконников. Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла.
Возникли во мне при чтении романа и мысли гораздо менее важные, но как бы выразиться лучше - приятные. С удовольствием я узнавал в некоторых персонажах известные мне прототипы, вспоминал, кто при мне, при каких обстоятельствах произносил ту или иную фразу. Рюрикович Шаргородский - это, конечно, наш общий знакомый князь Звенигородский, который писал стихи, отмеченные прелестным влиянием Фета, и говорил нам по-старчески хриплым, густым голосом: "Мои стихи признает у нас вся советская и антисоветская общественность, а их не печатают".
Дочь Гроссмана Катя еще девушкой случайно подслушала, как молодые парни рассуждают о ее внешности, рассказала об этом отцу со свойственным ей юмором. Точно такие же рассуждения красноармейцев (приведенные выше) в доме "шесть дробь один" случайно подслушивает другая Катя, радистка.
Комиссар родимцевского штаба, расположенного в трубе, рассказывает Крымову: "Пришлось мне везти к фронту на свой машине московского докладчика Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: "Волос потеряет, голову тебе снесу "". Главка о родимцевской трубе была опубликована в одной из наших газет. И я вспомнил, как Елена Усиевич, Михаил Лифшиц и еще кто-то направили Гроссману резкое письмо: им показалось, что комиссар непочтительно отзывается об их друге, партийном философе-академике Юдине, которого Гроссман, действительно, презирал.
В Марье Ивановне Соколовой я легко узнавал Екатерину Васильевну Заболоцкую. Так же, как Штрум с Соколовой, совершал с ней Гроссман прогулки по Нескучному саду. Есть и другие в их отношениях знакомые мне подробности. Я ничего не пишу о последней любви Гроссмана, принесшей ему много счастья и страдания и оказавшейся мучительной для четырех чистых, хороших людей. Я не пишу об этой любви, потому что рано и трудно о ней писать...
У Гроссмана летчики в блиндаже поют песню "Машина в штопоре кружится". Я вспомнил, как летом 1943 года нам пел в Москве эту песню Твардовский, голос у него был слабый, а слух отличный. И Гроссман с тех пор часто повторял слова этой песни.
Старый кавалергард Тунгусов рассказывает в бараке лагерникам роман, всаживая в свою баланду знаменитого Лоуренса, события из жизни трех мушкетеров, плавания жюльверновского "Наутилуса". Точно так же поступал, чтобы задобрить уголовников, наш приятель С. Г. Гехт, отсидевший восемь лет. И если слушатели находили в повествовании противоречия, Гехт, как и Тунгусов, бойко изворачивался: "Положение Надин лишь казалось безнадежным".
Николай Чуковский, когда мы с ним еще дружили, рассказал нам: у него в Харькове жил дядя Хаим, который называл себя Эдуардом и на недоуменный вопрос племянника объяснял: "Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы Эдуарды". Точно так же двоякость своего имени объясняет в романе Эдуард Исаакович Бухман, бухгалтер.
Тот же Гехт нам рассказывал, что во время ночного допроса, измученный следователем, он в отчаянии заявил о том, что его хвалили в печати. А следователь сказал: "Вы что, почетную грамоту сюда пришли получать?" Те же слова говорит следователь Крымову.
Гроссман любил поддразнивать своего пасынка Федю в пору его созревания гоголевской фразой: "Эко тебя, брат, вызвездило". Точно так же поддразнивает Штрум своего пасынка Толю.
В годы борьбы с космополитизмом была напечатана в "Правде" статья Юрия Жданова, сына члена Политбюро. В статье теория Эйнштейна сопровождается унижающими словами "так называемая". Гроссмана это оскорбило. В романе молодой человек из Отдела науки тоже говорит о теории Эйнштейна "так называемая", и Штрум на это реагирует с тем же негодованием, что и Гроссман.
Таких мест немало в романе, и, разумеется, с особенным волнением читал я те фразы, страницы, в которых отразились мои рассказы и стихи, например стихи о том, как немцы жгли на берегу Волги цыганку, или о калмыцкой степи, о чувстве воли во время моих блужданий по ней. "Воля... воля", - повторяет подполковник Даренский, двигаясь по калмыцкой степи, а мое стихотворение так и называется "Воля" (Иосиф Бродский, впоследствии составивший мою книгу для издательства "Ардис", по этому стихотворению назвал всю книгу, - лучше я бы сам не мог назвать).
Как-то во время работы над романом Гроссман мне сказал: "Ну и въедливый ты. Помнишь моего Даренского? Так я ему подарил твои ощущения степной воли. Будешь знать, как не печататься".
Кстати, о подполковнике Даренском. Он - действующее лицо и в романе "За правое дело". Твардовский, печатая роман в своем журнале, попенял автору, что и эта фамилия еврейская. А фамилия принадлежала домработнице Гроссмана, подмосковной крестьянке Наташе.
Теперь коснусь тех роковых причин, которые привели Гроссмана к решению отдать роман в журнал "Знамя". Прежде всего, конечно, воспаленная обида Гроссмана на Твардовского. Это - самая роковая и самая главная причина. Бессмысленно предполагать, что "Новый мир" напечатал бы "Жизнь и судьбу", но могу твердо поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана в "Новый мир". Твардовский не отправил бы рукопись "куда надо". Но Гроссман ни за что не хотел иметь дело с отрекшимся от него редактором. Это была обида не только автора, но и бывшего друга.
Другая причина заключается в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск. Странную эту мысль укрепило в Гроссмане одно событие. Гроссман отдал в либеральный альманах "Литературная Москва" свой замечательный рассказ "Тиргартен" (впоследствии был напечатан в "Нашем современнике"). Редактором альманаха был Э. Г. Казакевич, чей ум и одаренность Гроссман ценил. Правда, он был сердит на Казакевича из-за меня: по рекомендации Гроссмана Казакевич взял у меня для первого номера альманаха большую подборку стихотворений, а я не печатался как оригинальный поэт почти четверть века. Но в последнюю минуту Казакевич, ссылаясь на вышестоящие инстанции, отказался от подборки, утешая меня тем, что такая же участь постигла стихотворения Пастернака. У Гроссмана с Казакевичем был тяжелый разговор, в результате которого Казакевич решил поместить в альманахе одно мое стихотворение, хотя и безобидное, но все же в обезопашивающем сопровождении перевода. Гроссман был в какой-то мере удовлетворен. Отношения двух писателей вроде бы наладились, но разладились опять из-за "Тиргартена": Казакевич не решался опубликовать рассказ в своем альманахе. Смело напечатав яшинские "Рычаги", в которых бичевались некоторые проявления бюрократизма, рождающие в людях двойственность сознания, Казакевич не без основания усмотрел в "Тиргартене" ту зеркальность, которая побуждала бы читателей думать о сходстве двух режимов. После смерти Гроссмана Атаров в предисловии к книге "Добро вам", в которой помещен "Тиргартен", умело хвалит рассказ, называя его антифашистским. В сентябре 1956 года Гроссман написал мне в Душанбе:
"С Казакевичем все это дело принимает чудовищные формы. Я наконец позвонил Никитиной * и сказал: "Передайте Каз[акеви]чу, пусть позвонит мне сегодня же: я привык к редакционному хамству, но это превосходит то, к чему я привык". Думал, что он позвонит мне через час, но идут дни, и опять мертвое молчание. Фантастическое хамство. Я уже письмо написал ему, да не знаю, стоит ли стрелять по воробью из пушки. Вот тут бы с тобой посоветоваться. Семушка, мне твое пребывание в Ср[едней] Азии на этот раз с первых дней кажется особо тягостным".
* Секретарь альманаха.
В конце концов редколлегия альманаха во главе с Казакевичем отвергла рассказ. Этих людей можно понять, они пытались доказать властям, что вполне благонамеренные писатели способны делать хорошее издание. Альманах, однако, подвергся партийной критике и вскоре был вынужден прекратить свое существование. Гроссман понять их не хотел, считал их трусами, считал, что после смерти Сталина пора им всем выдавить из себя раба.
Именно в это время, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор "Знамени" В. М. Кожевников попросил его дать роман в "Знамя". Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, возможно, имея об этом сведения, предложил ему солидный аванс - под произведение, которого не читал. Гроссман согласился не сразу, он попробовал испытать Кожевникова, предложил ему "Тиргартен". Журнал пожелал рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ, увидев в произведении о немцах аллюзии с советской действительностью. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать. Гроссман в этом убедился. По крайней мере, Кожевников сумел его убедить. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со "Знаменем". Надо учесть и то, что Гроссман в свое время был близок этому журналу, несколько его вещей увидело свет на страницах "Знамени". А журнал был заинтересован в романе Гроссмана, потому что первая книга - "За правое дело" - пользовалась прочным успехом, и вторая книга привлекла бы огромное количество читателей, подняла бы весьма поблекший - по сравнению с блеском "Нового мира" - авторитет журнала.
К этому надо добавить, что несколько (два или три) отрывков из "Жизни и судьбы", напечатанных в разных газетах (один отрывок, странно сказать, в "Вечерке"), взбудоражили литературную среду, о них заговорили, и в то же время, читая их, нельзя было угадать всей сути романа. Предполагаю, что определенную роль во всем деле сыграл Кривицкий, ставший влиятельным членом редколлегии "Знамени": после смерти Сталина он понял, что совершил оплошность, отказавшись заодно с Симоновым печатать "За правое дело". А вдруг и вторую часть ожидает такой же успех? Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Кривицкий - это орешек. Во время войны он благодетельствовал Платонову. Однажды, заранее условившись, мы с Гроссманом пришли к Платонову и вдруг в темноте узкого коридорчика приблизился к нам Платонов и прошептал: "Братцы, у меня Кривицкий, так что..." Но быстро вслед за Платоновым появился Кривицкий и сказал, заикаясь: "Здравствуйте, я вышел к вам, чтобы Андрей Платонович не успел меня обругать".
30 июля 1960 года Гроссман мне писал:
"В Москве жара невероятная, держится упорно. Переношу ее с трудом - в двояком смысле, но, к сожалению, не в трояком. Дело в том, что "Труд", которому я пошел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько лжива и лицемерна, что тошно.
"Знамя" наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи".
Насколько мне помнится, в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем, как отнести рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса: 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован. 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, - такие, что их даже показывать нельзя.
И вот я прочел "Жизнь и судьбу" в третий раз и, как часто бывает, нашел много прекрасного, раньше мной не замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез на такси две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос Гроссмана я ответил так: нет никакой надежды, что роман будет опубликован. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. "Что же, - спросил он, - ты считаешь, что, когда они прочтут роман, меня посадят?" - "Есть такая опасность", - сказал я. "И нет возможности напечатать, даже оскопив книгу?" - "Нет такой возможности. Не то что Кожевников - Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек". Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: "Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетия прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна *, пока меня били и топтали, спокойненько переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и холе".
* Выражение "прал против рожна" - из рассказа Сергеева-Ценского "Пристав Дерябин".
Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не прал против рожна. Надо сказать, что если Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самосознания советских народов, мои экуменические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана. И когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся.
Наступило тяжкое молчание. Наконец Гроссман, астматически дыша, спросил: "Ты отметил места, которые предлагаешь выбросить?" Я начал читать по приготовленной записке. Наиболее опасных мест я отобрал немного - все в романе было опасным, - скажем, 15-20. Иногда это касалось нескольких страниц, иногда - нескольких строк. Думаю, что общий объем предлагаемых сокращений составлял полтора или два печатных листа, не больше. Помню, что посоветовал выбросить всю сцену беседы Лисса с Мостовским, где гестаповец говорит старому большевику: "Когда мы смотрим в лицо друг друга, мы смотрим в зеркало... Наша победа - это ваша победа". Обратил я внимание Гроссмана на несколько строк - не с точки зрения их опасности, а с другой. Вот эти строки: "Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца". Гроссман безропотно со мною соглашался, он выбросил из рукописи все отобранные мною места, и среди них те строки, в которых легко угадывается Твардовский. Потом, когда рукопись попала к Твардовскому, Гроссман был доволен тем, что в ней нет этих строк.
Когда до меня дошла изданная за рубежом книга, я нашел в ней и место о Твардовском, и беседу Лисса с Мостовским, и отсюда сделал вывод, что издатели получили копию не того экземпляра, который был сдан в "Знамя", а полного, без сокращений. В книге имеются, по техническим, как сообщают издатели, причинам, пропуски разной величины. Если память мне не изменяет, пропуски эти небольшие.
Возвращаясь к нашему свиданию, остановлюсь на одной мелочи, которая, однако, кое-что объясняет в состоянии Гроссмана. В конце разговора я сказал: "Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания. Я пытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры". Гроссман обозлился, вспылил: "Ты кроме знаков препинания ничего в романе не разглядел". Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.
Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от "Знамени" - ни звука. Звонить первым в редакцию Гроссман не хотел, ждал. Однажды Гроссману обещал кое-что разведать Виктор Некрасов, он был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем. Мы были немного знакомы по Малеевке, но не более того. Ждали допоздна. Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова - и писателя, и человека.
А месяцы идут, а "Знамя" молчит. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский. Он стал членом редколлегии "Знамени". Я с ним поневоле продолжал встречаться на переводческих заседаниях - встречаться все же реже, так как эти заседания мне надоели. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос такими словами: "Я не читал романа Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали его и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут ото всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград, я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: "Подвел нас Гроссман", - и перевел разговор на другую тему".
Переводческое заседание затянулось до одиннадцати вечера, но я знал, что Гроссман волнуется, ждет меня, и решил заехать к нему, несмотря на поздний час. Гроссман, его жена, Федя и его жена Ира и их дочь Леночка занимали на Беговой трехкомнатную квартиру. Две маленькие комнаты были смежными, а отдельная, та, что чуть побольше, служила и кабинетом Гроссмана, и общей столовой, и гостиной. Я застал такую картину. Посреди комнаты за квадратным столиком Ольга Михайловна, Зинаида Николаевна Пастернак и Берта Яковлевна Сельвинская играли в китайскую игру маджонг (не уверен, что правильно транскрибирую это слово). Мы примостились в углу, я шепотом пересказал сообщение Николая Чуковского. "Повтори", - сказал Гроссман. Выслушав меня во второй раз, сказал, и губы его, как всегда при сильном волнении, дрожали: "А Люся играет в маджонг". Он потом нередко вспоминал и этот несчастный маджонг, и другие большие и малые грехи и прегрешения Ольги Михайловны, - он, например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать приехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном. Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую.
Между тем через знакомых, имевших какое-то отношение к журналу, стали просачиваться слухи, что "Знамя" не хочет печатать роман. Наконец Гроссмана вызвали на заседание редколлегии. Он не пошел и правильно сделал. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди которых малюты скуратовы чередовались с Тартюфами, единодушно отвергли роман как произведение антисоветское, очернительское. Николай Чуковский в заседании не участвовал.
Гроссман уже давно стал понимать, что совершил непоправимую ошибку, отдав "Жизнь и судьбу" в руки Кожевникова и Кривицкого. Он попытался возобновить отношения с Твардовским. Вот что он мне написал в Малеевку 1 февраля 1961 года - еще до рокового заседания редколлегии
"Дорогой Сема, получил твое письмо. Вольный сын кефира, поэт и переводчик! Я снова заболел, но на сей раз обошлось дело, кажется, без воспаления легких.
Поздравляю тебя с тем, что твоя дочь Зоя Семеновна вступила в законный зарегистрированный брак. Дай им бог всего хорошего.
Имел перед болезнью беседу с Твардовским. Встретились у него, говорили долго. Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился. Так-то".
Однако на этом отношения Гроссмана с Твардовским не оборвались окончательно. Поздней осенью Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это время отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом соседки по Чистополю, помирили мужей. Твардовский сказал: "Дай мне роман почитать. Просто почитать". И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез ему, видимо, с некой тайной надеждой, роман в редакцию "Нового мира". После ареста романа к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: "Нельзя у нас писать правду, нет свободы". Говорил: "Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь". По его словам, рукопись романа была передана "куда надо" Кожевниковым.
Смеясь, Гроссман мне рассказывал: "Как всегда, водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: "Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о тридцать седьмом годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, - до этого тебе дела нет". И тут он стал мне пересказывать мои же слова из "Жизни и судьбы". "Саша, одумайся, об этом я же написал в романе". Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка".
В феврале 1961 года роман был арестован. Гроссман мне позвонил днем и странным голосом сказал: "Приезжай сейчас же". Я понял, что случилась беда. Но мне в голову не приходило, что арестован роман. На моей памяти такого не бывало. Писателей арестовывали охотно, но рукописи отбирались во время ареста, а не до ареста авторов. Только недавно я узнал, что еще в 1926 году изъяли рукопись у Булгакова.
Заявились двое, утром, оба в штатском. Ольги Михайловны дома не было, пошла на Ваганьковский рынок. Дверь Открыла домработница Наташа. Когда эти двое вошли в комнату к Гроссману, Наташа сказала его невестке Ире: "Кажется, нехорошие люди пришли". Предъявили Гроссману ордер на изъятие романа. Один, высокий, представился полковником, другой был и званием, и ростом помельче. Вот этот, второй, постучался к Ире и сказал: "У него что, больное сердце? Дайте что-нибудь сердечное". Ира дала капли и спросила: "По какому поводу вы пришли?" - "Мы должны изъять роман. Он ведь написал роман? Так вот, изымем. Об этом никому не говорите, подписку с вас не берем, но болтать не надо".
Этот же, званием пониже, вышел на двор и вернулся с двумя понятыми. Ясно было видно, рассказывал Гроссман, что понятые - не первые попавшиеся прохожие, а из того же учреждения, что и незваные гости. Обыск сделали тщательный. Забрали не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, и черновики не вошедших глав, и все подготовительные материалы, эскизы, наброски. Другие рукописи, не имеющие отношения к роману, обыскивателей не интересовали. Например, несколько рассказов, повесть "Все течет" (первый вариант). Действовали по-военному точно, выполняя определенное задание - изъять только роман и все, что связано с романом. Обыскивали только в той комнате, где Гроссман работал. Были вежливы. Тот, кто помельче званием, обратился к Гроссману: "Извиняюсь, дело житейское, где тут у вас туалет?"
Обыск длился час с чем-то. Полковник, когда кончился обыск, спросил, имеются ли где-нибудь другие экземпляры. Гроссман ответил: "У машинистки, она оставила один экземпляр у себя, чтобы получше вычитать. Другой - в "Новом мире". Был еще в "Знамени", но тот, наверное, у вас".
С Гроссмана хотели взять подписку, что он не будет никому говорить об изъятии рукописи. Гроссман дать подписку отказался. Полковник не настаивал.
Гроссмана увели. Сказали Ире: "Не волнуйтесь, часика через полтора он вернется, мы едем с ним к машинистке".
Поехали не только к машинистке, но и на Ломоносовский проспект, где Гроссман был прописан: вследствие семейных обстоятельств он временно получил через Союз писателей комнату в коммунальной квартире по этому адресу. Там ничего не нашли.
Гроссман вернулся, сказал, что у машинистки забрали ее экземпляр. Потом стало известно, что пришли в "Новый мир", приказали вскрыть сейф, изъяли рукопись... Я никогда не видел, чтобы Гроссман был так подавлен, как после ареста романа.
Борис Ямпольский верно передает его состояние, когда описывает встречу с нами в Александровском саду (я читал его воспоминания в рукописи).
Когда в 1953 году ударили по роману "За правое дело", когда мы каждый день ждали ареста, когда была реальная опасность, что Гроссмана приобщат к делу врачей-убийц, он был менее подавлен, чем сейчас. Конечно, он предполагал, что вслед за романом могут арестовать и его самого, но не это его мучило, а ужасная судьба - он это понимал - его самого главного, самого серьезного произведения. "Как быть, как быть?" - повторял он, и что я мог ему сказать? Разве что горько-шутливо: "Беги на Дон к Каледину", и он улыбался, но улыбка не прогоняла тоску из его глаз.
Теперь, когда я пишу эти записки, я думаю вот о чем. Почему Гроссману не приходило в голову предложить "Жизнь и судьбу" какому-нибудь зарубежному издательству, скажем, в какой-нибудь более либеральной, чем наша, социалистической стране? Ведь уже был пример, уже разразилась травля Пастернака, когда итальянское коммунистическое издательство опубликовало роман "Доктор Живаго". Почему Гроссмана, по его собственному выражению, "задушили в подворотне", почему об аресте романа не узнали читатели ни у нас, ни за рубежом?
Затрудняюсь ответить на эти вопросы. Возможно такое объяснение: в те годы не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал. Впрочем, мне вспоминается следующее. Однажды в больнице за месяц-полтора до своей смерти Гроссман спросил у меня: "Ты читал Жореса Медведева о шарлатане Лысенко?" Я не читал. "Говорят, что автор отправил свою рукопись за границу, а она вернулась к нам уже в виде книги, по Москве ходит. Мне об этом на днях рассказали. Как ты думаешь, и я мог бы так поступить?.." Ответа моего он не дождался, впал в забытье, закрыл глаза...
У Гроссмана вышел отдельной книжечкой рассказ "Жизнь" в Югославии, кое-что печаталось в Польше. Из Чехословакии он получил роскошное издание романа "За правое дело", один его рассказ был переведен в Китае, какие-то вещи переводились на английский, немецкий, испанский. Но все это происходило самотеком, без какого-либо контакта с издателями, переводчиками. Мне известно, что даже в годы более поздние, даже после выхода в свет повести "Все течет" иностранные корреспонденты не проявляли к судьбе Гроссмана никакого интереса. Странный народ, нам их не понять, как и им нас.
При всей своей подавленности Гроссман втайне не терял надежды на то, что отношение к роману может перемениться. Он видел не только отрицательные, но и положительные черты импульсивного Хрущева, считал его доклад на XX съезде партии замечательным, ему внушали, как он говорил, "этюды оптимизма" документы XXII съезда партии. Он решил поговорить с Д. А. Поликарповым. Поликарпов был одно время оргсекретарем Союза писателей, потом покатился вниз, как раз в это время Гроссман с ним встретился в Гаграх, они часто беседовали на пляже, потом Поликарпов опять поднялся, стал в ЦК заведовать культурой. Я его тоже знал, он был из тех, кто делает зло только по приказу. Поликарпов, однако, как бы забыл о гагринском пляже, был с Гроссманом суров, резок, между прочим, со вздохом заметил: "Многократный орденоносец, член правления Союза писателей, а что написал!" Посоветовал Гроссману обратиться с письмом в ЦК. Если не ошибаюсь, он же посоветовал поговорить с руководителями Союза писателей, читавшими роман, помог устроить встречу с ними.
Состоялась у Гроссмана беседа с секретарем правления Союза писателей СССР Марковым, с секретарем правления Союза писателей РСФСР Сартаковым, с председателем правления московского отделения Союза писателей Щипачевым. По словам Гроссмана, его собеседники вели себя жестко, но чувствовалось, что арест романа им не по душе. Признали, что в романе нет очернительства, многое было так, как написал автор, но в нынешнее сложное время издание романа нанесло бы вред нашему государству, если и можно будет издать роман, то лет через 250. Мягче других был Щипачев, слову "вредный" он предпочитал "субъективный".
Гроссман написал письмо Хрущеву. Копия письма сохранилась. Письмо составлено в том духе, в каком, начиная от Пушкина, составлены все письма писателей на высочайшее имя, и исполнено собственного достоинства, бесстрашной веры в свою правоту, в то, что немыслимо новое общество "без непрерывного роста свободы и демократии". Вот это письмо:
"Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву
Дорогой Никита Сергеевич!
В октябре 1960 года я отдал рукопись моего романа "Жизнь и судьба" в редакцию журнала "Знамя". Примерно в то же время познакомился с моим романом редактор журнала "Новый мир" А. Т. Твардовский.
В середине февраля 1961 года сотрудники Комитета Государственной Безопасности, предъявив мне ордер на обыск, изъяли оставшиеся у меня дома экземпляры и черновики рукописи "Жизнь и судьба", рукопись были изъята из редакций журналов "Знамя" и "Новый мир".
Таким образом закончилось обращение в многократно печатавшие мои сочинения редакции с предложением рассмотреть десятилетний труд моей писательской жизни.
После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову. Д. А. Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС.
Прошел год. Я много, неотступно думал о катастрофе, происшедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги.
Я хочу честно поделиться с Вами моими мыслями. Прежде всего должен сказать следующее: я не пришел к выводу, что в моей книге есть неправда. Я писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что продумал, прочувствовал, перестрадал.
Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.
В моей книге есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне, - писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их.
Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее.
Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.
Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.
Редактор журнала "Знамя" Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не обвинили книгу в неправдивости. Один из товарищей сказал: "Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были или могли быть". Другой сказал: "Однако печатать книгу можно будет через 250 лет".
Ваш доклад на XXII съезде с новой силой осветил все тяжелое, ошибочное, что происходило в нашей стране в пору сталинского руководства, еще больше укрепил меня в сознании того, что книга "Жизнь и судьба" не противоречит той правде, которая была сказана Вами, что правда стала достоянием сегодняшнего дня, а не откладывается на 250 лет.
Тем для меня ужасней, что книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу это то же, что отнять у отца его детище.
Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснения происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?
Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и революционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда сливаясь с ними, иногда в чем-то приходя в противоречие с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему.
Тургенев во многом выразил любовь русских людей к правде, свободе, добру. Но Тургенев совершенно не был иллюстратором идей вождей русской демократии, он выражал по-своему, по-тургеневски, жизнь русского общества. И так же выражали, переживали добро и зло русской жизни, ее радость, ее горе, ее красоту и страшные уродства - Достоевский, Толстой, Чехов. Ведь ни Толстой, ни Чехов не были иллюстраторами взглядов тех, кто возглавлял русскую революционную демократию, они полировали свое зеркало русской жизни, и зеркало это бывало отлично от тех, что создавали политические вожди русской революции. Но ни Герцен, ни Чернышевский, ни Плеханов, ни Ленин не ополчались за это на русских писателей, они видели в них своих союзников, а не врагов.
Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.
Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?
Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?
Если моя книга - ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя - клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.
Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда -я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.
Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции "Знамя", мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.
Мало того, когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.
Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.
Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?
Дорогой Никита Сергеевич! У нас теперь часто пишут и говорят, что мы возвращаемся к ленинским нормам демократии. В суровую пору гражданской войны, оккупации, хозяйственной разрухи, голода Ленин создал нормы демократии, которые во все сталинские времена казались фантастически большими.
Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне беспрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется немыслимым.
Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную кровью его сердца, написанную во имя правды и любви к людям, и грозят ему тюрьмой, если он станет говорить о своем горе.
Я убежден, что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочным ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи год-полтора назад - до XXII съезда.
Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета Государственной Безопасности.
Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге.
Глубоко уважающий Вас В. Гроссман.
Москва, Беговая, 1-а, корп. 31, кв. 1.
Тел. Д-3-00-80. доб: 16".
Гроссман надеялся на то, что сумеет убедить Хрущева, что если книгу не напечатают, то хотя бы вернут ему рукопись. Он не видел "смысла в нынешнем положении". Но разве мощь насилия не заключается в его бессмысленности?
Ответ пришел не сразу, но сравнительно скоро - через месяц или два после отправки письма. Все это время Гроссман никуда не выходил из дому, ждал звонка. Однажды вышел на часок подышать воздухом, а тут и позвонили. Трубку взяла Ира, ей дали номер телефона, по которому Гроссман должен был позвонить как можно быстрее. Так он и сделал, когда вернулся с прогулки. Его приглашали к Суслову.
Они беседовали около трех часов. Гроссман записал дома по памяти (а она у него была великолепная) эту беседу. Когда Гроссман умер, вдова передала эту существовавшую в единственном экземпляре запись беседы с серым кардиналом в спецхран ЦГАЛИ. Ольга Михайловна с удовлетворением мне сообщила, что секретарь московского отделения Союза писателей генерал В. Н. Ильин одобрил этот ее поступок. Святая простота.
Увы, я помню из этой записи, крайне интересной, - что легко себе представить, - далеко не все. Суслов похвалил Гроссмана за то, что он обратился к первому секретарю ЦК. Сказал, что партия и страна ценят такие его произведения, как "Народ бессмертен", "Степан Кольчугин", военные рассказы и очерки. "Что же касается "Жизни и судьбы", - сказал Суслов, - то я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу - публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, Советской власти, советскому народу". Суслов спросил, на что Гроссман теперь живет. Узнав, что он собирается переводить армянский роман по русскому подстрочнику, посочувствовал: трудновата, мол, такая двухступенчатая работа, обещал дать указание Гослитиздату - выпустить пятитомное собрание сочинений Гроссмана, разумеется, без "Жизни и судьбы". Гроссман вернулся к вопросу о возвращении ему арестованной рукописи. Суслов сказал: "Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести - триста лет".
Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу - от писателей-функционеров к Суслову или сверху - от Суслова к ним. Разговаривая, Суслов перебирал рукой обе рецензии, заглядывал в них, читал вслух наиболее, с его точки зрения, предосудительные цитаты из романа. По словам Гроссмана, рецензии были довольно большие, на глаз - по 15-20 страниц каждая.
Недавно выяснилась примечательная подробность.
Два дачных соседа Черноуцана, некогда ответственного работника отдела культуры ЦК, сообщили мне каждый в отдельности, что Черноуцан им сказал, что он был одним из рецензентов "Жизни и судьбы" и посоветовал изъять роман, а Гроссмана не трогать: последнее ставит себе в заслугу.
Чтобы покончить с пятитомником. Собрание сочинений Гроссмана так и не вышло в свет, обещание Суслова осталось невыполненным. В Гослитиздате долго мурыжили, в одном из писем ко мне Гроссман жалуется на то, что директор издательства Владыкин "крутит, увиливает от ответа". В другом письме, в конце 1961 года, Гроссман писал:
"Сегодня позвонили из "Нового мира", Дементьев * сообщил, что рассказ у них не пойдет. Разговор противный.
* Заместитель Твардовского в "Новом мире". Не помню, о каком рассказе пишет Гроссман. Думаю, что о "Тиргартене".
Не поздравляй меня пока с собранием сочинений, ведь план издательства еще не утвержден. А если будут резать план, то кого же, как не меня, вышибут из него - стою на подножке".
Как Гроссман предсказывал, его вышибли из плана. После его смерти я как член созданной правлением Союза писателей комиссии по литературному наследству Гроссмана имел по поводу собрания его сочинений (Гроссман успел составить подробное содержание каждого тома) разговор с новым директором издательства В. А. Косолаповым, который при всей своей официальной тертости мог увлечься литературным событием. Косолапов отнесся к делу сочувственно, посоветовал, чтобы я выступил с предложением издать пятитомник Гроссмана на ближайшем заседании редсовета, но чтобы перед этим в издательство обратились с письмом видные писатели. Было подготовлено письмо. Его подписали Эренбург, Твардовский, Паустовский, и с помощью Косолапова собрание сочинений Гроссмана снова вставили в план редакционной подготовки. С Ольгой Михайловной заключили договор на составление пятитомника, она сдала в издательство первые два тома, даже получила мелкие (для нее крупные) деньги, но издание отпихивали из года в год, пока эту позицию (такое слово они употребили) не вычеркнули из плана навсегда - после выхода за рубежом повести "Все течет".
Гроссман старел на глазах у близких. В его курчавой голове поприбавилось седины, появилась на макушке лысинка. Астма, которая отпустила его на некоторое время, вернулась к нему опять. Походка его стала шаркающей. Телефон у него замолк, многие старые друзья его покинули. Болезненно воспринял он поведение детского писателя Р. И. Фраермана, давнего своего друга, которого он любил. Гроссман мне писал: "Звонил Рувим, разговор длился долго - четыре минуты. Но все же позвонил, хорошо и это".
А Гроссману нужны были друзья, приятели, собеседники. Чего эти люди испугались? Ведь Сталина уже не было. Я с особенной силой понял положение Гроссмана в последние годы, когда после моего выхода из Союза писателей нечто подобное, в меньшем объеме, произошло со мной. Два моих школьных товарища, а мне пошел 73-й год, не трудно прикинуть, сколько лет мы были дружны, перестали со мной общаться. Я даже не знаю, живы ли они. Но у меня появились и здесь, и там новые чудесные друзья. А Гроссмана этим судьба не баловала. Правда, в Коктебеле он познакомился с критиком Л. Лазаревым и поэтом Н. Коржавиным. Они были к нему внимательны, понимали значение его таланта. Оба пришлись ему по душе, особенно его поразил Коржавин с его поэтическим мышлением и непоэтической внешностью. Гроссман был обоим благодарен за доброе к нему отношение.
Не печатающийся, изгнанный из литературы, он продолжал не только писать, но и живо интересоваться всем новым, что появилось в печати. Его удивил своим озорством "Звездный билет" Аксенова. Он обрадовался повести Войновича "Мы здесь живем", "Большой руде" Владимова. Он говорил, что у этих писателей большое будущее. Он не дожил до того, чтобы узнать знаменитого Чонкина, верного Руслана, магаданские страницы "Ожога", двор посреди неба, но я уверен, что высоко оценил бы эти прекрасные фундаментальные вещи. Он увидел по телевидению вечер поэзии в Лужниках и с большим удовлетворением сказал мне, что задорные молодые имели у многочисленной публики гораздо больший успех, чем стихотворцы-чиновники, одетые в броню званий и должностей.
Однажды он позвал меня к себе и с ликованием, неожиданным для меня, дал мне рукопись. Это был рассказ, напечатанный с одним интервалом на папиросной бумаге. Имени автора не было, рассказ был озаглавлен каторжным номером зека. Я сел читать - и не мог и на миг оторваться от этих тоненьких помятых страничек. Читал с восторгом и болью. Гроссман то и дело подходил ко мне, заглядывал в глаза, восторгался моим восторгом. То был "Один день Ивана Денисовича". Гроссман говорил: "Ты понимаешь, вдруг там, в загробном мире, в каторжном гноище рождается писатель. И не просто писатель, а зрелый, огромный талант. Кто у нас равен ему?"
О Солженицыне более подробно Гроссман узнал от сотрудницы "Нового мира" Анны Самойловны Берзер. Он почему-то ждал, что Солженицын придет к нему, хотел встречи с ним. Но им так и не суждено было встретиться.
Гроссман дал мне прочесть и другую попавшую к нему рукопись - "Крутой маршрут" Е. С. Гинзбург. Он с похвалой отозвался об авторе, считал, что книга написана очень талантливо, удивлялся памяти незнакомой ему писательницы.
В письмах ко мне разных лет есть замечания Гроссмана о литературных произведениях. Думаю, будет уместно, если я эти замечания здесь приведу.
"Прочел роман Кочетова "Братья Ершовы". Подлое, ничтожное произведение, построенное по схеме столь примитивной, что она может возникнуть в голове петуха, судака, лягушки. Тираж 500 000. Одно утешение бездарно. Знаешь, ведь особенно больно, когда имеешь дело с Гамсуном, тогда возникает сложность. А здесь этой сложности нет, все просто и ясно, как в пословице о пчелах и меде *".
* Гроссман любил эту пословицу: "Г... пчелы, г... мед".
"Читал ли ты Эренбурга в № 1 "Нового мира"? Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, посерьезней. Зато Мафусаилова мудрость в понимании того, что льзя, а чего нельзя".
"Прочел я книжку Лема "Вторжение с Альдебарана". Редко книга нагоняла на меня такую тоску, как эта, - тоску не от скуки. Книга интересная, и автор с искрой в голове, но от книги тоска и противно".
"Прочел Моруа "Жизнь Флеминга", - прочти, если попадется тебе, довольно интересно, а местами и вовсе интересно, шотландец он, характер вещь в себе, но вещь".
"Читаю мало, прочел книжку Датта "Философия Махатмы Ганди". Читал ли ты ее? Если нет - дать тебе ее, интересная очень".
"Прочел книгу Юрия Давыдова "Март" - о народовольцах. Прочти ее непременно. Что-то в ней есть очень хорошее. Хотя автор не крепкий, а в книге много хорошего. Там интересно и много о Плеханове, без "но". Впервые, пожалуй, так у нас о Плеханове написано без "но"".
"Прочел в "Огоньке" рассказ маленький Казакова. Мне кажется, автор талантлив. Не зря шум. Он несколько манерен, сильно влияние Чехова. Но, слава богу, есть на кого влиять. Елизару Мальцеву такого упрека не сделаешь".
"Прочел в "Огоньке" перевод поэмы Турсун-Заде. Переводчик - Семен Липкин. Читая, вспомнил и перефразировал одесскую формулу: "Форма - во! Но морально тяжело". Хорошо поет проклятая цыганка!" *
"Прочел Дудинцева в двух номерах - хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) реальны. Это очень важно, т.к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо - любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых. Тут дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы, как-то: чет - нечет, черное - белое, брехня - правда. Это не брехня. А что талант не так велик, это уже второй, следующий вопрос. Им будет интересно заняться, когда таких произведений - реальных - станет много. Пока же хочется радоваться появлению в прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хвала и всяческой удачи".
"Прочел очень прелестные и пустые стихи Пастернака "Быть знаменитым некрасиво". Я думаю, что если бы Бор[ис] Леон[идович] хоть полчаса думал, что он не знаменит, то он подобно другому поэту "повесился бы на древе" **, не смог бы жить. Но и он въехал в прерию, удачи ему! Путь его нелегок, долгий, трудный".
* Слова матери Тургенева о Полине Виардо.
** Единственные стихи моего младшего сына, когда ему было 12 лет: "Когда б я увидел древо, повесился бы на месте". Строки эти рассмешили моих друзей, их не раз в тяжелую минуту повторяла А. Ахматова.
"Читал ли ты рассказ Войновича в "Новом мире"? Прочти, талантливо. Талант в правде. Об авторе с симпатией рассказывала Анна Самойловна".
"Продолжаю читать Ямпольского. Странное дело. Талантливо написано, все мило и все не то. Как песок".
"На днях прочел у Вольтера: "Надо быть новым не будучи странным, часто высоким и всегда естественным". Как хорошо сказано!"
Конечно, не все гроссмановские высказывания о литературе заключены в его письмах, мы ведь разлучались не очень часто, а встречались, когда не были в разъездах, каждый день и беседовали и о литературе, о людях, и о многих других превосходных вещах - от археологических раскопок Бактрийского царства до новейших открытий физики.
Читателя может покоробить замечание Гроссмана о стихах нашего великого поэта. Необходимо разъяснение.
Гроссман хорошо чувствовал, понимал силу стихотворного слова. Напомню, что в "Жизни и судьбе" он полностью приводит насыщенное страстной, страдающей мыслью стихотворение Волошина или удивительное стихотворение безымянного поэта "Мой товарищ, в смертельной агонии..." Он любил, отлично знал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, из более поздних - Бунина, Есенина, но то, что теперь принято называть "магией", не завораживало его, если в "магических" стихах не было ясного смысла, важного для людей. Отсюда его отношение к Пастернаку, Мандельштаму, ко всем поэтам серебряного века, начиная с Блока. Он брал у них только то, в чем нуждались его душа и разум. Поскольку зашла речь о Пастернаке, мне вспоминается такой эпизод.
Где-то в середине пятидесятых, будучи в доме творчества в Дубултах, на Рижском взморье, мы познакомились с писателем Д. Я. Даром, очаровательным человеком. Дар был мужем В. Ф. Пановой. Он покидал Дубулты раньше нас и приглашал в Ленинград, обещав забронировать для нас номер в гостинице. По его словам, Панова давно мечтает познакомиться с Гроссманом. Вот мы и приехали из Риги в Ленинград, позвонили Дару и были приглашены в гости. Панова оказалась женщиной острого ума, с ней интересно было беседовать. Гроссман заметил - нельзя было не заметить, - что чуть ли не полстены в ее кабинете увешаны фотоснимками Пастернака. Гроссман удивился. Панова объяснила: "Пастернак - самый любимый, самый дорогой мне из современных русских поэтов, он мой кумир". Когда мы покинули гостеприимный дом и пошли пешком до гостиницы "Октябрьская", Гроссман мне сказал с раздражением: "Не верю ей. Что ей, с ее беллетристикой, трудный, сложный Пастернак? Выкомаривается".
Проходит несколько лет, начинается тотальная травля Пастернака, его собираются исключить из Союза писателей, и вот из Ленинграда приезжает в Москву Панова, чтобы как член правления участвовать в "процессе исключения". "Для чего она это сделала? - бушевал Гроссман. - Ведь даже писатели-москвичи, сохранившие немного порядочности, сидели дома, объясняли, что больны. А эта из Ленинграда приехала, чтобы исключить самого дорогого, самого любимого своего поэта, своего кумира. Помнишь, как Коля Чуковский с придыханием в своем гуттаперчевом голосе читал нам стихи Пастернака, и вот он выступил, подал этот самый голос за исключение поэта. Господи, почему так огромен твой зверинец!"
Сам он в эти тяжкие для русской культуры дни написал Пастернаку письмо. Насколько я помню, в письме он не касался трагических событий, только с большой сердечностью пожелал поэту здоровья и покоя.
Я долго пытался познакомить Гроссмана с Ахматовой, но безуспешно. Ни он, ни она не проявляли особого желания. Я не уверен, что Ахматова читала Гроссмана, хотя, когда случилась с ним беда, участливо расспрашивала меня о нем. Что же касается Гроссмана, то я думаю (это звучит малоубедительно), что он разочаровался в ней, узнав от меня, что она терпеть не может Чехова. А Гроссман боготворил Чехова, знал наизусть многие страницы его произведений, даже многие его письма. "Как может русский писатель не любить Чехова", - возмущался он. Гроссман часто в бытовой речи цитировал расхожие строки Ахматовой, вроде "Как ты красив, проклятый" или "У разлюбленной просьб не бывает". Он понимал прелесть ее поэзии, но не постиг величия этой поэзии. Анна Андреевна подарила мне экземпляр рукописи "Поэмы без героя". Я позвал Гроссмана к себе, прочел эту поэму. Потом он стал читать ее сам, подняв на лоб очки, но восторгов моих не разделил.
Из писателей-современников Гроссман выше всех ценил Булгакова, Платонова, Зощенко, Бабеля, восхищался "Печалью полей" и некоторыми рассказами Сергеева-Ценского, в особенности его "Приставом Дерябиным", "Ибику-сом" и "Детством Никиты" А. Н. Толстого, как я уже писал, "Тихим Доном". Были у него и неожиданные пристрастия, например, высоко ставил рассказ Никандрова "Во всем дворе первая". Он почитал Вересаева как человека, запомнил его роман "В тупике". Однажды спросил меня, читал ли я вересаевский перевод "Илиады". Я сказал, что в этом переводе нет музыки, нет той мощи, которая есть в переводе Гнедича. "Знаешь, - сказал Гроссман, - я "Илиаду" не читал. Неужели ты ее осилил?" Я ответил, что с детства самые любимые мои книги после Библии, конечно, "Илиада" и "Одиссея", что Толстой изучил древнегреческий, чтобы прочесть "Илиаду" в подлиннике. Через некоторое время он поделился со мной впечатлениями от прочтения "Илиады". Он был ею восхищен: "Мы спешим прочесть современников, а многие ли из них останутся? Какая живая книга "Илиада", она о нас".
Гроссману нравилась "Россия, кровью умытая" Артема Веселого, "Растратчики" Катаева, он считал, что истинное призвание этого блестящего писателя - юмор, что напрасно Катаев, житейского успеха ради, пошел не своей дорогой.
Сурово-прямой, непримиримо требовательный, аскет-францисканец в литературе, он то с горечью, то негодуя наблюдал, как постепенно теряют свой облик крупные таланты, например А. Н. Толстой. А о тех, у кого, по его мнению, Божьего дара не было, а только литературные способности, говорил без горечи, презирал их.
Он пытливо, сосредоточенно выслушивал мои рассказы о знакомых мне писателях, погибших в сталинское время, о Мандельштаме, Бабеле, Булгакове. Гораздо меньше других я знал Марину Цветаеву, с которой впервые встретился у ее подруги ранних лет поэтессы В. К. Звягинцевой. Марина Ивановна пожелала со мной познакомиться, потому что редактировала тогда перевод на французский язык главы из калмыцкого эпоса "Джангар", мной переведенного на русский. Я провел с ней целый памятный день, от девяти часов утра до поздней ночи в ноябре или в начале декабря 1940 года. Больше с того дня я с ней не виделся. Мы только разговаривали несколько раз по телефону. Странно, что Цветаева, более туманная, чем бывал Пастернак, не говоря уже о прозрачной Ахматовой, была близка душе Гроссмана, который упорно следовал вольтеровской максиме - "надо быть новым, не будучи странным". "Как просто, - радовался он, - Цветаева спрашивает: "Мой милый, что тебе я сделала?" Просто и сильно". Возможно, что Гроссмана восхищала наступательная ярость Цветаевой, ее открытость, буйно разрывавшая синтаксические завесы.
Мне трудно отказать себе в желании привести здесь кое-что из моих рассказов - хотя бы потому, что в моей памяти жива реакция Гроссмана на эти рассказы.
После многочасовой прогулки по Замоскворечью понадобилась Цветаевой уборная, о чем она мне сказала с руссоистской непринужденностью. В Москве, вдали от центра, это и сейчас проблема, а до войны она стояла особенно остро. Я вспомнил, что недалеко, на Большой Полянке, я как-то заприметил вывеску райисполкома, и уверенно повел туда Марину Ивановну. Мы вступили в здание, и я быстро нашел то, что нужно было моей спутнице. Когда мы вышли, Цветаева спросила: "Все москвичи так поступают?" Я ответил, желая вызвать ее улыбку: "Только те, кто понимает значение райисполкомов", но улыбки не вызвал. Марина Ивановна не обратила внимания на мою шутку, разве что пожала плечами. На ней был не по сезону тоненький заграничный плащ.
Она рассказывала мне о своем друге Бальмонте, полунищем и почти утратившем память, о Мережковских, отвечала на мои жадные расспросы о Ходасевиче. Говорили и о советских поэтах. Запомнилось о Кирсанове, о его версификации: "Мотор грузовика дан игрушечному автомобильчику".
Мы направились в музей, созданный ее отцом, пробыли там часа два. Марина Ивановна проголодалась. Я предвкушал наслаждение угостить ее роскошным обедом в "Национале", деньги у меня тогда водились. Но Марина Ивановна, несмотря на свою близорукость, рассмотрела рядом с музеем столовую на улице Грицевец. Это была столовая строителей метро. Как я ни уговаривал Марину Ивановну, упирая на то, что здесь - обжорка, а "Националы" - в двух шагах, она не хотела меня слушать. Столовая была полутемная, душная, нас обдал стойкий, кислый запах суточных щей. Едоки обслуживали себя сами, раздатчица налила эти самые щи в плохо вымытые тарелки - двигались в очереди с подносами в руках,- и мы сели за грязный столик, но Марина Ивановна с удовольствием уплетала и щи, и хлебно-мясные котлеты с разваренными, слипшимися макаронами. Она вынула из кармана в плаще страничку и дала мне ее со словами: "Рецензия Зелинского на мой сборник для "Советского писателя"". На страничке было напечатано несколько строк. Недавно я узнал, что это была лишь заключительная часть рецензии. Вся же рецензия была настолько гнусная, что в издательстве ее не решились показать Марине Ивановне (тогда рецензии авторам показывали). В строках же, которые я прочел, указывалось, что ничего политически вредного в стихах Цветаевой рецензент не усматривает, но наша советская поэзия так далеко ушла вперед, что стихотворные опыты Цветаевой покажутся читателю давно пройденным этапом, анахронизмом, поэтому нет нужды издавать ее сборник.
Когда я рассказал об этом Гроссману, у него под роговыми очками заблестели глаза. Он сказал: "Все ужасно, и не только эта б... Зелинский. Ты знаешь, мелочи, конечно, плащик зимой, кислые щи, а есть в них нечто чудовищное. Цветаева - тонкий, изысканный поэт - и метростроевская обжорка. Я думаю, что судьбы Цветаевой, Ахматовой потруднее судьбы княгини Волконской, вот о них, о таких, как они, и создать бы поэму "Русские женщины". Написал бы, а?"
"Мне было восемнадцать лет, - в другой раз рассказывал я ему, - когда поселился в Кунцеве недалеко от Багрицкого. Он-то и приискал мне пристанище. Обычно я проводил у него вечера. Однажды - это было в апреле тысяча девятьсот тридцатого года, к Багрицкому приехал Бабель. Я впервые увидел его: невысокого роста, плотного, с мудрыми раввинскими глазами. Из слов Бабеля я понял, что он давно не был в Москве, жил где-то в деревенской "глубинке". Он произнес фразу, которую я запомнил навсегда: "Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей"".
Гроссман сказал: "Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он, умница, талант, высокая душа, произнес эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Правда ли это? Почему таких необыкновенных людей его, Маяковского, твоего Багрицкого - так влекло к себе ГПУ? Что это обаяние силы, власти? И почему Бабель водился с темными личностями на бегах, с приставленным к нему Кожевниковым? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное".
Во время "великого перелома" в Москве заканчивал свое существование альманах "Недра". Странный это был альманах! Им завладели "кузнецы" пролетарские ортодоксы Гладков, Новиков-Прибой, Ляшко, Бахметьев, Никифоров, высокий, усатый, похожий на пожилого рабочего из плохого кинофильма, его все называли Жора, он был впоследствии репрессирован, но активно продолжали сотрудничать в альманахе и такие писатели совершенно из другого мира, как Вересаев, Замятин, Булгаков.
"Недра", по рекомендации заведующего стихами С. А. Обрадовича, приняли к печати мою юношескую слабенькую поэмку об убийстве селькора на Одесщине: убил его земляк из ревности, но в газетах загудели, что по идейным соображениям, - классовая ненависть. Прихожу я в редакцию (она помещалась на Варварке, в старинном ветхом доме), а секретарь редакции, писатель-кузнец Дмитриев, говорит мне, что цензура зарезала мои стихи: "Возьми на память гранки". Так, девятнадцатилетний, я впервые столкнулся с цензурой. Я был в замешательстве, не знал, что мне делать. Уйти или чего-то ждать. В глубине комнаты сидел человек, лицо которого мне показалось не только красивым, но и значительным. Что-то было в этом лице необычное, несоветское, что-то из прежней жизни. Посмотрев на меня, он дернул головой в сторону, и я подумал, что этот человек почему-то мной недоволен. Не потому ли, что цензура запретила мою поэму? Позднее я узнал, что он страдал нервным тиком. Незнакомец был в мятом, заношенном, кургузом пиджаке, в накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потертыми краями виднелись старорежимные твердые манжеты. Он мне сказал: "Выше голову, мой юный пиит, вы начинаете в лучших русских традициях - с цензурного запрета". Это был Булгаков. Он великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актера у Страстной. Мы направились к площади Ногина, чтобы сесть в пятнадцатый номер трамвая. На площади чернела большая толпа: давно не было трамвая. "Видно, давно нет трамвая", - тонко заметил я, а Михаил Афанасьевич сказал: "Меня не то удивляет, что трамваи не ходют, меня то удивляет, что трамваи ходют".
Гроссману мой рассказ (дальнейшее продолжение которого здесь неуместно) запомнился. Подобно всем нам, Гроссман еще не знал "Мастера и Маргариты", но всегда воспринимал Булгакова как чудо русской литературы. "Подумай, - говорил он. - Габрилович * был его соседом по Нащокинскому, у них был общий балкон, разделенный перегородкой, но ни разу не попытался поговорить с Булгаковым, видно, были дела поинтересней. Не дела - делишки". Когда возникали не совсем понятные события, Гроссман любил повторять: "Меня не то удивляет, что трамваи не ходют, меня то удивляет, что трамваи ходют".
* Известный сценарист. Гроссман во время войны служил с ним в "Красной звезде".
Несмотря на арест романа, несмотря на горестные обстоятельства в личной жизни, несмотря на материальные затруднения, несмотря на ухудшение здоровья, Гроссман продолжал ежедневно работать. "Графоманы все же упорны". Он написал несколько великолепных рассказов - только часть их напечатана. Наново переписал повесть "Все течет" - увеличил ее почти вдвое. Сохранилась магнитофонная запись одного его рассказа. И мы, близкие, чтобы услышать его голос, включаем 12 декабря, в день рождения Гроссмана, магнитофон. Рассказ называется "В большом кольце". В основе рассказа лежат впечатления дочери его друга студенческих лет, Вячеслава Лободы.
Подмосковная дача. Девочка, дочь высокоинтеллектуальных родителей, только и слышит в семье "Дмитрий Дмитриевич" (Шостакович), "Лев Давыдович" (Ландау). Она обожает отца, видимо, известного искусствоведа, такого умного, ироничного. И вот у нее приступ аппендицита, ее отвозят в ближайшую районную деревенскую больницу.
А там - другая жизнь. В палате - старуха-матерщинница, злая и одновременно, как часто у Гроссмана, добрая, роженица - безмужняя девушка, работающая на стройке, которая сама точно не знает, от кого у нее должен родиться ребенок. И чего только не наслушалась в палате девочка из советского истеблишмента! Оказывается, не в ее доме, а в деревенской больнице - правда жизни, грубая, нищая и прекрасная. Слышит она и такую утешительную притчу. Лежат в одной больнице две роженицы: жена лейтенанта из расположенной поблизости военной части и простая девушка, на которой отец будущего ребенка не хочет жениться. Обе рожают в один день. Жена лейтенанта не хочет кормить ребенка, ей надо сохранить красивую грудь, и обоих детей кормит простая девушка. Об этом узнает лейтенант и, когда наступает день выписки, увозит к себе не жену, а безмужнюю девушку с двумя детьми - с ее ребенком и своим. Дочь искусствоведа, вернувшись домой, начинает иными глазами смотреть на своего отца, на знакомых, видит их ложь, пустоту, черствость. Пронзительный рассказ, хорошо бы его напечатать, чтобы читатель узнал первоисточник, а не мое топорное изложение.
Так и вижу Гроссмана, выгуливающего вечером на дворе пуделя Пуму, порой собака вырывается из его рук, поскольку он подолгу стоит на месте, заглядывая в чужие окна на первом этаже, - его писательское любопытство было выше условностей. Бывая в гостях, любил он заходить на кухню коммуналки, хотел узнать, что совершается в глубине квартиры, в ее сокрытом от гостей тылу. Точно так же, когда он писал книгу об Армении, он заходил во внутренние дворы, потому что там открывалась "людская жизнь: и нежность сердца, и нервные вспышки, и кровное родство".
Однажды ко мне подошла в Доме литераторов непременная, многочасовая его посетительница Асмик (фамилию забыл), армянка, похожая на черный колобок, и сказала мне, что она перевела с армянского большой роман Рачия Кочара на военную тему, но автор считает, что ее перевод лишь подстрочник (так оно и оказалось), нужен для обработки хороший писатель, желательно с именем и фронтовик, так не могу ли я кого-нибудь порекомендовать. Писателя-переводчика пригласят работать в Армению, республика оплатит дорожные расходы, местное издательство заключит с ним договор. Я подумал, что неплохо бы Гроссману поехать в Армению, да и гонорар за перевод романа нужен сейчас Гроссману позарез, и обещал обрадованной Асмик с ним поговорить.
Впоследствии, в "Добро вам", Гроссман выведет Асмик под именем Гортензия ("Асмик" по-армянски - жасмин).
Я не был уверен в удаче своего предприятия. Гроссман, даже когда с деньгами было туго, не любил писать на заказ. Давно, после неожиданного удара по пьесе "Если верить пифагорейцам", он спросил у жены: "Что же мне теперь делать?", а Ольга Михайловна ответила: "Пиши сценарии", он часто вспоминал и не мог ей простить эти слова. На моей памяти он только один раз откликнулся на предложение заказчика - театра имени Вахтангова - написать пьесу. Он инсценировал один из своих военных рассказов. В центре пьесы старый учитель Розенталь, который полагает, что истребление евреев было "арифметикой зверства, а не стихийной ненавистью... но счетоводы просчитались". Пьеса получилась печальная, умная, по-моему, очень сценичная, однако Вахтанговский театр от нее отказался: уже в 1947 году еврейская тема вызывала отталкивание. Гроссман отдал пьесу С. М. Михоэлсу с тем, чтобы ее перевели на идиш. Соломона Михайловича пьеса "Учитель" восхитила. Я с ним был хорошо знаком (нас еще до войны познакомил Самуил Галкин, в поэтическом переводе которого театр Михоэлса поставил "Короля Лира"), мы вместе с Гроссманом несколько раз посетили Михоэлса в его квартире около старого здания ТАСС, он делал автору замечания, в которых блестящий ум неназойливо сочетался с прирожденным чувством театра, пили вишневку, приготовленную женой Михоэлса - единственной, кажется, в нашей стране представительницей знатного польского рода.
Мы провожали Михоэлса в его последний путь, он уезжал в Минск по пустяковому делу - для просмотра какой-то пьесы, выдвинутой на соискание Сталинской премии. Помню перрон Белорусского вокзала, помню прекрасное уродливое лицо Михоэлса, его глаза каббалиста и колдуна, сардонически выпяченную нижнюю губу - и неспешные слова, произнесенные на великолепном, по-актерски артикулированном русском языке: "Я уверен, что сыграю роль учителя. Это будет моя последняя роль". Помню и другого неповторимого актера - В. Л. Зускина. Мы втроем махали рукой отъезжающему Михоэлсу. Он так и не сыграл свою последнюю роль. Нет, он сыграл ее, но не на сцене. Как и герой пьесы Гроссмана, он умер от руки убийц. Минской темной ночью его сбил грузовик, его убили те же силы, которые убили учителя Розенталя.
Провожали мы Михоэлса и в последний земной путь. Огромная толпа двигалась по Тверскому бульвару и по боковым улицам от здания ВТО *, где Михоэлс лежал в гробу, до Малой Бронной, где помещался ГОСЕТ, Государственный еврейский театр. Михоэлса хоронило Государство, хоронило торжественно - иначе, совсем иначе хоронило оно ближайших друзей великого артиста - поэтов, писателей, актеров. Настоящая фамилия Михоэлса - Вовси, он двоюродный брат знаменитого врача Вовси, профессора, одного из главных обвиняемых по процессу врачей-убийц. Врача после смерти Сталина освободили, он остался жив.
* Всероссийское театральное общество.
Я не думаю, что отклонился далеко в сторону. Перейду от еврейской темы к армянской. Гроссману понравилась возможность поездки в Армению. Он сказал: "Если роман не подлый, буду переводить. Хорошо, что он, как ты говоришь, большой. И деньги нужны, и на душе скверно, может быть, поденщина поможет".
Асмик принесла свой толстенный подстрочник, роман с точки зрения морали удовлетворил Гроссмана, он спросил только: "Подстрочники всегда такие безграмотные?" Первого ноября он сел в поезд. Из Армении он мне часто писал. Я хочу, чтобы читатель познакомился с некоторыми из этих писем. Интересно будет сопоставить последнюю книгу Гроссмана "Добро вам" с его непосредственными армянскими впечатлениями. И какая жизненная сила заключена в письмах писателя, "задушенного в подворотне". Я привожу эти письма с сокращениями, касающимися обстоятельств - его и моих - сугубо личного характера.
4.XI.1961
Дорогой Сема, вот я приехал в Армению. Мне кажется, что именно ты с особой силой ощутил бы то, что составляет душу этой совершенно удивительной страны, это соединение невероятной суровости каменной земли, синего базальта, тысячелетних храмов, дивной древности и сегодняшней жизни. Знаешь, я все думаю, что ты удивительно глубоко ощутил бы Армению - с ее библейским совершенно прошлым, с ее библейским пейзажем и с ее живой сегодняшней, южной, смуглой, трудной, шумной жизнью, - с невероятным трудом вырубающих хлеб из базальта крестьян и мощных ереванских деляг, звенящих от личной инициативы.
Боже, если бы ты знал, сколько в Ереване армян! Самисыньки армяны...
В Ереване меня должен был встретить Кочар, но перепутал сроки прихода поездов, и я оказался на перроне один. Вспомнил наше прибытие в Тифлис и твои команды: "Цветы вперед, дети к вагону, он это любит, оркестр отойдите, речей не надо, он это не любит" *.
Вот я и стоял с довольно-таки горьким чувством на опустевшем перроне, потом сдал вещички на хранение, потом пошел садиться в автобус, искать Кочара. Что скажешь, кроме того же: он это любит.
В Грузии тепло, зелено, проехали Гори, там огромный портрет Сталина в форме маршала, по бокам скромные портреты Ленина и Хрущева. В Тбилиси вокзал веселый, оживленный. Окон там не стеклили. Ереван хорош, хороши дома из розового туфа, площадь грандиозная. Но нет той прелести, что мы видели в Тбилиси. Над городом могучий монумент на холме в военной шинели - Сталин. Он настолько величественен, огромен, что в памятнике какая-то мистическая, нечеловеческая мощь. Сегодня Кочар возил меня на Севан. Но знаешь, Иссык-Куль все же сильнее **, все горы вокруг него белее. Но зато на Иссык-Куле нет ресторана "Минутка", где подают розовую, выловленную только что из воды форель. Завтра по твоему завету еду в Эчмиадзин - резиденцию католикоса. Напишу тебе об этой поездке. Живу в гостинице "Армения" на втором этаже, комната маленькая, но с ванной и - да простит меня Шолохов *** - с добрым клозетом индивидуального пользования. Вероятно, 10 - 12 поедем работать в дом отдыха под Ереваном...
* В 1956 году мы с Гроссманом совершили поездку по маршруту Москва Нальчик - Махачкала - Баку - Тбилиси - Сухуми. Всюду нас хорошо встречали благодаря моим крепким связям, за исключением Баку, там связей не было, устроиться в гостинице мы не могли, поехали в Тбилиси. Гроссман был огорчен, и в поезде я сочинил и играл сцену его предполагаемой торжественной встречи в Тбилиси.
** В 1948 году мы поехали в Киргизию, были на высокогорном озере Иссык-Куль. Гроссман об этой поездке написал очерк.
*** Шолохов в своей речи на одном из партийных съездов призывал писателей для подъема творчества покинуть столицу с ее санитарными удобствами и жить на селе.
9.XI.1961
...Я живу в Ереване, город мне нравится. Погода хорошая, днем тепло, солнце, а ночью дожди. Позавчера лил такой ливень, что я подумал - хорошо, что Арарат рядом.
Арарат перед моим окном. Утром он розовый, днем сияет белизной, вечером тоже розовый. А иногда его закрывает облаками дым ереванских фабрик.
Был в Эчмиадзине, храмы огромной древности сохранились до наших дней. Конечно, они обновляются. Архитектура их поражает - гениально простая. Под главным, ныне действующим собором в земле скрыт языческий храм 1-го века, и прямо под алтарем находится жертвенник языческий, страшный, темный котел. А в храме при мне крестил девочку молодой армянский священник.
Принял меня католикос - Восген Первый - в патриарших покоях. Это светский человек в черной шелковой рясе, лет 50-ти, с добрыми красивыми глазами и с губами Куаньяра, любившего "хвалить господа в творениях его". Католикос выпил за мое здоровье рюмку коньяка. Мы беседовали о литературе и пили черный кофе. Обслуживал это дело монах, молодой человек, невероятно красивый. Любимый писатель Восгена Первого - Толстой, тот, которого церковь предала анафеме. Восген - автор работы о Достоевском, он сказал мне, что без Достоевского невозможно человекознание. Все было хорошо, интересно, но бога в Эчмиадзине я не видел.
Едят тут вкусно - все, что должно нравиться человеку. К еде подают много пряных приправ. Пьют коньяк - три звездочки. Цены на рынке высокие, московские, фрукты дорогие. Но в магазинах много продовольствия. Видел драку - молодой армянин хотел зарубить топором толстую даму, тоже армянку, видно, жену свою. Его окружили старухи, но он и на них занес топор. Все обошлось без крови, но крику было много. И произошло это на фоне Арарата, знаешь, это какое-то особое впечатление - снежная святая гора и топор в руках жгучего брюнета.
Я работаю, твоему совету в данном случае следовать не могу - уж очень нервы у меня напряжены, спешу, спешу... Не отдыхается. Да и тоскливо бывает очень, хотя впечатлений много...
Я прерву выписки из армянских писем В. С. Гроссмана, чтобы сказать несколько слов о Вазгене (так правильно - не Восген, как у Гроссмана,пишется имя католикоса всех армян).
Я тоже имел честь быть представленным католикосу, когда мы вместе с Инной Лиснянской приехали весной 1972 года в Эчмиадзин. В один день с нами католикос принял известную актрису из Латинской Америки Лолиту Торрес. С ней католикос говорил по-испански, со мной - по-немецки. Он сказал, что мы хорошо поступили, приехав в Армению в печальную годовщину геноцида 1915 года. Он обворожил нас своей приветливостью, его прекрасные глаза лучились умом и добротой. В отличие от Гроссмана, я увидел в нем человека, глубоко и простодушно верующего. Истинное религиозное чувство всегда явственно, всегда открыто собеседнику.
Он заботливо сказал нам, что сейчас он проследует в храм и чтобы мы пошли вслед за ним, иначе не пробьемся сквозь толпу. И вот по длинному коридору двинулся католикос в сопровождении высших иерархов армянской церкви, все - в фиолетовых рясах, а за ними - мы, безвестные гости.
Началась молитва поминовения усопших. Во время богослужения католикос молчал, проповедь произнес необычайной, благородной красоты священник. Никогда не забуду стройного, многоголосого пения хора, овладевшего мною чувства соединения с вечной правдой, чувства живого торжества жертв над палачами. Инна Лиснянская, армянка по матери, плакала и крестилась. Но в храме больше никто не плакал.
Когда кончилось богослужение, к ногам католикоса бросилась маленькая, худенькая армянка, приехавшая из США. Католикос благословил ее.
Все вышли из храма радостные, просветленные. Не было уныния, была радость всечеловеческой общности, какая-то детская радость. Толпа на площади расступилась перед католикосом, матери протягивали к нему своих детей, и он благословлял их.
То была одна из самых славных минут в моей жизни. Я написал стихотворение "Годовщина армянского горя", в котором говорил о всеобщем храме людей.
Продолжаю выписывать строки из писем Гроссмана.
15.XI.1961
...Сегодня днем и вечером, после заката солнца, все без пиджаков мягкая, ясная, чудная погода. Платаны стоят в золоте... Я много работаю ямщик гонит лошадей. Живу в Ереване до сих пор, через несколько дней переберемся с Кочаром в писательский дом под Ереваном, не знаю, как буду там себя чувствовать, он высоковато, 1800 метров. Там начнем перепечатку 1-го тома. Я тут не очень здоров, но теперь вроде лучше. Совершил две чудные поездки - на развалины языческого храма в Гарни, ему 2 тысячи лет, и в скальный, пещерный храм Гегард. Эти скальные храмы поражают представляешь, в сплошной скале пробиты туннели, а из туннеля внутри скалы создан храм - алтарь, колонны, купол - все совершенство и все внутри камня. Только вера могла создать это зрение мастера внутри горного камня. "Помяните мастера" - высечено древними армянскими буквами на камне. А возле входа стоит старый священник в черной рясе и продает открытки - одну из них посылаю тебе. Священник приехал из Палестины, служил в Иерусалиме в армянской церкви. И вот он стоит среди базальтовых камней и улыбается добрыми карими глазами. А камни у входа в храм забрызганы свежей кровью это верующие люди приносят жертвы, режут овечек и кур.
Был в хранилище древних рукописей, показали мне такие чудеса, такую тысячелетнюю жизнь мысли, слова, краски... Есть и древнейшие, тысячелетние, еврейские рукописи, и сочинения армянина Давида Непобедимого, названного так, потому что он победил в диспуте греков. Есть огромная книга - для создания ее пергаментных страниц было убито 600 телят.
И есть жизнь сегодняшнего Еревана - шумная, живая. Утром я завтракаю в кафе при гостинице, обычно в 8 ч. утра - ем творожник, а рядом мои смуглые кузены едят ранний шашлык и вместо чая чинно, спокойно выпивают бутылочку утреннего коньяка. Город европейский во многом, а на главной улице, залитой светом, среди машин, мимо роскошной гостиницы Интуриста и здания Совмина, по тротуару идут овечки, их гонят на заклание, идут охотно, стучат копытцами, а рядом стучат дамские каблучки, гуляют местные стиляги. А у прокуратуры - она рядом с гостиницей - стоят печальные толстые старики, женщины с горем в глазах - родичи тех, кто нарушали.
Что касается опыта Звягинцевой и Петровых, то могу подтвердить своим небольшим опытом - точно, товарищ техник-интендант! * Но при этом стоит подумать - может собственных Алиханянов и быстрых разумом Амбарцумянов армянская земля рождать.
* Так он меня часто называл после того, как я ему прочел свою поэму "Техник-интендант": название принадлежит ему. В. К. Звягинцева и М. С. Петровых - поэтессы, переводившие с армянского.
Милы моему еврейскому сердцу базары, особенно фруктово-овощные. Горы, арараты синеньких, айвы, перцев, яблок, гранатов, виноград тут янтарный, необычайно сладкий. Но царит на рынке редис, редька, горы - пудовые, мощные, красные, полуаршинной длины, и притом толстые. Какое-то порождение огородного культа фаллоса.
А вечером я включаю армянское радио, не дикторский, слышный в Москве текст, а музыку. Утром, в полутьме, подхожу к окну, смотрю, виден ли Арарат. Еще темно, а воробьи кричат со страшной силой, голосят как нигде армянские воробьи. И в небе узенькая турецкая луна.
Из наблюдений Козьмы Пруткова могу поделиться следующим - заметил, что многие жители, даже и самые нарядно одетые, вдруг, на ходу, яростно царапают зад, полагаю, это от обилия волос.
Ну, вот, дорогой мой, выполнил твою просьбу, написал побольше о своей ереванской жизни, и хоть отъехал далеко, а проболтал с тобой весь вечер, почти по-московски...
Жаль мне, что Ахматова тяжело больна...
I2.XI. 1961
...Я уже четыре дня живу в горном поселке Цахкадзор, над Ереваном, около часу езды, здесь дом творчества. Поселок красивый, дома, дворики все лепится по склону горы. Но погода чудовищно плохая - день и ночь льет холодный дождь, смешанный со снежной крупой. Тучи сидят на горах, закрыли все вокруг. Говорят, что такой дождь может лить месяц. А в Ереване дождя почти нет и гораздо теплее. Я работаю очень много, с утра до позднего вечера, сильно устаю. Вечером мыслей нет, одна усталость.
В доме живут Кочар с женой, они почти каждый день уезжают в Ереван, гуляют на свадьбах, сплошные свадьбы: затем - толстая Асмик, у нее лишних 40 килограммов, переводчик Гроссман - у него лишних семь кило, весит он 85 кило. Ты спрашиваешь, чем питается переводчик Гроссман? Шашлыками, форелью, которую привозят с Севана в ведре, душистыми травами, овечьим сыром, мацуном, редиской, армянским супом спас, лавашем, сметаной. В общем, рацион у переводчика Гроссмана как у орангутанга в столичном зоопарке разнообразный, из многих компонентов. И представь, при этом переводчик не прибавляет в весе, очевидно, характер у него неважный. По дурости Гроссман не взял черного костюма, хотя ему советовали взять его. А оказывается, в Ереване это любимый цвет, все солидные люди ходят в черных костюмах.
Два первых дня в Цахкадзоре была хорошая погода, и я много гулял, очень мне понравилось здесь. Все построено из камня, пустынный храм XIII века, удивительной простоты и ясности постройка, - и кровь, и куриные перья на камнях: верующие приносят жертвы. Коровы, телята, овечки ходят по тротуарам, ослики по мостовой. Людей почти не видно. Встречаясь с тобой, старики и молодые здороваются, улыбаются. Дети милые, живые, задорные. Ночью при луне во дворах на веревках сохнет белье - говорят, воров нет. Кроме армян во дворе живут молокане - бородатые. У каждого медный самовар, норма - 25-40 стаканов в день. На свадьбах ставят самовары - пьют чай. Цахкадзорские молокане не прыгуны, прыгуны, главным образом, в Ереване. А теперь двое суток льет дождь, Кочары уехали на очередную свадьбу, толстая Асмик отбыла с ними, и я один в большом двухэтажном доме на горе. Где-то внизу ночной сторож старик Ованес, его сын осужден за убийство, зарезал в драке человека. Ованес носатый, небритый, по-русски не знает, но, когда я прохожу мимо, он поднимает палец и смеется: "Один ты остался, на свадьбу не взяли". Среди армян часто встречаются сероглазые, голубоглазые. Русские все прекрасно говорят по-армянски. Армяне многие совсем не знают по-русски, а если говорят, то большей частью неправильно.
Пишу тебе, а дождь гудит, а час назад прогремел несколько раз гром. Спасибо, что выписал длинную цитату из "Иностр[анной] литературы", меня она удивила и внесла оживление в мою жизнь, знаешь, я за эти недели совсем забыл о своих прежних занятиях, может быть, оттого, что с утра до вечера работаю и сильно устаю, да и вообще - ходить в ремесле по жизни, как в хомуте. Зато форелью кормят...
26.XI.1961
Сегодня съездил в Ереван, получил письма, представь, в Ереване тепло, по-прежнему ходят в пиджаках многие, на платанах золотится листва. А у нас в Цахкадзоре скрипит под ногами снег, дети катаются на санях, на лыжах.
Семушка, милый, как тут красиво, по белому снегу ходят бессчетные овцы, туман молочный, синее небо, сахарные горы, и Араратище из облаков выходит, сияет своей белой головой.
Порадовался и я, что будет передача телевизионная по твоей книге переводов, напиши мне, как она прошла, не забудь. Неужели ты поедешь к 18 декабря в Казань, - ты ведь знаешь, как я не выношу твоих отъездов, даже когда сам нахожусь в Ереване. Но теперь, видимо, ты поедешь на 2-3 дня, это еще терпимо.
Получил письмо от своей редакторши московской - Ивановой. Книгу * пустят без задержки, письмо милое, но все хочет снять те же четыре рассказика, на которые покушался и Федор Левин, и Вера Панова в своих рецензиях. Да что уже там, - могу сказать, как мужик из "Кому на Руси жить хорошо": "...Да нас бивал Калашников" **. Теперь у меня нет уже здесь сплошного набора новых впечатлений, перестал ездить, сижу с утра до ночи за столом (не обеденным), устаю. И в то же время все накапливаются совсем иные впечатления - это скорее мысли, а не впечатления, - нечто о природе вещей, о природе людей, - знаешь, как Чехов написал в своей записной книжке, статья под заглавием "Тургенев и тигры"...
* Небольшой сборник "Старый учитель", повести и рассказы, с трудом вышел в "Советском писателе" в 1962 году.
** Неточная цитата из поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Савелий говорит: "...нас дирал Шалашников".
11.XII.1961
...Ты спрашиваешь о моих делах. Работа моя сильно двинулась вперед, думаю закончить в конце декабря. Теперь ее сроки определяются не только мной, а деятельностью машинисток. С ужасным, безграмотным подстрочником я покончил, довел дело до последней - 1420-й страницы. Сейчас буду читать и править рукопись после машинисток. Первые 100 страниц уже прочел, - после подстрочника это примерно то же, что работа литсотрудника журнала "Красноармеец" по сравнению с пребыванием у Горохова на Рынке в октябре 1942 года. Буквально "отдыхаю душой". Только сейчас понял всю мудрость истории с козой, взятой в дом. Блаженствую - коза уже не в комнате, а в сенях. Каково-то будет, когда она уйдет из сеней и я поеду недели на 2, на 3 к морю. А впрочем, может быть, я скажу, что в помещении скучно без козы. Нет, нет, этого не будет. Мне ясно - хочу к своему разбитому корыту.
Я уже привык к тому, что автор безразлично и как-то сонно относится к тому, что пожилой господин работает над его книгой с таким усердием, что по вечерам у него лицо и лоб покрываются фиолетовыми пятнами. Две недели назад меня это поразило, а сейчас я искренне был бы удивлен, услышав слово мерси. Но, говоря по-рабочему, - харчи хорошие, общежитие чистое, теплое, платят справно, бельишко постельное меняют раз в 7 дней. Грех жаловаться. Я и не жалуюсь...
Я уж тут старожил: здороваюсь с десятком людей. Дышится тут легко, и хорошо очень гулять утром, идешь по горной дороге, - по склону гор овечки, леса, монастырь, часовни, небо синее. Встретишь старика, поздороваешься, улыбнется, и я ему говорю: "барев цез" - добро вам. Знаешь, армяне христиане с IV века, но мне кажется, что они все язычники - добрые, трудолюбивые, вспыльчивые язычники. Христианского я не чувствую...
12.XII.1961
...На днях ездили мы в Дилижан. Знаешь, когда человеку исполняется 55 лет, ему нужно жить в Дилижане, после 50 это тоже хорошо, самый раз. Боже, какая это прелесть - вдали от железной дороги в горной котловине среди сосен лепятся по склону горы домики, обнесенные открытыми террасами. Какой мир, какая тишина. Да и воздух, говорят, целебный для сердечников и астматиков. А ехать в Дилижан нужно мимо озера Севан, по горам через Семеновский перевал, и по дороге снежные вершины, сосны, армяне, молокане, овечки, ишачки, горные речушки.
Это был мой коротенький отдых. Продолжаю работать очень напряженно. Если б.ж. *, то закончу работу в декабре. Начали поступать чистые страницы от машинисток, мой клиент читает их с кислым лицом, а мне кажется - все в порядке, - работа сделана большая, и сделана добросовестно. Меня раздражает и огорчает сдержанность клиента, право же, мог бы сказать рабочему спасибо. Ну да что, - это ведь эпизод в моей жизни, прожитой жизни. Как я уже тебе сказал - "меня бивал Калашников". Какое уж там спасибо.
Рад я, что смогу отдохнуть, - знаешь, я очень устал. Столько сижу за столом, что не только внутри головы усталость, а на лице пятна выступают, и спина, и плечи болят. И так мне кажется хорошо отдохнуть после этих нешуточных трудов.
Боюсь, что от прочтения статейки, которую обо мне написал Жоржик Мунблит **, будет ощущение, как от тараканчика съеденного. Может быть, есть такая еврейская фамилия - Тараканчик? От Рувима *** Тараканчика нет вестей, звонил ли он тебе или все еще на прогулке? Вот и от него у меня чувство, как от съеденного таракана, а ведь с Фраерманчиком-Тараканчиком дружили мы четверть века. Ну, ничего, "меня бивал Калашников".
* "Если буду жив" - любимое присловье Льва Толстого.
** Речь идет о посвященной Гроссману статье критика Г. Н. Мунблита для "Литературной энциклопедии".
*** Писатель Р. И. Фраерман.
25.XII.1961
Я снова переехал в Ереван, в гостиницу, простился с чудным Цахкадзором, что означает "Долина цветов". Но так складывается, что на последнем этапе работы жить в горном поселке нельзя - приходится иметь дело с издательством, редактором. Надеюсь, что к концу месяца справлюсь со всеми делами, меня, правда, тревожит, не задержит ли меня получение денег, без коих, как ты легко можешь понять, до Сухуми не доедешь... Но надеюсь, что если и будет задержка, то на 2-3 дня.
У меня тут вновь появились значительные впечатления - в вечер накануне отъезда из Цахкадзора. Я был в гостях у пресвитера молоканской общины деревенской - бородатого старика, и знаешь, какое-то хорошее, светлое, ясное чувство от его веры. Куда образованному, просвещенному, блестящему католикосу всех армян Восгену Первому до этого косноязычного, почти неграмотного мужика Михаила Алексеевича. Верит! Знаешь - чувствуется сразу: верит по-настоящему, слив свою судьбу, судьбу жены, детей, внуков со своей верой. Верит в добро, в доброту, в то, что нельзя обижать людей и зря, для забавы, убивать животных. Пили мы чай и говорили, и я увез хорошее чувство от человека этого и от его речей.
А потом я поехал уже из Еревана, вчера, в деревню Сасун, на склоне Арагаца: сестра Кочара, старуха, женила сына-шофера. Эта поездка, конечно, самое сильное мое армянское впечатление. И знаешь, дело даже не в замечательном, поэтичном, грубом, сложном и многоступенчатом свадебном обряде и не в красивых старинных песнях, которыми славится Сасун, деревня, связанная с Давидом Сасунским. Дело, Сема, в чудных людях, деревенских армянских стариках, в армянских мужиках - чудных людях. На свадьбе было 200 человек, и я наслушался человечных, добрых речей - впервые в жизни. Десятки людей в своих речах, обращаясь ко мне, перед толпой мужиков, баб, говорили горячо, страстно, со слезами. А говорили пастухи, шо
феры, землекопы, каменщики сельские. В этот день я особенно сильно жалел, что тебя не было в этой деревне,- я все думал, что ты бы стоял тут и плакал, и написал бы стихи, читая которые, люди бы тоже плакали.
И все это среди суровых груд камней, на фоне синего неба и сияющей вершины Арарата, того самого, на который смотрели люди, писавшие Библию. Ох, Сема, сильно это берет за душу... А увидимся, я тебе расскажу все это подробно, а может быть, ты и сам увидишь все своими глазами, стоит, надо...
Что Мунблит ограничился датами и названиями, то меня можно поздравить. А касаемо Вали и Рувочки *, то надо сказать, я нахожусь на той низкой (или высокой) ступени смирения, что эти звонки к тебе меня порадовали, вот и трубку наконец Рувим взял, сам поговорил с тобой. Думаю, что на ступени смирения я все же не удержусь...
30.ХII.1961
...Сема, вот я и окончил работу, - "доругаюсь" с автором, получу деньги и поеду в Сухуми, куда ты мне пиши по адресу "До востребования". Очевидно, выеду третьего. Я так устал, что" кроме нервного расстройства и бессмысленного желания плакать, ничего не чувствую, совсем что-то разболтался. С клиентом идут острые разговоры. Он человек очень неглупый, понимает, что ему сделано хорошо, но в то же время невольно меня ненавидит, как зверь, попавший на остров в лапы доктора Моро. А доктор Моро, действительно, его сильно резал и мял и несколько приподнял его на лестнице литературной эволюции. Но знаешь, очень больно: "Где моя шерсть, зачем отрезан мой хвост? Я не хочу быть голым, без шерсти". А в то же время и приятно. Ты ведь тоже старый, стажированный доктор Моро, признайся, что тебе стоит **. Понимаешь эти ситуации лучше меня. Вчера я кончил эту костоломную работу, а сегодня стал писать, записывать армянские впечатления. Как Жорж Занд - в 4 утра кончила роман и, не ложась спать, начала второй. Правда, есть разница, - ее печатали, а меня уж совсем трудно понять. Куда спешить?
* Чета Фраерманов.
** Последние несколько слов нуждаются в разъяснении. В 37-м году на открытом партийном собрании прорабатывали критика Елену Усиевич. В перерыве к ней подошел поэт Михаил Голодный и сказал: "Усыевич, признайся, ты же враг народа, что тебе стоит".
Хочется тебя видеть, время идет, и все больше накапливаются разговоры, и перо, как принято выражаться, бессильно. Возможно, что до отъезда поедем с Кочаром в Араратскую долину к его родственникам. Там совсем не так, как на Арагаце, очень богато живут, долина эта райская.
30.XII.1961, вечером
...Получил деньги в издательстве, конечно, потиражных не заплатили, их платят по выходе книги, как и в Москве. Очевидно, автор решил, что я буду резвее работать, полагая получить деньги за тиражи по сдаче рукописи. Все же интересно - за 2 месяца жизни здесь ни один писатель не пришел ко мне, не позвонил, не позвал, а при случайных и неминуемых встречах на улице даже не спросил - здоров ли я, впервые ли в Армении, - такого собачьего равнодушия я никогда не видел, да больше и не может быть. Да это уже не равнодушие, а неприличие, потому что спросить пожилого приезжего человека о его здоровье и нравится ли ему на новом месте - это вопрос, диктуемый элементарным приличием. А автор мой сегодня при последнем нашем разговоре предлагал, и притом крайне настойчиво, чтобы в рукописи слово "люди" было заменено словом "человеки", он поражается, как же я это не понимаю, что "человеки" звучит более мягко, сердечно, тепло.
Ну, ладно, зато я видел чудную Армению...
11.1.1962
Дорогой Сема, вот мы и дожили до 1962 года и пишу тебе в этом Новом году из Сухуми, - море, вечная зелень, то теплый дождь, то теплое весеннее солнце... Перед отъездом из Армении, вернее, в день отъезда, получил последний заряд впечатлений, - с утра поехали на знаменитый коньячный завод "Арарат", где усердно дегустировали коньяк, а затем - в благословенную Араратскую долину, в деревню, а я уж точно выяснил для себя, что больше армянских храмов и гор мне нравятся армянские деревенские люди, очень с ними хорошо, сидя в сложенном из больших камней доме, пить виноградную водку и разговаривать, смотреть на милые стариковские лица...
Очень мне хочется, чтобы с "Новым миром" у тебя завязались отношения, - ну, год впереди, но тянуть нельзя, ведь годы позади. А у меня Новый год начался, как вся моя жизнь: и хорошо, счастливо, и горько, тревожно, путанно, с радостью на сердце, с желанием труда - таким же неразумным, как инстинкт жизни, таким же бессмысленным и непреоборимым. Ну ладно, обо всем хорошем и светлом, тяжелом и трудном расскажу тебе при встрече, а встреча не за армянскими горами...
Получил я очень тяжелое письмо с Беговой от О. М. * Я написал ей, что знал о том, что Катя ** едет в Сочи, но что я поехал в Сухуми и хочу перед отъездом в Москву побывать в Сочи и повидать всех. Ох, горькая это путаница.
Вспоминаю наши с тобой походы за хачапури, прогулки. Думаю в районе 20-го двинуться в Москву. Тебе сердечно кланяются море, пальмы, но не только они... ***
* Ольга Михайловна.
** Е. В. Заболоцкая.
*** Намек на мою поэму "Нестор и Сария", действие которой происходит в Сухуми.
Гроссман вернулся в Москву в начале нового, 1962 года. То, что он похудел и сильно загорел, не делало его моложе. Он казался больным. Когда он даже шутил, смеялся, - боль стояла в его глазах и было видно, что боль мучительная, не физическая, а душевная. Он переехал в однокомнатную кооперативную квартиру недалеко от моего дома, но ему трудно, тоскливо было жить одному, и, когда я его утешал, - мол, заманчива холостая жизнь, рисовал ее прелести, - он слабо и беспомощно улыбался. Живший за стеной сосед Гроссмана, ему не знакомый, постучался к нему, сказал, что пришли электрики, спрашивали, действительно ли именно Гроссман его сосед, - не оборудовали ли они подслушивающую аппаратуру. Гроссман отнесся к сообщению без особого интереса.
Сила духа его была велика: он работал, он написал несколько рассказов, создал поэму - иначе не назову его армянские записки - "Добро вам". Повторяю, если в России найдется читатель моих воспоминаний и если к тому же он окажется литератором, то я думаю, что он с любопытством прочтет армянские письма Гроссмана и увидит, как они преобразовались в создании художника. Последнее произведение Гроссмана - неожиданное для характера его письма. Никогда он не писал с такой откровенностью о себе, обнажая не только свою душу, но и физиологию, плоть. Никогда он не был так близок себе и никогда с таким наслаждением не приближался к лицу человека: "Казалось, не свечи, а глаза людей светились мягким, милым огнем".
Я позволю себе задержать читателя на одной мысли.
После смерти Сталина произошло оживление в нашей литературе. Вместе с произведениями реалистическими, без которых литература задыхалась, появились стихи, о которых говорили, что в них есть самовыражение, и проза, которую назвали исповедальной. Не странно ли - какой художник не самовыражается, какое его творение не является исповедью? Но дело в том, что после придворной сталинской литературы, унаследовавшей и развившей каноны придворной поэзии Востока, читатель имел все основания заметить нечто новое, и действительно, некоторые вещи послесталинского периода в области самовыражения и исповедальности носят на себе отпечаток таланта, но далеко не все. Стали самовыражаться, а выразить было нечего, стали исповедоваться, а получилось, что и грешили-то примитивно и все одинаково. И тогда-то, чтобы как-то отличиться один от другого, прибегли к метафоричности, к орнаментальности. Точно так же поступали и придворные персидские поэты средневековья. Одни и те же причины привели к одинаковым следствиям. Исповедь, самовыражение интересны и глубоки только тогда, когда глубок и интересен художник.
В "Добро вам" есть все то прекрасное, печальное, светлое, мощное, что было и в прежних книгах Гроссмана, но есть и новое, оно, это новое, бросается в глаза, и все же не так просто очертить его пером критика. Да я и не пытаюсь высказывать свои размышления об армянской поэме Гроссмана, мне кажется, гораздо важнее рассказать историю ее публикации, тоже печальную, но не светлую.
Закончив работу, Гроссман отдал ее "Новому миру". Твардовскому она понравилась, на полях рукописи есть только одна его пометка. Там, где Гроссман пишет: "Пьющие и выпивающие братья средних и пожилых лет, вы, наверное, знаете, каково это проснуться после тяжелой выпивки среди ночи", - Твардовский сбоку заметил карандашом: "Еще бы!"
Других замечаний не было, очерк-поэму набрали, и цензура поставила на верстке свой жизнедательный штамп, но предложила-приказала - выбросить один абзац... Пусть читатель вспомнит то место из письма от 25 декабря, где Гроссман говорит: "Эта поездка (в Сасун), конечно, самое сильное мое впечатление... Я наслушался человечных, добрых речей, - впервые в жизни". Вот в какие строки, испугавшие цензуру, вылилось это самое сильное впечатление:
"Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовых и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистники слова презрения и ненависти: "Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил". До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе".
Гроссмана оскорбило, обожгло решение цензуры. По его настоянию Твардовский пытался уговорить своего прижурнального главлитчика, но безуспешно, в этих строках тот бдительно усмотрел опасность для государства, упрямо настаивал на своем. Гроссман отказался печатать "Добро вам" в журнале.
Я его понимал. Давняя подпись под письмом Сталину мучила его, он не хотел еще раз поступаться своей честью. Да и противно было его душе после ареста романа идти на уступки, принести в жертву то, что помнил до конца жизни. Я надеюсь, что не принадлежу к тем писателям-рабам, которым непримиримость Гроссмана кажется глупостью, проявлением вздорного характера, но все же я тогда считал, и теперь считаю, что Гроссман совершил ошибку. Конечно, дороги, очень дороги были Гроссману 10 или 12 строк новомирского набора, окаймленные красным запретительным карандашом, но в "Добро вам" около ста страниц, и какие бесценные мысли нашел бы в них читатель, какое глубокое чувство охватило бы его...
Об армянских записках узнали в литературной среде. Верстку читали. Вот что написала Гроссману писательница, человек высокого сердца Ф. А. Вигдорова:
"Я прочитала "Добро вам". Это так прекрасно, как только может быть. Горько, нежно, пронзительно. Вы писатель замечательный, и эти сто страниц принадлежат к лучшему, что Вами написано. Всех видишь. Вместе с Вами думаешь. Плачешь. Смеешься. И такая радость их читать, эти сто страниц, хоть это чтение нелегкое".
После смерти Гроссмана с версткой "Добро вам" познакомилась поэтесса Сильва Капутикян. О многом поведали армянке-патриотке эти записки, и она увезла произведение, посвященное ее народу, на родину, чтобы попробовать там его напечатать, поскольку, за исключением нескольких строк, это произведение получило разрешительный штамп московской цензуры, весьма, естественно, почитаемой в Армении. Проходит около года, о записках ни слуху ни духу. Выполняя завет Гроссмана, я поехал в Армению. Выяснилось, что верстка находится в журнале "Литературная Армения", выходящем на русском языке, но из-за строк, выброшенных цензурой, редакция опасается печатать "Добро вам", хотя и очень этого хочет. С помощью моего знакомого, профессора-литературоведа Левона Мкртчяна, удалось убедить редакцию в безопасности и необходимости напечатать работу Гроссмана - о записках уже заговорили в Ереване, - и в 1965 году "Литературная Армения" опубликовала "Добро вам", конечно, без запрещенного абзаца. Я понимаю, что нарушил волю Гроссмана, но думаю, что поступил правильно, такую прекрасную вещь не надо было прятать от читателей.
Мой приезд в Ереван совпал с пятидесятилетием со дня геноцида, когда турки вырезали миллион армян. Газеты никак не отметили это страшное событие, русская газета вышла с передовицей о своевременном поднятии зяби, а армянская - о дружбе народов, в городе начались волнения, с утра не расходилась огромная толпа на площади у театра имени Спендиарова, молодежь требовала присоединить к Армении Карабах, населенный армянами, отторгнуть эту территорию от Азербайджана, и я вижу нечто символическое в том, что переговоры с редакцией о записках Гроссмана велись под отдаленный гул все разраставшейся, несмолкающей, разгневанной толпы.
Когда "Литературная Армения" появилась в Москве, давний друг Гроссмана, сотрудница "Нового мира" А. С. Берзер, посоветовала мне пойти к Твардовскому с предложением - перепечатать "Добро вам" в разделе "По страницам журналов": был такой раздел в "Новом мире", в нем помещались небольшие произведения, взятые из провинциальных журналов. Твардовский, как и я, был членом комиссии по литературному наследству Гроссмана, и моей обязанностью, среди прочих, было информировать Твардовского о наших заседаниях, которые он не посещал. Как раз комиссия поручила мне просить Твардовского о том, чтобы он, используя свой большой авторитет, помог добиться разрешения передать рукописи "Жизни и судьбы" с Лубянки в спецхран ЦГАЛИ, несравненно более доступный для членов комиссии. Твардовский обещал помочь, только сказал, что не надо его торопить, он должен для успеха дела выбрать подходящий момент встречи с кем-нибудь из руководителей государства.
Тут я перешел ко второй просьбе. Твардовский наотрез отказался перепечатать "Добро вам". Он сказал, что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмане, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе, в общем, только Юз Алешковский отважился бы воспроизвести в печати нашу литературную беседу.
История "Добро вам" на этом не кончается. Нашей комиссии удалось добиться в "Советском писателе" издания небольшой книжки Гроссмана, в которую вошло несколько его рассказов разных лет (в том числе и поздних, написанных после ареста романа) и "Добро вам", давшее название всей книжке, вышедшей в 1967 году. Редактор, покойная В. Острогорская, хорошая женщина, сказала мне, что главная редакция свирепствует, выбрасывая из "Добро вам" уже не строки, а страницы, даже главки. Замечу - свирепствует редакция, в которую входили писатели, а не Главлит.
Я доложил об этом на заседании нашей комиссии, и члены ее постановили не спорить с издательством. Я сначала намеревался добиться от комиссии решения - отказаться от публикации "Добро вам" в искаженном виде, но после долгих раздумий решил этого не делать, во-первых, по соображениям, уже изложенным выше, во-вторых, - вряд ли я пересилил бы комиссию. И теперь я чувствую и радость от того, что большая часть "Добро вам" все-таки стала достоянием русских читателей, и свою вину перед умершим другом: ведь нарушена его воля.
Главка, помеченная в книжке цифрой "2", есть, в сущности, третья, а вторая выброшена целиком. Вот кусок из нее:
"Над Ереваном, на горе, стоит памятник Сталину. Откуда ни посмотришь, виден гигантский бронзовый маршал.
Сталин одет в длинную бронзовую шинель, на голове его военная фуражка, бронзовая рука его заложена за борт шинели. Он шагает, шаг его медлителен, тяжел, плавен - он не спешит. В нем странное, томящее соединение - он выражение силы, которой может обладать лишь бог, так огромна она; и он выражение земной грубой власти - солдатской, чиновной. Кажется, облака касаются головы Сталина. Высота фигуры Сталина семнадцать метров. Фигура вместе с постаментом - пятьдесят два метра. Когда шла сборка памятника и части огромного бронзового тела лежали на земле, рабочие проходили, не сгибая головы, внутри полой ноги Сталина.
Этот памятник установили в 1951 году.
Я приехал в Ереван в дни XXII съезда партии, в дни, когда проспект Сталина, красивейшая улица города, обсаженная чинарами, широкая и прямая, ночью освещенная фонарями, вчеканенными в асфальт мостовой, - была переименована в проспект Ленина.
Мои ереванские собеседники говорили изящно: "Пусть металл, пошедший на создание этого памятника, обретет свою первоначальную благородную сущность..."
Мне рассказывали, что в одной деревне в Араратской долине на общем собрании колхозников было предложено снять памятник Сталину. Крестьяне заявили: "С нас государство собрало сто тысяч рублей, чтобы поставить этот памятник. Пожалуйста, разрушайте, но верните нам наши сто тысяч".
Кажется, один только старый Андреас, сошедший с ума после массовых убийств армян, совершенных турками, гневается на то, что разрушили памятник Сталину: "Он потрясал посохом, он бросался на шофера, на детей, на студентов-лыжников, приехавших из Еревана. Для него Сталин был победителем немцев. А немцы были союзниками турок. Значит, памятник Сталину разрушили агенты турок"".
Из главы пятой (в книге - четвертой) выброшены четыре страницы. Там, между прочим, есть рассказ о старике Саркисяне. Был он в молодости большим партийным деятелем, встречался с Лениным в эмиграции. Затем объявили его турецким шпионом, били смертно, послали в сибирский лагерь, где он прожил девятнадцать лет. Мы читаем:
"Он рассказал мне, как в тесной маленькой камере ереванской тюрьмы сидели восемьдесят человек, все это были ученые люди: профессора, старые революционеры, скульпторы, архитекторы, артисты, знаменитые врачи, и как мучительно долго, каждый раз сбиваясь со счета, пересчитывали их стражники. А однажды стража вошла вместе со старым угрюмым человеком, он оглядел человеческий сплошняк на нарах, на полу быстрым взглядом и вышел. Так стало повторяться каждый день. Потом выяснилось, что этот старик - чабан. Администрация тюрьмы использовала при проверке заключенных его феноменальную способность мгновенно подсчитывать сотенные и тысячные стада овец.
Он рассказывал, как, приехав из лагеря, некоторое время продавал газированную воду на улице Абовяна и как пришедший из района старик колхозник, попивая шипучую водичку, обстоятельно беседовал с ним. Саркисян рассказывал старику, что участвовал в подпольной работе, потом в 1917 году свергал царя, потом строил Советскую власть, потом сидел в лагере. "А вот теперь продаю газированную воду".
Старик подумал и сказал:
- И зачем ты сбрасывал царя, разве он мешал тебе продавать газированную воду?"
Далее следовала трогательная история о том, как недавно две большие молоканские русские семьи перешли вброд ночью через Араке из Турции в Армению, как их сердечно встретил начальник нашей заставы, как из пограничного поселка прибежали жены офицеров, неся одежду для женщин и детей. Не понимаю, почему этот эпизод вырезали редакторы, ведь не от нас бегут, а к нам, даже лестно.
Предисловие к книге написал Н. Атаров, написал неплохо, кое-что увидел. Читаем о Гроссмане: "В жизни он был нелюдимый, угрюмый и грозный, как правосудие... И только сейчас, перечитывая его посмертный сборник рассказов, понимаешь, как этот нелюдимый человек неутомимо искал дороги и тропинки к людям, как этот порою обижавший близких человек ненавидел предательство дружбы".
Правильно, Гроссман был неудобный человек для легкой дружбы, ненавидевший предательство дружбы. Но что это за дружба, если она легкая и способна на предательство? Знакомство, завязавшееся в редакции, в доме творчества, во время пирушки, всегда ли превращается в дружбу? Гроссман требовал от дружбы честности, стойкости, самоотверженности. Разумное требование в разумном обществе. Ему нужна была дружба "в упор, без фарисейства".
Беда Гроссмана заключалась в том, что он был доверчив, и в этой доверчивости жила одна слабость: он привечал тех, кто восхищался им. Немало легких друзей приобрел он в военные годы, когда он был в чести, когда разных людей временно объединили общие горести и трудности, и они, эти люди, тоже на время, стали лучше, честнее. Но вот военные трудности сменились другими, и люди стали другими, то есть прежними. Тот же Атаров льнул к нему, приходил к нему, как ученик к учителю, и Гроссман встречал его благосклонно, но, вступив в партию, Атаров стал функционером, его назначили редактором журнала "Москва", он постепенно отстранился от преследуемого Гроссмана, и, конечно, когда они случайно встречались, Гроссман смотрел на него "угрюмо и грозно".
Фронтовые дороги свели Гроссмана с Борисом Галиным, этот правдистский очеркист гордился тем, что они с Гроссманом на "ты", и Гроссману, я видел, льстило такое поклонение, но и Галин, как теперь выражаются, "слинял", когда Гроссман попал в беду, и если бы Гроссман узнал, как уже после его смерти подло повел себя Галин, когда за рубежом вышло в свет "Все течет", то, бесспорно, говорил бы о Галине "угрюмо и грозно".
Был у Гроссмана друг детства, ставший профессором-математиком. Во время борьбы с космополитизмом он сказал: "Во имя идеи коммунизма допустимо пожертвовать целым народом". У профессора были поздние дети, как все отцы такого рода, он обожал их, а между тем говорил: "Во имя коммунизма я готов пожертвовать своими детьми". Что это было - лицемерие раба или глупость раба? И, наверно, он удивлялся тому, что Гроссман смотрит на него "угрюмо и грозно".
Гроссман хорошо относился к критику Федору Левину (в скобках не побоюсь сказать: потому что тот высоко ценил творчество Гроссмана), он жалел Левина, когда тот, по навету сослуживца-стихотворца Коваленкова, был судим и арестован на Северном фронте за необдуманно откровенные речи, но тот же Федор Левин, когда Ермилов выступил в "Правде" со статьей, уничтожающей пьесу "Если верить пифагорейцам", сказал Гроссману: "Поручили бы это мне, я написал бы мягче, деликатней", - так удивительно ли, что с тех пор Гроссман стал смотреть на него "угрюмо и грозно".
Был у Гроссмана приятель-поклонник Осип Черный. Он был Гроссману по душе не только как поклонник, но и как знаток музыки, которую Гроссман не столько знал, сколько любил. Однажды Черный сказал Гроссману: "Вы Веньяминчик", т. е. любимчик, тем самым объясняя невезением свое собственное положение в литературе. Гроссман ему ничего не ответил, но мне пересказал, значит, запомнил, обиделся. И вот Черный выпускает роман о музыкантах, в котором вслед за Сталиным нападает на формалистов, создающих сумбур вместо музыки, в героях романа легко угадываются прототипы Шостакович, Мясковский, Прокофьев. Эти композиторы не были близки Гроссману, он предпочитал им Моцарта или Бетховена, но Черный, лягающий их, вызвал его гнев, он и на него стал смотреть "угрюмо и грозно".
Не помню, кто рассказывал мне, что в Коктебеле в одно время с Гроссманом отдыхал Ардаматский, автор нашумевшего фашистского фельетона "Пиня из Жмеринки", напечатанного в "Крокодиле". Никто из порядочных людей не здоровался с Ардаматским, кроме Гроссмана, и на недоумение этих порядочных людей он отвечал: "Не вижу, почему Ардаматский хуже других, он такой же, как все, что же я, по-вашему, со всеми должен перестать здороваться?" - и эти слова крепко задели его собеседников.
Однажды жертвой непримиримости Гроссмана оказался я. Это было в 1948 году. На одном заседании, посвященном проблемам перевода и созванном высокой инстанцией, поэт-переводчик Л. Пеньковский выступил против Пастернака. Присутствовавший на заседании Асеев, карточный партнер Гроссмана, сказал ему, что против Пастернака выступил я: очевидно, он потому спутал меня с Пеньковским, что оба мы переводили киргизский эпос. И вот до меня дошло, что Гроссман разбушевался, вовсю меня ругает. Я перестал с ним встречаться. Прошло несколько месяцев, - и мы с Гроссманом в одном зале, нам вручают медали 800-летия Москвы. Гроссман ко мне подошел, улыбаясь. Оказалось, он уже узнал от Николая Чуковского о своей ошибке. Мы помирились, поцеловались. Я ему сказал: "Можно же было спросить у меня, как в действительности обстояло дело", а Гроссман повинно ответил: "Я поверил. Такие времена, что плохому всегда веришь".
Гроссману приятно было отношение к нему Эренбурга - внимательное, ласковое, уважительное. Гроссман ценил его талант, особенно ярко, по его мнению, выразившийся в "Хулио Хуренито", ценил его военные статьи, его образованность, превосходное знание живописи, ценил, как я заметил, то, что его хвалит писатель старше его годами, с мировой славой. Гроссман пожал плечами, когда я сказал, что Эренбург настоящий, хотя и небольшой поэт, недурной переводчик, средний прозаик и выспренне-беспринципный журналист, мое мнение показалось ему парадоксальным, бездоказательным, - за исключением последнего пункта. Однажды, где-то в начале пятидесятых, мы с Гроссманом были в гостях у Каверина, заночевали у него на даче в Переделкине, об этом узнал Эренбург, живший тогда на соседней даче у Лидина, и пригласил нас к себе. Гроссман шел к нему раздраженный, - Каверин скупо выставил водку, и вот, когда мы пришли к Эренбургу, Гроссман на него обрушился, как на борца за мир, выложил все, что он думал о его политической деятельности. Эренбург держался мужественно, оскорбительные слова Гроссмана выслушивал спокойно. Я был согласен с Гроссманом, но, признаюсь, не одобрял его поведения: со многими Гроссман рассорился, теперь рассорится с Эренбургом, который так любил его как писателя, да и как человека. Общество наше особенное, нового типа, и трудно, порой невозможно в обществе нового типа жить с людьми как в прежнем, пусть несовершенном, но нормальном обществе старого типа.
Нет, Гроссман не был угрюмым, нелюдимым. Таким его сделали. Он любил веселье, шутки, дружеские беседы и застолья, карточную игру (иногда покер или преферанс длились всю ночь напролет, целыми сутками). Он был обращен к людям всей душой своей, но его доверчивость, грубо и много раз обманутая, превратилась в недоверчивость. А те, кем он был обманут и предан, чтобы как-то оправдать себя в собственных глазах, объявляли его угрюмым, грозным, нелюдимым, трудным в общежитии.
12 декабря 1984 года ему исполнилось бы 79 лет. Понятно, что большинство его сверстников ушло из жизни. Осталось в Москве лишь несколько литераторов, которые знали его. В связи с выходом в свет книги "Жизнь и судьба" интерес к нему возродился. Те, кому посчастливилось книгу прочесть, взволнованы ею и, встречая меня, говорят и о книге, и об ее авторе, - и опять: "Он был человек нелегкий, нелюдимый, обозленный". Я напоминаю им, как они избегали его в тяжкую годину, привожу постыдные для них случаи, и так как высказываюсь без злобы, улыбаясь, потому что своих собеседников не уважаю, то они на меня не обижаются. Ошибка Гроссмана, по-моему, состояла в том, что он литераторов нового типа мерил старой меркой русской интеллигенции, принимая их всерьез.
В конце 1962 года Гроссман сказал мне, что у него в моче появилась кровь. Лечащий его литфондовский врач Райский посоветовал ему обратиться к урологу, но посоветовал не настойчиво. Гроссман лечиться не любил, к урологу не пошел.
Мы оба думали, не результат ли это той невыразимо острой пищи, которой он ублажал себя в Армении. Неприятное явление прекратилось, и Гроссман успокоился. Врачи-онкологи мне потом говорили, что, если бы он не запустил болезнь, его можно было бы спасти или, по крайней мере, продлить ему жизнь на 5-6 лет.
Он как бы забыл о случившемся, много, с увлечением работал, но на здоровье иногда жаловался, что раньше было ему несвойственно. Однако, несмотря на недомогание, читал газеты, ловил "вражеские" голоса, отзывчиво и любовно следил за литературными делами своих друзей. Вот что он мне в это время написал в Малеевку:
"Дорогой Сема, получил твое письмо. Рад, что чувствуешь себя лучше. Рад, что твое стихотворение наконец опубликовано в "Литер[атурной] газете". Неожиданно ли это для тебя? Ведь перед отъездом ты говорил мне, что редакция решила не публиковать этих стихов. Так или иначе - очень рад этому, девятому, по-моему, из опубликованных твоих стихотворений. Рад, что ты гуляешь сам с собой и сообщаешь, что "такой спутник мне никогда не может наскучить". Как бывает тяжел этот спутник, как мучительно бывает общение с ним. Помнишь "...читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью". Ох, уж этот нескучный, он человек обоюдный, как с ним поведешь себя. У меня совершенно нет нового, - "тишина немая и не слышно лая псов сторожевых". Кстати, Катя * рассказала мне, что Диккенс (она сейчас переводит его письма) разошелся с женой, когда у них было 10 детей. Пишу это без страха вызвать в ком-либо опасные мысли по этому случаю, так как знаю, что заразительны лишь дурные примеры..."
Письмо от 4 февраля 1963 года:
"...Меня очень порадовала заметка-статейка Дорофеева ** о тебе. Прочел ее несколько раз. Лучше не напишешь. Все вспоминаю, как ты часто повторял: "Хоть бы 5 строчек за 30 лет". Ну вот, наконец, и пришли эти строчки. Мне кажется, что они много помогут и в издательских делах, хотя, конечно, особого оптимизма проявлять не следует. Но есть в них и нечто большее, чем практическое их приложение, они хороши и важны сами по себе, важны в первую очередь для тебя, а не только для тех, кто прочтет их. И потому-то я радовался, читая и перечитывая их. Между прочим, я подумал, что в газете можно опубликовать отрывок из поэмы, если всю целиком они не решат дать...
Гехту *** лучше, температура упала, врачи настроены оптимистически. Гехт стал проявлять интерес к внешнему миру, просил газеты. Но опасность еще не прошла полностью.
* Дочь Гроссмана.
** Я впервые в жизни читал на совместном заседании секций поэтов и переводчиков собственные стихи. Об этом "Литературная газета" опубликовала сочувственную заметку.
*** С. Г. Гехт - наш приятель, о котором я писал выше. Ему сделали операцию аденомы, но сказались восемь лет лагерей, он сильно ослабел, вскоре после операции умер в больнице.
У меня ничего нового нет, молчавшие продолжают молчать..."
Письмо от 13 февраля 1963 года:
"...Меня радует, что есть продвижение "Нестора" * в "Литер[атурной] России". Но, конечно, еще много, много препятствий впереди. Как со сборником - ты не написал мне, как Слуцкий ** отнесся к нему и какой ему предсказывает гороскоп? Почему ты не пишешь, кто в Малеевке, мне всегда интересно читать твои перечисления с комментариями.
О своих делах не пишу, так как ничего значительного ни со знаком плюс, ни со знаком минус не произошло. Даже Анна Самойловна как-то неопределенно разок позвонила и сказала, что пока рассказа не возьмет, повременит. Меня это немного удивило, ведь прочесть его она во всяком случае могла, независимо от редакционной ситуации.
Березко *** не подает признаков жизни.
"Сам себя" чувствую не очень хорошо, вновь подскочило давление. Был у меня вчера Райский - дон Померанцо все пишет и пишет".
Письмо от 21 февраля 1963 года:
"...Катя **** приехала вчера из Ленинграда. Там дело совсем плохо, у мужа ее сестры оказался рак, от операции врачи отказались, считают, что ничего не даст, его выписали из больницы. Представь, он сам хирург-онколог, но не понимает, что болен раком. Новости все такие печальные. Когда люди стареют, им кажется, что весь мир полон гипертонии, склероза, злокачественных опухолей, стенокардии. А было нам по двадцать лет, и казалось, что ничего, кроме триппера, нет на белом свете.
* Речь идет о моей поэме "Нестор и Сария". "Литературная Россия" собиралась было ее напечатать, но после выступления Хрущева на выставке в Манеже ее отклонила. Поэма впервые напечатана в журнале "Время и мы".
** Поэт Б. А. Слуцкий решил отнести сборник моих стихотворений в издательство "Советский писатель". Этот первый мой сборник "Очевидец" вышел в 1967 году.
*** Г. С. Березко, литератор, впоследствии председатель комиссии по литературному наследству Гроссмана.
**** Е. В. Заболоцкая.
Анна Самойловна взяла рассказ у меня - шансов нет, мне кажется. Этот жанр определяется - для "редакционного чтения".
Пиши, когда приедешь. Тебе что, катаешься, как датский сыр в вологодском масле, кругом астрономы да Соколовы-Микитовы..."
В апреле дурные симптомы повторились. Врачи решили уложить Гроссмана в больницу. Накануне майских праздников его устроили в Боткинскую, в палату на двоих. Его соседом был политический обозреватель "Правды" Маринин, чуждый Гроссману, но отвлекавший его от тяжелых мыслей интересной информацией. Оперировать Гроссмана должен был опытный хирург-уролог Гудынский. Врач нам сказал, что болезнь запущена - рак почки, что он удалит почку, но не уверен, что нет метастазов. Перед операцией Гроссман чувствовал себя неплохо. Мы каждый день сидели на лавочке в больничном садике, Василий Семенович был какой-то тихий, примиренный. Раздражали его только больные, их грубость, пустые разговоры, чавканье за столом, - в общем, он уже не смотрел на таких людей, как раньше, "превозмогая обожанье".
Мы ему сказали, что у него нефрит, вещь неприятная, но не опасная, почка не действует, придется ее удалить. Он слушал настороженно, но верил, по крайней мере, мне показалось, что он нам верил. Посещали его Ольга Михайловна, Е. В. Заболоцкая, писатель А. Г. Письменный, дочь Катя. Один раз пришла приехавшая из Харькова в Москву первая его жена, Галина Петровна, он был этим недоволен.
Операция прошла благополучно. Гудынский сказал: "Может быть, обойдется". Через несколько дней я должен был срочно вылететь на две недели в Душанбе, я договорился с Е. В. Заболоцкой, что она мне будет подробно писать. Вот ее письмо от 11 мая 1963 года:
"...Васе разрешили встать на ноги, сделать несколько шагов и сесть в кресло. И сегодня его выкупали в ванне. Рассказывает, что в ванне он испытал блаженство, хотя очень боялся купаться. Вечером, при мне, он продемонстрировал все свои достижения: прошел по палате к окну и, сидя в кресле, поужинал. Передвигается он медленно, с трудом, но старается без поддержки. Стало видно, как он похудел и какой у него плохой цвет кожи.
Девятого у него были три дамы - Анна Самойловна, Мариам Наумовна * и Асмик, - говорят, сильно шумели, обсуждали редакционные новости и сильно утомили его. Десятого долго не делали перевязку, и перевязка была в плохом состоянии. Вася говорит, что по лицам врачей он видит, что им не нравится его рана. По-прежнему из нее много выделений. Говорят, что теперь, когда он сможет сидеть и немного ходить, кровообращение станет лучше и все будет заметно улучшаться.
* M. H. Черневич, переводчица с французского.
Объективно как будто все лучше, но он стал еще печальней, подавленней. Сегодня, когда впервые после операции подошел к окну, сказал: "Подошел вдохнуть воздух и посмотреть в окна онкологического института" *.
* Онкологический институт им. П. А. Герцена, рядом с Боткинской больницей.
Вася просил передать Вам сердечный привет. Мы собирались вместе писать Вам, но сегодня он так устал от путешествий, что не смог даже продиктовать несколько фраз..."
Из письма Е. В.Заболоцкой от 16 мая 1963 года:
"Дорогой Сема, пишет Вам бабушка. Внучка родилась вчера в 10 ч. 50...
У Васи все хорошо, и, кажется, дело идет на поправку. Он выходит на улицу. Спускают и поднимают его на лифте, а ходит один без поддержки. Я застала его сидящим на скамейке на улице. Настроение у него получше, хотя говорит, что ничто его не радует - ни весна, ни зелень, которую он так хотел увидеть..."
После выписки из больницы Гроссман заметно окреп. К нему вернулся хороший цвет лица. Можно было бы радоваться, если бы не знать о грозящей ему опасности. Мы каждый день гуляли вдвоем недалеко от дома, иногда по влечению, свойственному обоим, садились в трамвай и проделывали весь маршрут его длинный от начала до конца, наблюдая меняющихся пассажиров. Если против него сидели дети на руках у матерей, Гроссман строил им рожицы, и дети смеялись. А иногда мы в такси отправлялись к речному вокзалу, сидели в парке, любовались рекой, пароходами. Со слезами в голосе он мне рассказывал, что молодой писатель Овидий Горчаков пришел к Гудынскому, предлагал для Гроссмана свою почку.
Кажется, в августе он прочел мне окончательный вариант повести "Все течет", - все эти месяцы, выйдя из больницы, над ней работал. Я уверен, что "Все течет" - новое слово в русской прозе. Ее незавершенность кажущаяся. Соединение художественных страниц с публицистикой - результат обдуманного решения, а не поспешности, как полагают некоторые. Гроссман в этой повести рассказал о том, о чем до него никто не писал. Я никогда не видел ее напечатанную. Прототипы ее главных героев мне хорошо известны.
Ранней осенью с помощью Литфонда устроили Гроссмана в военном подмосковном санатории Архангельское. Он мне писал оттуда 11 сентября 1963 года:
"Здравствуй, дорогой Сема!
Вот я пишу тебе из санатория Архангельское, сидя в отдельной, не проходной комнате. Санаторий хороший, богатый, природы очень много, и вся она красивая - парк старинный, с огромными деревьями, под обрывом Москва-река. К красоте природы относятся кино и бильярд, а особенно столовая.
Знакомых не видно, дух воинский, от коего я отвык с осени 1945 года. В первый же день очень много гулял, хороши на фоне зелени мраморные статуи античные. Прелестна фигура 22-летней Юсуповой умершей - работы Антокольского. Куда Павлу * до дзядзи... Уехал из Москвы в плохом, тяжелом настроении..."
Из письма от 16 сентября 1963 года:
"...Я тебе дважды звонил (отсюда можно, сюда нельзя), в пятницу, но телефон молчал...
Погода, к сожалению, день ото дня портится, немного донимает меня астма - вероятно, от сырости, большого количества зелени. Но не страшно, да и врачей тут много - медицина сильная... Хожу тут каждый вечер в кино, знакомых нет. Тут отдыхает Яблочкина **. Не развлечься ли, не поухаживать за актрисой? Звонил Анне Самойловне, в "Неделе" меня похоронили, видимо..."
* Поэт П. Г. Антокольский, племянник скульптора.
** А. А. Яблочкиной было в то время 97 лет.
Из последнего письма ко мне - от 6 октября 1963 года:
"...Чувствую себя лучше, окреп, астма почти не тревожит в последние дни, похудел на 2 кило. Через 2-3 дня отправлюсь к Гудынскому. Отвык от больницы, и она стала пугать меня..."
Но в больницу он лег не сразу после санатория, а в начале зимы. Он стал очень плох, видно было, что не жилец. Причины раковых заболеваний мало исследованы, но нельзя игнорировать одну: тяжелое нервное потрясение. Не сомневаюсь, что он заболел оттого, что арестовали "Жизнь и судьбу". Он мог бы жить долго. Его отец умер, когда ему было за восемьдесят. В расцвете творческих сил Гроссман был выброшен, извергнут из литературного процесса. Накануне войны такая же судьба постигла другого корифея русской литературы - Михаила Булгакова. Истории болезни у них разные, а болезнь одна и та же. Вспомним, что и у Булгакова арестовали "Собачье сердце".
И вот Гроссман опять в Боткинской больнице. На этот раз он один в палате, а палата узкая, длинная, как гроб. Оперировать не стали: у больного нашли рак легкого. Дальнейшее его пребывание в больнице врачи сочли бессмысленным. Один из них сказал: "Пусть умрет в домашней обстановке".
Наступили тоскливые месяцы. Гроссман пробовал работать, читать. Он стал угрюм, раздражителен, уже не верил нашему обману, что поправится. Узнали мы, что в Баку имеется лекарство - какое-то производное от нефти, которое исцеляет от рака легкого. Через руководителя азербайджанских писателей Имрана Касумова удалось достать это лекарство. Гроссман стал его принимать под наблюдением врача, - улучшения оно не дало. Заговорили о другом лекарстве, французском, тоже якобы чудодейственном. Оказалось, что немного его есть у Лили Брик. Она была знакома с Гроссманом, поделилась с ним заграничным снадобьем, но и оно не помогло. Профессор-консультант литфондовской поликлиники предложил попытаться лечить Гроссмана с помощью химиотерапии, для чего применялось экспериментальное лекарство, изобретенное профессором Эмануэлем.
Корпус химиотерапии представлял собою одноэтажное деревянное здание, расположенное на задворках первой Градской больницы. Гроссмана поместили в отдельной палате, за стеной лежал поэт Светлов, тоже умиравший от рака. Светлова навещали ежедневно десятки людей, было лето, многие из них дожидались очереди во дворе. К Гроссману приходило несколько человек - одни и те же. Он лежал на высокой кровати, слушал посетителей, старавшихся развлечь его всякими новостями, а в глазах его светился один вопрос: "Буду ли жить?" А он хотел жить, он опять стал верить нашему обману, что врачи обещают хороший исход.
Однажды, когда мы с ним остались наедине, он показал мне маленькую таблетку и спросил с безнадежной улыбкой: "Ну скажи, разве такая крохотуля может спасти человека?" Тогда я вынул из кармана стекляшку с нитроглицерином, высыпал на ладонь таблеточку и сказал: "Посмотри, эта еще меньше, а меня она спасает", - и я почувствовал, что мне удалось хотя бы на минуту успокоить Гроссмана, убедить его в пользе лечения, потому что он хотел, чтобы его убедили, хотел жить.
Беда не приходит одна. В это же время заболела раком моя мать. Ее положили в Яузскую больницу по Ярославской железной дороге. Приходилось делать большие концы от одной больницы до другой. Гроссман спрашивал о моей матери, но как-то безучастно, внешний мир отделялся от него. Седьмого августа мы похоронили мою маму на Востряковском кладбище. Е. В. Заболоцкую поразила суровость еврейского обряда омовения покойницы (мужчины при этом не присутствуют). Екатерина Васильевна рассказала об этом Гроссману. Он слушал внимательно, но думал о своем.
Он скончался в ночь на 15 сентября 1964 года.
Начались похоронные хлопоты. Писателей у нас хоронят по шести (я сосчитал) разрядам. Первый, самый высший: с усопшим прощаются целыми делегациями в Колонном зале Дома Союзов. Так хоронили Фадеева. Разряд последний, шестой: гроб стоит в доме покойника (так хоронили в Переделкине Пастернака) или - еще хуже - в больнице (так возле морга больницы им. Склифосовского говорились речи над гробом А. Ахматовой). Гражданскую панихиду по Гроссману, как и по Платонову, провели - таково было решение по пятому, предпоследнему разряду: в одной из больших комнат Союза писателей. Но и этого надо было добиваться: Союз писателей определяет не только обстоятельства жизни, но и обстоятельства смерти своих членов. Дать или не дать объявление о смерти в "Вечерней Москве"? Дать или не дать некролог в "Литературной газете"? И каких размеров? И какой тональности? С портретом или без портрета? Со статьей видного писателя под некрологом или без такой статьи? Кому выступить на гражданской панихиде? На каком кладбище - по степени могильной престижности - хоронить? Например, на Немецком кладбище теперь хоронят только тех писателей, которые 50 лет пробыли в рядах КПСС. Все надо тщательно обсудить, а в особых случаях посоветоваться с вышестоящими инстанциями.
Конечно, это суета сует, бесчувственному телу все равно где истлевать, но человек так устроен, что ему - живому - нужна такая суета сует, чтобы утихла боль утраты.
Хлопоты легли на меня. Союз писателей представляет собой министерство, и доступ к тем, кто все решает, не так-то прост. Я по старой памяти обратился за помощью к Николаю Чуковскому, который к тому времени высоко взобрался по бюрократической лестнице. Он сразу согласился мне помочь и повел меня к Тевекеляну. Не помню, кем был Тевекелян, то ли одним из секретарей московской писательской организации, то ли ее главным партийным. Будучи человеком восточным, он в отличие от русского на его месте умел казаться приветливым, сердечным, но я неплохо знал Восток.
С первых слов моего прежнего товарища в кабинете Тевекеляна я понял, что мне от Николая будет мало толку. Он сказал: "Видите ли, в последнее время я с Василием Семеновичем не встречался, мы разошлись", - и Тевекелян ответил с одобрением в голосе: "Да, да, я вас понимаю".
Я представил список писателей, выразивших согласие произнести речь на панихиде: Эренбург, Паустовский, Каверин. "А вы?" - спросил Тевекелян, обращаясь к Николаю Чуковскому. Тот отказался. Тевекелян не настаивал. Записав три фамилии, он мне сказал: "Мы подумаем, а по остальным вопросам обратитесь к Воронкову, я ему позвоню, чтобы он сейчас же вас принял".
Воронков был оргсекретарем Правления так называемого Большого Союза. Я отправился к нему один. Николай сказал мне, что он больше мне не нужен. И был прав. Воронков - важный, вернее, важничающий, чиновник - принял меня сухо, но я знал, что приветливость Тевекеляна равняется сухости Воронкова. Я положил на стол некролог, составленный мной и Эренбургом. "Оставьте, мы отредактируем и пошлем в "Литературную газету"", - сказал Воронков. Я спросил: "Неужели Эренбурга надо в этом случае редактировать?" - "Его-то и надо", - отрезал Воронков и улыбнулся беззлобно. И я еще раз понял, что все эти функционеры, в сущности, крепостные актеры, играют каждый свою роль, чтобы умилостивить господина, а не то - под ярем барщины, на скотный двор. Понял и то, что под этими гольдониевскими масками надо искать человеческие черты.
На другой день рано утром мне позвонил Тевекелян, сказал, что гражданская панихида состоится в конференц-зале Союза писателей, что выступать будут Евгений Воробьев, Эренбург и Александр Бек, что в крематории могу выступить я, но я должен свою речь написать и предварительно показать ему, Тевекеляну, что отредактированный некролог уже отправлен в "Литературную газету" и в "Советскую культуру", что я должен принести как можно скорее портрет Гроссмана и текст своего выступления, что вопрос о кладбище будет решен позднее, это не к спеху, поскольку речь идет об урне. Я спросил, все ли должны принести ему тексты своих выступлений. Тевекелян не ответил, сказал: "Жду вас к двенадцати".
Я набросал текст своей речи, заехал к Ольге Михайловне за фотоснимком, отправился к Тевекеляну. Хотя я явился в назначенный час, Тевекеляна не было, его секретарша сказала, что она в курсе дела, фото Гроссмана надо оставить ей, о тексте моего выступления - ни слова.
На гражданскую панихиду пришло, на глаз, около ста человек, все больше литераторы и их жены, читателей было мало. Евгений Воробьев (книг его я не знаю) говорил сердечно, взволнованно. Чувствовалось, что он любит и почитает Гроссмана. Умную, серьезную речь произнес Эренбург. Он поставил Гроссмана в один ряд с крупнейшими писателями России. Он честно признал, что Гроссман в последние годы относился к нему крайне критически, перестал с ним встречаться. "В некрологе, - сказал Эренбург, - напечатано, что лучшие произведения Гроссмана останутся достоянием советского читателя. Но кто возьмет на себя право определять, какие произведения - лучшие?" Все поняли, что имел в виду Эренбург.
Речь талантливого Александра Бека произвела на меня и на друзей Гроссмана неприятное впечатление. Он крутил. Более того, как бы подмигивал слушателям: мол, смотрите, кручу. Он хотел сказать то, что думал о Гроссмане, а думал он о нем высоко и в то же время боялся, трепетал. Он как бы задним числом обелял покойника в глазах незримого руководства, забыв, что мертвому это уже не нужно. Литературное начальство представлял один Тевекелян, он же поехал с нами в крематорий, простые люди - в двух автобусах, - он в персональной машине.
В крематории я читал речь, как мне было велено, по записи. Среди прочего я сказал следующее: "Мы, читатели Гроссмана, уверены, что в ближайшее время будут изданы все его сочинения, как уже опубликованные, так и пока еще не опубликованные". Когда я произнес эти слова, Тевекелян при всеобщем молчании покинул зал крематория.
Родственники Гроссмана, Е. В. Заболоцкая и я хотели захоронить урну с пеплом на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой отца Гроссмана, близко от Беговой, где Гроссман жил долгие годы, близко от центра Москвы. Но Ольга Михайловна настаивала - и упорно - на Новодевичьем, самом престижном кладбище страны. Там похоронили Михаила Светлова, умершего почти в одно время с Гроссманом, и она хотела той же участи для останков своего мужа. Союз писателей отказался ходатайствовать о Новодевичьем: не положено.
В Москве на посту заместителя председателя Верховного Совета РСФСР находился кабардинский поэт Алим Кешоков, стихи которого я переводил. Впоследствии, в качестве главы Литфонда, он исключил меня и мою жену, поэтессу И. Л. Лиснянскую, из этой крайне полезной организации.
Но тогда мы с Кешоковым были в добрых отношениях, и с его высокопоставленной помощью удалось добиться разрешения захоронить урну с прахом Гроссмана на Троекуровском кладбище, за Кунцевом. И название звучное, и кладбище многозеленое, оно было задумано как филиал Новодевичьего. Там и стоит теперь гранитный бюст Гроссмана работы скульптора Письменного (сына писателя).
Рядом с Гроссманом покоятся Светлов (другой, не Михаил - цыганский писатель) и мать бывшего министра МВД Тикунова.
Доступ к Троекуровскому труден, автобус к нему идет от станции метро "Кунцево" нечасто и нерегулярно, в последние годы кладбище решили законсервировать, филиалом Новодевичьего стало находящееся поблизости Ново-Кунцевское кладбище, а Троекуровское запущено, там никого не хоронят. Безмолвный городок мертвых, редко посещаемый живыми. Читатели не знают, где лежит Гроссман...
По решению руководства московского отделения Союза писателей в комиссию по литературному наследству Гроссмана вошли Георгий Березко (председатель), Твардовский, Борис Галин, Александр Письменный, Миральда Козлова (от ЦГАЛИ), Ольга Михайловна и я. Предложили было председательское место Твардовскому, мы этого горячо желали, много значила бы его подпись под различными ходатайствами, но Твардовский, согласившись стать членом комиссии, от председательствования отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора "Нового мира". Кандидатуры Эренбурга и Паустовского, выдвинутые нами, были отклонены писательским руководством.
Березко имел те основания возглавить комиссию, что был хорошо знаком с Гроссманом, ценил и любил его талант, Гроссман посещал с ним рестораны, ему импонировали светскость и непринужденность Березко в этих славных учреждениях. Однажды в машине приятельницы Березко мы поехали в Ясную Поляну, и Березко сказал у могилы Толстого: "У меня сейчас такое чувство, будто я целую край гвардейского знамени". К его литературной деятельности Гроссман относился насмешливо, но добродушно.
Поначалу комиссия работала довольно слаженно, даже энергично, особенно если вспомнить, что мы занимались литературным наследием автора арестованного романа. Что нам удалось? Опубликовать в журналах несколько рассказов Гроссмана, его дневниковые записи военных лет, "Добро вам" - увы, в искаженном виде. Не удалось главное: издать пятитомное собрание сочинений, изъять из Лубянки и передать в ЦГАЛИ "Жизнь и судьбу".
Мы решили просить сталинградское (волгоградское) начальство о присвоении имени Гроссмана, как храброго участника великой битвы, одной из улиц или библиотек города, решили для этой цели отправить меня в Волгоград. Союз писателей не одобрил, видимо, решения комиссии, отказался оплатить командировку, я поехал за свой счет, добился приема у секретаря обкома по пропаганде Небензи, он знал произведения Гроссмана, обещал подумать о присвоении имени писателя одной из новооткрывающихся библиотек, но, видимо, хорошенько подумав, с кем надо посоветовавшись, отцы города отказались от этого намерения.
Большой урон нашей комиссии нанесли две смерти: Твардовского и Письменного, людей разной степени литературной авторитетности, но одинаково порядочных. То, что их не стало, я особенно остро почувствовал в один памятный день, когда мы собрались на очередное заседание в маленькой комнатке Дома литераторов. Я не могу сказать о себе, что отличаюсь интуицией, электрической силой предчувствия, во всех обстоятельствах жизни предпочитаю опираться на факты, но в тот день, пока мы рассаживались, в воздухе чудились отрицательные ионы, которые прыгали от Березко и Галина. Наконец Березко высказался, нервно и неуверенно, больше чем обычно заикаясь: "В моей голове не укладывается, - сказал он, - что писатель-патриот, каким я всегда считал Гроссмана, написал грязную, враждебную нам повесть "Все течет", теперь изданную за рубежом и прославляемую всяким охвостьем. Я предлагаю поместить от имени всей нашей комиссии письмо в "Литературной газете", в котором мы должны с гражданственным гневом осудить и самого Гроссмана, и буржуазных писак, его хвалителей, заявить, что считаем нашу комиссию распущенной". Галин присоединился к предложению Березко, тоже выразил недоумение - как это Гроссман, создавший нужные нашему народу произведения, написал клеветническую повесть, и добавил с надеждой, обратившись ко мне: "Может быть, не Гроссман ее написал? Вы читали?" Я ответил вопросом: "А вы читали? А вы, Георгий Сергеевич, читали?" Березко и Галин молчали, видно было, что они здорово напуганы.
Я спросил у Березко, получил ли он указания о письме в "Литературную газету" и о самороспуске нашей комиссии от секретариата московского отделения Союза писателей, в частности от секретаря по оргвопросам В. Н. Ильина. Выяснилось, что такого указания не было, Березко и Галин стремились опередить события, они были, как любил выражаться Платонов, забегальщиками. "Ярость к врагам, - признался Березко, - не нуждается в указке".
Я сказал, что, как учит нас Лебедев-Кумач, пусть ярость благородная вскипает, как волна, однако я не понимаю тех, кто рассуждает о произведении, даже не прочитав его, что решение о роспуске нашей комиссии должно исходить от секретариата, а, поскольку этого нет, мы обязаны спокойно продолжать работу, порученную нам секретариатом, - заниматься изданием и популяризацией литературного наследия Гроссмана.
Неожиданно меня поддержала сотрудница ЦГАЛИ Миральда Козлова. Я давно заметил, что она, как многие деятели такого рода, высказывается всегда толково, чуждается демагогии. Она сказала, что опубликование в "Литературной газете" предлагаемого Березко письма будет только на руку врагам, что мы должны сохранить Гроссмана как советского писателя, не отдавать его нашим недоброжелателям. Там, за рубежом, считают, что "Все течет" есть вторая часть романа, и пусть продолжают так считать, хорошо, что ничего они не знают, пусть треплются.
Мы разошлись, не приняв никакого решения, но с того дня наши заседания прекратились. Березко понимал, что поступил гадко. Встретив однажды меня, он спросил: "Вы не подадите мне руки?" Я подал ему руку. Ничтожный, слабый, он мог бы в другом обществе быть приличным человеком. Комиссия наша распалась сама по себе, без указания сверху: Березко и Галин умерли, я вышел из Союза писателей.
Произведения Гроссмана перестали издаваться. Его имя все реже, нехотя упоминалось в печати. Угасал читательский интерес к его книгам: ведь читатели читают то, что им дают. И вдруг приходит весть, что после многих лет заточения роман вырвался на свободу, что отдельные его главы напечатаны то в том, то в другом журнале. А полностью? Идут годы, о полном издании романа ничего не слыхать. Молчат и радиоголоса. Знающие люди объясняют: роман большой, а капитализм есть капитализм, трудно найти издателя, пожелавшего рискнуть - вложить деньги в предприятие, не сулящее скорой прибыли. К тому же не каждому издательскому рецензенту роман может понравиться. Не завораживает никого и имя Гроссмана, даже на родине постепенно утратившее свою громкость.
Что думал по этому поводу я? Горькими были мои думы. Судьба романа Гроссмана как была связана с его жизнью, так и осталась связана с его смертью. Если такое великое произведение, как "Жизнь и судьба", десятилетиями томившееся в темнице, не может выйти к читателю на Западе, то Запад достоин слез и смеха, уважать его нельзя.
Я ошибался. Я забыл булгаковское правило - удивляться не тому, что трамваи не ходют, а тому, что трамваи ходют. И медленно, не сразу, мне на удивление, трамвай пошел. Умные, даровитые люди, всем сердцем любящие родную литературу, посреди трудностей своего эмигрантского бытия не пожалели усилий, чтобы найти бескорыстного издателя для Гроссмана и, найдя его, со всей мыслимой в таких необычных условиях тщательностью подготовить книгу к печати, книгу, израненную на долгом и тяжком пути от неволи к воле.
И вот роман напечатан. Пусть радиоголоса о нем не говорят или говорят скороговоркой и, кажется, нет понимания того, что произошло важное событие в духовной жизни России - изгнанной и неизгнанной, - время направлено в сторону правды, все станет, верил я, на свои места. Как чудно сказал один второстепенный русский поэт, Бог не устал, Бог шествует вперед. Пусть с продолжительными, внезапными задержками, а трамвай ходит. Наконец он дошел до нас.
Разумеется, немногие на родине попали на его подножку, немногим удалось прочесть "Жизнь и судьбу", но из тех, кому это удалось, никто, насколько я знаю, не остался равнодушным к книге, ее художественную силу, величавость ее красоты, ее русскую боль, ее русскую правду приняли в свою душу все.
Запад есть Запад, он не торопился с переводом книги на языки своих наций. Да и то сказать, книга большая, в ней свыше сорока печатных листов, и повествует она о событиях сорокалетней давности, поневоле задумается издатель.
И все же книгу перевели, и прежде всего - на язык вечного романа, на французский. Говорят, во Франции она стала бестселлером. Какое счастье, какое возвышающее нас счастье! Когда я узнал об этом, сердце мое, больное мое сердце забилось по-молодому, и слезы на глазах загорелись не старческие, а молодые, счастливые. Неужели мой друг оттуда, из элизиума, не видит, не радуется вольной поступи своего детища?
Вспоминается полное поэтической мысли, удивительное место из его романа:
"Сталинград перестал жить своей обычной жизнью - в нем умерли школы, заводские цехи, ателье дамского платья, самодеятельные ансамбли, городская милиция, ясли, кинотеатры... В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город - Сталинград войны... Каждая эпоха имеет свой мировой город он ее душа, ее воля. Вторая мировая война была эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград... Мировой город отличается от других городов тем, что у него есть душа. И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода".
Таков, скажем и мы, Сталинград Василия Гроссмана, такова сияющая многоцветным огнепадом победа Гроссмана над духовно поверженным злом, победа свободы.
Соплеменники Стендаля и Бальзака, Флобера и Пруста хорошо понимают, что такое роман. И стоит прислушаться к французским критикам, когда они свои статьи, посвященные "Жизни и судьбе", озаглавливают так: ""Война и мир" нашего времени", или "Великий русский роман", или "Роман, продолжающий великие русские традиции", или "Титан в сердцевине тьмы". Поразительные слова нашел Петру Думитриу, видимо, верующий католик. Он так глубоко проник в самую суть Гроссмана, что излишне спорить со второстепенными частностями. Читатель должен узнать эти поразительные слова, пусть в необработанном переводе:
"Гроссман писатель и ученый по натуре. Есть великий, потрясающий миг в духовной жизни человека науки: восторг перед грандиозным внутренним миром материи и одновременно перед загадочным соответствием между духом человеческим и таинственной реальностью Вселенной.
Тут Гроссман останавливается. Его герои тоже. Они - на пороге молитвы. Всего лишь один шаг остался на пути потрясающего восторга перед двойной тайной - тайной познания бездонной рациональности мира и тайной Бога, который есть Слово-Смысл, Логос, Бог-сын Иисус Христос. Всего лишь один шаг остался, но Гроссман этого не ведает.
Крайне важна рукопись Иконникова. Это - заповедь, философия Гроссмана. Скажем кратко: человеческая доброта, подземная, инстинктивная, слепая, непреодолимая. Христиане знают, что это адаре, на иврите - ахава, Любовь Бога, Любовь Христа, который сам есть не что иное, как Любовь, эта Любовь присуща человеку с первого дня творения.
Гроссман-Иконников не называет эту Любовь по имени. Хотя он еврей и русский, он слишком долго был марксистом-ленинцем, слишком долго был слепым... Невежество, предрассудки, глухота мысли. Он так и не узнал ни Христа, ни даже Будды, и еще меньше - их воплощение в миллиардах людей, следующих за ними. Однако я надеюсь, что Христос сжалится надо мной и простит мне, если я осмелюсь сказать: Гроссман был недалеко от Царства Божия".
Эти слова принадлежат человеку, который лично не знал Гроссмана, никогда его не видел, но постиг его сущность гораздо глубже, чем многие, видевшие и знавшие Гроссмана. В русской - да и в мировой - литературе не так-то просто найти писателя, чей нравственный идеал был бы соприроден его человеческим чертам, был бы с ним слит. Мы это не можем сказать даже о Пушкине, даже о Толстом, основателе одного из направлений христианства. В России полное слияние человеческих черт с нравственным идеалом художественных творений я нахожу только у Короленко, Чехова, Гроссмана. Но первые два жили во времена, которые кажутся нам баснословно чудными, а не теперь, когда простая житейская порядочность, вследствие своей редкости, воспринимается как нечто удивительное, сверхпрекрасное.
Может быть, поэтому и считали Гроссмана неуживчивым, угрюмым, резким, что не был он похож на своих приятелей-писателей, год за годом терявших человеческое начало (такие, как Платонов, - исключение, потому-то так трудно сложилась его судьба). Никто не требовал от писателей, чтобы они, как некогда Пушкин, написали послание заключенным во глубине сибирских руд, но как могли эти художники слова печатно заявлять о том, что надо строго покарать их собратьев, исключить, осудить, заточить, изгнать? Никто не требует от академиков, чтобы они, как некогда Чехов, протестовали против того, что преследуют их собрата, но почему они трусливо отказываются от общения с ним? Потому что они, эти художники слова, эти академики - темные, в них нет света жизни.
Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение "Живой":
Кто мы? Кочевники. Стойбище
Эти надгробья вокруг
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом - корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвой,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.
Вслед за верующим румыном я прошу у Господа простить меня, если скажу, что Гроссман был святым.
1984
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Книгу, которую читатель сейчас прочел, я написал пять лет назад, но мне кажется, что прошло не пять лет - прошла целая эпоха. Моя жизнь сложилась так, что ее, эту жизнь, новая эпоха гласности и демократии наполнила особенным светом. Я должен об этом рассказать, чтобы прояснилась загадка опубликования романа В. С. Гроссмана.
Я поместил несколько стихотворений, вполне безобидных, в машинописном альманахе "Метрополь". Авторы альманаха подверглись жестоким нападкам Союза писателей. Двух самых молодых, наименее защищенных, исключили из Союза. В знак протеста против расправы с молодыми я и моя жена, поэт Инна Лиснянская, вышли из Союза писателей.
На нас обрушилась лавина преследований. Исключили из Литературного фонда, выбросили из поликлиники (что в отношении меня было противозаконным актом, так как ветеранов войны из поликлиник не выбрасывают), перестали печатать не только наши оригинальные произведения, но и переводы, получившие в свое время высокую оценку на страницах печати. Были и другие прелести: угрозы по телефону, требования покинуть родину, посещения квартиры в наше отсутствие с нарочито оставленными следами, вызовы на комиссии, на которых с нами разговаривали компетентные лица.
В этих условиях я не мог сообщить о книге Гроссмана то, что собираюсь сделать сейчас.
Как я уже писал, Гроссман предложил "Жизнь и судьбу" журналу "Знамя" летом 1960 года. Наступила осень, а от редакции ни ответа, ни привета. Однажды, а дело уже приближалось к зиме, Е. В. Заболоцкая и я сказали Гроссману, что хорошо бы один машинописный экземпляр сохранить в безопасном месте. Гроссман внимательно, долго и хмуро посмотрел на нас и спросил:
- Вы оба опасаетесь чего-то дурного?
Не помню, что ответила Екатерина Васильевна, а я сказал примерно следующее:
- Во время войны, когда Англию бомбили немцы, Черчилль говорил в парламенте: "Худшее впереди".
- Что же ты предлагаешь?
- Дай один экземпляр мне.
Так за полгода до ареста романа в моем распоряжении оказались три - по числу частей "Жизни и судьбы" - светло-коричневые папки. Обдумав дело со всех сторон, я решил упрятать папки в одном верном мне доме, далеком от литературы.
В больничной палате, незадолго до смерти, Гроссман сказал мне и Екатерине Васильевне:
- Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан - хотя бы за рубежом.
Первые два завещания не были выполнены, потому что Ольга Михайловна хотела для мужа и панихиды в Союзе писателей, и более элитарного кладбища. Третье завещание моего друга я выполнил, хотя и не сразу.
Читатель, может быть, обратил внимание на такие строки моей книги: "Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше".
Это был упрек самому себе.
И все же в конце 1974 года я принял серьезное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да еще и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом.
Войнович охотно согласился. За тремя папками отправилась Инна Лиснянская (я благоразумно считал, что мне туда ехать не надо) и привезла их Войновичу.
Войнович решил сфотографировать машинопись. Первая попытка оказалась неудачной. Но Войнович, как всегда, был настойчив, попытку повторил. Позднее я узнал, что он прибег к помощи Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахарова.
Роман вырвался из оков.
Впоследствии, когда роман был издан на русском языке, выяснилось, что по техническим причинам оказались пропуски - иногда отдельных слов, фраз, иногда целых страниц. Пропуски эти - результат несовершенных фотоснимков и ни в коем случае не касались идейного содержания романа.
Пять лет зарубежные издатели русской литературы отказывались опубликовать "Жизнь и судьбу", - как мне стало известно, потому, что, по их мнению, роман о второй мировой войне теперешним читателям будет неинтересен, а о лагерях уже написал Солженицын. Наконец владелец швейцарского некоммерческого издательства "L'Age d'Homme" ("Возраст человека") опубликовал роман на русском языке небольшим тиражом.
Не сразу роман привлек к себе внимание переводчиков и книгоиздателей на европейских языках. Пионерами, как я уже писал, оказались французы. Потом, после небывалого успеха книги во Франции, появились переводы на английском, немецком языках и, кажется, на испанском.
Редактор журнала "Октябрь" А. А. Ананьев, ознакомившись с романом, увидел, что книга эта великая. С необычайной смелостью, я бы сказал, с литературной дерзостью он решил напечатать "Жизнь и судьбу" в своем журнале. Благодаря А. А. Ананьеву книга Гроссмана стала национальным достоянием советских читателей.
Будучи членом новосозданной комиссии по литературному наследию Василия Гроссмана, я сдал А. А. Ананьеву как председателю комиссии все три папки. Теперь читатель получит уже полюбившееся ему произведение без пропусков.
Недавно, 12 декабря прошлого года, когда мы в семье Гроссмана отмечали день его рождения, я узнал, что черновик романа Гроссман отдал своему другу (ставшему и моим другом) В. И. Лободе. Мне неизвестно, как и когда это произошло, Гроссман об этом мне не сказал - и правильно сделал. В те годы человек не должен был знать больше того, что ему знать полагалось.
Я увидел этот черновик: машинопись, густо исправленная хорошо знакомым мне мелким почерком. Сопоставление некоторых - на выбор - страниц с сохраненным мною беловиком показывает, что черновик окончательный.
9.1.1989
С. Липкин




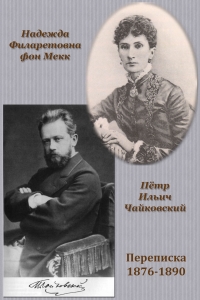


Комментарии к книге «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», Семен Израилевич Липкин
Всего 0 комментариев