Исаак Дойчер Троцкий. Изгнанный пророк. 1929–1940
ПРЕДИСЛОВИЕ
Этой книгой завершается моя трилогия о Троцком, и здесь речь идет о катастрофической развязке его драмы. В развязке главное действующее лицо трагедии обычно является более объектом действия, чем действует само. И все-таки Троцкий оставался активным и воюющим антагонистом Сталина до своего конца. Все эти двенадцать лет, с 1929-го по 1940-й, в СССР никто не мог поднять голос против Сталина; и даже нельзя было услышать никаких отголосков яростной прежде борьбы, кроме унизительных покаяний, к которым были принуждены столь многие противники Сталина. Троцкий практически в одиночку противостоял сталинской деспотии. Гигантский исторический конфликт словно спрессовался в дискуссию и междоусобицу между ними. Биограф обязан показать, как это произошло, и внимательно изучить обстоятельства и отношения, которые, позволяя Сталину «величественно выступать в одеяниях героя», превратили Троцкого в символ и единственный рупор оппозиции сталинизму.
По этой причине наряду с фактами из жизни Троцкого я обязан описать титанические общественные и политические события того периода: сумятицу индустриализации и коллективизации в СССР и великие репрессии; крушение германского и европейского рабочего движения под натиском нацизма и развязывание Второй мировой войны. Каждое из этих событий повлияло на судьбу Троцкого, и по каждому из них он занимал позицию в противовес Сталину. Я был обязан тщательно рассмотреть основные противоречия того времени, потому что в жизни Троцкого идеологический спор так же важен, как и сцена битвы в трагедии Шекспира: через нее раскрывается характер главного героя, пока он движется к катастрофе.
Более, чем когда-либо, я обращал внимание в этой книге на частную жизнь моего героя и особенно на судьбу его семьи. Вновь и вновь читателю придется переносить внимание с политического повествования на то, что считается «человеческой историей» (как будто общественная деятельность не является самой человеческой из всех видов нашей деятельности и как будто политика не есть сама по себе человеческая активность). На этом этапе жизнь семьи Троцкого неотделима от его политической судьбы: она придает его борьбе новое измерение и добавляет мрачную глубину его драме. Здесь на основе личной переписки Троцкого с женой и детьми, к которой мне повезло обрести неограниченный доступ, впервые воссоздается их странная и трогательная история. (За это я обязан щедрости покойной Натальи Седовой, которая за два года до своей кончины попросила библиотекарей Гарвардского университета открыть для меня так называемую закрытую секцию архивов ее мужа — секцию, которая по его завещанию оставалась закрытой до 1980 года.)
Мне хотелось бы кратко прокомментировать политический контекст создания этой биографии. Когда в конце 1949 года я начал над ней работать, официальная Москва с беспрецедентным в современной истории раболепием праздновала семидесятилетний юбилей Сталина, и имя Троцкого, казалось, было навсегда погружено в клевету и забвение. Я опубликовал книгу «Вооруженный пророк» и работал над завершением первого варианта «Безоружного пророка» и «Изгнанного пророка», когда во второй половине 1956 года итоги XX съезда КПСС, октябрьский мятеж в Польше и бои в Венгрии заставили меня прервать работу и уделить все внимание текущим событиям. В Будапеште рассвирепевшие толпы сбрасывали с постаментов статуи Сталина, а в Москве осквернение идола производилось украдкой и рассматривалось правящей группировкой как внутренний семейный секрет. «Мы не можем позволить, чтобы это дело вышло за рамки партии, особенно попало в печать», — предупредил Хрущев своих слушателей на XX съезде. «Мы не можем стирать свое грязное белье на глазах [наших врагов]». «Стирка грязного белья, — тогда я комментировал это событие, — уже дольше не может идти за спиной советского народа. Сейчас это должно делаться перед ним и средь бела дня. Ведь в конечном итоге это „грязное белье“ пропитано его потом и кровью. А стирка, на которую потребуется много времени, возможно, будет доведена до конца руками других людей, а не тех, кто ее начал, — более молодыми и чистыми руками».
«Изгнанный пророк» выходит в свет после того, как некоторая «стирка грязного белья» уже совершилась публично, а сталинская мумия была изгнана из Мавзолея на Красной площади. Один проницательный западный карикатурист отреагировал на это событие рисунком с Мавзолеем, внутри которого виднеется Троцкий, помещенный в только что освободившуюся гробницу рядом с Лениным. Этот карикатурист выразил мысль, которая, возможно, пришла в голову многим в СССР (хотя хотелось бы надеяться, что «реабилитация» Троцкого, когда она произойдет, будет выполнена в форме, свободной от культа, церемониала и первобытной магии). Тем временем Хрущев с друзьями все еще прилагают усилия для поддержания сталинской анафемы Троцкому; а в споре между Хрущевым и Мао Цзэдуном каждая сторона обвиняет соперника в троцкизме, как будто каждая из них стремится представить, по крайней мере, негативные доказательства жизненности вопросов, поднятых Троцким и его идеями.
Все эти события укрепили мое убеждение в злободневности и исторической важности моей темы. Но — с позволения некоторых моих критиков — они не оказали заметного влияния ни на мой подход, ни даже на дизайн моего произведения. Действительно, эта биография переросла в своем масштабе мои первоначальные планы: вместо одного или двух я написал три тома. Тем не менее, поступая так, я подчинялся единственно — и поначалу неохотно — логике моих исследований и литературной логике этого произведения, которое неожиданно выросло в масштабе и в глубине. В моих руках биографический материал стремился обрести форму и пропорции, ему соответствующие, и это налагало на меня некоторые обязательства. (Я знаю, что сказанное не поможет мне оправдаться перед одним из критиков, бывшим британским послом в Москве, который говорил, что «всегда придерживался мнения, что Русской Революции никогда не было», и который в связи с этим удивлялся, почему я должен уделять так много места этому нереальному событию.) Что касается моего политического подхода к Троцкому, то он остался неизменным во всех отношениях. Первый том этой трилогии я завершил в 1952 году главой «Поражение в победе», где описал Троцкого на вершине власти. В предисловии к тому тому я писал, что, завершая его биографию, изучу вопрос, «не был ли скрыт мощный элемент победы в самом его поражении». Именно этот вопрос я рассматриваю на заключительных страницах «Изгнанного пророка» в постскриптуме, озаглавленном «Победа в поражении».
Глава 1 НА ПРИНЦЕВЫХ ОСТРОВАХ
Обстоятельства изгнания Троцкого из России наложили отпечаток на те годы, что предстояли ему. Способ депортации был нелепым и жестоким. Сталин неделями оттягивал его, а в это время Троцкий бомбардировал Политбюро протестами, осуждающими это решение как незаконное. Было похоже, что Сталин то ли еще не принял окончательного решения, то ли советовался с Политбюро. Потом вдруг игра в кошки-мышки прекратилась: в ночь на 10 февраля 1929 года Троцкого, его жену и старшего сына срочно доставили в одесский порт и посадили на борт парохода «Ильич», тотчас же отплывшего. Его эскорт и портовые власти получили строгие указания, которые надлежало исполнить немедленно, несмотря на позднее время, штормовую погоду и замерзшее море. Сейчас Сталин не потерпел бы ни малейшей задержки. «Ильич» и шедший впереди него ледокол были специально выделены для этой операции. Кроме Троцкого, его семьи и двух офицеров ГПУ, на борту не было ни одного пассажира и никакого груза. Сталин в конце концов поставил непокорное Политбюро перед свершившимся фактом. Тем самым он прекратил все колебания и не допустил повторения сцен вроде тех, что имели место, когда он впервые обратился к Политбюро за разрешением выслать Троцкого, и Бухарин стал протестовать, заламывая руки и плача навзрыд, и вместе с Рыковым и Томским проголосовал против. Рыков все еще был Председателем Совета народных комиссаров, т. е. сменил Ленина на посту премьер-министра.
Высылка была проведена в обстановке величайшей секретности. Решение о ней опубликовали лишь после того, как она была осуществлена. Сталин все еще побаивался волнений. Собранные в порту войска обязаны были не допустить никаких демонстраций протеста и никакого массового прощания наподобие того, что было организовано оппозицией в прошлом году перед насильственной депортацией Троцкого из Москвы. На этот раз не должно было быть никаких свидетелей и никаких рассказов очевидцев. Троцкий не должен был путешествовать в толпе пассажиров, под взглядами которых мог прибегнуть к пассивному сопротивлению. Даже команду корабля предупредили, что она должна держаться поближе к своим кубрикам и избегать какого-либо контакта с находящимися на борту людьми. Плавание было окружено раздражающей тайной. Сталин все еще не желал взваливать на себя всю ответственность. Он не знал, будет ли зарубежное коммунистическое мнение шокировано и не вынудят ли дальнейшие события возвратить соперника домой. Он позаботился обставить депортацию так двусмысленно, что ее можно было и объяснить, если понадобится, и даже полностью от нее отречься. В течение нескольких последующих дней коммунистические газеты за рубежом высказывали предположения, что Троцкий поехал в Турцию с официальной или полуофициальной миссией или что он отправился туда по собственной воле и с большой свитой.
Так неожиданно Троцкий очутился на борту продуваемого ветром и почти пустынного судна, направлявшегося сквозь шторм к безжизненному горизонту. Даже после года жизни в Алма-Ате эта пустота вокруг него, еще более усугублявшаяся нависшими над ним фигурами двух офицеров ГПУ, была удручающей. Что это могло значить? Что это могло предвещать? Рядом с ним были только Наталья и Лёва, и в их глазах он мог прочесть тот же вопрос. Чтобы спастись от шторма и пустоты, они спустились в свои каюты и оставались там до конца плавания. Пустота, казалось, медленно ползла за ними. Что же все это означало? Что ожидает их в конце путешествия?
Троцкий был готов к худшему. Он не думал, что Сталин удовлетворится тем, что перебросит его на другой берег Черного моря и отпустит. Он подозревал, что Сталин и турецкий президент и диктатор Кемаль-паша составили против него заговор и что полиция Кемаль-паши снимет его с корабля и либо интернирует, либо тайком передаст для отмщения в руки белой эмиграции, скопившейся в Константинополе. Трюки, которые ГПУ разыгрывало с ним, подтверждали эти опасения: он несколько раз просил освободить из тюрем Сермукса и Познанского, своих двух верных секретарей и телохранителей, и разрешить им выехать с ним за рубеж. ГПУ неоднократно обещало ему сделать это, но обещание не сдержало. Очевидно, они решили высадить его на берег без всякой дружеской охраны. По пути сопровождавшие офицеры старались убедить его, что Сермукс и Познанский присоединятся к нему в Константинополе, а до этого за безопасность будет отвечать ГПУ. «Вы меня однажды уже обманули, — отвечал он, — и обманете снова».
Сбитый с толку и страдающий, он припоминал с женой и сыном последнее морское путешествие, которое они совершили вместе, — в марте 1917 года, когда, оказавшись на свободе после британского интернирования в Канаде, отплыли в Россию на борту норвежского парохода. «Тогда наша семья была в том же составе, — писал Троцкий в своей автобиографии (хотя его младшего сына Сергея, бывшего с ними в 1917 году, на „Ильиче“ не было), — но мы были на двенадцать лет моложе». Еще важнее, чем эта разница в возрасте, было различие в условиях, которые он не стал комментировать. В 1917 году в Россию его призвала революция для предстоящих великих битв. А сейчас его изгоняет из России правительство, правящее от имени этой революции. В 1917 году в течение месяца пребывания в британском лагере для интернированных он каждый день обращался к толпам германских матросов, которых от него отделяла колючая проволока, к военнопленным, рассказывая им о позиции, которую Карл Либкнехт занимал в рейхстаге, в тюрьме и в окопах против кайзера и империалистической войны, и пробуждал в них увлечение социализмом. Когда его освободили, солдаты пронесли его на руках до самых лагерных ворот, приветствуя и распевая «Интернационал». Теперь вокруг него была одна пустота да ревущий шторм. Прошло десять лет с поражения «Спартака» и убийства Либкнехта, и Троцкий не раз задумывался, а не суждено ли и ему такого конца, какой выпал Либкнехту. Небольшой инцидент добавил абсурдный штрих к этой ситуации. Когда «Ильич» входил в Босфор, один из офицеров ГПУ вручил Троцкому сумму в 1500 долларов — подарок, который советское правительство сделало своему бывшему военному комиссару, «чтобы дать ему возможность устроиться за границей». Троцкий представил себе издевательскую усмешку Сталина, но, не имея ни гроша, был вынужден проглотить это публичное оскорбление и принять деньги. Это было последнее жалованье, полученное им от государства, основателем которого он был.
Троцкий не был бы самим собой, если бы расстроился от этих мрачных эпизодов. Какое бы будущее ни ждало впереди, он был полон решимости встретить его стоя и в бою. Он не позволит себе раствориться в этом вакууме. За ним лежали неисследованные горизонты борьбы и надежды — прошлое, которое существует для того, чтобы дожить до сегодняшнего дня, и будущее, в котором будут жить вместе и прошлое, и настоящее. Он не ощущал в себе ничего общего с теми историческими личностями, о которых Гегель говорил, что, как только они завершают выполнение своей «исторической миссии», тут же теряют силы и «падают, как пустая скорлупа». Он будет бороться, чтобы разрушить вакуум, в который заключили его Сталин и происшедшие события. В данный момент он может только зафиксировать свой последний протест против экспатриации. Перед концом путешествия он вручил своему эскорту послание, адресованное Центральному комитету партии и Центральному Исполнительному комитету Советов. В нем он осудил «тайный сговор», в который вступили Сталин с ГПУ и Кемаль-паша и кемалевская «национал-фашистская» полиция. И он предупредил своих гонителей, что настанет день, когда им придется ответить за этот «предательский и позорный акт». Затем, после того как «Ильич» бросил якорь и появились турецкие пограничники, он вручил официальный протест, адресованный Кемалю. В его сдержанном казенном тоне чувствовались гнев и ирония. «У ворот Константинополя, — писал он, — я имею честь информировать вас, что на границу Турции я прибыл не по собственному желанию — я пересекаю эту границу только потому, что вынужден подчиниться силе. Пожалуйста, господин президент, примите мои соответствующие чувства».
Вряд ли он ожидал, что Кемаль отреагирует на этот протест, и он знал, что его гонителей в Москве не испугает мысль, что когда-нибудь их призовут к ответу за то, что они творят. В тот момент казалось бесполезным обращаться к истории за справедливостью, но он не мог ничего поделать, кроме того, как обратиться к ней. Он был убежден, что говорит не от своего имени, а от лица его молчащих, сидящих в тюрьмах или изгнанных друзей и сторонников и что насилие, жертвой которого он стал, производится по отношению к большевистской партии в целом и самой революции. Он знал, что, какова бы ни была его участь, его спор со Сталиным будет продолжаться и отзываться эхом на все столетие. Если Сталин намерен подавить всех, кто может протестовать и свидетельствовать, тогда Троцкий в тот самый момент, когда его изгоняют в ссылку, выступит, чтобы протестовать и давать свидетельские показания.
Последовавшие за сходом на берег события были почти смехотворными. Прямо с причала Троцкого и его семью доставили в советское консульство в Константинополе. Хотя он носил клеймо политического преступника и контрреволюционера, его приняли с почестями, подобающими лидеру Октября и создателю Красной армии. Ему отвели крыло в здании консульства. Чиновники (некоторые из них служили под его началом в Гражданскую войну), казалось, изо всех сил старались, чтобы он чувствовал себя как дома. Люди из ГПУ вели себя так, будто стремились сдержать свое обещание защитить его жизнь. Они удовлетворяли все его желания. Они были у него на посылках, выполняли его поручения. Они сопровождали Наталью и Лёву в поездках в город, когда он оставался в консульстве. Они позаботились о выгрузке и перевозке его объемистых архивов, привезенных из Алма-Аты, и даже не пытались проверить их содержимое — документы и записи, которые он в данное время собирался использовать как политическое оружие против Сталина. Москва, похоже, до сих пор пыталась завуалировать это изгнание и смягчить его воздействие на коммунистическое общественное мнение. Не зря однажды Бухарин говорил о сталинском таланте деления на этапы и распределения во времени: особый дар Сталина в достижении своих целей медленными шагами, мало-помалу, обнаруживался даже в деталях, подобных этим.
Это качество проявилось и в том, как он заручился сотрудничеством Кемаль-паши. Вскоре после прибытия турецкое правительство проинформировало Троцкого, что ему (правительству) никогда не говорили, что Троцкий подлежит изгнанию, что советское правительство просто попросило Турцию выдать ему разрешение на въезд «в связи с состоянием здоровья» и что, лелея дружеские отношения со своим северным соседом, они не могут входить в детали этой просьбы и обязаны выдать ему визу. И все-таки Кемаль-паша, испытывая неловкость оттого, что превратился в сталинского сообщника, поспешил заверить Троцкого, что «вовсе не стоит вопрос о том, чтобы его интернировать или подвергнуть какому-либо насилию на турецкой территории», что он волен покинуть эту страну, когда ему захочется, или оставаться здесь так долго, как ему пожелается; и что, если он решит остаться, турецкое правительство окажет ему всевозможное гостеприимство и обеспечит безопасность. Несмотря на эту уважительную симпатию, Троцкий не изменил убеждения, что Кемаль тесно связан со Сталиным. В любом случае, неизвестно было, как поведет себя Кемаль, если Сталин предъявит ему в дальнейшем требования, — рискнет ли он пойти на ссору с могущественным «северным соседом» ради какого-то политического изгнанника?
Двусмысленная ситуация, сложившаяся в результате проживания Троцкого в советском консульстве, не могла длиться долго. Сталин только дожидался предлога, чтобы покончить с ней; да и для Троцкого это было невыносимо. «Охраняемый» людьми ГПУ, он оставался их фактическим пленником, не зная, кого надо больше опасаться: белоэмигрантов за воротами консульства или своих стражей внутри консульства. Он оказался лишенным единственного преимущества, которым изгнание наделяет политического борца: свободы передвижения и выражения. Он был заинтересован в том, чтобы изложить свою историю, раскрыть события, приведшие к его изгнанию, связаться со сторонниками из разных стран и распланировать последующие действия. Находясь в консульстве, он не мог ничем этим заняться без опаски. Кроме того, и он, и его жена были больны, и ему пришлось зарабатывать на жизнь, в которой он не умел делать ничего, кроме литературной работы. Ему нужно было где-нибудь устроиться, связаться с издателями и газетами и начать работать.
В день приезда он разослал сообщения друзьям и приверженцам в Западной Европе, особенно во Франции. Ответ от них пришел немедленно. «Вряд ли надо вам говорить, что вы можете положиться на нас душой и телом. Обнимаем вас от всей глубины наших верных и преданных сердец». Это Альфред и Маргарита Ромер написали ему через три дня после того, как он сошел на берег. Они были его друзьями еще с Первой мировой войны, когда состояли в циммервальдском движении. В начале 20-х годов Альфред Ромер представлял Французскую коммунистическую партию в Исполкоме Коминтерна в Москве и за свою солидарность с Троцким был исключен из этой партии. «Глубина верных и преданных сердец» упомянута Ромерами не для красоты слога — им суждено было остаться единственными близкими друзьями и в годы его изгнания, несмотря на позднейшие разногласия и противоречия. Бывший редактор теоретического журнала Французской коммунистической партии Борис Суварин, оказавшийся единственным среди зарубежных коммунистических делегатов в Москве в мае 1924 года, выступившим в защиту Троцкого, также прислал письмо с предложением помощи и сотрудничества. Другими доброжелателями были Морис и Магдалена Паз, юрист и журналист, оба исключенные из компартии, а в последние годы ставшие хорошо известными как социалистические парламентарии. Обращаясь к нему «Cher grand Ami»,[1] они писали о своей тревоге по поводу его ненадежного положения в Турции, пытались получить для него разрешения на въезд в другие страны и обещали вскоре присоединиться к нему в Константинополе.
Через Ромеров и Пазов Троцкий установил контакты с западными газетами и, все еще находясь в консульстве, написал серию статей, которые во второй половине февраля появились в «New York Times», «Daily Express» и в других изданиях. Эта серия стала его первым публичным рассказом о внутрипартийной борьбе последних лет и месяцев. Отчет был кратким, убедительным и наступательным. Он не щадил никого из врагов и соперников, старых или новых, и менее всего — Сталина, которого теперь осудил перед всем миром, как ранее осудил его перед Политбюро в качестве «гробовщика революции». Еще до того, как эти статьи увидели свет, у него возникли проблемы с сотрудниками консульства, которые стали уговаривать его переехать из консульства в жилой дом работников консульства, где он продолжал бы находиться под «защитой» ГПУ. От переезда он отказался, и этот вопрос был отложен до тех пор, пока не обнаружилась публикация статей. Теперь у Сталина появился повод, в котором он нуждался, чтобы открыто изгнать Троцкого. Советские газеты заговорили о том, что Троцкий «продался мировой буржуазии и готовит заговор против Советского Союза», а карикатуристы изображали Троцкого, обнимающего мешок с 25 000 долларов. ГПУ объявило, что отныне не считает себя ответственным за его безопасность и требует выселения из консульства.
Несколько дней Наталья и Лёва, которых даже теперь заботливо сопровождали агенты ГПУ, без устали искали в пригородах и на окраинах Константинополя более-менее безопасное и уединенное жилье. Наконец, они нашли дом не в городе, не вблизи его, а на островах Принкипо в Мраморном море. Из Константинополя до островов можно было добраться на пароходе за полтора часа. В этом спешном выборе места жительства есть некий ироничный оттенок, потому что Принкипо, или Принцевы острова, когда-то были местом изгнания, куда византийские императоры заключали своих противников и мятежников королевской крови. Троцкий приехал туда 7 или 8 марта. Ступая ногой на берег в Буйюк-Ада, главной деревне Принкипо, он предполагал, что приземлится здесь, как перелетная птица. Но этой деревне суждено было стать его домом более чем на четыре долгих и полных событий года.
Троцкий часто описывал этот период своей жизни как «третью эмиграцию». Этот не совсем точный термин в какой-то степени раскрывает настроение, с каким он приехал в Принкипо. Да, его на самом деле в третий раз депортировало российское правительство, и он уезжал жить за границу. Но в 1902-м и 1907 годах его ссылали в Сибирь и за полярный круг, откуда он убегал, после чего находил убежище на Западе, и, куда бы он ни приходил в те дни, он принадлежал к той большой, активной и динамичной общине, которой была тогда Россия в изгнании. На этот раз он стал эмигрантом не по своему выбору, и за границей не было сообщества российских ссыльных, чтобы принять его как одного из своих и создать среду для дальнейшей политической деятельности. Существовало много новых колоний политических эмигрантов, но все они были сформированы контрреволюционной Россией в изгнании. Между ними и Троцким была кровь Гражданской войны. Из тех, кто в той войне сражался на его стороне, не было таких, кто подал бы ему руку.
Поэтому его третье изгнание отличалось от предыдущих двух. Оно не имело аналогов, потому что за долгую и богатую событиями историю политической эмиграции вряд ли нашелся бы человек, оказавшийся в сравнимом одиночестве (за исключением Наполеона, который, однако, был военнопленным). Троцкий подсознательно стремился смягчить суровость нынешнего остракизма, связывая его со своим дореволюционным опытом. Сейчас память о тех переживаниях успокаивала. Период его первой эмиграции длился более трех лет и был прерван Annus Mirabilis[2] — 1905-м; вторая продолжалась много дольше, уже десять лет, но за ней последовал высший триумф 1917 года. Каждый раз история щедро вознаграждала революционера за его неутомимое ожидание за рубежом. Не слишком ли легкомысленно будет ожидать, что она так же поступит и на этот раз? Он понимал, что теперь перспективы могут оказаться менее обещающими и он может никогда не вернуться в Россию. Но сильнее, чем это знание, была потребность в ясно очерченных и ободряющих проспектах, а также оптимизм бойца, который при угрозе поражения, или даже увязнув в безнадежной схватке, все еще предвкушал победу.
Такого рода оптимизм его никогда не покидал. Если в последние годы он оставался более уверен в окончательной победе своего дела, чем в личных шансах дожить до этого, то в первые годы этого изгнания преобладал более личный оттенок в его оптимизме. Он всерьез и с нетерпением ожидал своей скорой реабилитации и возвращения в Россию. Он не считал политическую обстановку стабильной и среди потрясений коллективизации и индустриализации ожидал сдвигов в народе, которые приведут к сдвигам и в правящей партии. Он не верил, что сталинизм сможет достичь консолидации, ведь это всего лишь мозаика из несовместимых идей и нерешительность бюрократии, которая не осмеливалась разбираться с проблемами, с которыми сталкивается. Он был убежден, что интермедия со сталинским восхождением обязательно придет к концу либо через подъем революционного духа и возрождение большевизма, либо через контрреволюцию и реставрацию капитализма. Это убеждение владело его мыслями, даже когда временами приходилось считаться с другими возможностями. Он видел себя и единомышленников представителями единственной серьезной оппозиции Сталину, единственной оппозиции, которая стояла на платформе Октябрьской революции, предлагала программу социалистических действий и учреждала альтернативное большевистское правительство. Он не представлял себе, что Сталин сможет уничтожить оппозицию или даже вынудить ее надолго замолкнуть. И тут его надежды также питались дореволюционными воспоминаниями. Царизм не смог задушить никакую оппозицию, хотя бросал в тюрьмы, ссылал и казнил революционеров. Почему же тогда Сталин, который еще не казнит своих противников, добьется успеха там, где царизм потерпел провал? Правда, у оппозиции были свои взлеты и падения, но, пустив глубокие корни в реалии общественной жизни и будучи рупором пролетарских классовых интересов, она не могла быть уничтожена. Как ее признанный лидер он был обязан управлять ее деятельностью из-за рубежа, как это делал Ленин, да и сам он когда-то руководил своими приверженцами из-за границы. Теперь он мог один говорить за оппозицию в условиях относительной свободы и делать так, чтобы его голос был слышен повсюду.
Однако в другом отношении его позиция отличалась от той, что имела место до революции. Тогда он был неизвестен миру или известен как революционер лишь посвященным. Сейчас его положение было другим. На этот раз он не выныривал из мрака подполья. Мир уже увидел его в качестве лидера Октябрьского восстания, основателя Красной армии, архитектора ее победы и вдохновителя Коммунистического интернационала. Он поднялся до высоты, с которой не дано опускаться. Он играл свою роль на мировой сцене в свете рампы истории, и он не мог уйти. Его прошлое довлело над настоящим. Он не мог отступить в спасительную темноту дореволюционной эмигрантской жизни. Его деяния потрясли мир, и ни он, ни мир не могли их забыть.
И он не мог ограничиваться лишь российскими проблемами. Он ощущал свой «долг по отношению к Интернационалу». Борьба недавних лет была сосредоточена в основном на стратегии и тактике коммунизма в Германии, Китае и Британии, а также на способах, которыми Москва ради выгоды ослабляла Интернационал. Было просто немыслимо, чтобы он не повел эту борьбу. На первый взгляд изгнание должно было облегчить ему эту задачу. Если, являясь поборником интернационализма и критиком сталинизма и бухаринского «национального узкомыслия», он навлек на себя непопулярность в России, у него были основания надеяться на активный отклик коммунистов за пределами России, потому что именно их жизненно важные интересы он стремился продвинуть, противопоставляя социализму в одной стране главенство международной точки зрения. Он не мог общаться с зарубежными коммунистами, находясь в Москве и Алма-Ате, а Сталин позаботился о том, чтобы они либо оставались в неведении, либо получали только чудовищно искаженную картину позиции, на которой он стоял. Сейчас наконец-то его вынужденное пребывание за рубежом позволяло ему изложить перед ними свои аргументы.
Он все еще рассматривал «передовые индустриальные страны Запада», особенно Западной Европы, в качестве основной арены международной классовой борьбы. В этом Троцкий был верен себе и традициям классического марксизма, которые он представлял в их непорочности. На деле пока еще ни одна из теоретических школ в рабочем движении и даже сталинистских открыто не осмеливалась глумиться над этими традициями. Для 3-го Интернационала, как и для 2-го, Западная Европа все еще оставалась основной сферой деятельности. Германская и Французская коммунистические партии имели в своем распоряжении большие массы последователей, в то время как Советский Союз продолжал быть индустриально неразвитым и крайне слабым государством, а до победы китайской революции оставалось еще двадцать лет. Как буржуазная Европа даже в период своего упадка все еще считалась центром мировой политики, так и рабочий класс Западной Европы все еще представлялся самой важной силой пролетарской революции, самой важной в сталинской концепции после Советского Союза и потенциально даже более важной в концепции Троцкого.
Конечно, Троцкий не верил в незыблемость буржуазного порядка в Европе. Когда он приехал на Принкипо, «процветание», которым Запад наслаждался в конце 20-х годов, уже близилось к концу. Но консерваторы, либералы и социал-демократы все еще грелись под солнцем демократии, пацифизма и классового сотрудничества, которые должны были обеспечить бесконечную длительность этого процветания. Казалось, что парламентские правительства стояли на твердой почве, а фашизм, окопавшийся в Италии, представлялся маргинальным феноменом европейской политики. Но уже в свои первые дни пребывания в Константинополе Троцкий объявил о приближающемся конце этого рая для дураков и заговорил о распаде буржуазной демократии и ощутимых подземных толчках нарождающегося фашизма: «Эти послевоенные тенденции политического развития Европы не эпизодичны, они являются кровавым прологом новой эпохи… [Первая мировая] Война ввела нас в эру высокого напряжения и великой борьбы; впереди маячат новые большие войны… Нашу эпоху нельзя измерять стандартами девятнадцатого столетия, этого классического века распространяющейся [буржуазной] демократии. Двадцатый век будет отличаться от девятнадцатого даже больше, чем современность отличается от средневековья». У него было ощущение, что Европа находится накануне решающего поворота истории, когда одна лишь социалистическая революция может предложить западным нациям эффективную альтернативу фашизму. Он верил, что революция на Западе избавит Советский Союз от изоляции и создаст мощный противовес тому грузу отсталости, который подавил российскую революцию. Эта надежда не выглядела необоснованной. Западное рабочее движение со своими массовыми организациями и боевым духом, подавленным, но не убитым, все еще было боеспособным. Коммунистические партии, несмотря на ошибки и недостатки, все еще сохраняли в своих рядах авангард рабочего класса. Троцкий пришел к выводу, что необходимо открыть глаза этому авангарду на опасности и возможности, встряхнуть его совесть и поднять на революционную борьбу.
Такой взгляд как на настоящее, так и на его собственное прошлое отводил Троцкому его особую роль в изгнании. Он выступал как наследник классического марксизма, а также ленинизма, который был превращен Сталиным в набор догм и бюрократическую мифологию. Возродить марксизм и вновь пропитать массы коммунистов его критическим духом — это было важнейшим предварительным мероприятием перед эффективным революционным действием, и Троцкий поставил перед собой эту задачу. Ни один марксист, кроме Ленина, никогда не имел такого морального авторитета, как Троцкий, авторитета, которым он завладел как теоретик и победоносный революционный командир. Никому не приходилось действовать в столь же трудной ситуации, как ему, будучи со всех сторон окруженным непримиримой ненавистью и оказавшись в конфликте с государством, рожденным революцией.
Он в избытке обладал, и даже чрезмерно, мужеством и энергией, необходимыми для того, чтобы справиться с этой ролью и выйти из такого затруднительного положения. Жестокие поражения, которые он потерпел, вовсе не притупили его бойцовских инстинктов, но лишь возбудили их до крайности. Страстность и энтузиазм его интеллекта и души, всегда необычно бурные, теперь переросли в трагическую энергию, столь же могучую и высокую, как та, что воодушевляла пророков и законодателей в представлении Микеланджело. Именно душевная энергия уберегла его на этом этапе от ощущения личной трагедии. В нем не было ни намека на жалость к себе. Когда во время первого года изгнания он завершил свою автобиографию следующими словами: «Я не знаю никакой личной трагедии», он говорил правду. Свою собственную судьбу он считал эпизодом в приливе и отливе революции и реакции. Для него не имело значения, боролся ли он во всех доспехах или находясь в изгнании. Эта разница не оказывала влияния на его веру в свое дело и в самого себя. Когда какой-то критик многозначительно заметил, что, несмотря на падение, бывший военный комиссар сохранил всю ясность и мощь интеллекта, Троцкий мог лишь посмеяться над мещанином, «который видел какую-то связь между способностью человека мыслить и его должностью». Он ощущал полноту жизни лишь тогда, когда мог раскрыть все свои способности и использовать их на службе у идеи. Что поддерживало уверенность, так это то, что его триумфы в революции и Гражданской войне все еще представлялись ему в воображении более ярко, чем последовавшие за ними поражения. Он знал, что это были нетленные победы. Так велик был взлет его жизни, что затмил падение, и никакая сила на земле не могла разубедить его в этом. А тем временем трагедия, непреклонная и беспощадная, подкрадывалась к нему.
В 30-х годах Принкипо все еще был столь же пустынен, как в те времена, когда попадавшие в опалу братья и кузены византийских императоров медленно умирали на его берегах. Казалось, сама природа предназначила это место для царской каторжной тюрьмы. «Остров красных скал, окаймленный темно-голубыми волнами», Буйюк-Ада «наклонился над морем, как какое-то доисторическое животное на водопое». В сиянии солнечного заката его пурпур весело и вызывающе горел, как пламя, над безмятежной голубизной. Потом он переходил в красное неистовство одинокой непокорности, гневно жестикулируя перед далеким и невидимым миром, пока, наконец, не погружался с недовольством во тьму. Островитяне — немногие рыбаки и пастухи, обретавшиеся между красным и синим, — вели тот же образ жизни, что и их праотцы тысячу лет назад, а «деревенское кладбище казалось более оживленным, чем сама деревня», писал Троцкий в своем дневнике в июле 1933 года. Рожок автомобиля никогда не тревожил тишину этих мест; только пронзительный крик какого-нибудь осла разносился с дальнего утеса и долетал до главной улицы. На несколько недель в году в деревню вторгалась шумная пошлость: в летние месяцы толпы отпускников, семьи константинопольских торговцев заполняли пляжи и хижины. Затем возвращалось спокойствие, и только рев ослов приветствовал спокойный и великолепный приход осени.
На окраине Буйюк-Ада, зажатое между высокими заборами и морем, отгороженное от деревни и почти так же отчужденное от нее, как и сама деревня была оторвана от остального мира, находилось новое жилище Троцкого: просторная обветшалая вилла, снятая в аренду у какого-то разорившегося паши. Спустя годы Троцкий вспоминал радость и страсть к наведению чистоты, с которой Наталья закатывала рукава и заставляла делать то же самое и мужчин, чтобы смести грязь и выкрасить стены в белый цвет. Позднее они покрасили полы такой дешевой краской, что и месяцы спустя подошвы все еще приклеивались к полу при ходьбе. В центре дома находился большой зал с дверями, выходившими на веранду, смотревшую на море. На втором этаже был рабочий кабинет Троцкого, стены которого быстро скрылись под рядами книг и периодических изданий, поступавших из Европы и Америки. На первом этаже располагался секретариат, за который отвечал Лёва. Один английский посетитель описал «выцветшую коллекцию мраморных скульптур, унылого бронзового павлина и позорную позолоту, выдававшую как социальные претензии, так и крушение их турецкого владельца», — этот потускневший декор, предназначавшийся для того, чтобы придать успокоение и престиж удалившемуся от дел паше, комично контрастировал с предполагавшейся спартанской аурой этого места. Макс Истмен, приезжавший сюда, когда дом был полон секретарей, телохранителей и гостей, сравнивал его по «отсутствию комфорта и красоты» с пустой казармой. «В этих просторных комнатах и на балконе не было вообще никакой мебели, даже какого-нибудь стула! Это были одни коридоры, а двери в комнаты по обе стороны были закрыты. В каждой из этих комнат у кого-то был письменный стол или кровать, или и то и другое, и ко всему этому еще и стул. Одна из комнат внизу была очень маленькой, имела квадратную форму, а стены были выкрашены белым. В ней едва хватало места для стола и стульев, но это была столовая». Американский гость пришел к выводу, что «мужчина и женщина должны быть эстетически почти мертвы» для того, чтобы обитать в таком жилище, когда «за какие-то несколько долларов» они могли бы превратить его в «очаровательный уголок». Несомненно, это место не имело ничего общего с комфортом американского дома средней руки. Даже в нормальных обстоятельствах Троцкому или Наталье вряд ли пришло бы в голову увешать «прелестный домик» картинами «за несколько долларов»; а их обстоятельства на Принкипо никогда не были нормальными. Они пребывали там все это время, как в зале ожидания на причале, присматривая себе корабль, который увезет их прочь. Сад вокруг виллы зарос травой, «чтобы сэкономить деньги», как объясняла Наталья посетителю, который вряд ли ожидал, что Троцкий станет возделывать свой небольшой участок земли. Силы и деньги надлежало сберечь для отчаянной борьбы, в которой дом в Буйюк-Ада был временной штаб-квартирой. И сугубый аскетизм этого прибежища соответствовал его назначению.
С момента своего приезда Троцкий не мирился с изоляцией и опасностью нахождения в пределах легкой досягаемости как для ГПУ, так и для белоэмигрантов. За воротами были поставлены два турецких полицейских, но вряд ли он мог доверить им свою безопасность. Почти сразу же он начал поиски визы, которые частично описал на последних страницах своей автобиографии.
Даже перед депортацией из Одессы он обращался с просьбой в Политбюро получить для него разрешение на въезд в Германию. Ему ответили, что германское правительство, т. е. социал-демократы, возглавляемые Германом Мюллером, отказало в этом. Он был почти уверен, что Сталин его обманывал; и вскоре после этого Пауль Лебе, спикер-социалист в рейхстаге, объявил, что Германия предоставит Троцкому убежище, как только он обратится с просьбой о визе. Его не сломило «злобное удовлетворение, с которым… газеты обратили внимание на тот факт, что сторонник революционной диктатуры был вынужден просить убежища в демократической стране». Этот пример, заявляли они, научит его «уважать ценности демократических институтов». Однако этот урок вряд ли чему научил. Вначале германское правительство запросило его, подчинится ли он ограничениям на свободу передвижения. Он ответил, что готов воздержаться от любой общественной деятельности, жить в «полном уединении», предпочтительно где-нибудь рядом с Берлином, и отдаться литературной работе. Потом пришел запрос, не будет ли для него достаточным кратковременный визит — лишь для медицинского обслуживания. Когда он ответил, что не имеет выбора и вынужден ограничиться даже этим, ему сообщили, что, по мнению властей, он не настолько болен, чтобы требовать какого-то особого лечения. «Я задал вопрос: предлагает ли мне Лебе право на убежище или право на похороны в Германии… В течение немногих недель в демократическом праве на убежище было трижды отказано. Поначалу его свели до права на сопротивление при специальных ограничениях, потом — до права на лечение и, наконец, — до права на захоронение. Так что я мог полностью оценить преимущества демократии, только будучи трупом».
Британская палата общин еще в феврале 1929 года обсуждала выдачу Троцкому разрешения на въезд в страну. Правительство дало понять, что не позволит ему въехать в Англию. В стране в ближайшее время должны были пройти выборы, и ожидалось, что Лейбористская партия вернется к власти. В конце апреля Сидней и Беатрис Уэбб приехали в Константинополь и уважительно попросили Троцкого принять их. Несмотря на старую политическую вражду, он устроил им любезный прием, активно впитывая в себя экономические и политические новости британской жизни. Уэббы выразили свою уверенность в том, что лейбористы выиграют эти выборы, на что он заметил, что тогда обратился бы за британской визой. Сидней Уэбб выразил сожаление, что лейбористское правительство будет зависеть от поддержки либералов в палате общин, а либералы будут выступать против въезда Троцкого в страну. Через несколько недель Рамсей Макдональд действительно сформировал свое второе правительство с Сиднеем Уэббом, теперь лордом Пассфильдом, в качестве одного из министров.
В начале июня Троцкий обратился в британское консульство в Константинополе и послал по телеграфу формальный запрос Макдональду на визу. Он также написал Беатрис Уэбб в выражениях, столь же элегантных, как и остроумных, об их разговорах в Принкипо и той притягательности, которую для него имеет Британия и особенно Британский музей. Он обратился к лорду Сноудену, канцлеру казначейства, заявляя, что политические разногласия между ними не должны помешать его посещению Англии, как они не помешали приезду Сноудена в Россию, когда Троцкий был у власти. «Надеюсь, что вскоре смогу отплатить вам таким же любезным визитом, какой вы нанесли мне в Кисловодске», — телеграфировал он Джорджу Лансбери.[3]
Но все было напрасно. Виной были не либералы, выступавшие против его приезда. Напротив, они осуждали поведение лейбористских министров, а Ллойд Джордж и Герберт Сэмуел неоднократно вмешивались в ход дела частным образом, высказываясь в пользу Троцкого. «Это был вариант, — комментировал он, — которого г-н Уэбб не предвидел». Время от времени в течение почти двух лет этот вопрос поднимался в парламенте и прессе. Герберт Уэллс и Бернард Шоу написали два заявления протеста по поводу запрета на въезд Троцкого, а Дж. М. Кейнес, С. П. Скотт, Арнольд Беннетт, Гарольд Ласки, Эллен Уилкинсон, архиепископ Бирмингема Дж. Л. Гарвин и многие другие призывали правительство пересмотреть это решение. Но протесты и апелляции остались без внимания. «Эта одноактная комедия на тему демократии и ее принципов… — заметил Троцкий, — могла бы быть написана Бернардом Шоу, если бы та жидкость, которая течет в его венах, была укреплена всего лишь пятью процентами крови Джонатана Свифта».
Но Шоу, несмотря на то что его сатирическая язвительность в этом эпизоде не проявилась во всем блеске, делал что мог. Он написал министру внутренних дел Клайнсу об «иронической ситуации… о том, что лейбористское и социалистическое правительство отказывает в праве на убежище самому достойному социалисту, но предоставляет его самым реакционным противникам. Если бы правительство, не впуская Троцкого, могло бы также заставить его замолчать… Но г-на Троцкого нельзя подавить или усмирить. Его колкий и напористый литературный дар и авторитет, который, благодаря своей необычайной карьере, он имеет над общественными представлениями в современном мире, позволяют ему воспользоваться любой попыткой, предпринимаемой его преследователями. Он становится вдохновителем и героем всех бойцов крайне левых сил во всех странах». Те, кто охвачен «необоснованным страхом перед ним, как львом в клетке», допустили бы его в Британию, «если б только держали у себя ключи от его клетки». Шоу противопоставлял поведение Кемаль-паши политике Макдональда и «с трудом воспринимал пример либерализма, который турецкое правительство дало британскому».
Другие европейские правительства не более желали «обладать ключами от его клетки». Французы откопали приказ о высылке, изданный в отношении Троцкого в 1916 году, и заявили, что это распоряжение все еще остается в силе. Чехи поначалу были готовы оказать ему гостеприимство, и министр-социалист Масарика доктор Людвиг Чех, обращаясь к нему как «самому уважаемому товарищу», сообщил с согласия Бенеша, что ему выдана виза. Но переписка прервалась на холодной ноте отказом без объяснений, причем к «товарищу» уже обращались как к «герру». Голландцы, предоставившие убежище кайзеру Вильгельму, отказали в этом Троцкому. В письме к Магдалене Паз он с иронией писал, что, так как не знает голландского языка, «правительство может быть спокойным в том, что он не будет вмешиваться во внутренние дела Голландии и что он готов жить инкогнито в любом сельском захолустье». Австрийцы тоже не пожелали дать другим «пример либеральности». Норвежское правительство заявило, что не может позволить ему въехать в страну, потому что не в состоянии гарантировать его безопасность. Друзья Троцкого обращались даже к правителям герцогства Люксембургского. Троцкий выяснил, что «Европа не имеет виз». Он даже и не думал обращаться за визой в Соединенные Штаты, потому что эта «самая мощная держава в мире была также и самой напуганной». Он пришел к выводу, что «у Европы и Америки нет виз» и что «так как эти два континента владеют остальными тремя, то и вся планета не имеет визы». «Во многих местах мне объясняли, что неверие в демократию является моим основным грехом… Но когда я прошу дать мне краткий предметный урок по демократии, добровольцев не находится».
Истина в том, что даже в изгнании Троцкий внушал страх. Правительства и правящие партии дали ему понять, что нельзя безнаказанно возглавлять великую революцию, свергать все установленные власти и оспаривать священное право собственности. С изумлением и ликованием буржуазная Европа глазела на этот спектакль, подобного которому она не видела со времен падения Наполеона, — никогда с тех пор так много правительств не объявляло вне закона одного человека, и никогда один человек не вызывал такой широко распространенной враждебности и тревоги.[4]
Консерваторы не простили роли, которую он сыграл в разгроме антибольшевистского крестового похода четырнадцати стран. Лучше всех выразил общие чувства Уинстон Черчилль, вдохновитель этого похода, в торжествующе-насмешливом очерке «Людоед Европы». «Троцкий, чьи нахмуренные брови назначали смерть тысячам, сидит, безутешный, в изношенном старом тряпье, застряв на берегу Черного моря». Некоторое время спустя Черчилль передумал и, завершая очерк в «Great Contemporaries»,[5] заменил «изношенное, старое тряпье» на слова «Троцкий — шкура злоумышленника». Первые политические заявления, сделанные Троцким «на берегах Черного моря», показывали, что он остался непоколебимым врагом установленного порядка, что он такой же непокорный и убежденный, как и в дни, когда возглавлял Красную армию и обращался к миру с трибуны Коммунистического интернационала. Нет, нет, это была не «куча старых тряпок» — это была «шкура злоумышленника».
Незнание проблем, расколовших большевизм, умножало ненависть и страх. Уважаемые газеты не могли разобраться, было ли изгнание Троцкого мистификацией и не оставил ли он свою страну, заключив тайное соглашение со Сталиным о разжигании революции за рубежом. «The Times» имела «надежную информацию» о том, что дело было именно так, и видела руку Троцкого за демонстрациями в Германии. «The Morning Post» сообщала с мельчайшими подробностями о секретных переговорах между Сталиным и Троцким, в результате которых последний должен был вернуться к командованию вооруженными силами; газета знала, что в связи с этим сестра Троцкого путешествовала между Москвой, Берлином и Константинополем. «The Daily Express» говорила об «этом вороне, усевшемся на суку британского социализма» — «даже с подрезанными крыльями и когтями он — не тот тип домашней птицы, которую мы в Британии можем надеяться приручить». «The Manchester Guardian» и «The Observer» с некоторой теплотой поддержали просьбу Троцкого о предоставлении политического убежища, но это были одинокие голоса в общем хоре. Американские газеты видели в Троцком «революционного поджигателя», а Сталина характеризовали как «сдержанного государственного деятеля», с которым Америка может вести бизнес. Германская правая и националистская пресса вопила хриплыми от бешенства голосами. «У Германии достаточно проблем… Мы считаем излишним увеличивать их, предлагая гостеприимство самому мощному пропагандисту большевизма», — заявляла «Berliner Börsenzeitung». «Советско-еврейская ищейка Троцкий хотел бы жить в Берлине», — писала гитлеровская «Beobachter». «Мы должны бдительно следить за этим еврейским убийцей и преступником».[6]
Социал-демократические партии, особенно находившиеся у власти, испытывали некоторое угрызение своей демократической совести, но не менее других опасались его. Когда на заседании кабинета Лансбери выразил протест против обращения с Троцким, премьер-министр, министр иностранных дел и министр внутренних дел ответили: «Пока он находится там, в Константинополе, в труднодоступном месте, — ни в чьи интересы не входит, чтобы он перебрался куда-нибудь в другое место. Все мы боимся его». Беатрис Уэбб, выражая свое восхищение перед его интеллектом и «героическим характером», писала Троцкому: «Мы с мужем очень сожалеем, что вас не пускают в Великобританию. Но я боюсь, что всякий, кто проповедует вечную революцию, т. е. переносит революционную войну в политику других стран, всегда будет лишен доступа в эти другие страны». Исторически это не совсем верно: Карл Маркс и Фридрих Энгельс большую часть своей жизни провели как беженцы в Англии, «проповедуя перманентную революцию». Но времена изменились, и Маркс с Энгельсом не были такими счастливчиками и несчастливчиками, чтобы превратиться вначале из неприметных политических изгнанников в лидеров настоящей революции, а потом опять в изгнанников. Троцкий не очень был удивлен теми чувствами, которые вызывал. Он отказался обращаться за визами более дипломатично, как его призывали Пазы. Он не дергал за ниточки за кулисами и воздерживался от публичных заявлений. Даже в поисках убежища для самого себя он не прекращал участвовать в борьбе идей. Он знал, что правительства и правящие классы в своем страхе перед ним платят ему дань уважения: они не могли рассматривать его как какого-то частного просителя визы и были вынуждены обращаться с ним, как с воплощением революционности.
Не дожидаясь результатов многочисленных запросов и ходатайств по визам, Троцкий принялся за работу. В первые недели после его приезда на Принкипо наблюдалась необычная суматоха. Репортеры со всех континентов устремились за интервью. За один лишь май месяц приехало человек семь гостей и друзей из одной лишь Франции и оставались у него неделями и даже месяцами. Приезжали молодые троцкисты, чтобы служить телохранителями и секретарями. Звонили немецкие и американские издатели с предложениями подписать контракты на будущие книги и выдать авансов в счет авторского гонорара. Отовсюду писали диссиденты-коммунисты, задавая вопросы по идеологии и политике; и вот так Троцкий, систематически отвечая на каждый вопрос и исписывая горы бумаги, оказался по горло занятым перепиской, просто удивительной по объему. Подобную переписку ему пришлось вести, невзирая на обстоятельства, до самого конца жизни. Он готовился к первому выпуску «Бюллетеня оппозиции», небольшого периодического издания (оно начало выходить в июне), которому было суждено стать основной трибуной для дискуссии по внутрипартийным проблемам и самым важным средством связи с оппозицией в Советском Союзе. Нелегко было редактировать это издание в Буйюк-Ада и отыскать русские печатные машинки вначале в Париже, а потом в Берлине. В то же время Троцкий занялся организацией своих сторонников.
Кроме того, в первые месяцы пребывания на острове он подготовил для публикации ряд книг. Он стремился ознакомить мир с «Платформой» объединенной оппозиции 1927 года, которая увидела свет под названием «Истинное положение в России». Он собрал коллекцию документов, запрещенных в Советском Союзе, которые вошли в том «Сталинская школа фальсификации». В книге «Третий Интернационал после Ленина» он представил свою «Критику проекта Программы Третьего Интернационала» и послание, которое из Алма-Аты адресовал VI конгрессу. Сокращенная и частично искаженная версия этих текстов уже появилась за рубежом, и это стало еще одной причиной стремления Троцкого опубликовать полные и неискаженные заявления. «Перманентная революция» была небольшой, также написанной в Алма-Ате книгой, в которой он заново формулировал и защищал свою теорию в споре с Радеком.
Главным литературным плодом сезона стала, однако, «Моя жизнь». Побуждаемый Преображенским и другими друзьями написать автобиографию, он в Алма-Ате набросал вступительные части, рассказав о своем детстве и юности. На Принкипо он торопливо продолжал работу, отсылая по мере готовности отдельные части к своим немецким, французским и английским переводчикам. Работа шла так быстро, что казалось странно, что в Алма-Ате он набросал лишь вступительные части, а не много больше. Менее чем через три месяца после приезда в Буйюк-Ада он уже мог написать жившей в Вене старой революционной семье Клячко, с которой был знаком задолго до 1914 года: «Я все еще полностью погружен в эту автобиографию и не знаю, как из нее выбраться. Я практически давно закончил ее, но проклятый педантизм не позволяет поставить точку. Продолжаю искать ссылки, проверять даты, убирать одно и вставлять другое. Не раз мной овладевало искушение бросить все это в камин и приняться за более серьезную работу. Но, увы, сейчас лето, и в камине нет огня, а, кстати, здесь нет и каминов». В мае он послал Александре Рамм, своему немецкому переводчику, большую часть этой работы; несколько недель спустя у нее на руках уже были части, относящиеся к Гражданской войне. В июле его опять стал донимать «проклятый педантизм», и он принялся переписывать вступительные страницы книги. Ранней осенью вся рукопись была закончена, и ее отрывки печатались в газетах. Привередливо исправляя немецкий и французский переводы, он уже готовился начать «Историю русской революции», первый конспект которой Александра Рамм получила до конца ноября.[7]
Посреди этой вспышки активности его никогда не оставляло беспокойство за детей, внуков и друзей, которых он оставил «за границей». Горе от смерти Нины все еще было свежо, когда его встревожила болезнь Зины — старшей дочери от первого брака. Он узнавал новости о ней из Парижа, где Пазы держали связь с его семьей в Москве через одного сочувствующего в персонале советского посольства. Зина страдала от туберкулеза; и смерть ее сестры, преследования отца, депортация в Сибирь мужа, Платона Волкова, и трудности выживания ее собственные и двоих детей — все это подорвало ее душевное равновесие. Она безуспешно пыталась получить официальное разрешение на выезд из страны, чтобы воссоединиться с отцом. Троцкий поддерживал ее материально, а его доброжелатели призывали советское правительство выдать ей выездную визу. Мать ее, Александра Соколовская, все еще находилась в Ленинграде, хотя никто не знал, как долго будет разрешено ей оставаться. Она заботилась о детях Нины — их отец, Манн-Невельсон, также был депортирован и посажен в тюрьму. Но это еще не все: жена Лёвы и их ребенок также остались в Москве на произвол судьбы. Так что среди потомков Троцкого не менее четырех семей были разрушены беспощадным политическим конфликтом. Почти каждая неделя приносила вести о преследованиях друзей и неописуемых страданиях, болезнях в тюрьме, голоде, стычках с тюремщиками, голодовках, самоубийствах и смертях. Троцкий делал все, что мог, чтобы возбудить протесты, особенно против преследований Раковского, до недавних пор наиболее известного и самого уважаемого советского посла на Западе, которого таскали из одного места заключения в другое, с которым случались сердечные приступы и от которого вот уже несколько месяцев не было никаких вестей.
Жизнестойкость Троцкого повышалась в атмосфере тревоги, беспокойств и усталости. Он утопил свои горести в упорном труде и в общении с друзьями и последователями и снимал напряжение от работы, занимаясь греблей и рыбалкой в небесно-синих водах Мраморного моря. Даже во время отдыха он не мог не давать выхода своей энергии; ее следовало расходовать все время. Как и в Алма-Ате, его рыбная ловля была связана с тщательно подготовленными походами на больших лодках, грузилами и бреднями. Он отправлялся в длительные путешествия в сопровождении двух турецких рыбаков, которые постепенно стали незаменимы в его домашнем хозяйстве. Вместе с ними Троцкий трудился, таскал сети и грузила и возвращался с уловом. (Истмен, считавший такой способ расслабления не очень удачным, задумывался, а «не то ли это настроение, в каком он занимался рыбалкой, — состояние напряженных, стремительных, методичных действий — почти такое же, с каким он ехал в Казань, чтобы разгромить белые армии».) Он не мог расходовать свою силу — как физическую, так и душевную — скупо; и даже хроническое нездоровье не могло снизить его стремительность и энергию. Иногда он отправлялся в плавание в одиночку и, к тревоге своей семьи и секретарей, надолго исчезал. Один его сторонник, приехавший в такой момент, удивлялся, не боится ли Троцкий, что где-нибудь в море ГПУ устроит для него ловушку. Троцкий ответил с каким-то фатализмом, что ГПУ настолько мощно, что уж если решило уничтожить его, то он ничего не сможет поделать. В то же время он не видел причины, почему ему становиться собственным тюремщиком и лишать себя остатков свободы и цвета и вкуса жизни.[8]
Плохие предчувствия, с которыми он въезжал в Турцию, несколько рассеялись. Турки вели себя корректно и даже услужливо. Кемаль-паша держал себя безупречно, хотя Троцкий все еще относился к нему с недоверием. Полицейские, поставленные у ворот виллы, настолько привязались к своему подопечному, что сами стали частью семейства, были на посылках и помогали в домашних делах. Белоэмигранты не предпринимали попыток проникнуть через высокую ограду. Даже ГПУ казалось далеким и безучастным. Эта ситуация, однако, была обманчивой: ГПУ было всем, чем угодно, только не равнодушным. Слишком часто кто-нибудь из его агентов, выдавая себя за горячего сторонника, проникал в окружение Троцкого под видом секретаря или телохранителя. Наталья пишет: «Латыш Франк оставался на Принкипо пять месяцев. Потом мы узнали, что он был информатором русской разведки, как и некий Соболевичус, тоже латыш, который приезжал к нам на короткое время (его брат Роман Уэлл действовал как агент-провокатор в кругах оппозиции в Париже и Центральной Европе…)». Проблема была в том, что не все эти люди, раскрытые как агенты, обязательно играли такую роль; самые опасные шпионы так и не были разоблачены. Соболевичус, например, спустя тридцать лет севший в тюрьму как советский агент, признался, что действительно шпионил за Троцким в период Принкипо. И тем не менее, вся его переписка с Троцким и обстоятельства их разрыва бросают тень сомнения на правдивость этой части его признания. Соболевичус сам порвал с Троцким после того, как открыто и неоднократно высказался о важных политических разногласиях, а агенты-провокаторы так себя не ведут. В конце концов Троцкий осудил его как сталиниста, но не верил, что тот является провокатором. Как бы там ни было, и Соболевичус, и его брат в течение первых трех лет жизни у Троцкого пользовались почти безграничным доверием. Они не были новичками в троцкистских кругах. Соболевичус был в России корреспондентом левой марксистской газеты «Sächsische Arbeiterzeitung», и там в 1927 году вступил в ряды троцкистской оппозиции. И он, и его брат позднее были исключительно активны во Франции и Германии и поставляли Троцкому много полезной информации и справочные материалы для его книг. Они помогали ему публиковать «Бюллетень оппозиции», и через их руки прошло многое из его подпольной переписки с Советским Союзом, шифров, тайнописных материалов, секретных обращений и т. д.
В подпольной организации вообще трудно избежать проникновения провокатора. Такая организация неизбежно становится целью для осведомителей, и столь же легко ошибиться, проявляя излишнюю подозрительность, которая может парализовать всю деятельность, сколь и проявить недостаточную бдительность. Что было еще хуже для Троцкого, так это то, что очень немногие из его западных последователей были знакомы с русским языком и ситуацией в России, и поэтому он чрезмерно зависел от немногих имевшихся соратников. Его работа была бы почти невозможной без помощи Лёвы, но этого было недостаточно, и Троцкий с неловкостью принимал помощь от сына, потому что это была жертва со стороны молодого человека, которому недавно исполнилось двадцать, обрекающего себя на жизнь отшельника на Принкипо. Поэтому Троцкому приходилось то и дело подыскивать русского секретаря, что облегчало для осведомителей задачу проникновения. Иногда друзья предотвращали беду своевременным предупреждением. Так, в начале 1930 года Валентин Ольберг с русско-меньшевистской родословной, выдавая себя за троцкиста, усиленно пытался добиться доступа на Принкипо в качестве секретаря. Франц Пфемферт и Александра Рамм, заподозрив этого соискателя, поделились из Берлина с Троцким своими опасениями, и Ольберга прогнали, а в 1936 году ему было суждено появиться в качестве обвиняемого и свидетеля против Троцкого, Зиновьева и Каменева на первом из великих московских процессов.[9]
Такие своевременные предупреждения были, к сожалению, редки, и в последующие годы мрачная фигура провокатора следовала за Троцким, как проклятие.
Финансовая ситуация Троцкого в период Принкипо оказалась значительно легче, чем ожидалось. Его литературные заработки были крупными, жизнь на острове дешевой, а потребности его и семьи крайне скромны. По мере того как росло домашнее хозяйство с секретарями и всегда надолго задерживавшимися гостями, а корреспонденции стало приходить чуть ли не столько же, сколько ее поступает в небольшое государственное учреждение, расходы выросли до 12 000 и даже 15 000 американских долларов в год. Широкий международный круг читателей обеспечил Троцкому соответственно высокие авторские гонорары. За первые написанные в Константинополе статьи он получил 10 000 долларов, из которых отложил 6000 для издания «Бюллетеня оппозиции» и французских, и даже американских троцкистских газет. Потом в этом же году он получил существенные авансы от различных издательств на «Мою жизнь», причем только от американского издательства 7000 долларов. В 1932 году «The Saturday Evening Post» заплатила 45 000 долларов за публикацию по частям «Истории русской революции». Покинув советское консульство в Константинополе, Троцкий занял у Мориса Паза 20 000 французских франков. Год спустя он вернул долг и уже не имел необходимости более одалживаться. Когда в мае 1929 года Паз спросил, есть ли у него какие-либо проблемы, Троцкий ответил, что совсем нет, потому что теперь он может себе позволить помогать деньгами своим политическим друзьям на Западе. Как свидетельствует его переписка и сохранившиеся счета, он это делал весьма щедро, чем некоторые из его адресатов весьма неприлично и пользовались.
Задолго до своего поражения Троцкий, Зиновьев и даже Шляпников делали попытки организовать сторонников в зарубежных компартиях. Эти усилия поначалу были не лишены успеха, несмотря на исключения из партии и высылки.[10]
Однако тактические маневры и отходы русской оппозиции так же дезориентировали коммунистов за рубежом, как наводили на них ужас и сталинские репрессии. Окончательная капитуляция фракции Зиновьева деморализовала ее заграничных союзников. Поражения и депортация Троцкого не оказали такого же эффекта. В глазах коммунистов, еще не готовых подчиниться сталинскому диктату, его моральный авторитет был, как всегда, высок, а легенда, окружавшая его имя, легенда неукротимой воинственности и побед обогатилась новой нотой жертвенности. И все-таки Коминтерн уже заклеймил троцкизм с такой жестокостью и так свирепо подавлял его в зарубежных секциях, что ни один коммунист не мог надеяться на какие-либо привилегии, если придерживался этой «ереси»; и лишь немногие были готовы следовать за жертвой по его пути.
С Принкипо Троцкий вознамерился вновь сплотить своих сторонников, как прошлых, так и настоящих. То, что у него не было власти, которую он мог бы с ними разделить, не делало в его глазах это предприятие безнадежным — наоборот, дело становилось даже более привлекательным. Зная, что карьеристы и бюрократы не отзовутся, он обращался только к мыслящим и бескорыстным. Разве не состояла всегда сила революционной организации скорее в глубине убежденности ее членов и в их преданности, чем в их количестве? На рубеже десятилетия сталинского правления Коминтерн все еще не укрепился. Почти всякий, кто провел эти годы в коммунистической партии, мог из собственного опыта поведать примеры замешательства и неохоты, с которыми партийные кадры и рядовые коммунисты приспосабливались к новым правилам, благословленным в Москве. Под личиной конформизма, пока лишь под овечьей шкурой, скрывалось недоумение, скептицизм и упрямство. Существовали еще старые марксистские привычки мышления и беспокойной совести, для которых судьба Троцкого была постоянным вызовом. Хороший партиец считал своим высшим долгом осуществлять на практике солидарность с русской революцией, а посему не мог осмелиться противоречить тем, кто сейчас правил в Москве, кто говорил голосом революции и кто утверждал, что иностранный коммунист обязан в комитетах и партийных ячейках голосовать за резолюции, осуждающие троцкизм. Партиец голосовал так, как от него требовали, но вся эта «кампания» оставалась для него печальной загадкой. Яд, которым она сопровождалась, смутно раздражал его. Коммунист не мог разобраться в поводе. Иногда он задавался вопросом, почему требуется его скромное подтверждение этой повергающей в трепет анафемы, доносящейся издалека сверху. Пролетарии, кроме очень молодых и несведущих, припоминали дни славы Троцкого, его ошеломительные атаки на мировой капитализм и его яростные воззвания, возбуждавшие столь многих из них и даже приводившие некоторых людей в их ряды. Перемены в отношении партии к человеку, которого они помнили как ближайшего соратника Ленина, казались непостижимыми. И все-таки они мало или совсем ничего не могли сделать в этой ситуации. Кое-где немногие возмущенные той или иной манипуляцией с «линией партии» отказывались от членства, но большинство приходило к выводу, что, вероятно, им не стоит без толку волноваться из-за того, что похоже на распрю между большими начальниками, что Россия далека и ее трудно понять, а их собственные классовые враги тут, рядом, дома и против них Коммунистическая партия сражается надежно и смело. Они продолжали быть лояльными партии, но делали это не из-за сталинизма. И какое-то время они еще пожимали плечами от смущения, когда слышали, как их партийное руководство бранит Троцкого, обзывая его «предателем и контрреволюционером».
Влияние Троцкого на представления левой и радикальной интеллигенции все еще было огромным. Когда Бернард Шоу писал о нем как о человеке, вновь ставшем «вдохновителем и героем всех бойцов крайне левого крыла в каждой стране», он был не так далек от истины, как это могло показаться позднее.[11]
Мы видели впечатляющий перечень знаменитостей радикальной Англии, которые выступали в защиту Троцкого против своего собственного правительства. (По правде говоря, Британская коммунистическая партия была меньше заражена троцкизмом, чем любая другая; однако в переписке Троцкого с Принкипо найдешь толстую папку исключительно дружеских и искренних писем, которыми он обменивался с одним коммунистическим писателем, позднее получившим печальную известность за свою сталинскую ортодоксальность.) Среди европейских и американских поэтов, романистов и художников, известных или близких к достижению славы, Андре Бретон и другие представители школы сюрреализма, голландская поэтесса Генриэтта Ролан Хольст, Панаит Истрати, чья подобная метеору, но печальная карьера в то время была в зените, Диего Ривера, Эдмунд Уилсон, молодой Андре Мальро и многие другие были во власти его обаяния. «Троцкий продолжает не давать покоя коммунистическим интеллектуалам», — говорит один историк американского коммунизма и с помощью иллюстраций цитирует Майкла Голда, хорошо известного коммунистического писателя и редактора, который даже после первых анафем Троцкому «не мог удержаться, чтобы не превознести Троцкого [в „New Masses“] как „почти столь же универсального человека, как Леонардо да Винчи“!» Еще в 1930 году Голд писал среди некоторых банальных унизительных замечаний, что «Троцкий ныне — бессмертная часть великой русской революции… одна из вечных легенд человечества, наподобие Савонаролы или Дантона». «Беспредельное восхищение Троцким не ограничивалось Майклом Голдом, — свидетельствует другой американский коммунистический литератор, — им отличались все крайние радикалы в нашей стране, следившие за событиями в России».
В большинстве европейских стран были активны группы исключенных троцкистов и зиновьевцев, возглавляемые немногими из основателей Коммунистического Интернационала. Прошло лишь пять лет или около этого, когда Центральный комитет Французской компартии единодушно выразил протест против антитроцкистской кампании. Между 1924-м и 1929 годами Альфред Ромер, Борис Суварин и другие продолжали бороться против сталинизма.[12]
Троцкистские симпатии были живы в революционно-синдикалистской группе Пьера Моната, который стал одним из создателей Французской коммунистической партии, но потом отстранился от нее. Зиновьевцы сохраняли свою группировку. В Германии существовал Ленинбунд, а также веддингская оппозиция (названная так по имени самого крупного рабочего района Берлина); но там скорее зиновьевцы, представленные Аркадием Масловым и Рут Фишер, задавали тон среди раскольников, нежели троцкисты. Два видных лидера итальянских коммунистов — Антонио Грамши и Амадео Бордижа, оба пленники Муссолини, — объявили, что выступают против Сталина. Грамши из своей тюремной камеры послал свое заявление в Москву, где Тольятти, партийный представитель при Исполкоме Коминтерна, скрыл его.[13]
Андре Нин, самый талантливый истолкователь марксизма в Испании, связал свою судьбу с русской оппозицией и целые годы поддерживал связь с Троцким. В Голландии Маринг-Сневлиет, первый вдохновитель индонезийского коммунизма, возглавлял сильную группу голландских левых профсоюзов, противостоявшую сталинизму. В Бельгии ван Оверстратен и Лесуа, бывшие руководители компартии, и их сторонники, прочно закрепившиеся в большом угледобывающем районе Шарлеруа, также приняли троцкизм.
Внутрипартийные противоречия в определенной степени отразились даже в Азии. Эмбрионы троцкизма были занесены в Шанхай, Пекин, Гуандун и Ухань бывшими студентами Университета Сунь Ятсена в Москве, которые были свидетелями борьбы Троцкого по китайскому вопросу в 1927 году. В 1928 году они созвали первую национальную конференцию китайской оппозиции, и некоторые из них предвкушали альянс с Мао Цзэдуном, на которого в то время Коминтерн смотрел неодобрительно, потому что в 1925–1927 годах поведение его и Троцкого часто совпадало, а еще потому, что сейчас, в период отлива революции, он занялся партизанской войной против гоминьдана. В 1929 году Чен Дусю, партийный руководитель до 1927 года, выступил с открытым письмом, в котором обнародовал грязную историю отношений между Москвой, гоминьданом и китайским коммунизмом, и признал, что критика Троцким политики Сталина и Бухарина была слишком хорошо обоснована.[14]
Троцкистское влияние стало ощущаться в Индокитае, Индонезии и на Цейлоне. Примерно в то же время Троцкий обрел новых приверженцев в Америке: Джеймса П. Кеннона и Макса Шахтмана, членов Центрального комитета в Соединенных Штатах, и Мориса Спектора, председателя Компартии Канады. Даже в отдаленной Мексике группа коммунистов, поддерживаемая Диего Риверой, сплотилась во имя дела еретиков, разгромленных в Москве.
Троцкий установил связь со всеми этими группами и пытался спаять их в единую организацию. Со времени его депортации из Москвы они существовали за счет его идей и печатали в небольших газетах и бюллетенях фрагменты из его сочинений, тайно вывезенных из Советского Союза. Его появление в Константинополе давало им стимул; его моральный авторитет был их величайшим капиталом. Они ожидали, что он вдохнет жизнь во всемирную коммунистическую оппозицию сталинизму. Правда, его авторитет налагал на него и обязанности, потому что они привыкли к ограниченным ролям учеников и поклонников. Троцкизм уже находился, как выразился Гейнрих Брандлер, в маленькой лодке, перегруженной огромным парусом. Даже в российской оппозиции личность Троцкого стояла на голову выше других, но там он все-таки был окружен коллегами, отличившимися в революции, людьми с независимым мышлением, сильным характером и богатым опытом. Среди его сподвижников за пределами России не было ни одного столь же авторитетного человека, кроме одного-двух. Он надеялся, что эта слабость оппозиции скоро будет устранена, и из партийных рядов поднимутся новые лидеры. Он и не предполагал, что скоро останется единственным лидером-эмигрантом российской оппозиции. Он ожидал, что Сталин, кроме него, вышлет и других, особенно Раковского и Радека, и, как только они покинут Россию, международная оппозиция обретет «сильный управляющий центр». Этим ожиданиям не суждено было сбыться: в намерения Сталина не входило усиливать Троцкого другими изгнанниками.
Так что же, помимо магии личности, представлял собой троцкизм на этой стадии?
В его основе находились принципы революционного интернационализма и пролетарской демократии. Революционный интернационализм являлся наследием классического марксизма; 3-й Интернационал однажды спас его, выхватив из слабеющих рук 2-го; а теперь Троцкий защищал его и от 3-го, и от 2-го Интернационала. Это принцип не был для него простой абстракцией: он пронизывал его мысли и политические инстинкты. Он никогда не рассматривал какой-либо вопрос политики вне международной перспективы; и его высшим критерием был наднациональный интерес коммунизма. Поэтому он воспринимал доктрину о «социализме в одной стране» как «национально-социалистическое» искажение марксизма и как краткое изложение национальной независимости и самоуверенности советской бюрократии. Сейчас эта доктрина правит не только в Советском Союзе, где, по крайней мере, она отвечает психологической потребности; она также является официальным каноном международного коммунизма, где в ней такой нужды нет. Подчинившись священному эгоизму сталинистской России, Коминтерн разрушил смысл собственного существования: Интернационал, привязанный к социализму в единственной стране, — противоречие по смыслу. Троцкий отмечал, что теоретически концепция изолированного и самостоятельного социалистического государства чужда марксистскому мышлению — она родилась из национал-реформистской теории германских ревизионистов XIX столетия — и практически выражает самоотречение от международной революции и подчинение политики Коминтерна сталинской выгоде.[15]
Защищая главенство интернационального над национальным, Троцкий, тем не менее, был далек от того, чтобы рассматривать национальные интересы Советского Союза с какой-либо степенью нигилистского пренебрежения или упускать из виду его особые дипломатические и военные интересы. Он утверждал, что защита первого государства рабочих — долг каждого коммуниста. Но он был убежден, что сталинская независимость ослабляла Советский Союз, чей конечный интерес состоял в преодолении изоляции и расширении революции. Поэтому Троцкий полагал, что на решающих этапах международной классовой борьбы государство рабочих должно в перспективе быть готовым пожертвовать сиюминутными преимуществами, которые скорее мешают этой борьбе, так же как Сталин и Бухарин мешали китайской революции в 1925–1927 годах. В наступающем десятилетии этот спор должен был перейти на вопросы коммунистической стратегии и тактики в борьбе с нацизмом и народными фронтами; но в основе все еще лежал конфликт между (пользуясь аналогией с современной американской политикой) троцкистским интернационализмом и изоляционизмом, который окрашивал сталинскую политику в 20-х и 30-х годах.
На первый взгляд отношение Троцкого к коммунистам, находящимся за пределами Советского Союза, было более родственным, чем у Сталина, и он имел основания ожидать, что это вызовет более сильный отклик, потому что Троцкий полагался на их важность как независимых действующих лиц в международной классовой борьбе, в то время как Сталин отводил им роли простых клиентов, подданных «рабочего отечества».
Защита Троцким «пролетарской демократии» была нацелена на освобождение компартий от строгостей их ультрабюрократических организаций и на восстановление в их среде «демократического централизма». Этот принцип также был встроен в их марксистские традиции и все еще был вписан в их уставы. Демократический централизм должен был защитить в социалистических, а потом и в коммунистических партиях свободу в дисциплине и дисциплину в свободе. Он обязывал поддерживать строжайшую гармонию и единство в действии и позволял принимать во внимание широчайшее разнообразие взглядов, совместимых с их программой. Он обязывал меньшинство выполнять решения большинства; и он обязывал большинство уважать право любого меньшинства и на критику и возражения. Он облекал Центральный комитет любой партии (и руководство Интернационала) полномочиями эффективно командовать рядовыми членами во время пребывания в должности. Но этот принцип гласил, что Центральный комитет зависит от воли и свободного голосования рядовых членов. Поэтому данный принцип имел большую воспитательную и практическую политическую ценность для движения. А отказ от него и замена его бюрократическим централизмом разрушили Интернационал. Если в советской партии монолитная дисциплина и сверхцентрализация были неотъемлемыми частями органической эволюции большевистской монополии на власть, распространение этого режима и на зарубежные секции Коминтерна было совершенно искусственным и не имело связи с их национальной средой и условиями существования.
Большинство западных компартий привыкли действовать внутри многопартийной системы, где, как правило, они пользовались формальной свободой критики и обсуждения. Теперь их лидеры оказались в парадоксальной ситуации, когда внутри своих собственных организаций они отказывали собственным сторонникам в правах, которыми те пользовались вне этих организаций. К 1930 году уже ни один немецкий, французский или иной коммунист не мог выразить несогласие с линией партии; они были обязаны принимать все официальные заявления, исходящие из Москвы, как Евангелие. Отныне каждая компартия стала чем-то вроде странного анклава внутри собственной страны, резко отделенного от остальной части народа не столько своей революционной целью, сколько уставом поведения, который имел мало общего с этой целью. Это был устав какого-то почти церковного ордена, который подвергал своих членов духовной муштре, столь же суровой, как и та, что практиковали в монастырях после Реформации. И действительно, с помощью этой муштры сталинизированный Коминтерн добился исключительных успехов в наведении дисциплины. Но дисциплина такого рода на силу революционной партии действовала деструктивно. Такая партия должна быть внутри народа, ради которого она трудится; ее нельзя держать отдельно путем соблюдения какого-то культа, известного лишь посвященным. Сталинизм со своими молитвами сжигал жертвоприношения, и фимиам, несомненно, завораживал некоторых интеллектуалов в их поисках мировоззрения, тех интеллектуалов, которые впоследствии проклянут этот культ как «обанкротившееся божество». Но овладевший ими культ редко обращался к рабочим массам, к тем «несгибаемым пролетариям», которых он должен был устраивать. Кроме того, странная дисциплина и ритуал связывали руки и ноги партийным агитаторам, в то время как то, что им было нужно, — это свободный и легкий подход к тем, кого они желали завлечь в свои ряды для благого дела. Когда европейский коммунист начинал защищать свои цели перед рабочей аудиторией, он обычно встречал там в качестве оппонента социал-демократа, чьи аргументы ему требовалось опровергнуть и чьим лозунгам он должен был противостоять. Чаще всего он этого сделать не мог, потому что не обладал культурой политических диспутов, которые не культивировались внутри партии, и потому что обучение лишало его способности «ломиться в закрытую дверь». Он не мог достаточным образом проникнуть в глубь аргументации оппонента, ибо ему все время приходилось думать о своей собственной ортодоксии и проверять, не отклоняется ли то, что он сам говорит, от линии партии. Он мог с механическим фанатизмом детально толковать предписанный набор аргументов и лозунгов; но непредвиденное сопротивление или неожиданные вопросы сразу же лишали его хладнокровия. Когда его призывали, как это часто случалось, ответить на критику в адрес Советского Союза, ему редко удавалось сделать это убедительным образом; благодарственные молебны в адрес отечества рабочих и восхваления в адрес Сталина делали его посмешищем в глазах любой трезво мыслящей аудитории. Эта неэффективность агитации сталинизма была одной из многих причин, почему за многие годы даже в самых благоприятных условиях эта агитация была мало или вообще не результативна в борьбе против социал-демократического реформизма.
Троцкий намеревался встряхнуть коммунистические партии в их застое и пробудить в них напористость, энергию, уверенность в своих силах и боевой пыл, которыми они когда-то обладали, — и который они не могли обрести вновь, не имея свободы в собственных рядах. Снова и снова он разъяснял смысл «демократического централизма» для блага самих же коммунистов, которые никогда не понимали его или уже позабыли. Он обращался к ним ради их собственных интересов, во имя их собственного достоинства и будущего, надеясь, что они не останутся неотзывчивыми. И в самом деле, если бы марксистские принципы или коммунистический личный интерес имели какой-то вес, его аргументы и призывы не остались бы неуслышанными.
Помимо этих фундаментальных принципов, троцкизм также представлял собой набор тактических представлений, зависящих от обстоятельств. Очень большая часть написанного Троцким в изгнании состоит из комментариев на эти темы, редко способные взволновать постороннего, особенно по прошествии времени. Тем не менее, диапазон тактических идей Троцкого был так широк, а его взгляды все еще так значимы для политики рабочего класса, что его высказывания имеют более чем просто исторический интерес.
Надо помнить, что между 1923-м и 1928 годами, когда Коминтерн придерживался «умеренной» линии, Троцкий и его сторонники критиковали ее слева. После 1928 года ситуация несколько изменилась. Поскольку Сталин положил начало левому курсу в Советском Союзе, политика Коминтерна через автоматическую передачу ей каждого движения и рефлекса российской партии изменила направление. Уже на своем VI конгрессе летом 1928 года Интернационал начал перемещать свои лозунги и тактические указания с правой модели на ультралевую. В последующие месяцы эта новая линия развивалась и далее, до тех пор, пока не стала диаметрально противоположной старой во всех отношениях. Если в предыдущие годы Коминтерн вел речь об «относительной стабилизации капитализма», то теперь он диагностировал конец стабилизации и предсказывал неминуемое и окончательное крушение капитализма. Это была основная проблема так называемой теории Третьего периода, главным истолкователем которой стал Молотов, заменивший Бухарина во главе Коминтерна. Согласно этой теории политическая история послевоенной эры распадается на три отличные друг от друга части: первая — период революционных напряжений и нагрузок, длившийся до 1923 года; вторая — период капиталистической стабилизации, который завершился к 1928 году; и третий период, открывающийся сейчас, должен привести к смертельной агонии капитализма и империализма. Если до сих пор международный коммунизм оборонялся, то теперь настало время перейти в наступление и переключиться с борьбы за «частичные требования» и реформы к прямой войне за власть.
Коминтерн утверждал, что все противоречия капитализма должны вот-вот привести к взрыву, потому что буржуазия не сможет справиться со следующим экономическим кризисом. Интернационал утверждает, что задатки революционной ситуации уже очевидны по всему миру, особенно в новом радикализме рабочего класса, который стряхивает с себя реформистские иллюзии и фактически дожидается, чтобы коммунисты возглавили и повели рабочих в бой. Почти всякий классовый конфликт теперь обладал революционным потенциалом и мог привести к «уличным боям» или более недвусмысленно — вооруженному восстанию. «Во всем капиталистическом мире, — писал „Большевик“ в июне 1929 года, — растет волна забастовок… элементы упорной революционной борьбы и гражданской войны переплетаются с забастовками. В борьбу вовлекаются массы неорганизованных рабочих… Рост недовольства и полевение масс охватывают также миллионы сельскохозяйственных рабочих и угнетенного крестьянства». «Надо быть тупым оппортунистом или несчастным либералом… — говорил Молотов на Исполкоме Интернационала, — чтобы не видеть, что мы вступили обеими ногами в зону самых потрясающих революционных событий международного значения». Эти слова были не долгосрочным прогнозом, а краткосрочным предсказанием и руководством к действию. Несколько коммунистических партий Европы попытались превратить первомайские демонстрации 1929 года и антивоенные демонстрации, организованные 4 августа, в настоящие «уличные бои», что привело к бесполезным и кровавым стычкам между демонстрантами и полицией в Берлине, Париже и других городах.
Согласно этой «генеральной линии» Коминтерн также изменил свое отношение к социал-демократическим партиям. В истинно революционной ситуации, как утверждалось, эти партии могут быть только на стороне контрреволюции; и поэтому у коммунистов нет никаких оснований искать с ними сотрудничества или частичного соглашения. Поскольку буржуазия стремится сохранить свое господство с помощью фашизма, эра парламентского правления и демократических свобод подходит к концу, а так как сама парламентская демократия «изнутри» трансформируется в фашизм, социал-демократические партии также становятся «социал-фашистскими» — «социалистическими на словах и фашистскими в делах». Так как они скрывают свое истинное лицо под атрибутами демократии и социализма, социал-демократы представляют еще большую угрозу, чем неприкрытый фашизм. Вот почему коммунисты должны концентрировать свой огонь на «социал-фашизме» как на «главном враге». Подобным же образом левые социал-демократы, часто говорящие на языке, почти неотличимом от языка коммунизма, даже еще более опасны, нежели правые «социал-фашисты», и с ними надо бороться еще более решительно. «Если до сих пор от коммунистов требовалось сформировать единый фронт с социал-демократами „сверху и снизу“, как с лидерами, так и с рядовыми членами партий, теперь Коминтерн объявил суровый запрет на всякую подобную тактику. Единый фронт может быть создан „только снизу“ — коммунистам разрешено сотрудничать лишь с теми из рядовых социал-демократов, кто „готов порвать с собственными лидерами“. Благоволить всякому контакту „сверху“ означало помогать и содействовать „социал-фашизму“.
Этим понятиям и предписаниям было суждено управлять политикой всех коммунистических партий в течение следующих пяти или шести лет — почти до времени Народного фронта, сквозь ужасные годы Великой депрессии, подъем фашизма, крушение монархии в Испании и другие события, в которых поведение коммунистических партий имело решающее значение.
В предшествовавший период, когда Троцкий утверждал, что своей робкой политикой Коминтерн растрачивает революционные возможности, он никогда не предполагал обратного поворота этой линии, настолько стремительного и чрезвычайного, как это происходило сейчас. Поэтому он критиковал эту инверсию как „поворот на 180°“ и „колебание от оппортунизма к ультрарадикализму“: эти новые лозунги и тактические рекомендации просто вывернули наизнанку старые и служили для маскировки их фиаско». В уничтожающем комментарии по поводу молотовских исследований Трех периодов Троцкий отмечал, что если было неверно считать «второй период», во время которого произошли китайская революция и британская всеобщая забастовка, периодом стабилизации, то будет еще менее реалистично предсказывать неминуемое крушение капитализма в «третьем периоде» и делать вывод о необходимости исключительно наступательной стратегии. Коминтерн, говорил он, произвел эту переориентацию совершенно механически, не делая никаких попыток разъяснить, что же было неверно в его старой тактике, и без каких бы то ни было искренних дискуссий и пересмотра проблемы. Не допуская дискуссии по поводу правильности и ошибок в своих действиях, коммунистические партии были вынуждены менять курс перехода из одной крайности в другую, по приказам, от одной серии промахов к другой. Их внутренний режим уже перестал быть вопросом организационным — он влиял на всю политику Интернационала, делая ее и жесткой, и неустойчивой в одно и то же время. А лихорадочный ультрарадикализм Третьего периода вовсе не свидетельствовал о каком-либо пробудившемся революционном интернационализме в официальной Москве. Этот ультрарадикализм препятствовал росту коммунизма в мире не менее эффективно, чем это делал ранее оппортунизм, а в основе его было все то же циничное бюрократическое безразличие к международным интересам рабочего класса.
Вновь, как и прежде, Троцкий растолковывал мысль, что Первая мировая война открыла целую эпоху, а русская революция явилась одной из составляющих падения капитализма, самое основание которого было потрясено. Однако это не означает, что это здание вот-вот рухнет. Развал общественной системы никогда не бывает одиночным процессом экономического крушения или непрерывной череды революционных ситуаций. Никакая депрессия поэтому не является априори «последней и окончательной». Даже в процессе своего загнивания капитализм переживает взлеты и падения (хотя взлеты становятся все короче и неустойчивей, а падения — круче и все более разрушительными). Хотя со времен Маркса промышленный (экономический) цикл и изменился, он все еще движется своим обычным путем, не только от резкого подъема активности до кризиса, но и от кризиса к буму. Поэтому преждевременно было бы утверждать, что буржуазия «объективно» достигла своего окончательного тупика: нет такого тупика, из которого класс собственников не нашел бы выхода. И удастся ли ему это или нет, зависит не столько от чисто экономических факторов, сколько от соотношения политических сил, которое может колебаться в ту или иную сторону в зависимости от качества коммунистического руководства. Предсказывать «непрерывно растущий прилив революции», обнаруживать «элементы гражданской войны» почти в каждой бурно текущей забастовке и провозглашать, что настал момент для перехода от обороны к наступлению и вооруженному восстанию — это означает не предлагать никакого руководства и навлекать на себя поражение. В классовой борьбе, как и на войне, оборонительные и наступательные формы действий неразделимы и не могут противопоставляться одна другой. Самое успешное наступление обычно прорастает из успешной обороны; а элемент обороны присутствует даже в вооруженном восстании, этой кульминации всей революционной борьбы. Во время кризисов и депрессий рабочим приходится защищаться от посягательств на их жизненный уровень и от роста фашизма. Заявить им, что время для такой обороны прошло и они должны быть готовы к решительному наступлению на капитализм — это значит просто призывать к бездействию и сдаче, и призывать на самой высокой ноте ультрарадикального голоса. Подобным образом, запретить всякое сотрудничество между коммунистическими и социалистическими партиями — значит навлечь катастрофу на рабочее движение в целом и коммунизм в особенности. Идея Третьего периода, заключает Троцкий, является продуктом бюрократического безрассудства — «все, что было торжественно провозглашено» под покровительством «маэстро Молотова», стало «Третьим периодом коминтерновских просчетов».
Эта ранняя критика содержалась, в двух словах, в значительно более обширном споре Троцкого с Коминтерном (по поводу ущербной политики во время восхождения Гитлера к власти), которому было суждено заполнить начало 30-х годов. Ясно, что по этим тактическим вопросам троцкизм теперь нападал на Коминтерн справа, а не слева, как было до сих пор. Эта перемена вызвана не отношением самого Троцкого, который оставался верным линии, которую они с Лениным приняли на III и IV конгрессах Коминтерна в 1921–1922 годах, а циркуляцией сталинского «бюрократического централизма» и «чередованием реакционных и ультралевых зигзагов». И даже в этом случае позиция критика Сталина справа имела для Троцкого свои неудобства. Коммунисты, привыкшие воспринимать его как критика Сталина слева, были склонны подозревать его либо в непоследовательности, либо в непринципиальности. Действительно, расхождения между троцкизмом и различными правыми пробухаринскими оппозиционерами в коммунистическом лагере были расплывчаты, по крайней мере, в вопросах тактики, которые принимали такие значительные размеры в этих спорах. Группы правой оппозиции в Европе, среди которых тогда самыми важными были брандлеровцы — Брандлера и Тральгеймера только что исключили из их партии, — также резко критиковали этот новый ультрарадикализм. И все же троцкизм от всех других элементов оппозиции отличали его интеллектуальная мощь, агрессивность и полнота критики. Брандлер и Тральгеймер ограничились тем, что обличали только самые последние ультралевые «зигзаги» Коминтерна, Троцкий же нападал на весь его период деятельности после Ленина. Брандлеровцы, интересовавшиеся, главным образом, политикой своих национальных партий, старательно воздерживались от действий, способных обидеть советское руководство: во внутрисоветских конфликтах они волей-неволей принимали сторону Сталина, поддерживая социализм в единственной стране мира, оправдывая бюрократический режим тем, что он соответствует особым русским условиям, и даже поддакивая московским обвинениям в адрес троцкизма. Они были убеждены, что ни одна коммунистическая оппозиция, сопротивляющаяся Москве из принципиальных соображений, не сможет найти поддержку в рядах коммунистов. И они надеялись, что Коминтерн рано или поздно поймет нереальность политики Третьего периода, откажется от нее и смирится с теми из своих критиков, которые избежали непоправимого разрыва. Возражая на это, троцкизм настаивал на том, что нельзя поправить курс различных национальных партий и избавиться от ошибок, обходясь лишь внутренними силами, потому что главный источник их «вырождения» находится в Москве. А поэтому долг всех коммунистов состоит в том, чтобы близко воспринимать внутренние советские события и на этой основе противостоять сталинской бюрократии. Этот призыв вмешательства международного коммунистического мнения в советские дела был характерен для троцкизма. Это был вызов, порождавший ужас в большинстве коммунистических сердец.
Несмотря на полноту своей критики действий Коминтерна, троцкизм не ставил перед собой задачу создания нового коммунистического движения. В течение еще нескольких лет Троцкий был абсолютно против идеи 4-го Интернационала, уже обсуждавшейся «рабочей оппозицией» в Советском Союзе и некоторыми уцелевшими зинoвьевцами в Европе. Он объявил, что вместе со своими сторонниками верен Коммунистическому интернационалу, хоть их из него и исключили. Они создали школу мысли, которая борется за свое место в общем коммунистическом движении, — только преследования вынудили их объединиться во фракцию; и они остаются фракцией, а не соперничающей партией. Их единственная цель — оказывать влияние на коммунистическое мнение, заставить людей понять, что в советском правительстве и в Коминтерне власть захватили узурпаторы, и побудить коммунистов к борьбе за восстановление изначального марксизма и ленинизма. Поэтому они выступали за реформы в Интернационале, а не за постоянный разрыв с ним. Троцкий верил, что при всех своих изъянах и слабостях коммунистические партии все еще представляют боевой авангард рабочего класса, и место оппозиции — с этим авангардом. Если он со своими сторонниками повернется к авангарду спиной, то они добровольно уйдут в пустоту, куда их и гонит Сталин. Разумеется, сталинизм не допускал никакое оппозиционное течение утвердиться внутри Интернационала; это состояние дел не могло длиться бесконечно: важные события внутри и вне Советского Союза с неизбежностью вновь пробуждали спавшую энергию коммунизма к действию и давали оппозиции ее шанс. Троцкий предупреждал тех, кто выступал за 4-й Интернационал, что группе диссидентов недостаточно поднять новое знамя, чтобы стать реальным фактором в политике. Революционные движения не появляются по волшебству со знаменами и лозунгами, а поднимаются и растут органически вместе с общественным классом, за который они выступают. Каждый из Интернационалов представлял собой определенный этап в историческом опыте рабочего класса и в борьбе за социализм; и никто не может безнаказанно игнорировать связи, которые 2-й и 3-й Интернационал имели с массами, или вес их политических традиций. Кроме того, 3-й Интернационал был порождением русской революции; и политически сознательные рабочие распространяли на него свою солидарность с революцией. Поступая так, они были правы, утверждал Троцкий, хотя им не следовало позволять Сталину злоупотреблять их лояльностью. А поэтому, пока Советский Союз остается рабочим государством, от рабочих не приходится ожидать осуждения 3-го Интернационала или призывать их к этому.
Троцкий непреклонно придерживался точки зрения, что Советский Союз, как бы он ни был «бюрократически деформирован», остается рабочим государством. Что, по его мнению, определяло социалистический характер Советского государства — это общенародная собственность на средства производства. Пока это «самое важное завоевание Октября» остается неприкосновенным, Советский Союз обладает основами, на которых базируется его социалистическое развитие. Конечно же его рабочий класс обязан отстаивать свои права в борьбе с бюрократией еще до того, как начнет претворять социализм в реальность; но опять же он не сможет воплотить социализм в реальность иначе, как на основе общественной собственности. Если это сохранится, рабочее государство выживет хотя бы в потенциале, если уж не в действительности.
Эту точку зрения часто оспаривали, и среди других это делали собственные ученики Троцкого; но он никогда не шел на компромисс и не уступал ни пяди, даже пересматривая и изменяя другие свои идеи. Так, в первые годы своего изгнания он проповедовал реформы в Советском Союзе, но не революцию; хотя позднее был вынужден заявить, что единственным ответом на бюрократический абсолютизм является политическая революция. Ему также пришлось пересмотреть свою концепцию роли оппозиции и провозгласить новую Коммунистическую партию и новый Интернационал. Но даже тогда он не колебался в своем упорстве, что Советский Союз — это государство рабочих; он заявлял, что «безусловная защита Советского Союза» от его буржуазных врагов — элементарный долг каждого члена оппозиции; и он неоднократно отрекался от друзей и приверженцев, которые брали на себя такие обязательства по принуждению.
Результаты первых попыток Троцкого организовать своих последователей на Западе были обескураживающими. Он сконцентрировал свое внимание на Франции, где у него была наиболее влиятельная группа сторонников. В надежде создать там крепкую базу для оппозиции он попытался свести вместе различные троцкистские и полутроцкистские группы и кружки и объединить их с зиновьевцами и синдикалистами из «Revolution Prolétarienne».[16] С самого начала Ромер предупреждал его о политической депрессии и деморализации, охватившей многие группы. Минуло пять лет с поры расцвета троцкизма во Французской компартии; за это время Коминтерну удалось восстановить здесь свое влияние, изгнать всех недовольных и изолировать их от рядовых членов партии. Ощущение своей изоляции после разгрома оппозиции в России сломили волю многих антисталинцев, среди которых Ромер заметил настроение типа «спасайся, кто может», что привело их к отказу от борьбы и к желанию «не иметь с оппозицией ничего общего». Даже те, кто не поддался такому настроению, были в замешательстве и ссорились друг с другом. «Огромной бедой всех этих групп, — продолжал Ромер, — является то, что они оказались вне всякой деятельности; и это фатально усугубляет их сектантский характер».
Правильность наблюдений Ромера стала очевидной, когда Троцкий, вопреки его совету, попытался «отвоевать» для оппозиции Суварина и других. Суварин когда-то отличился тем, что в одиночку в Москве поднял свой голос в защиту Троцкого; и Троцкий, ценя его журналистский талант, рассчитывал, что Суварин станет самым четким рупором французской оппозиции. К его удивлению, Суварин выказал нетерпимые претензии. Он попросил Троцкого не делать никаких публичных заявлений без «предшествующего согласования с французской оппозицией», т. е. с ним самим. Троцкий, стремясь избежать раскола, ответил, что по французским проблемам он высказываться не будет, но до сих пор он делал публичные заявления только по советским (и китайским) делам, о которых он определенно имеет право высказываться, не запрашивая на это французской санкции. Суварин ответил огромным посланием, превышавшим 130 страниц, напичканным парадоксами, остротами, невнятицей и обрывками неприятных высказываний и исследований. Оно также содержало невероятно запутанные аргументы, и все это преподносилось в тоне ядовитой враждебности, что делало разрыв неизбежным. Суварин утверждал, что большевизм «раз и навсегда не удался за пределами России», потому что «неверно понял характер этой эпохи», недооценил мощь буржуазии и переоценил воинственность рабочих. Он также совершил «фатальную ошибку», пытаясь скроить зарубежные компартии на свой собственный манер. Это была не та точка зрения, каковы бы ни были ее достоинства, которую Троцкий ожидал услышать от человека, достойного быть его единомышленником, или какую он сам мог бы принять. Троцкий не соглашался с тем, что большевизм виновен в «фатальных ошибках», которые ему приписывал Суварин, и в провале Коминтерна он обвинял сталинизм, а не ленинизм. Однако еще более ошеломляющим было суваринское обвинение, которое, несмотря на его разговоры о советском «государственном капитализме», имело просталинский привкус — а именно обвинение в том, что Троцкий и оппозиция без необходимости «насаждают революционную непримиримость», которая мешает им уделять надлежащее внимание «реальным потребностям советского государства». «Нет ничего более важного, — это слова Суварина, — для международного рабочего движения, чем экономические успехи Советского Союза, чей государственный капитализм означает неоспоримое преимущество перед империалистическим капитализмом…» Он даже стал высмеивать «ненужный героизм», который помешал Троцкому и его товарищам служить Советской стране, даже если им не нашлось места в партии: «Можно принести пользу революции, не являясь членом Политбюро или Центрального комитета, или даже не состоя в партии». Если бы не чистый абсурд этих слов, эти замечания могли бы звучать как запоздалый совет Троцкому сдаться на милость Сталина, ибо ничто, кроме капитуляции, не позволило бы ему продолжать «службу революции», не являясь членом партии. И на одном дыхании Суварин с диким сарказмом обрушивается на верность Троцкого большевизму и ленинизму, призывая его освободиться от них и «вернуться к Марксу».
«Не вижу ничего, что бы осталось от тех связей, которые были между нами несколько лет назад», — писал впоследствии Троцкий. В том, что заявлял Суварин, он не находил «ни одного рассуждения, основанного на марксистской доктрине и… важных фактов». «Что водит вами и предлагает вам ваши парадоксы, — это перо раздраженного и разочарованного журналиста». «Вы обращаетесь с партией и Интернационалом, как с трупами. Вы видите огромную ошибку русской оппозиции в ее настойчивом стремлении повлиять на партию и вернуться в ее ряды. С другой стороны, вы описываете советскую экономику как государственный капитализм… и вы требуете, чтобы оппозиция опустилась до роли слуги при этом государственном капитализме… Вы переходите на ту сторону баррикад». На этом переписка кончается, и Суварин навсегда остался среди противников Троцкого. И хотя в 1929 году он пытался научить Троцкого, «как быть полезным для революции», прислуживая прогрессивному государственному капитализму, в последующие годы ему было суждено подвергать Троцкого осуждению за противоположный грех: за то, что тот вообще видит какой-то прогресс в Советском Союзе и думает, что там осталось достаточное наследие революции, которое стоит защищать.
Все попытки прийти к согласию с синдикалистами из «Revolution Prolétarienne», из которых наиболее известными были Монат и Лузон, также ни к чему не привели. Когда-то, во время Первой мировой войны, Троцкий имел на них сильное влияние, преодолевая их характерное предубеждение против всякой политики, включая и революционный марксизм. Потом они вступили в компартию лишь для того, чтобы быть из нее исключенными во время антитроцкистской кампании. Их личная привязанность к Троцкому все еще была сильна; но опыт с Коминтерном утвердил их в старой неприязни к политике и в убеждении, что боевая профсоюзная деятельность, завершающаяся всеобщей забастовкой, и есть столбовая дорога к социалистической революции. Как Троцкий ни старался, ему не удалось вернуть их к ленинскому мнению о первостепенной важности революционной партии и уговорить примкнуть к нему в борьбе за реформы в Коминтерне.
Он не преуспел и в посредничестве, которым пытался заняться между своими последователями и зиновьевцами. Оппоненты представляли собой небольшую группу, но у них был такой популярный лидер, как Альбер Трейн, бывший официальным руководителем Французской компартии в 1924–1925 годах. Именно Трейн в те времена, когда Зиновьев командовал «большевизацией», исключал троцкистов из партии, не жалея для них ни угроз, ни оскорблений. За это они таили злобу на него даже после того, как и его самого выгнали из партии. Троцкисты и слышать не хотели о примирении с ним. Тем не менее Троцкий пригласил его на Принкипо в мае 1929 года и целый месяц пытался достичь примирения. Старые обиды все еще были сильны, и Трейн, стремясь оправдать свое поведение в 1924 году, ничего не делал, чтобы их рассеять. Троцкий, подталкиваемый своими сторонниками, был вынужден расстаться с Трейном; но их расставание было более дружеским, нежели с Сувариным, и они оставались в приятельских, хотя и неблизких отношениях.
Едва успели произойти разрывы с Сувариным, синдикалистами и Трейном, как Троцкому пришлось заняться устранением разногласий среди самих троцкистов. Эту историю вряд ли стоило бы пересказывать, если бы она не сыграла свою роль в жизни Троцкого и в конечном крушении троцкизма как движения. В Париже было несколько соперничающих группировок: кружок Мориса и Магдалены Паз, которые выпускали небольшое периодическое издание «Contre le Courant»; Ромер и молодые троцкисты (со своими собственными газетами «Lutte des Classes» и «Verite», среди которых Пьер Навиль и Раймон Молинье сформировали две соперничающие группировки. Из всех этих лиц один лишь Ромер был общественной фигурой с заметной репутацией: он был членом небольшой группы революционных интернационалистов, которые проявили себя в Первой мировой войне. Навиль был молодым писателем, участвовавшим в литературном движении сюрреалистов, потом он вступил в компартию, приобрел кое-какой вес как марксистский критик сюрреализма, выказывал симпатии борьбе Троцкого в Москве в 1927 году и был сам исключен из партии. Он знал теорию марксизма, но имел мало политического опыта и почти никаких связей с рабочим движением. Молинье, напротив, был «активистом», полным энергии и предприимчивости, чувствовал себя как рыба в воде в этом движении, но был не слишком разборчив в выборе средств и методов. Такие прямо противоположные типы интеллектуалов и активистов часто создавали хорошее рабочее партнерство, когда были увлечены импульсом практической повседневной деятельности в больших организациях; но их антагонизм обычно разрушал маленькие группы, отрезанные от основного потока движения и оставшиеся «вне всяких действий».
Когда в начале весны 1929 года Морис и Магдалена Паз приехали на Принкипо, Троцкий призвал их объединить свой кружок с другими группами, преобразовать «Contre le Courant» в «большой и агрессивный» еженедельник, говорящий голосом оппозиции, и приступить к амбициозной кампании по приему новых членов. Он разработал с ними план этой кампании и пообещал свое личное тесное сотрудничество. Они приняли его предложение, хотя и не без оговорок. Вернувшись, однако, в Париж, они передумали и отказались заниматься выпуском большого еженедельника. Как утверждалось, они не видели у оппозиции шансов добиться успехов в любой кампании, предпринимаемой в намечаемых Троцким масштабах. Больше всего они протестовали против его «попытки навязать лидерство Ромера»; и они пренебрежительно высказывались о молодых троцкистах, лезущих в драку, как стадо дурачков и невежд. Потом уже никак нельзя было разубедить Троцкого в том, что Пазы имеют мало или вообще ничего общего с профессиональными революционерами, которых он стремился сплотить. Они были, по сути, «салонными большевиками», добившимися успеха в своих буржуазных профессиях — Морис, в любом случае, был процветающим адвокатом, — и троцкизм был для них всего лишь хобби. Пока Троцкий находился в Алма-Ате, они с удовольствием выступали в роли его представителей в Париже и прохаживались в отраженных лучах его славы; но, когда он приехал из России и столкнулся с ними лично, предъявляя свои строгие требования, у них исчезло желание связываться с этим делом всерьез. Троцкий дал понять, что считает их обывателями. «Революционеры, — писал он им, — могут быть либо образованными людьми, либо невеждами, либо интеллигентными, либо тупыми; но не может быть революционеров без воли, которая крушит препятствия, без преданности, без духа жертвенности».
Пазы ответили в манере, которая была для Троцкого не менее ранящей, чем его построения — для них. Они опирались на мощь и привлекательность официального коммунизма и на слабость оппозиции, используя как оправдание своего равнодушия этот контраст, который был слишком реален. Они объясняли, что не станут издавать еженедельник «Contre le Courant», потому что «газета оппозиции, если она не собирается кончить крахом, должна пользоваться и другими материалами, кроме блестящей прозы и боевой клички товарища Троцкого», — она должна располагать материалом и моральной базой и обязана «жить вместе со своими читателями и активными сторонниками». У этой газеты такой базы не будет, потому что старые коммунисты, для которых имя Троцкого так много значило, впали в апатию; а молодые — невежественны и не поддаются влиянию аргументов. «Не питайте излишних иллюзий о весомости вашего имени. За пять лет официальная коммунистическая пресса настолько вас опорочила, что в огромных массах сохранилась лишь слабая и расплывчатая память о вас как о лидере Красной Армии». Да, дистанция была огромной от того почтения, с которым Пазы относились к Троцкому несколько месяцев назад, обращаясь к нему, как «дорогому великому другу», до инсинуаций, что им движут эгоизм и тщеславие. Троцкий был в курсе, что его последователи изолированы, что сталинская пропаганда делала его имя ненавистным для рядовых коммунистов или стремилась похоронить его в забвении. Но это было для него еще одной причиной, чтобы его сторонники предприняли широкомасштабную контратаку, которая единственная могла сломить апатию рядовых коммунистов. Он пришел к выводу, что с Пазами делать больше нечего, хотя разрыв с ними чуть ли не сразу после конфликта с Сувариным был тем более неприятен, если вспомнить об услугах и внимании, которые они ему оказали с момента высылки из России.
То, что за этим последовало, вызывает больше чем сожаление, потому что Троцкому тут же пришлось столкнуться с враждебностью, которая расколола оставшихся у него приверженцев — Ромера и группу Навиля и Молинье. Молинье приезжал на Принкипо, пылая оптимизмом, и с головой полной планов превратить троцкизм в великую политическую силу. Он был убежден, что оппозиция имеет золотой шанс во Франции, потому что официальная партия изрешечена разногласиями и не может остаться глухой к призыву оппозиции — все, что оппозиции требовалось, это действовать с уверенностью в себе и смело проявлять инициативу. У него были планы внедрения троцкистов в партию, массовых митингов, многотиражных газет и т. д. Реализация этих проектов требовала много больше денег, чем оппозиция могла собрать среди своих членов; но у него были и финансовые задумки, несколько расплывчатые, но не невозможные. Он был готов окунуться во всевозможные коммерческие авантюры и предусматривал в бюджете ожидаемые прибыли.
Ромер и Навиль расценивали шансы более сдержанно, исключая из расчета возможности организации «массовых действий», которые предлагал Молинье, и были склонны удовлетвориться для начала более скромным, но настойчивым разъяснением идей оппозиции и пропагандой среди зрелых элементов левого крыла. Они опасались, что предпринимательство Молинье может дискредитировать оппозицию; и к тому же они ему не доверяли. «Ce n'est pas un militant communiste, c'est un homme d'affaires, et c'est un illettré»,[17] — говорил Ромер. В Париже ходили неприятные истории о Молинье: что он дезертировал из армии, а потом перед трибуналом вел свою защиту в манере, недостойной коммуниста, представив себя человеком, отказывающимся от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Делались заявления и намеки на темный характер его коммерческой деятельности, но было трудно привязать эти утверждения к чему-то конкретному.
Троцкий, соглашаясь, что у Молинье есть недостатки, тем не менее, всецело доверял ему. Он был покорен энергией этого человека, его изобретательностью и смелостью — качествами, которые Троцкий обычно ценил в своих сторонниках. В Молинье была черточка авантюриста, но в нем были и настоящий революционный пыл, и нешаблонность. Именно его нешаблонность, защищался Троцкий, навлекла на голову Молинье мещанское недовольство и злословие; а он, Троцкий, очень хорошо знал, что ни одно революционное движение не может обойтись без таких людей, в которых сама грубость мысли компенсируется энергией и стремлением что-то предпринять и взять на себя риск — как часто ему самому приходилось прибегать к помощи таких людей в годы революции и Гражданской войны! Молинье нравился Троцкому готовностью, с которой он оказывал ему мелкие, но, тем не менее, важные услуги, помогая организовать домашнее хозяйство на Принкипо и создавать секретариат, следя за доходами от изданий в Париже и т. д., — он действительно стал незаменимым доверенным лицом. Да и его семья (жена Жанна и его брат Анри — скромный инженер без политических претензий) целиком отдалась делу помощи с «energie Molinièresque»,[18] которой очень был доволен Троцкий. Они разъезжали между Парижем и Принкипо и много времени проводили в Буйюк-Ада; их отношения с семьей Троцких стали близкими и теплыми. И поэтому Троцкий старался мягко рассеять сомнения и подозрения Ромера; еще более потому, что хотя он и ценил честность и рассудительность Ромера, но считал, что Ромер плохо приспособлен для мелочей организации и легко приходит в уныние от мелких неприятностей работы во фракции, с которыми Молинье разбирался на ходу. На возражения Навиля в отношении Молинье Троцкий проявил меньше терпения; он пожурил Навиля за «интеллектуальное высокомерие», «схематическое мышление», политическое равнодушие и нежелание заниматься «работой в массах». Однако ему каким-то образом удалось на данный момент уладить соперничество. Ромер, Молинье и Навиль заключили «договор о примирении» и, согласившись отложить в сторону личные антипатии и работать вместе, вернулись в Париж с намерением создать не только национальную, но и международную организацию оппозиции.
Троцкий был полон надежд. Правда, «база», которую предстояло создать во Франции, будет уже, чем он ожидал, но ее будет достаточно, чтобы превратиться в ядро более широкой организации. Правда, в этот момент возникла и дилемма: будет ли оппозиция нацеливаться на «массовые действия» и выступать со своей собственной агитацией и лозунгами, или она ограничится той работой, что уже вела в прошлом, медленно, но плодотворно, через мелкие марксистские пропагандистские кружки, терпеливо разъясняя свои теории и занимаясь больше с идеями, чем с лозунгами? Эта дилемма еще не была сформулирована отчетливо, а поэтому ее можно было оставить на будущее. То обстоятельство, что оппозиция не стремилась основать новую политическую партию, а была фракцией, склонной к реформированию старой партии, предполагало, что она сосредоточится на теоретической пропаганде своих идей. Троцкий-мыслитель был склонен именно к такой форме деятельности, но сидевшего внутри него человека действия, великого комиссара и лидера оппозиции раздражали все эти ограничения, и он тосковал по размаху и энергии массового движения.
Летом 1929 года Ромер отправился в инспекционную поездку по Германии и Бельгии для осмотра и сбора местных групп оппозиции. Он установил контакт с итальянскими, голландскими, американскими и другими троцкистами. Своими подробными отчетами он держал Троцкого в курсе своих наблюдений. В целом они не были обнадеживающими. Бездействие, сектантские ссоры и личное соперничество, столь заметно ослабившие оппозицию во Франции, везде наносили свой большой вред. С точки зрения Троцкого, не было более важной страны, чем Германия, основная арена классовой борьбы в Европе, где компартия с электоратом в несколько миллионов голосов была сильнее, чем где бы то ни было на Западе. Ромер докладывал, что в Берлине он нашел несколько групп, призывавших к власти Троцкого, но тративших силы на разрушительную междоусобицу. Так называемая группа Веддинга включала в себя собственно троцкистов, но куда более влиятельным был Ленинбунд, издававший «Fahne des Kommunismus»,[19] а возглавлял его Гуго Урбанс. Были еще и другие, мелкие ультралевые секты, например коршисты, названные в честь Карла Корша, теоретика, который в 1923 году был министром правительства коммунистов-социалистов в Тюрингии. Сильнейшей на данный момент группой были зиновьевцы, возглавлявшиеся Масловым и Фишером. Но, как ни парадоксально, после того как их идейный вождь капитулировал перед Сталиным, они заняли крайне антисталинскую позицию, схожую с той, на которой находились уцелевшие члены «рабочей оппозиции» в Советском Союзе, а в своих атаках на официальный коммунизм пошли «много дальше», чем был готов идти сам Троцкий. Они утверждали, что русская революция прошла весь свой путь и что Советский Союз вступил в эпоху контрреволюции; что от диктатуры пролетариата ничего не осталось; что правящая бюрократия — это новый класс эксплуататоров и угнетателей, базирующийся на государственном капитализме национализированной экономики; что, одним словом, восторжествовал российский термидор. К этому они добавляли, что даже международная политика сталинизма становится неотличимой от той, которую вел царский империализм. Следовательно, никакая реформа не способна воскресить власть рабочего класса — это можно достигнуть лишь через еще одну пролетарскую революцию. Они также считали бесполезным стремиться реформировать 3-й Интернационал, который является «орудием российских термидорианцев» и эксплуатирует героическую октябрьскую легенду, чтобы помешать рабочим осмыслить реалии и направить их революционную энергию в мотор контрреволюции. Само собой разумелось, что те, кто придерживались этих взглядов, вовсе не чувствовали себя связанными какими-либо узами солидарности с Советским Союзом, а еще меньше — обязанностью защищать его. И они указывали на сам факт высылки Троцкого как на последнее доказательство в пользу их позиции. «Изгнание Троцкого, — писали они, — отмечает линию, на которой русская революция окончательно остановилась».
Троцкий защищался от trop de zéle[20] со стороны своих приверженцев. В спорах с Ленинбундом и «Revolution Prolétarienne» он развивал свой старый аргумент против тех, кто утверждал, что советский термидор — свершившийся факт. Вновь определяя термидор как буржуазную контрреволюцию, Троцкий отмечал, что он не может произойти без гражданской войны; а установленный в 1917 году режим, несмотря на вырождение, сохранил преемственность, которая проявилась в общественной структуре, базирующейся на общественной собственности и непрерывном осуществлении власти большевистской партией. «Русская революция двадцатого века, — писал он, — бесспорно, шире по масштабу и глубже, чем Французская революция восемнадцатого века. Общественный класс, в котором Октябрьская революция нашла свою поддержку, несравненно более многочисленный, однородный, компактный и решительный, чем городские простолюдины Франции. Руководство Октябрьской революции во всех своих течениях было бесконечно более опытным и прозорливым, чем были или могли быть ведущие группы Французской революции. Наконец, политические, экономические, социальные и культурные перемены, которые привнесла диктатура большевиков, также неоспоримо и значительно глубже, чем те, которые были начаты якобинцами. Если было невозможно вырвать власть из рук французских плебеев… без гражданской войны, — а Термидор был гражданской войной, в которой санкюлоты были побеждены, — как можно думать или верить, что власть из рук российского пролетариата мирным путем перейдет в руки буржуазии посредством спокойных, незаметных бюрократических перемен? Такая концепция Термидора — не что иное, как реформизм a rebours».[21] «Средства производства, — продолжает он, — когда-то принадлежавшие капиталистам, до сего дня остаются в руках советского государства. Земля национализирована. Общественные элементы, которые живут за счет эксплуатации труда, по-прежнему не допускаются в Советы и Армию». Опасность термидора была достаточно реальной, но борьба еще не завершена. И как сталинский левый курс и атаки на нэпманов и кулаков не избавили от термидорианской угрозы, так и его, Троцкого, изгнание не уничтожило Октябрьскую революцию. При оценке фактов и теоретизировании необходимо придерживаться чувства меры. Концепция советского государственного капитализма бессмысленна, поскольку никаких капиталистов нет; и если те, кто говорит это, осуждают государственную собственность в промышленности, тем самым они отвергают важнейшую предпосылку социализма. Так же в любом смысле марксизма бюрократия является не новым эксплуатирующим классом, а «отвратительной опухолью на теле рабочего класса» — новый класс эксплуататоров не может сформироваться лишь за счет выполнения управленческих функций, не имея никакой собственности на средства производства.
Последствия этого спора стали очевидны, когда летом 1929 года разгорелся конфликт между Советским Союзом и Китаем за право владения Маньчжурской железной дорогой. Китай претендовал на магистраль, в которой советское правительство участвовало на правах концессионера. Возник вопрос, чью сторону должна занять оппозиция. Французские синдикалисты, Ленинбунд и некоторые бельгийские троцкисты считали, что советское правительство должно уступить железную дорогу (которая была построена Россией в процессе царистской экспансии в Маньчжурии); и в сталинском отказе сделать именно так они усмотрели доказательство империалистического характера его политики. Но, к их удивлению, Троцкий заявил, что Сталин прав, держась за эту дорогу, и что оппозиция должна встать на сторону Советского Союза против Китая. В первом году ссылки это было первое расхождение Троцкого со своими последователями — мы вновь увидим, как он в свой последний год, во время советско-финской войны 1939–1940 годов, ввяжется в другой, последний спор со своими сторонниками. А спор опять сосредоточится на отношении оппозиции к Советскому Союзу, и в этом диспуте он вновь займет в основном ту же позицию, что и в 1929 году.
Он заявлял, что не видит причины, почему государство рабочих должно уступать важную экономическую и стратегическую позицию правительству Чан Кайши (которое признало советскую концессию в Маньчжурии). Он резко критиковал сталинскую манеру ведения дел с Китаем, пренебрежение к его уязвимым местам и неспособность обратиться к народу Маньчжурии — ведь более продуманная и деликатная политика помогла бы избежать конфликта. Но раз конфликт разразился, считал Троцкий, у коммунистов нет иного выбора, как поддержать Советский Союз. Если Сталин уступит железную дорогу гоминьдану, он ее отдаст не китайскому народу, а его угнетателям. Чан Кайши даже не был независимым деятелем. Если он получит контроль над железной дорогой, он не сможет ее содержать и рано или поздно отдаст Японии (или, в противном случае, позволит американскому капиталу вовлечь маньчжурскую экономику в сферу своего влияния). Лишь у Советского Союза было достаточно сил, чтобы не дать японским рукам захватить эти маньчжурские позиции. В этом случае, по мнению Троцкого, национальные права Китая, затронутые этим кризисом, не имели значения, потому что это был инцидент в сложном и многостороннем соперничестве между различными силами мирового империализма и государства рабочих. Он делал вывод, что время для восстановления Советским Союзом исторической справедливости и возвращения маньчжурского форпоста Китаю придет тогда, когда в Пекине установится революционное правительство, и этот прогноз осуществился после китайской революции. А пока советское правительство должно действовать как доверенное лицо революционного Китая и удерживать для этого маньчжурские активы.[22]
Можно себе представить оцепенение, которое Троцкий вызвал среди фанатиков оппозиции. Они были поставлены в тупик его «непоследовательностью», считая, что он теряет огромную возможность ударить по Сталину. Да, он действительно не набирал очков; но его поведение согласовалось с тем, что он говорил о Советском Союзе как о государстве рабочих. За это государство он, изгнанник, ощущал такую же ответственность, какую чувствовал, будучи членом Политбюро и находясь в правительстве Ленина. Он считал проявления самодовольного возмущения по поводу советской политики, в которых не отказывали себе некоторые из его учеников, ошибочными и дешевыми; и открыто заявил им, что не имеет ничего общего с «троцкистами», которые отказываются проявить по отношению к государству рабочих неколебимую, если хотите, критическую верность.
Строгость, с которой он придерживался своих принципов, отказываясь разбавлять их демагогией, оскорбляла многих его прошлых и потенциальных поклонников. Действительно, движение, которое он поддерживал, с одной стороны, ограничивалось его суровой скрупулезностью в отношении идей, а с другой — беспринципной жестокостью сталинских преследований. Гонения удерживали его последователей на непреодолимом удалении от тех самых людей, в которых его идеи могли задеть чувствительную струну, от большой коммунистической аудитории в Европе. Его щепетильность в выборе оружия в дискуссии отдаляла его от разбросанной, но все-таки растущей антисталински настроенной общественности, состоявшей из бывших членов партии, которые испытывали искушение сойтись со сталинистами на своей площадке, ответить ударом на удар, отразить злодейство и предательство и противостоять яду и злобе. Эта часть общества вовсе не была расположена к тому, чтобы принять отрицающие сами себя предписания Троцкого.
А потому после года-двух споров и вербовки тех, кто последовал за ним по трудному пути, все еще было очень мало. Тут и там возникали новые группы; еще один член, скажем, в итальянском Политбюро или в бельгийском Центральном комитете или небольшая группа чешских или даже британских активистов примкнули к оппозиции. Но это пополнение, увы, ничего не меняло в ее состоянии. Хотя некоторые из новичков были совсем недавно влиятельными в партии людьми и имели широкие, вырабатывавшиеся годами связи с рабочим классом, они утрачивали влияние и связи, как только партия исключала их из своих рядов, преследовала их всевозможной клеветой и гонялась за ними, как за прокаженными. Против них — власть Москвы, престиж их собственной партии, священная дисциплина авангарда пролетариата, серия массовых закрытых собраний и легионы пропагандистов и агитаторов, причем если некоторые из них были ничуть не лучше бандитов, то большинство превратились в моральных убийц своих былых товарищей из-за своей пылкой, но слепой преданности партийному делу. Новообращенные троцкисты начинали с решимости сотрясти партию, которую они любили, и заставить ее увидеть тот же свет, который отчетливо увидели они сами, изучив труды Троцкого; но скоро они оказывались замкнутыми в маленьких изолированных кружках, где им приходилось жить в качестве благородных прокаженных в политической пустоте. Маленькие группки, не сумевшие пристать ни к какому массовому движению, быстро охватывало разочарование. Не важно, как много интеллекта и решимости могло в них содержаться, если для этих качеств не находилось практического применения. Они были вынуждены расходовать свои силы в схоластических спорах и напряженной личной вражде, которая вела к бесконечным расколам и взаимным анафемам. Конечно, определенное количество таких сектантских ссор всегда отличало всякое революционное движение. Но что разграничивает живое явление и сухую секту — это то, что первое находится во времени, а последнее — нет, и то, что в первом происходит благотворный переход от ссор и раскола к настоящему политическому массовому действию.
Нельзя сказать, что в троцкистских группах не было умных людей, отличающихся честностью и энтузиазмом, но они были не в состоянии прорваться через остракизм, наложенный на них Сталиным, и в своем заграничном существовании так и не смогли избавиться от внутренних раздоров. Так, вскоре после примирения Троцким своих французских последователей те опять рассорились. Ромер и Навиль возобновили свои жалобы на Молинье, обвиняя его в безответственности и беспечности, а тот в ответ обвинил их в маловерии и в помехах всем планам действий. У этой ничтожной организации, важничавшей и имевшей структуру куда более крупного сообщества, был свой национальный исполком и свой парижский комитет. В первом Ромер и Навиль располагали большинством и предложили исключить Молинье на том основании, что его финансовые сделки угрожали нанести вред репутации оппозиции. Но за Молинье стояли парижский комитет и поддержка Троцкого. Ромер умолял Троцкого избавить национальный исполком от этой помехи и прекратить укрывать Молинье под своим крылом. На тот момент привязанность Троцкого к Молинье была чуть ли не любовью; и в его отношениях с Ромером стала отмечаться напряженность, а их переписка сделалась несколько кислой. Это соперничество также повлияло на два туманных международных органа, созданных оппозицией, — Международное бюро и Международный секретариат, которые равным образом были на ножах.[23]
Летом 1930 года Троцкий вновь попросил своих французских приверженцев приехать на Принкипо и устранить разногласия. Они приехали, на скорую руку заключили еще один мир, и Троцкий отправил их назад в Париж, уверенный, что теперь, наконец, они совместно приступят к надолго запоздавшим действиям, которых он так ожидал. Но через несколько недель вновь вспыхнула ссора; и в ноябре Ромер, обиженный пристрастием Троцкого к Молинье, ушел в отставку. Это был удар по организации и по Троцкому лично, который знал, что ни один из его последователей в Европе не обладает качествами и престижем Ромера. Он надеялся, что энергия Молинье скоро вытащит организацию из тупика и что потом Ромер вернется. Даже своей отставкой Ромер давал Троцкому доказательство редкой бескорыстной преданности, потому что он не стал вступать ни в какие споры и без открытой стычки с Троцким отошел от всякой фракционной деятельности. И все же он был так возмущен поведением Троцкого, что в течение нескольких лет отказывался с ним встречаться и даже обмениваться мнениями.
Подобные разногласия, в которых было почти невозможно отделить личное от политического, стали хронической болезнью большинства, если не всех, троцкистских групп; французский пример оказывался заразительным хотя бы только потому, что Париж был центром международного троцкизма. Личности были, как правило, столь малого веса, проблемы столь ничтожны, а ссоры так скучны, что даже вмешательство Троцкого не придавало им достаточной значительности, чтобы заслужить место в его биографии. С годами это вмешательство обрело жалкие, а иногда и совершенно гротескные формы. Почти в каждой ссоре, сотрясавшей организацию, все эти пустяки пожирали массу времени и нервов. Троцкий вставал на чью-то сторону и выступал в роли арбитра. Будучи в контакте с группами во всех уголках мира, он был вынужден сталкиваться с невероятным количеством таких перебранок; а так как он призывал различные секции оппозиции проявлять интерес к деятельности других, он писал бесконечные циркуляры и послания, объясняя, скажем, бельгийцам, почему поссорились французы, или грекам — почему возникли разногласия среди германских товарищей, полякам — какие спорные вопросы существуют между бельгийской и американской оппозицией и т. д., и т. д.
Все это он делал, веря, что воспитывает и обучает новый призыв коммунистов, новые кадры революции. Его не отпугивали крайняя нехватка ресурсов у оппозиции и слабость организации. Он придерживался мнения, что ценность движения — в мощи его идей, которые в конечном итоге победят; что главная задача — «поддерживать преемственность» марксистской школы мысли; что только организация может обеспечить эту преемственность и что любая организация должна строиться в обстоятельствах, существующих на данное время, и с имеющимся человеческим материалом. Иногда перепалки его последователей было достаточно, чтобы ввергнуть его в отчаяние и задуматься, а не впустую ли он тратит свои силы. Потом он утешал себя воспоминанием, что Ленин в годы его «фракционных эмигрантских склок» часто вызывал заклинанием образ Толстого, который описывал одного человека, сидевшего на корточках посреди дороги и делавшего непонятные, безумные жесты, из-за чего прохожие подумали было, что это сумасшедший; но, подойдя поближе, разглядели, что странная жестикуляция — вовсе не странная, а осмысленная: этот человек точил нож на точильном камне. И тогда Троцкий, какими бы бессмысленными ни выглядели иногда его отношения с последователями, говорил себе, что на самом деле он заостряет интеллект и волю нового марксистского поколения. Он подавлял в себе неприязнь к смешению великих принципов с ничтожнейшими спорами и собирал все свое терпение и силу убеждения, чтобы щедро делиться ими с последователями. И все-таки он не мог отделаться от ощущения, что человеческий материал, с которым он работает, был совсем не тот, с которым занимались либо он сам, либо Ленин перед революцией. И потом, каковы бы ни были невзгоды политэмигрантов, то были настоящие и серьезные бойцы, целиком преданные своему делу, и они приносили в жертву этому делу все свои жизненные интересы и даже саму жизнь — настоящее человеческое пламя революционного энтузиазма. Из другого материала были сделаны его нынешние последователи на Западе: в них было совсем немного страсти и героизма, с помощью которых можно было бы штурмовать небо. Это определенно были не или «еще не» «настоящие большевики», размышлял он; и это являлось причиной существования между ними непреодолимой дистанции. В своих размышлениях он предпочитал полагаться на других своих друзей и учеников, тех, кто был разбросан по тюрьмам и исправительным колониям Урала и Сибири и терпел там издевательства, голод, холод и лишения до самой смерти. Даже самые посредственные из находившихся там теперь казались ему более ценными бойцами, чем почти любой из его приверженцев на Западе. Иногда он давал волю своим чувствам, как, например, в некрологе Котэ Цинцадзе, который написал в начале 1931 года. Цинцадзе, большевик с 1903 года, глава кавказской ЧК в Гражданскую войну, а потом ведущий оппозиционер, был депортирован, посажен в тюрьму и подвергнут пыткам. Больной туберкулезом, страдая от кровоизлияния в легких, он продолжал бороться, устраивал голодовки и умер в тюрьме. В некрологе, напечатанном в «Бюллетене», Троцкий приводит пророческие слова из письма, которое Цинцадзе писал ему в Алма-Ату: «Много, очень много наших друзей и близких будут вынуждены… кончить свои дни в тюрьмах или где-нибудь в ссылке. И все-таки в конечном итоге это будет обогащающим вкладом в революционную историю; новое поколение извлечет урок».
«Коммунистические партии на Западе, — замечал Троцкий, — еще не воспитали бойцов типа Цинцадзе»; в этом состоит постоянно преследующая их слабость; и это также оказывает влияние на оппозицию. Он признавал, что с удивлением обнаружил, как много дешевой амбиции и карьеризма присутствует в рядах оппозиции на Западе. Дело не в том, что он резко осуждал всякие личные амбиции — стремление выделиться часто было стимулом к усилиям и достижениям. Но «революционер начинается там, где личные амбиции целиком и полностью подчинены службе великой идее». К сожалению, лишь немногие на Западе научились воспринимать принципы всерьез: «флирт с идеями» или дилетантское баловство с марксизмом — слишком частое зрелище.
Троцкий редко позволял себе такого рода жалобы. Он не видел смысла в заламывании рук из-за ограниченности человеческого материала, производимого историей, — только из этого материала можно было сформировать «новых Цинцадзе».
В это время в Советском Союзе оппозиция распадалась и бойцы «типа Цинцадзе» либо гибли физически, либо утрачивали свое значение морально. Они попали в двойные тиски сталинского террора и своих собственных дилемм. В 1928 году, когда Троцкий еще поддерживал их дух сопротивления из Алма-Аты, они подавали сигналы неспособности выдержать напряжение. Среди них, надо помнить, возникло расхождение во мнениях, когда они уже стали свидетелями конца коалиции между сталинцами и бухаринцами и начала сталинского левого курса. Эти события сделали ненужными некоторые из основных требований и лозунгов оппозиции. Оппозиция призывала к быстрой индустриализации и постепенной коллективизации сельского хозяйства и обвиняла Сталина в обструкции этой линии и покровительстве зажиточному крестьянину. Когда в 1928 году Сталин ускорил темпы индустриализации и выступил против частного земледелия, оппозиционеры вначале поздравили друг друга с переменами, в которых увидели подтверждение правильности своей позиции; но потом почувствовали себя ограбленными, лишенными своих идей и лозунгов и еще многого из смысла политического существования.
При любом режиме, допускающем немного политических дискуссий, партии или фракции, которой выпала неприятность наблюдать, как соперники воруют ее одежды, все еще можно позволить помогать с достоинством в реализации ее собственной программы другими. Депортированные троцкисты не имели возможности даже намекнуть, что их одежды украдены, или обратить внимание при всенародном разборе дела, как ничтожны и лицемерны были обвинения, которые взваливали на них сталинисты, когда обзывали троцкистов «супериндустриалистами» и «врагами крестьянства». Сталинский левый курс, который неявным образом оппозиция поддерживала, завершил ее разгром; а оппозиция уже не представляла четко, на какой платформе и как оппонировать ему, особенно до середины 1929 года. Перед тем как Сталин решился на всеобщую коллективизацию и ликвидацию кулаков, его политика весьма близко отвечала требованиям оппозиции. Если для любой партии или группы было бы неприятно видеть плагиат ее программы, то для троцкистов, которые отстаивали свои идеи, подвергаясь преследованиям и клевете, это был сокрушительный удар. Некоторые стали задумываться, а ради чего они должны продолжать страдать и допускать то, что их родственники выносят самые жестокие лишения. Не время ли, спрашивали они сами себя, прекратить борьбу и даже примириться с этими хладнокровными преследователями?
Те, кто поддался этому настроению, легко соглашались с аргументом Радека и Преображенского, что в таком примирении нет ничего предосудительного и что оппозиция, если она не просто затачивает свой топор, должна порадоваться триумфу своих идей, даже если в жизнь их проводили ее преследователи. Да, говорили они, Сталин не проявил желания восстановить внутри партии пролетарскую демократию, которой требовала оппозиция; но, так как он выполнял столь много из программы оппозиции, есть основания надеяться, что в конечном итоге он выполнит и остальное. Оппозиционеры смогли бы лучше продвигать дело внутрипартийной свободы, если бы вернулись в партийные ряды, а не оставались в исправительных колониях, откуда не могут оказывать никакого политического влияния. К чему бы они ни стремились, они должны бороться за это в рамках партии, которая есть, как однажды выразился Троцкий, «единственный исторически данный инструмент, которым владеет рабочий класс», для содействия прогрессу социализма; только через нее и внутри нее оппозиция может достичь своих целей. Ни Радек, ни Преображенский не предлагали сдаться — они просто советовали придерживаться более примирительного настроения, что позволило бы им обговорить условия своего восстановления в партии.
Другая часть оппозиции, за которую выступали Сосновский, Дингельштедт и иногда Раковский, отвергала эти подсказки и не верила, что Сталин всерьез относится к индустриализации и борьбе с кулаками. Они относились к левому курсу как к «временному маневру», за которым последуют обширные уступки деревенскому капитализму, новый нэп и триумф правого крыла. Они отрицали то, что события опередили программу оппозиции, и не видели причин для изменения своего поведения. Более оптимистичные люди, как всегда, надеялись, что время работает на них. Они говорили, что если Сталин будет придерживаться левого курса, то логика вынудит его прекратить войну с левой оппозицией; а если бы он собирался начать новый нэп, последующий за этим сдвиг вправо был бы столь опасен для его собственной позиции, что опять, чтобы восстановить равновесие, ему придется примириться с троцкистами. Поэтому для оппозиции было бы глупо торговать принципами ради восстановления, особенно отказываться от требования свободы выражения и критики. Такой, в широком смысле, была «ортодоксальная троцкистская» точка зрения.
Убеждение, что программа оппозиции устарела, завоевывало, однако, сторонников не только среди миротворцев. Его придерживались с даже еще большим пылом, но по причинам диаметрально противоположным, чем у Радека и Преображенского, те, кто сформировал самое крайнее и непримиримое крыло оппозиции. Там стало аксиомой мнение, что Советский Союз уже не является рабочим государством; что партия предала революцию и что надежда реформировать партию беспочвенна, а оппозиция должна сама перестроиться в новую партию и проповедовать и готовить новую революцию. Некоторые все еще видели в Сталине покровителя аграрного капитализма или даже лидера «кулацкой демократии», в то время как для других его правление воплощало в себе власть государственного капитализма, беспощадно враждебного социализму.
До конца 1928 года эти поперечные течения не имели силы, достаточной для уничтожения единства оппозиции изнутри. В колониях продолжались бесконечные дискуссии, а Троцкий председательствовал на них, удерживая баланс между противоположными точками зрения. Однако после его высылки в Константинополь сила разногласий росла, а противоборствующие группы все более и более удалялись друг от друга. Миротворцы, стремившиеся к восстановлению, постепенно «урезали» условия, на которых они были готовы примириться со Сталиным, пока примирение, к которому они готовились, не стало неотличимым от капитуляции. С другой стороны, непримиримые довели себя до такого неистовства вражды ко всему, за что выступал Сталин, что уже не обращали внимания на перемены в его политике или даже на то, что происходило в стране вообще. Они навязчиво повторяли свои старые обвинения сталинизму, невзирая на то, имеют ли они какое-то отношение к фактам старым и новым. Члены этих экстремистских групп рассматривали друг друга как ренегатов и предателей. «Непримиримые» окрестили своих примиренчески настроенных товарищей заранее «сталинскими лакеями», а последние считали, что фанатики, утратившие опору, перестали быть большевиками и превратились в анархистов и контрреволюционеров. Эти два крайних крыла росли, и только сокращающееся «охвостье» оппозиции оставалось «ортодоксально троцкистским».
Не более чем через три месяца после изгнания Троцкого не осталось даже внешних следов единства оппозиции. Пока он был отрезан от своих последователей — а ему понадобилось несколько месяцев на восстановление контактов, — Сталину становилось все легче раскалывать и деморализовать их с помощью террора и обольщения. Террор был выборочным: ГПУ щадило примиренцев, но прочесывало исправительные колонии, чтобы отобрать наиболее упорных оппозиционеров и переправить в тюрьмы, где их подвергали самому жестокому обращению: под вооруженной охраной набивали в сырые и темные камеры, не отапливавшиеся в сибирские зимы, держали на скудном пайке из гнилых продуктов и лишали всякого чтения, света и средств связи с семьями. Таким образом, эти заключенные были лишены тех прав, которыми пользовались политические заключенные в царской России и которые большевики с конца Гражданской войны предоставляли антибольшевистским правонарушителям. (Примерно в это же время, как бы для еще большей насмешки над бывшими товарищами, Сталин приказал освободить некоторых меньшевиков и социалистов-революционеров.) Еще в марте 1929 года троцкисты, описывая свою жизнь в трудовых лагерях Тобольска, сравнивали ее с незабываемой картиной каторги, описанной Достоевским в «Мертвом доме». Если этот террор был нацелен на запугивание и ослабление примиренцев, то он также, похоже, предназначался и для того, чтобы вынудить непримиримых на проявление такой немыслимой враждебности по отношению ко всем аспектам существующего режима, что было бы легко окрестить их контрреволюционерами и забить еще глубже клин между ними и примиренцами.
Однако Сталин не мог сломить оппозицию одним террором — его куда более мощным оружием был левый курс. «Без жестоких преследований, — отмечал Раковский, — левый курс привел бы только свежих сторонников в ряды оппозиции, потому что он знаменовал банкротство [прежней сталинской политики]. Но одни преследования, без левого курса, не имели бы того эффекта, который произвели». В последовавшие после приезда Троцкого в Константинополь месяцы сталинские колебания в отношении политики подошли к концу. Его разрыв с Бухариным завершился на февральском заседании Политбюро, когда Троцкий находился в пути в Турцию. В апреле конфликт был перенесен из Политбюро в Центральный комитет, а потом на XVI партийную конференцию. Конференция обратилась к народу с горячим призывом радикально ускорить индустриализацию и коллективизацию, с призывом, который воспроизвел, местами буквально, ранние призывы Троцкого. Становилось все труднее утверждать, как все еще делали Троцкий и некоторые троцкисты, что сталинская перемена в политике — «временный маневр». Оказалось, что Преображенский и Радек, которые все время заявляли, что Сталин не шутит с левым курсом (и что обстоятельства не позволят ему это делать, даже если бы он и пожелал), в этом пункте лучше понимали реальность.
Мгновенно проблемы оппозиции осложнились. Для ее членов стало просто нелепым пережевывать старые лозунги, требовать более интенсивной индустриализации, протестовать против умиротворения сельского капитализма и упоминать об угрозе нэпа. Оппозиция должна была либо признать, что Сталин занимается ее работой, либо обновиться и перевооружиться политически для дальнейшей борьбы. Троцкий, Раковский и другие действительно работали над приведением идей оппозиции в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, но события развивались быстрее, чем идеи даже самых быстромыслящих теоретиков.
В разлад в рядах оппозиции не меньший вклад, чем перемены в официальной политике, внесло и состояние страны. Это было время чрезвычайной сложности, как охарактеризовал его Сталин. Так же оценивали его и лидеры оппозиции. Преображенский, не поддавшийся драматическим преувеличениям, сравнивал напряженность весны 1929 года с той, что привела к Кронштадтскому мятежу, который большевики считали для себя более опасным, чем положение в любой фазе Гражданской войны. Радек, говоря о конфликте в Центральном комитете между сталинистами и бухаринцами, утверждал, что «Центральный Комитет был похож на якобинский Конвент накануне 9 Термидора»,[24] т. е. дня, который принес крушение якобинству. Раковский описывал этот момент как «самый судьбоносный со времен гражданской войны». Действительно, об этом существовало полное единодушие между всеми наблюдателями.
Уже в течение нескольких лет пропасть между городом и деревней расширялась и углублялась. Двадцать пять — двадцать шесть миллионов мелких и преимущественно архаичных крестьянских хозяйств не могли прокормить быстро растущее городское население. Города жили под почти постоянной угрозой голода. В конечном итоге этот кризис можно было разрешить только через замену непродуктивных мелких хозяйств современными крупномасштабными фермами. В огромной стране, привыкшей к интенсивному земледелию, этого можно было достичь либо энергичным стимулированием сельского капитализма, либо коллективизацией — другого выбора не было. Ни одно большевистское правительство не могло действовать в роли заботливого родителя аграрного капитализма — если бы оно так поступило, то высвободило бы грозные силы, враждебные ему самому, и это скомпрометировало бы перспективы плановой индустриализации.[25]
Потому осталась лишь одна дорога — коллективизации, хотя все еще предстояло решить первостепенные вопросы ее масштабов, методов и темпов. Годы официальных колебаний привели лишь к тому, что теперь решения приходилось принимать в условиях значительно худших, чем те, в которых их можно было бы принять раньше. Попытки Сталина совместить противоречивые меры, умиротворить зажиточных мужиков, а потом реквизировать их урожай привели крестьянство в бешенство. Его затянувшееся нежелание форсировать проблему промышленного развития было не менее пагубным. В то время как деревня не имела сил и желания прокормить город, город был не в состоянии снабжать деревню промышленными товарами. Крестьянин, не имея возможности приобрести обувь, одежду и сельхозинвентарь, не имеет стимула для увеличения урожая, а еще меньше — для его продажи. И так и в голодающем городе, и в деревне, изголодавшейся по промтоварам, царил хаос.
Решения о темпах и масштабах индустриализации и коллективизации принимались в условиях острой нехватки всех человеческих и материальных ресурсов, необходимых для этой атаки в двух направлениях. Рабочим не хватало хлеба, а промышленности не хватало квалифицированных работников. Также недоставало оборудования. Помимо этого, оборудование простаивало из-за отсутствия горючего и сырья, поставки которого зависели от аграрного сектора. Транспорт был разрушен и не мог справиться с возрастающими промышленными перевозками. Снабжение почти всеми товарами и услугами до прискорбной степени не отвечало спросу. Свирепствовала инфляция. Контролируемые цены не имели связи с неконтролируемыми и к тому же не отражали реальных экономических затрат.
Все связи между различными частями сообщества политического были разорваны, кроме связей нужды и отчаяния. Вновь прервались не только экономические сношения между городом и деревней, но и все нормальные отношения между гражданами и государством и даже между партией и государством. Не было предела обману и насилию, к которым и правители, и управляемые не были готовы прибегнуть. Кулаки и многие середняки и даже бедные крестьяне были беспощадны в своей ненависти к «комиссарам». Поджоги и убийства представителей партии и агитаторов стали повседневностью в деревнях. Настроение крестьянства передавалось рабочему классу, среди которого было много новичков из села. На двенадцатый год революции бедность народа и пренебрежение и злоупотребления со стороны правительства вызвали столь мощное и широко распространенное отвращение, что должно было произойти что-то огромное и ужасное, а потому надо было что-то предпринять, чтобы либо подавить, либо высвободить сдерживаемые эмоции. Под поверхностью кипели силы, которые могли привести к гигантскому взрыву вроде того, что в меньших масштабах произошел в Венгрии в 1956 году. Почти загнанные в угол, Сталин и его сторонники отбивались с нарастающим бешенством.
Троцкисты, находившиеся в ссылке и тюрьмах, подняли крик: «Революция в опасности!» И ортодоксальные троцкисты, и примиренцы были охвачены одинаковой тревогой; но в то время как первые не видели, какой вид действий возможен для них в существующих условиях, и полагали, что надо быть готовыми к надвигающемуся кризису, примиренцы, напротив, чувствовали себя обязанными «действовать немедленно». И вот с криками «Революция в опасности!» они пошли сдаваться. Лучшие из них поступали так, исходя из глубокого убеждения, что, когда на кону судьба большевизма и революции, было бы преступлением цепляться за фракции и лелеять сектантские интересы и амбиции. Худшие же из них, изнуренные оппортунисты, находили в лозунге «Революция в опасности!» удобный предлог, чтобы увильнуть от уз, связывавших их с проигранным делом. А те, кто были ни лучшими и ни худшими, т. е. рядовыми примиренцами, могли и не разбираться в своих личных мотивах, которые, возможно, были сложными и противоречивыми.
В апреле 1929 года Преображенский собрал вместе примиренцев под призывом «Всем товарищам по оппозиции!». Это был экстраординарный документ: в нем миротворец в последний раз перед тем, как капитуляция наложила на его уста печать молчания, искренне высказался, оглядываясь на прошлое оппозиции и обращая свой взор на мучительный и каменистый путь, лежащий перед ней. Преображенский писал, что оппозицию завел в тупик сам триумф ее идей. Он обнаружил, что многие его товарищи готовы скорее отказаться от триумфа, чем признать тупик. Они все еще вели себя так, как будто их прогнозы о новом нэпе и «сдвиге вправо» оправдались, как будто еще не было левого курса. Для надежности Сталин положил начало левому курсу способом, совершенно отличным от того, за который выступали они. Оппозиция хотела, чтобы индустриализация и коллективизация велись публично, в свете пролетарской демократии, с согласия масс и при свободной инициативе «снизу». Сталин же полагался на силу декретов и принуждение сверху. Тем не менее, оппозиция выступала за то, что он делал, хотя то, как он это делал, вызывало в ней отвращение. Если б они отказались признать это, они бы превратились в оппозицию ради оппозиции; и, чтобы потом оправдаться, им бы пришлось разойтись со своими собственными принципами. Он, Преображенский, не отвергал прошлого оппозиции: «В борьбе против Центрального комитета мы исполняли свой долг». Но нынешний долг оппозиции был в том, чтобы сблизиться с партией, а потом вернуться в нее — и здесь говорил первый теоретик «примитивного социалистического накопления», — чтобы «выстоять под давлением, которое может породить недовольство в крестьянской стране политикой социалистического накопления и борьбы против аграрного капитализма».
Преображенский говорил о негодовании, которое возбудил Сталин даже среди примиренцев, изгнав Троцкого «с помощью классового врага» (т. е. турецкого правительства). Оппозиционеры «не могут простить этого», — говорил он; но предложил не позволять этому возмущению затуманивать соображения более общего характера. Он добавил, что Троцкий также запутывал оппозицию, ведя борьбу со Сталиным через буржуазную прессу Запада. Преображенский не питал особых иллюзий в отношении судьбы, ожидавшей примиренцев: он знал об ударах и оскорблениях, которые падут на них в «трудные, критические годы, лежащие впереди» (хотя даже он вряд ли мог разглядеть всю грязь и кровь, через которые они будут брести и в которых им суждено погибнуть). Он был достаточно дальновиден, чтобы откровенно указать товарищам, что путь, к которому он их призывает, будет полон тревог и мучений. Его надежды на искреннее и достойное примирение, надежды, которые он питал в прошлом году, провалились. Теперь он рассматривал восстановление в партии как фактическую капитуляцию. «Те из нас, — заключал он, — кто боролся в рядах партии в течение десяти, двадцати и более лет [сам Преображенский был большевиком с 1904 года], вернутся в нее с чувствами совсем иными, чем тогда, когда они впервые в нее вступали». Они вернутся в партию без своего прежнего энтузиазма, как убитые горем люди. Они даже не могут быть уверены, что Центральный комитет согласится восстановить их. «Таковы все эти обстоятельства этого возвращения, и такова внутрипартийная ситуация, что в случае восстановления мы будем обязаны нести ответственность за то, против чего предупреждали, и подчиняться методам, на которые своего согласия не давали… Если нас восстановят, мы, каждый из нас, получим обратно партбилеты, как будто согласимся на тяжкий крест». И все-таки для тех, кто желал служить делу социализма, практически не оставалось ничего другого, как принять этот крест.
В мае Преображенскому было разрешено приехать в Москву, чтобы попробовать «заключить мир с партией». Поначалу он мечтал добиться благоприятных условий для оппозиции в целом, умоляя о прекращении террора и депортаций, о реабилитации членов партии, ставших жертвами статьи 58 по обвинению в контрреволюционной деятельности, и — последнее, но не маловажное — об отмене распоряжения о высылке Троцкого. Он вел переговоры с Орджоникидзе и Ярославским, а также другими членами Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии, которые действовали под личным надзором Сталина.
Для Сталина капитуляция крупной части оппозиции была достаточно важна из-за эффекта, который она обязательно окажет на партийный дух и на судьбу Троцкого. Желая переманить примиренцев и стараясь не уничтожить все их надежды одним махом, он поначалу изображал готовность изучить некоторые их пожелания, но в действительности он не мог принять ни одного из них. Прежде всего, он не мог позволить оппозиционерам заявлять при их восстановлении, что они вернулись, потому что партийное руководство приняло их программу, — это было равносильно не просто подтверждению правоты Троцкого и троцкизма и отказу от всех обвинений против него, но и выставлению напоказ незаконности преследований, которые Сталин обрушил на них. Он не мог никому позволить даже намекать на факт, что он позаимствовал страницу — и какую страницу! — из книги Троцкого. Сделав это, он уничтожит свои собственные претензии на непогрешимость и власть. Капитулянты должны объявить, что прав был он, а не они с Троцким. Они должны осудить и отречься от своего прошлого. Нетерпимо, чтобы они вернулись как непонятые новаторы; они могут вернуться только в качестве полных раскаяния саботажников левого курса и всей политики, которая последовательно вела к нему. Но даже тогда им нельзя позволить возбуждать в партии чувства, свойственные несчастным растратившимся детям, — они могут лишь рассчитывать на прощение, которое получают закоренелые грешники и преступники; они должны проделать свой обратный путь на коленях. Чтобы заставить их сделать это, Сталину приходилось преодолевать сопротивление их внутренней обороны с помощью медленного и упрямого торга и вынуждать сдавать одно требование за другим, пока они не дошли до точки безусловной капитуляции. Поведение Сталина не было удивительно: условия, на которых капитулировали Зиновьев, Каменев, Антонов-Овсеенко, Пятаков и многие другие, а также процесс, через который их провели, чтоб заставить сделать это, все еще были свежи в памяти каждого. Но такова уж была сила самообмана, что многие примиренцы, которые издали с тревогой следили за переговорами Преображенского в Москве, — ему было разрешено сообщаться с колониями депортированных, — все еще наделись, что их избавят от оскорблений, чинившихся прежним капитулянтам.
Через месяц результаты переговоров Преображенского были уже заметны в поведении его ближайших товарищей. В середине июня под контролем ГПУ в Москву поехали также Радек и Смилга, чтобы присоединиться к Преображенскому. Их поезд остановился на маленькой сибирской станции, где они случайно встретились с группой оппозиционеров, которые описали встречу в письме, сохранившемся среди бумаг Троцкого. Они разговаривали только с Радеком: Смилга был болен, а потому оставался в своем купе. Радек рассказал им о цели поездки и выдвинул уже знакомый аргумент для сдачи: всеобщий голод, нехватка хлеба ощущается даже в Москве, недовольство рабочих, угроза крестьянских восстаний, разногласия в Центральном комитете («где бухаринцы и сталинцы замышляют арестовать друг друга») и т. д. Ситуация, говорил он, столь же серьезна, как и в 1919 году, когда Деникин стоял у ворот Москвы, а Юденич штурмовал Петроград. Потребует ли он в Москве снятия со ссыльных обвинений по статье 58 Уголовного кодекса, этого клейма контрреволюции? Нет, отвечал он; те, кто упорствуют в оппозиции, заслуживают это клеймо. «Мы сами, — кричал он, — загнали себя в ссылки и тюрьмы!» Потребует ли он возвращения Троцкого? Прошло лишь несколько недель, как Преображенский заявил, что оппозиция «не может простить» изгнания Троцкого, и несколько месяцев, как сам Радек, автор знаменитого эссе «Троцкий — организатор победы», выразил протест Центральному комитету за то, что тот является причиной «медленной смерти» этого «боевого сердца революции», и завершил свой протест словами: «Хватит этой нечеловеческой игры со здоровьем и жизнью товарища Троцкого». Но за последние несколько недель логика капитуляции перед Сталиным сделала свое дело. И к своему изумлению, собеседники Радека услышали его ответ: «Я определенно порвал со Львом Давидовичем — отныне мы политические враги. С сотрудником газет лорда Бивербрука я не имею ничего общего». (Сам Радек часто писал в буржуазную прессу, а потом продолжит заниматься этим вновь, но уже в интересах Сталина.[26])
В самой жестокости этого ответа Радек выдал свою виноватую совесть. Он продолжал возбужденно выступать против новых наборов в ряды оппозиции. Обозленная молодежь, утверждал он, не имеет ничего общего с большевиками по своей сути, а присоединяется к троцкистам лишь из чисто антисоветской злобы. И вновь он обратился к своим собеседникам: «Последняя партийная конференция приняла нашу платформу, которая так блестяще себя проявила. Что же вы еще можете иметь против партии?» Ответ дал конвой Радека: пока они спорили, охранники из ГПУ прервали его, стали кричать, что не позволят разводить агитацию против высылки Троцкого; и они толкнули его и стали загонять в вагон. Радек разразился истерическим смехом: «Я? Агитирую против высылки Троцкого?» Потом он стал жалобно извиняться: «Я только пытался уговорить этих товарищей вернуться в партию»; но охрана даже не слушала его и продолжала пихать в спину, загоняя в купе. За год до этого Радек выразил свое презрение Зиновьеву и Пятакову за «омерзительный запах достоевщины», который издают они и их отречение от убеждений, — а теперь он сам, король памфлетов, явился своим былым единомышленникам и товарищам по страданиям неким Смердяковым, сошедшим со страниц Достоевского на этой богом забытой сибирской станции.
После еще одного месяца торга, 13 июля, Радек, Преображенский, Смилга и 400 ссыльных окончательно заявили о своей капитуляции. Преимуществ, которые Сталин извлек из этого события, было немало. Ни одно событие со времени капитуляции Зиновьева и Каменева на XV съезде в декабре 1927 года не помогло так укреплению престижа Сталина. Поскольку он только что начал мощную атаку на фракцию Бухарина, развал троцкистской оппозиции избавил его от необходимости сражаться одновременно на два фронта. Троцкий часто говорил, что троцкисты и сталинисты обязаны объединиться перед лицом огромной «опасности справа». Да, сейчас они делают это, но на условиях Сталина, — он завоевывал их на свою сторону без Троцкого и даже против Троцкого. Многие из капитулянтов были людьми больших талантов и опыта, которыми заполнялись важные посты в промышленности и администрации, с которых вытеснялись бухаринцы. Он понимал, что капитулянты отдадутся всей душой и сердцем делу индустриализации: многим из них довелось работать под руководством Пятакова, архикапитулянта, являвшегося движущей силой Комиссариата тяжелой индустрии. Один Радек как «пропагандист» был для Сталина ценнее, чем орды его собственных писак.
Троцкий сразу же бросился в атаку на «капитулянтов третьего призыва». (К «первому призыву» относились Зиновьев, Каменев и их последователи, ко второму — Антонов-Овсеенко, Пятаков и их друзья.) «Они заявляют, — писал Троцкий, — что разногласия между Сталиным и оппозицией почти исчезли. А как же они объясняют неистовый характер этих преследований? Если в отсутствие самых непримиримых и глубоких разногласий сталинисты отправляют в ссылку и на каторгу большевиков, то это значит, что они совершают это из чисто бюрократического бандитизма, без каких-либо политических идей. Вот какой представляется сталинская политика, если посмотреть на нее с точки зрения Радека. И как же тогда он и его товарищи осмеливаются поднимать свои голоса в защиту единства с политическими бандитами?» Не такой точки зрения придерживался Троцкий в отношении сталинской политики; он считал, что при отсутствии щепетильности сталинизм имеет глубокие политические причины для беспощадной враждебности к оппозиции; фундаментальные разногласия вовсе не утратили своей силы. Радек и Преображенский их не замечают или делают вид, что не замечают, потому что они морально сломлены. Революция была огромным пожирателем характеров; и каждый период реакции брал свою дань с усталого поколения бойцов, уступивших ей. Но рано или поздно этих старых и усталых людей сменят молодые, которые вступят в бой со свежим мужеством и извлекут уроки из прострации своих стариков. «Перед нами перспектива долгой, упорной борьбы и долгой воспитательной работы».
По правде говоря, Троцкий воспринял первые вести о капитуляции Радека с некоторым недоверием. Он приписывал поведение Радека его «импульсивному характеру, изоляции и отсутствию моральной поддержки» со стороны товарищей. Он с теплотой вспоминал, что «Радек был за его спиной четверть века революционной марксистской работы», и выражал сомнение, мог ли тот на самом деле заключить мир со сталинизмом: «Он слишком марксист для этого, и, самое главное, он слишком интернационально мыслит». Но когда вышла «Правда» с письмом об отречении, он обнаружил, что «Радек пал много ниже», чем он предполагал. И даже теперь это падение было таким невероятным, что Троцкий вообразил, что его сделка со Сталиным была только временной и что, так часто колеблясь в партии то влево, то вправо, он скоро подружится с бухаринцами. И какой же это был запутанный клубок. «Радек и немногие с ним считают этот момент самым подходящим для капитуляции. Но почему? А потому что сталинисты, видите ли, жестоко критикуют Рыкова, Томского и Бухарина. Так разве в нашу задачу входило заставить одну часть правящей группы карать другую? Изменился ли при этом подход к фундаментальным политическим проблемам?.. Разве не сохранился антимарксистский режим Коммунистического Интернационала? Есть ли какая-то гарантия на будущее?» Радек и Преображенский в первом пятилетнем плане увидели радикально новую отправную точку. «Центральный вопрос, — отвечал Троцкий, — состоит не в статистике этой пятилетки самой по себе, а в проблеме партии», духе, которым руководствуется партия, потому что он определяет и ее политику. Подлежал ли этот пятилетний план при своем составлении и выполнении какому-либо контролю снизу, критике или обсуждению? А от этого также зависят и результаты пятилетки. «Для марксиста внутрипартийный режим — незаменимый элемент контроля политической линии» — в этом всегда содержалась основная идея оппозиции. «Но ренегаты обычно отличаются короткой памятью и думают, что и у других она тоже коротка. Можно с уверенностью заявить, что революционная партия олицетворяет память рабочего класса: ее первой и самой главной задачей является научиться не забывать прошлое, чтобы уметь предвидеть будущее». Троцкий все еще рассматривал сталинский левый курс как побочный продукт борьбы и давления оппозиции; он все еще полагал, что Сталин может изменить свою политику на противоположную, а его конфликт с Бухариным, несмотря на всю его суровость, — лишь поверхностный.
Аргументы Троцкого достигли оппозиционеров в Советском Союзе лишь осенью; но они вряд ли были в состоянии остановить стихийное стадное движение к капитуляции. Потрясения в Советском Союзе уже устремились вглубь, а их влияние на оппозицию было куда более жестоким, чем он предполагал. И все-таки в его ремарках не было и намека на серьезность и тревогу, которые заметны у всех писавших, даже самых непримиримых оппозиционеров в России. Он все еще рассматривал сцену событий 1929 года через призму 1928 года и смутно представлял себе атмосферу «кануна гражданской войны», висевшую над страной. Вся мощь возгласа «Революция в опасности!» каким-то образом ускользнула от него, так же как и то, что левый курс набирал ускорение, а глубина раскола между Сталиным и Бухариным росла. А как раз эти проблемы довлели над умами всех оппозиционных групп.
Ощущение, что революции грозит смертельная опасность, которую оппозиция должна отразить совместно со сталинцами, скоро вынудило многих, ранее принадлежавших к непримиримому крылу, последовать по стопам Преображенского и Радека. Иван Смирнов — победитель Колчака и один из ближайших соратников Троцкого, Мрачковский — воин легендарного героизма, Белобородов — комиссар, в чьем доме Троцкий нашел убежище, когда в ноябре 1927 года покинул Кремль, Тер-Ваганян, Богуславский и многие другие запросили восстановления. Они начали переговоры в сталинском штабе в менее унылом настроении, чем Преображенский, потому что надеялись, что общая обстановка вынудит Сталина восстановить их на менее унизительных условиях. На этот раз заключение сделки затянулось почти на пять месяцев — с июня по конец октября, в ходе которых группа Смирнова подготовила четыре различных политических заявления. В раннем черновике, созданном в августе и сохранившемся в бумагах Троцкого, они в качестве причин для своих действий выставляли согласие с пятилетним планом и «опасность справа». Но они также выдвигали явную критику сталинской политики, заявляя, что пятилетний план был недостаточно продуман в том, чтобы поднять низкий уровень жизни рабочих; что «отбор партийных кадров» ведется таким образом, что становится невозможным выражение критического мнения; и что доктрина социализма в стране служит «ширмой для оппортунизма», как и продолжающийся официальный уклон в пользу «среднего» крестьянина. Поддерживая во всех этих пунктах позицию оппозиции, заявители также признавались и в ошибках. Они допустили ошибку, утверждали они, считая, что Центральный комитет в поисках выхода из кризиса свернул вправо и готовит дорогу для термидора — это опасение подтвердило лишь поведение бухаринского меньшинства. Они соглашались с тем, что в нынешних серьезных условиях партийное руководство не должно допускать свободы фракционной деятельности, потому что от этого выиграют только правые элементы. По этой причине троцкистская оппозиция распускает свои организации, расформировывает свой руководящий центр, «который существовал годами под различными названиями», и прекращает любую форму подпольной деятельности. Но они также требовали прекратить все преследования оппозиции и страстно призывали к возвращению из изгнания Троцкого, «чья судьба связана с судьбой рабочего класса» и чьими трудами на благо Советского Союза и международного коммунизма нельзя пренебречь.
Медленно, отстаивая каждый пункт, Смирнов и его сообщники позволили свести на нет свои требования. Год проходил, проблемы у Сталина накапливались, и он еще более, чем прежде, был заинтересован в новых капитуляциях. Он не вытягивал из этой группы отречения такого же униженного, какого добился от Радека и Преображенского. Смирнов и его товарищи, смягчая или опуская свою критику Сталина и убирая различные требования, все еще настаивали, чтобы им было разрешено в самом акте сдачи потребовать возвращения Троцкого — главным образом по этой причине переговоры тянулись пять месяцев. Когда, наконец, они уступили, то все еще отказывались осудить или отречься от Троцкого; и их заявление о сдаче, появившееся в «Правде» за сотнями подписей 3 ноября 1929 года, было более сдержанным и достойным, чем любой предыдущий акт такого рода.
Капитулянтское настроение теперь коснулось и внутреннего ядра оппозиции, самых верных троцкистов. Однако тяжелобольному и страдавшему от сердечных приступов Раковскому, который был переведен из Астрахани в Барнаул, все же удалось сплотить их. Под его влиянием такая же большая группа оппозиции, как и та, что последовала за Смирновым, остановилась на самой грани капитуляции. «Мы боремся за всю программу оппозиции», — объявил Раковский. Те, кто помирились со Сталиным потому, что он выполняет экономическую часть этой программы, и кто надеется, что он также выполнит и политическую, ведут себя, как старомодные реформисты, которые удовольствуются частичной реализацией своих требований. Политические идеи оппозиции неотделимы от экономических чаяний: «Поскольку политическая часть нашей программы остается невыполненной, вся работа по социалистическому строительству находится под угрозой полного уничтожения». Для Раковского еще более важными были чистота убеждений и честность в отношениях с соперниками. Партийное руководство, которое вырывало из оппозиционеров признания в воображаемых ошибках, просто копирует католическую церковь, заставляющую атеиста, находящегося на смертном одре, отречься от убеждений, — такое руководство «теряет всякое право на уважение; а оппозиционер, который неожиданно меняет свои убеждения, заслуживает лишь полного презрения».
Группе Раковского понадобилось несколько месяцев, чтобы выработать свою позицию; ее «Открытое письмо Центральному комитету» было готово в конце августа. Нелегко было собрать около 500 подписей из примерно 90 мест ссылки; но еще труднее было примирить в документе все оттенки мнений, которые выявились среди подписантов. Основной характер письма, которое по форме также было заявлением на восстановление, свидетельствует о примирительном настроении. Как и Преображенский со Смирновым, Раковский и те, кто последовал за ним, — Сосновский, Муралов, Мдивани, Каспарова и другие — заявляли, что обратиться в Центральный комитет их побудили критическая ситуация в стране и решение партии содействовать реализации пятилетнего плана. Успех плана, утверждали они, укрепит рабочий класс и социализм; провал откроет дверь термидору и реставрации. Перед лицом «тяжелейшего конфликта между силами капитализма и социализма» они предпочли остановиться на вопросах, по которым они заодно с партией, а не на тех, по которым они расходятся. Для них также «опасность справа» представлялась близкой и острой; и то, что они все-таки критикуют в политике партии, — это затянувшееся желание умиротворить «среднего» крестьянина. Они так искренне поддерживали быструю индустриализацию, что из своих исправительных колоний призывали к повышению трудовой дисциплины на заводах и к решительным действиям по отношению к тем, кто пытается использовать недовольство рабочих в контрреволюционных целях. Но они также считали, что для успеха индустриализации важно, чтобы ее поддержали рабочие массы, которые все еще недовольны отсутствием внимания к их условиям жизни, необузданной инфляцией, многими не выполненными властью обещаниями и бюрократическим деспотизмом. Защищая в течение многих лет курс действий, избранный сейчас партией, авторы заявления полагали, что имеют право на восстановление, тем более что приветствуют «левый поворот» в политике Коминтерна и признают вред всякой фракционной борьбы. Они сожалеют об обострении отношений между оппозицией и Центральным комитетом, в которое такой большой вклад внесло изгнание Троцкого. «Мы призываем Центральный Комитет, Центральную Ревизионную Комиссию и всю партию, — говорится в завершающей части заявления, — облегчить наше возвращение в партию освобождением большевиков-ленинцев, отменой 58-й статьи и возвращением Льва Давидовича Троцкого».
Когда это заявление 22 сентября дошло до Принкипо, удовлетворение Троцкого было смешано с мрачными предчувствиями. Ему было приятно видеть, наконец, какую-то декларацию своих последователей — первую за многие месяцы, — которая не источала полную покорность. И все же он испытывал тревогу за ее основной смысл. Наладив к этому времени связь с Советским Союзом через Берлин, Париж и Осло, он взялся за то, чтобы переправить письмо в те колонии депортированных, где его еще не получили. Чтобы придать этому заявлению большую остроту, он добавил приписку на полях своего собственного изобретения. Он заявил, что одобряет это письмо, потому что хотя оно и «умеренное», но «недвусмысленное». Только те могли отказаться подписать его, кто придерживался мнения, что советский термидор уже свершился, что партия мертва и что в СССР нужна, как минимум, новая революция. «Хотя подобное мнение приписывалось нам десятки раз, мы с ним не имеем ничего общего… Несмотря на репрессии и преследования, мы заявляем, что наша верность партии Ленина и Октябрьской революции остается незыблемой». Он также признал, что с левым курсом и разрывом между Сталиным и Бухариным возникла новая ситуация: «Если прежде Сталин боролся против левой оппозиции аргументами, заимствованными у правых бухаринцев, теперь он нападает на правых исключительно с аргументами, занятыми у левых». В теории это могло бы привести к сближению между центром и левыми; на практике этого не произошло. Принятие Сталиным политики оппозиции было внешним, случайным или просто тактическим; а в основном они остались диаметрально противоположны. Сталин задумал пятилетний план в рамках социализма в одной стране, а оппозиция рассматривала весь процесс строительства социализма в контексте мировой революции. Это фундаментальное различие было, как и прежде, острым, и, пока Раковский и его друзья заявляли о своей солидарности с новой политикой Коминтерна, Троцкий кратко, но твердо заявил о своих возражениях против этого. Тем не менее, он согласился, что Раковский был прав, выражая готовность «подчинить борьбу, которую мы ведем за наши идеи, обязательным нормам и партийной дисциплине, которая сама базируется на пролетарской демократии». Они проявляли волю, защищая свои взгляды внутри партии в то время, когда партия управлялась правоцентристской коалицией; и они должны… быть готовыми делать это же, когда правые уже не будут у власти. Но отречься от своих взглядов из-за этого было бы бесчестным и «недостойным марксизма и ленинской школы мышления».
Троцкий безоговорочно верил честности и мужеству Раковского; но он ощущал давление и тянущую силу стадного движения, под которыми тот действовал. В одной из заметок на полях он простил Раковскому его примирительный тон, направленный на то, чтобы «открыто проверить внутрипартийный режим» в изменившихся политических условиях: «Был ли этот режим после всех недавних уроков способен или нет исправить, по крайней мере, частично то огромное зло, которое он причинил партии и революции?» Возможно ли было самореформирование сталинского аппарата? «Немногословность Раковского, его молчание по поводу сталинских промахов на международной арене и его акцент на недавние сдвиги влево» — все это было хорошо рассчитано на то, чтобы облегчить начало такого самореформирования. Раковский вновь продемонстрировал, что для оппозиции важна суть, а не форма вещей, и интересы революции, а не амбиции личностей или группировок. «Оппозиция готова занять самое скромное место в партии, но только если останется верной самой себе…»
Даже излагая эти мысли на бумаге, Троцкий задумывался, сколь много из тех, кто подписал документ Раковского, могут перейти в лагерь противника, и в конфиденциальном послании он предупредил Раковского, что в своем стремлении к примирению он дошел до последней черты и не должен делать «ни одного дальнейшего шага!». В том же «Бюллетене оппозиции», где появилось заявление Раковского, Троцкий опубликовал анонимное письмо от корреспондента из России, критикующее Раковского за потворство капитулянтам. Автор письма, один из немногих все еще остававшихся оптимистов, был уверен, что скоро «Сталин будет стоять перед нами на коленях, как Зиновьев в 1926 г.».
В конце года лишь небольшое меньшинство оппозиционеров держалось до конца. Согласно одному докладу, в местах ссылки и в тюрьмах оставалось не более одной тысячи троцкистов, в то время как капитулянтов было несколько тысяч. Не в первый и не в последний раз Троцкому приходилось говорить самому себе: «Друзья, которые направляются к нам, спотыкаются и пропадают в урагане!» В последние дни ноября он писал группе своих советских учеников: «Пусть в изгнании останется не 350 человек, верных своему знамени, а только 35. Пусть их останется даже три — знамя все еще останется, останется стратегическая линия, останется будущее». Он был готов сражаться даже в одиночку. Думал ли он в тот момент о прощальной записке Адольфа Иоффе? «Я всегда думал, — писал Иоффе Троцкому в час своего самоубийства, — что в вас недостаточно несгибаемого, упорного ленинского характера, недостаточно той способности, с которой Ленин мог быть одиноким и оставаться в одиночку на дороге, которую считал верной».
Как ни парадоксально, Сталин с некоторым беспокойством следил за наплывом капитулянтов в Москву, хотя сам от этого во многом выигрывал. Многие тысячи троцкистов и зиновьевцев уже вернулись в партию и были вокруг нее, формируя характерную среду. Сталин не позволял никому из них занимать посты какой-либо политической важности. Но управленцы, экономисты и педагоги-теоретики назначались на посты на всех уровнях, поскольку были ограничены в способности оказывать какое-либо влияние. Хотя у Сталина не было причин сомневаться в их приверженности левому курсу, особенно индустриализации, он знал, какова цена отречениям, вырванным у них. В душе они оставались оппозиционерами. Они считали себя пострадавшими пионерами левого курса. Они его ненавидели не только как своего преследователя, но и как человека, укравшего у них идеи. Действительно, он политически превратил их в своих рабов. Но затаенная ненависть рабов может оказаться опасней открытой враждебности; она может долго таиться в засаде, следить за хозяином тысячами глаз и нападать на него, когда он допустит промашку или сделает ложный шаг.
Теперь капитулянты получили шанс влиять прямо или косвенно даже на сталинистов и бухаринцев, из которых кое-кто пришел в замешательство, когда увидел, как Сталин присваивает идеи и лозунги, которые считались пагубными, когда их провозглашали Троцкий и Зиновьев. Поэтому после всех триумфов над своими оппонентами Сталин оказался в противостоянии с некоторыми из собственных сторонников, среди которых он начал выявлять замаскированных троцкистов и бухаринцев. «Если в 1925–1927 годах мы были правы, — говорили такие люди, — когда отвергали требования оппозиции вести быструю индустриализацию и наступление на кулака и когда обзывали Троцкого и Зиновьева разрушителями союза между рабочими и крестьянами, тогда мы наверняка не правы сейчас. А если мы правы сейчас и если ничто, кроме левого курса, не спасет революцию, не следовало ли нам принять этот курс раньше, когда оппозиция призывала нас это сделать?» — «И разве не было подло с нашей стороны, — добавляли наиболее совестливые, — оскорблять и подавлять оппозицию?» Ответы, конечно, варьировали: некоторые сразу делали один вывод, другие — другой. Достаточно того, что еще летом и осенью 1929 года, когда капитулянты возвращались в партию, некоторые добрые старые сталинцы из нее исключались, а некоторых даже отправили на поселение в те места, которые только что освободили капитулянты. Самыми печально известными случаями были дела секретаря Московской парторганизации Угланова и других членов Центрального комитета, окрещенных бухаринцами, и Шацких, Стена и Ломинадзе, замечательных пропагандистов и лидеров «молодых сталинцев», которые были разоблачены как замаскированные полутроцкисты.
Эти случаи обнажили некоторое брожение в самой правящей группе, брожение, которое обращало в явное преимущество для Сталина тот факт, что вокруг было так много капитулянтов. Сталин понимал, что они все еще рассматривают Троцкого как своего вождя и вдохновителя и действительно как истинного лидера революции. Каждая их кучка, ведя переговоры об условиях сдачи, просила возвращения Троцкого и придерживалась этого требования, даже уступая по всем другим пунктам политики и дисциплины. Когда, наконец, их вынудили осудить Троцкого, большинство из них делало это с отчаянием в сердце и слезами на глазах. Мало, очень мало было таких, которые, как Радек, изменнически подавляли свои тревоги и бранили Троцкого, а выходки Радека вызывали отвращение даже среди старых сталинцев. Для большинства капитулянтов Троцкий представлял все, за что они стояли в свои более приятные и триумфальные дни. Их фиаско и самоунижение изолировали его политически, но принесло новое доказательство его морального величия. Капитулянты, бухаринцы и сомневающиеся сталинцы жадно воспринимали каждое его слово, проникавшее в Советский Союз. В критические моменты, когда требовались важные решения, шепот «Что там говорит по этому поводу Лев Давидович?» часто был слышен даже в сталинских прихожих. По Москве ходил «Бюллетень» — партийцы, возвращавшиеся из зарубежных командировок, особенно работники посольств, тайком привозили его домой и передавали дальше друзьям. Хотя лишь очень немногие газеты поступали таким образом — тираж «Бюллетеня», похоже, никогда не превышал 1000 экземпляров, — комментарии Троцкого, его прогнозы и избранные отрывки из его обличительных речей быстро расходились из уст в уста. Сталин не мог почивать на лаврах и хладнокровно созерцать это брожение.
Нанести удар ему позволило дело Блюмкина. Яков Блюмкин, крупный чиновник иностранного отдела ГПУ, имел за своими плечами странную карьеру, а еще более странной была его нынешняя роль. Перед самой революцией он еще подростком вступил в террористическую организацию партии социалистов-революционеров (эсеров). В некотором роде поэт, он был в душе романтическим идеалистом с не по годам развитой, бесхитростной и безграничной преданностью своему делу. В октябре 1917 года он был среди левых эсеров, которые действовали вместе с большевиками, и представлял свою партию в ЧК, руководимой Дзержинским, — так двадцатилетним юнцом — революция выбирает себя в любовники молодых! — он стал одним из первооснователей ЧК. Когда его партия разорвала союз с большевиками из-за Брестского мира, Блюмкин разделял страстное убеждение своих товарищей в том, что, заключив этот мир, большевики предали революцию. Когда его товарищи решили устроить восстание против правительства Ленина и втянуть Советскую республику в войну с Германией, они дали поручение своим людям совершить покушение на жизнь графа Мирбаха, германского посла в Москве. Одним из этих людей был Блюмкин. Он преуспел в своей миссии, а это событие стало сигналом для восстания, которое Троцкий подавил. Большевики схватили Блюмкина и доставили его к Троцкому.
Не надо забывать, что большевистская партия сама была глубоко расколота по вопросу о Брест-Литовском мире; и, хотя она объявила левых эсеров вне закона, многие большевики испытывали горячую симпатию к убийце Мирбаха, даже осуждая содеянное. Троцкий взывал к революционным чувствам мятежников и стремился внушить им, что они заблуждаются, и обратить их в большевистскую веру, привив им свои взгляды. Когда к нему доставили Блюмкина, он вступил в длинный и серьезный спор с этим молодым и впечатлительным террористом. Уступив перед превосходящей силой убеждения, Блюмкин раскаялся и попросил, чтобы ему дали возможность искупить свою вину. Для проформы он был осужден на смерть, а германское правительство даже было информировано о его казни; но он был прощен и получил шанс «доказать свою преданность революции». Он брался за выполнение самых опасных заданий большевиков и во время Гражданской войны работал в белогвардейском тылу. Левые эсеры считали его предателем и несколько раз совершали покушения на его жизнь. После одного из покушений, когда он лечился в госпитале, в его палату бросили гранату; он схватил ее и выбросил назад в окно в самый момент взрыва. Реабилитированный большевиками, он впоследствии служил в военном штабе Троцкого, учился в Военной академии, заработал некоторую репутацию писателя на военные темы и активно работал в Коминтерне. После Гражданской войны он вновь поступил в ЧК (или ГПУ) и был старшим офицером в отделе контрразведки. Его вера в Троцкого не знала границ; он был привязан к военному комиссару всей силой своего душевного темперамента. У него также были тесные дружеские отношения с Радеком, которого он «обожал» и который был более доступен и отзывчив, чем Троцкий. Когда Троцкий и Радек ушли в оппозицию, Блюмкин не делал секрета из своей солидарности с ними. Хотя характер его работы не позволял ему участвовать в деятельности оппозиции, он считал своим долгом дать ясно знать главе ГПУ Менжинскому свою позицию. Но так как его квалификация контрразведчика высоко ценилась, а он не участвовал в деятельности оппозиции и никогда не нарушал дисциплину, ему позволялось придерживаться своих взглядов и оставаться на своем посту. Он оставался в партии и в ГПУ даже после того, как оппозиция была разогнана.
Летом 1929 года, путешествуя по делам из Индии в Россию, Блюмкин остановился в Константинополе, где, как утверждал Троцкий, случайно встретился на улице с Лёвой. Очень сомнительно, что встреча была действительно случайной. Просто невероятно, чтобы Блюмкин приехал в Турцию, не имея намерения установить контакт с Троцким. Встретившись с его сыном, случайно или нет, он попросил устроить встречу с отцом. Поначалу Троцкий отказывался, считая, что риск слишком велик. Но когда Блюмкин, умоляя, повторил свою просьбу, он согласился его принять.
Блюмкин приехал, чтобы излить душу человеку, перед которым он одиннадцать лет назад стоял как убийца Мирбаха. Он был, как и большинство оппозиционеров, в замешательстве и оказался жертвой конфликта лояльностей. Ему было трудно примирить свое положение в ГПУ с чувствами к оппозиции. Он разрывался между теми оппозиционерами, которые капитулировали, и теми, которые сопротивлялись, и между своей верой в Троцкого и дружбой с Радеком. Он не верил, что разрыв между этими людьми был неустраним; и в своем простодушии он надеялся примирить их. Часами он оставался в уединении с Троцким, рассказывая новости из Москвы и жадно слушая аргументы Троцкого об ответственности и обязанностях оппозиции и бесплодности капитуляции.
Он описал Троцкому собственные муки совести и сообщил о своем желании уволиться из ГПУ. Троцкий твердо разубедил его. Трудностью в его ситуации, говорил Троцкий, является то, что он должен преданно работать на ГПУ. Оппозиция обязана защищать государство рабочих; и ни один оппозиционер не имеет права покидать какой бы то ни было официальный пост, на котором он работает ради интересов государства, а не сталинской группы. Разве не была оппозиция на стороне Советского Союза в конфликте по поводу Маньчжурской железной дороги? Деятельность Блюмкина направлена целиком против внешнего врага; и это великолепно совпадает с линией оппозиции, которую ему следует проводить.
Блюмкин принял совет и попросил Троцкого дать ему какую-нибудь записку или инструкции для оппозиционеров дома. Он также вызвался помочь в налаживании контактов и организации через турецких рыбаков тайной пересылки «Бюллетеня» через границу.
Троцкий вручил ему послания, копия которых сохранилась в архивах. Этот документ не содержит ничего такого, что даже при самом богатом воображении можно было бы назвать конспиративным. Выражения в тексте были настолько общими и частично столь тривиальными, что Троцкому и Блюмкину даже не стоило вообще рисковать, переправляя эти записки. Троцкий предсказывал, что осенью Сталин столкнется с огромными трудностями и что капитулянты тогда поймут, сколь бесполезной была их сдача. Конечно, он призывал своих сторонников держаться и выражал презрение к слабонервным. Он сообщал им о своей атаке на Радека, которую готовил к публикации, и воспроизводил ее основное содержание. Уже в который раз он опровергал обвинения, которым ныне вторил Радек, в попытке сформировать новую партию, и повторял, что оппозиция остается неотъемлемой частью старой партии. Он давал отчет о том, чем занимался для создания международной организации оппозиции, и рассказывал с банальными деталями о ссорах между немецкими, французскими и австрийскими троцкистами и зиновьевцами. Он умолял русских не принимать все это близко к сердцу, а быть уверенными, что в конце концов появится международная оппозиция как важнейшая политическая сила. Умилительно думать, что ссыльные возлагали на это великие надежды и что Троцкому надо было заверять их в этом. Во всем послании не было ничего такого, что бы он не говорил и не собирался заявить публично, особенно в «Бюллетене».[27]
Конечно, можно было подозревать, что Троцкий дал Блюмкину устно инструкции более секретного характера. Но, что странно, даже ГПУ никогда не утверждало, что он это сделал; а его поведение, деятельность и переписка указывают, что фактически у него не было ничего такого конспиративного для передачи сторонникам, о чем он не говорил ранее или не мог сказать на публике. С этим посланием на руках Блюмкин отбыл в хорошем расположении духа, уверенный, что теперь он сможет доказать Радеку и другим, что их обвинения беспочвенны, что Троцкий — такой же верный и великий большевик, как и всегда, и что оппозиция должна под его руководством восстановить свое единство.
Вскоре после возвращения в Москву Блюмкин был арестован, обвинен в предательстве и казнен. Трудно выяснить, как ГПУ узнало о его действиях. Некоторые говорят, что он поделился секретом с женщиной, которую любил и которая, являясь агентом секретной службы, донесла на него. Это сообщение завоевало широкое доверие, отчего Радека презирали и ненавидели. Согласно еще одной версии, поддержанной Виктором Сержем, роль Радека была скорее достойной жалости, чем зловещей. Серж рассказывает, что в Москве Блюмкин сразу почувствовал, что ГПУ известно, где он был, и что его агенты шпионят за ним, чтобы выяснить, с кем из оппозиции он находится в контакте. Радека беспокоило положение Блюмкина, и он посоветовал ему обратиться к председателю Центральной ревизионной комиссии Орджоникидзе и чистосердечно во всем признаться. Он якобы сказал, что это единственный способ, которым Блюмкин мог бы спастись: Орджоникидзе хоть и сторонник строгой дисциплины, но добросовестный человек и даже по-своему щедрый — единственный во всей иерархии, от кого можно ожидать хоть и сурового, но гуманного обращения. Однако неизвестно, был ли Блюмкин арестован до или после своего обращения к Орджоникидзе. Возможно, головоломка объясняется проще: бдительное око работника советского консульства в Константинополе узрело Блюмкина, отплывающего на лодке на Принкипо; или же какой-нибудь агент-провокатор в доме Троцкого установил личность загадочного посетителя, с которым Троцкий закрывался на много часов.
Блюмкин во время допросов «вел себя с замечательным достоинством», вспоминает бывший офицер ГПУ. «Он мужественно шел на казнь и перед тем, как прозвучал смертельный выстрел, крикнул: „Да здравствует Троцкий!“» Все чаще и чаще в последующие годы суждено было этому крику звучать между залпами команд, производивших расстрелы.
Это была первая казнь такого рода. Да, другие троцкисты уже заплатили своими жизнями за убеждения, умерев от голода и истощения, — годом раньше, например, Бутов, один из секретарей Троцкого, умер в тюрьме после длительной голодовки. Тем не менее, до тех пор уважалось правило, что большевики никогда не должны повторять смертельных ошибок якобинцев и прибегать в междоусобной борьбе к казням, по крайней мере формально. Блюмкин стал первым членом партии, которому был вынесен смертный приговор за внутрипартийный проступок, контакт с Троцким.
Сталин опасался, как бы капитулянты не размыли границу между оппозицией и партией; и дело Блюмкина только усилило его мрачные предчувствия. Он не стал терпеть, чтобы старший офицер ГПУ на действительной службе осмелился дружески посещать Троцкого и выступать посредником между Троцким и капитулянтами, — допустить это означало бы выставить на посмешище все официальные обвинения, предъявляемые Троцкому, и поощрить будущие контакты. Сам Сталин мог не поверить и в относительно безобидный характер миссии Блюмкина и послания Троцкого оппозиции. В его подозрительном мозгу могла возникнуть мысль, что небезопасно было бы допускать, чтобы убийца Мирбаха когда-либо вновь дал выход своим элементарным, но сильным политическим страстям в террористическом акте. В любом случае, казнь Блюмкина должна была послужить предостережением для других и показать им, что нельзя шутить с официальными обвинениями в контрреволюции, что статья 58 — это статья 58, и с этого времени товарищеские связи с изгнанником на Принкипо будут наказываться по всей строгости подтасованного и извращенного закона. Как ни странно, до сих пор смертный приговор еще не выносился общепризнанным троцкистам, которые из своих тюрем и исправительных колоний поддерживали связь со своим лидером, которые слали ему коллективные поздравления с октябрьской годовщиной или с майским праздником и чьи имена появлялись под статьями и «тезисами» в «Бюллетене оппозиции». На данный момент это предупреждение относилось только к членам партии, лицам на официальных должностях, особенно в ГПУ, и восстановленным капитулянтам. Линия раздела между партией и оппозицией была прочерчена кровью.
Троцкий узнал о казни от одного анонимного оппозиционера, который, все еще находясь на государственной службе, оказался в командировке в Париже. Но Москва хранила молчание, и, когда через германскую прессу просочился слух, коммунистические газеты его опровергли. Несколько недель Троцкий ждал подтверждения информации и в своих письмах ни словом не обмолвился о Блюмкине — лишь в начале января 1930 года сообщение от одного оппозиционера из Москвы развеяло все сомнения. Троцкий сразу обнародовал все обстоятельства своей встречи с Блюмкиным. Он заявил, что это Сталин лично приказал казнить, а Ягода исполнил этот приказ, даже не сообщив об этом Менжинскому, формальному главе ГПУ. «Бюллетень» опубликовал письмо из Москвы, авторы которого утверждали, что Блюмкина предал Радек. Троцкий сам, поразмыслив, засомневался, так ли это было, намекнул, что, возможно, Радек поступил безответственно и глупо, но с добрыми намерениями. «Несчастье Блюмкина, — писал Троцкий, — было в том, что он верил Радеку, а Радек верил Сталину».
Троцкий рекомендовал своим последователям на Западе поднять «бурю протестов». «Дело Блюмкина, — писал он Ромеру 5 января 1930 года, — должно для левой оппозиции стать новым делом Сакко и Ванцетти». Некоторое время до этого казнь в Бостоне Сакко и Ванцетти, двух итало-американских анархистов, стала предметом протестов всемирного масштаба, поднятых коммунистами, социалистами, радикалами и либералами. Призыв Троцкого не нашел отклика. Судьба Блюмкина не вызвала даже и частицы возмущения, порожденного казнью Сакко и Ванцетти. Куда легче было разбудить совесть левых по поводу промахов правосудия в буржуазном государстве, чем тронуть ее Justizmord[28] в рабочем государстве. Через какие-то несколько недель Троцкому уже пришлось защищать и просить других протестовать против двух новых казней членов оппозиции и жестоких преследований, которым подвергались Раковский и его друзья. И опять его постигла неудача — ему не удалось пробить каменного равнодушия тех, кого он надеялся расшевелить.
1929 год в Советском Союзе завершился потрясением, жестокость которого превзошла все ожидания. В начале этого года политика Сталина все еще была нерешительной и неопределенной. Индустриализация набирала силу, но правительство все еще осторожничало. В апреле XVI партийная конференция призвала к ускорению коллективизации, но провозгласила, что частные хозяйства еще много лет будут преобладать в сельской экономике — пятилетний план предусматривал коллективизацию лишь 20 % всех мелких хозяйств к 1933 году; кулак должен был платить более высокие налоги и сдавать больше зерна, но не было и мысли о его ликвидации. К концу года казалось, что вихрь унес эти планы. Кампания индустриализации трещала по швам: вновь и вновь повышались плановые задания и раздавались призывы выполнить план в четыре, три и даже в два с половиной года. В двенадцатую годовщину революции Сталин, столкнувшись лицом к лицу с «трудностями», предсказанными Троцким: отказом крестьянства сдавать зерно, — объявил смертный приговор частному земледелию. «Немедленная и всеобщая коллективизация» была на повестке дня; и каких-то четыре месяца спустя он объявил, что уже объединено в колхозы 50 %, или около 13 миллионов, хозяйств. Всей мощью государство и партия согнали кулаков с земли и вынудили других крестьян снести в общий котел все свое имущество и смириться с новым способом производства.
Почти каждая деревня превратилась в арену классовой битвы, подобной которой история не видела прежде, войны, которую вело коллективистское государство под верховным командованием Сталина, чтобы подчинить деревенскую Россию и победить ее упрямый индивидуализм. Силы коллективизма были малы, но хорошо вооружены, подвижны и управлялись единой волей; сельский индивидуализм, при его рассеянной по стране огромной силе, был захвачен врасплох и вооружен лишь деревянной дубиной отчаяния. Как это бывает во всякой войне, не было недостатка в маневрах, безрезультатных стычках и беспорядочных отходах и наступлениях; но в конечном итоге победители захватили свою добычу и несметное количество военнопленных, которых загнали в бесконечные и пустынные равнины Сибири и ледяные просторы Дальнего Востока. Однако, как ни в какой войне, победитель не мог ни признать, ни обнародовать весь масштаб боевых действий. Советские власти были вынуждены делать вид, что проводят благотворную перестройку деревенской России с согласия подавляющего большинства; и даже после нескольких десятилетий точное число жертв, счет которым идет на миллионы, остается неизвестным.
Таковы были неожиданность, размах и сила потрясений, что очень немногие свидетели событий смогли осмыслить и сосредоточиться на их необъятности. До недавних пор троцкистская оппозиция могла утверждать, что Сталин, положив начало левому курсу, лишь проводил в жизнь ее требования; но «великий перелом» превзошел эти требования до такой степени, что захватило дух и у троцкистов и у сталинцев, не говоря уже о бухаринцах. Среди троцкистов примиренцы проявляли ясное понимание размеров и окончательности событий; сопротивленцы все еще цеплялись за логику и аргументацию, сформировавшиеся в прежние годы. Например, Раковский рассматривал сталинские приказы об уничтожении кулаков как «ультралевую риторику» и утверждал, что «удельный вес зажиточных хозяйств в национальной экономике еще больше возрастет, несмотря на все разговоры о борьбе с аграрным капитализмом». Как раз перед двенадцатой годовщиной революции Троцкий сам заявил, что «медленное развитие сельского хозяйства… и трудности, которые испытывает деревня, способствуют росту власти кулаков и расширению их влияния». Он не представлял себе, что одним махом или всего за лишь несколько лет силой будут ликвидированы 25 миллионов частных мелких хозяйств.
В начале 1930 года, однако, Троцкий стал понимать, что происходит, и в серии очерков, посвященных критике пятилетнего плана, развернул новую линию атаки на сталинскую политику. Эта новая критика отличалась диалектической двойственностью: он делал резкое различие между «социалистически прогрессивной» и «бюрократически ретроградной» тенденциями в Советском Союзе и разъяснил их вечный конфликт. Он, кстати, начал очерк «Экономическая беспечность и ее угрозы» следующими словами:
«Успехи Советского Союза в промышленном развитии обретают глобальное историческое значение. Социал-демократы, даже не попытавшиеся оценить темпы, возможность достижения которых продемонстрировала советская экономика, заслуживают только презрения. Эти темпы нельзя назвать ни стабильными, ни надежными… но они дают практическое доказательство огромных возможностей, свойственных социалистическим экономическим методам… На основе советского опыта нетрудно увидеть, какую экономическую мощь социалистический блок, включающий в себя Центральную и Восточную Европу и крупные части Азии, имел бы в своем распоряжении, если бы социал-демократические партии использовали власть, которую им дала революция 1918 г., и осуществили бы социалистический переворот. Все человечество сегодня имело бы другой облик. А так человечеству придется платить за предательство, совершенное социал-демократической партией, дополнительными войнами и революциями».
Так впечатляюще вновь подтвердив свою оценку социалистического направления в развитии Советского Союза, он нападал на сталинскую внутреннюю политику в тех же самых выражениях, которыми характеризовал линию нового Коминтерна, — он ее описывал как «ультралевый зигзаг, который пришел на смену предыдущему правому зигзагу». Эта оценка согласовалась с мнением Троцкого, что Сталин, как «центрист», действует под перемежающимся давлением то справа, то слева, — взгляд, который точно описывал место Сталина во внутрипартийной расстановке сил 20-х годов, но отвечал реалиям и более поздних лет. В общем и целом Троцкий все еще считал, что интенсивная индустриализация и коллективизация были всего лишь переходной фазой в политике Сталина. Он не знал, и ему не суждено было знать, что в 1929–1930 годах Сталин перешел рубеж, за которым не было возврата, что он уже не мог ни остановить кампанию по индустриализации, ни, уничтожив кулаков, попробовать помириться с ними. Эта существенная ошибка в суждениях Троцкого, к которой мы еще вернемся ниже, тем не менее, сводит на нет его критику, в которой он предвосхищал большинство исправлений политики, которые наследникам Сталина пришлось провести после 1953 года. Как в 20-х годах Троцкий был пионером примитивного социалистического накопления, так и начале 30-х он стал предтечей экономических и социальных реформ, которым было суждено свершиться лишь несколько десятилетий спустя.
В начальный период он критиковал скорость, взятую первым пятилетним планом в отношении промышленного роста. С «черепашьего шага», замечал он, Сталин переключился на «галоп». В своих первых вариантах план предусматривал 8–9 % ежегодного роста, а предложение оппозиции удвоить этот темп критиковалось как нереальное, безответственное и опасное. Теперь этот темп утроился. Вместо того чтобы стремиться к оптимальным результатам, отмечал Троцкий, планировщикам и управленцам было приказано напрягаться до максимума, невзирая на то, что это выводило национальную экономику из равновесия и снижало эффективность кампании. Производственные планы чрезвычайно превышали имевшиеся ресурсы. Отсюда возникало несоответствие между обрабатывающей и сырьевой отраслью, между тяжелой и легкой промышленностью и между капиталовложениями и личным потреблением. Еще заметнее был контраст между прогрессом в индустрии и отставанием в сельском хозяйстве. Здесь нет необходимости останавливаться на тех или иных диспропорциях, которые Троцкий часто детально анализировал, — уже стало трюизмом, что эти диспропорции, фактически, характеризуют и омрачают весь процесс индустриализации в сталинскую эру. Но, как это часто бывает, трюизмы позднейшего поколения считались ужасной ересью у его предшественников, и коммунисты, и не только они, воспринимали критику Троцкого с возмущением и отвращением.
И все же, когда по прошествии времени пересматриваешь, что говорил Троцкий по этим вопросам, скорее впечатляет его политическое самообладание, чем полемический пыл. Он обычно предваряет почти каждое свое критическое высказывание подчеркнутым, впечатляющим признанием прогресса, достигнутого под руководством его соперника, хотя и настаивает на том, что главная движущая сила прогресса лежит во всенародной собственности и плановой экономике и что Сталин не только пользовался, но и злоупотреблял этими достижениями советской экономики. Он не верил, что административным хлыстом можно достичь индустриального прогресса — хлыст был также слишком часто причиной остановок и аварий. Общенародная собственность вела к централизованному планированию и требовала его; но бюрократическая сверхцентрализация вела к концентрации и усилению ошибок, допущенных лицами, находящимися у власти, к параличу общественной инициативы и к ужасающим потерям человеческих и материальных ресурсов. Безответственному и «непогрешимому» вождю приходилось бахвалиться отсутствием каких-либо ошибок и промахов и постоянно щеголять впечатляющими достижениями, неслыханными рекордами и ослепительной статистикой. Сталинское планирование опиралось на количественную сторону индустриализации и исключало все остальное; и чем выше было количество продукции, которую надо было произвести любой ценой, тем ниже было ее качество. Для рационального планирования требовалась сложная система экономических коэффициентов и тестов, которая бы непрерывно замеряла не только рост производства, но и изменения в качестве, стоимости, покупательной способности денег, сравнительных уровнях производительности труда и т. д. И тем не менее, все эти грани экономики были окутаны туманом: Сталин вел индустриализацию «со всеми потушенными лампами», среди полного глушения жизненно важной информации.
Критика Троцким коллективизации была еще более бескомпромиссной. Он осуждал «ликвидацию кулаков» как нечто чудовищное, и делал он это задолго до того, как стали известны ужасы, ее сопровождавшие. В те года, когда его самого клеймили «врагом крестьянства», он призывал Политбюро поднять налоги на зажиточных хозяев, организовать сельскохозяйственных рабочих и крестьянскую бедноту, поощрять их объединение в колхозы на добровольной основе и направить государственные ресурсы (сельхозмашины, удобрения, кредиты и агрономическую помощь) в колхозы, чтобы содействовать им в их соперничестве с частным земледельцем. Эти предложения выражали все содержание его антикулацкой политики; и он никогда не выходил за ее рамки. Ему никогда не приходило в голову, что такой многочисленный общественный класс, как сельская буржуазия, мог или будет уничтожен с помощью декрета и насилия — что миллионы человек будут лишены всего и осуждены на социальную, а многие и на физическую смерть. Такой социализм и частное земледелие были в корне несовместимы, а то, что капиталистический земледелец должен исчезнуть в обществе, развивающемся в направлении социализма, было, конечно, аксиомой марксизма и ленинизма. Но Троцкий, как и все большевики до самых недавних пор, предусматривал это как постепенный процесс, в ходе которого мелкое производство уступит место более производительному коллективному методу земледелия так же, но куда менее болезненно, чем независимый ремесленник и мелкий фермер уступали дорогу современной индустрии и крупномасштабному сельскому хозяйству при капитализме.
Поэтому не было никакой демагогии в гневном осуждении, с которым Троцкий встретил ликвидацию кулаков. Это было для него не только злобной и кровавой карикатурой на все, за что выступал марксизм-ленинизм, — он не верил, что колхозы, который Сталин создал силой, окажутся жизнеспособными. Он доказывал, что коллективное сельское хозяйство требует технологической базы куда более развитой, чем та, на которой покоится индивидуальное земледелие. А такой базы в Советском Союзе не было: трактор еще не заменил лошадь.[29]
В одном впечатляющем сравнении (о котором, конечно, можно сказать, что сравнение не имеет смысла) Троцкий заявлял, что без современного оборудования просто невозможно превратить частное мелкое земледелие в жизнеспособное коллективное хозяйство, потому что это равносильно слиянию маленьких лодок в океанский лайнер. С годами Сталин, конечно, намеревался снабдить сельское хозяйство машинным оборудованием, что он в конце концов и сделал. Что Троцкий утверждал, так это то, что коллективизация не должна опережать необходимые для нее технические средства. В противном случае коллективы не будут экономически объединены; их производительность будет не выше, чем в частном секторе; и они не дадут крестьянам тех материальных преимуществ, которые могли бы компенсировать им потерю личной собственности.[30]
А тем временем, пока колхозы не примут законченный вид, возмущение крестьян будет выражаться в упадке или застое в производстве сельхозпродукции; и это грозит взрывом колхозов изнутри. Столь острой была проницательность Троцкого в анализе состояния ума крестьянства, что с Принкипо он предупреждал Москву о надвигающемся пагубном массовом убое скота; и сделал он это задолго, за пять лет до того, как Сталин признал этот факт. Даже значительно позднее Троцкий оставался убежденным, что коллективное ведение хозяйства хронически находится в состоянии близком к коллапсу.
В ретроспективе может показаться, что Троцкий видел все в слишком мрачном свете: в итоге колхозы не рухнули. И все-таки сталинская политика 20–30-х годов при ее фантастических комбинациях массового террора и мелких уступок диктовалась страхом крушения: только железной рукой можно было удержать колхоз. Падение и последовавший застой производства сельхозпродуктов были слишком реальны и стали главной темой официальной политики двадцать пять и тридцать лет спустя.
Состояние дел в стране отражалось на всех аспектах национальной политики. Индустриализация осуществлялась на опасно узкой и подорванной сельскохозяйственной базе, посреди голода или вечной нехватки продовольствия. Поэтому она сопровождалась всеобщей и почти по-животному жестокой дракой за предметы первой необходимости, широко распространенным недовольством и низкой производительностью труда. Власти постоянно усмиряли недовольство и добивались роста производительности труда устрашением и взятками. Ужасный шок 1929–1930 годов втянул Советский Союз в порочный круг дефицита и террора, из которого долгое время не удавалось вырваться.
Отныне Сталин провозгласил конец нэпа и отмену рыночной экономики. Прослеживая взгляды Троцкого на более ранней стадии, мы замечаем, что в них «не было места для какой-либо внезапной отмены нэпа, для директивного запрета частной торговли…» и что социалистическое планирование «не может отменить нэп одним махом, а должно развиваться внутри смешанной экономики, пока социалистический сектор своим растущим превосходством постепенно не поглотит, трансформирует или ликвидирует частный сектор и перерастет рамки нэпа». Троцкий все еще придерживался этих взглядов. Он считал отмену нэпа домыслом бюрократических мозгов — только бюрократия, которая за долгий период пренебрежения индустриализацией и неверного подхода к крестьянству не сумела справиться с силами рыночной экономики и позволила им выйти из-под контроля, может пытаться объявить декретом, что рынок не существует. Но «выброшенный в дверь рынок может вернуться через окно», — говорил Троцкий. Пока сельское хозяйство не обобщено органически и устойчиво, а вокруг царит поголовный дефицит товаров, невозможно упразднить свободное действие спроса и предложения и заменить это плановым распределением товаров. Спонтанное давление рынка вначале совершит прорыв в сельском хозяйстве, потом в тех отраслях, где аграрное хозяйство и индустрия перекрываются, и, наконец, даже в национализированном секторе экономики, где оно часто нарушает и искажает планы. Наглядное свидетельство этого, особенно в начале 30-х годов, — в хаосе государственных и рыночных цен на потребительские товары, в фантастическом размахе черного рынка, в девальвации рубля и в крутом падении покупательной способности. Составители планов работали «без линейки и весов», не имея возможности установить истинные стоимости и расходы и оценить производительность труда. «Вернитесь к линейке и весам» — так Троцкий постоянно советовал. Вместо того чтобы заявлять, что воздействие рынка преодолено, плановикам было бы лучше признать его влияние, учесть его и постараться взять его под контроль. Даже в последующие годы, после того как была повержена разбушевавшаяся инфляция начала 30-х годов, эти критические высказывания сохранили свою важность; и тут также многое из того, что говорили советские экономисты в первые годы после Сталина о важности системы измерений стоимостей и отчетности в расходах, звучало эхом аргументов Троцкого.
Сталинская ширма секретности над экономической информацией затеняла и другие важные вопросы. Кто платит за индустриализацию, какой общественный класс и сколько? Какие классы и группы от этого выигрывают и до какой степени? В начале 20-х годов лидеры оппозиции, особенно Преображенский, утверждали, что крестьянство будет обязано в большой степени внести вклад в фонд капиталовложений в национализированную промышленность. Сталин через коллективизацию надеялся гарантировать этот вклад со стороны крестьянства путем повышения производства сельхозпродукции и снабжения продовольствием и сырьем. Но крестьянство расстроило его планы. «Пусть моя душа пропадет вместе с комиссарами!» — так кричал мелкий собственник, покидая свое хозяйство. И хотя ему не удавалось разрушить опоры коллективистского государства, он отказывался сдать стране ту большую часть средств на индустриализацию, которая от него ожидалась. Вот к чему на практике привело уничтожение скота и падение производства.
Еще тяжелее было иго, которое стал нести рабочий класс. Основная часть гигантских капиталовложений в индустрию была на самом деле вычетом из заработной платы народа. По сути, очень выросший количественно рабочий класс был вынужден существовать на съежившуюся массу потребительских товаров, строя тем временем новые электростанции, сталелитейные и машиностроительные заводы.[31]
Десять лет спустя Троцкий говорил, что рабочий класс «может прийти к социализму только через величайшие жертвы, напрягая все силы и отдавая свою кровь и нервы…». Сталин сейчас вымогал эти жертвы кровью и нервами. «Могут быть моменты, — говорил Троцкий в 1923 году, — когда правительство не платит вам зарплату или когда платит половину вашей зарплаты, и когда вы, рабочий, должны одалживать государству другую половину, чтобы дать ему возможность создать национализированную индустрию». Теперь Сталин захватил и эту «другую половину» рабочего заработка. Но тогда как Троцкий оправдывал свое предложение тем, что после мировой и Гражданской войны экономика страны лежала в руинах, и стремился получить согласие рабочих на этот способ накопления, то Сталин делал то, что он делал, после многих лет восстановления хозяйства и говорил рабочему, что его реальный заработок удвоится и что он вступает в обетованную землю социализма. Какое-то время инфляция скрывала действительность от рабочих, от энтузиазма, выносливости или, по крайней мере, готовности работать зависел успех пятилетнего плана.[32]
Вначале пятилетний план начинал работать в атмосфере если не равноправия, то хотя бы духа общих затрат труда и общих жертв, не омраченный шокирующим несоответствием размера вознаграждения. Этот дух вызвал пыл и рвение у комсомольцев и ударников, которые ринулись строить Магнитки и Тракторстрои. Но начальная эйфория ушла, а среди рабочих стала проявляться огромная усталость. Власти принялись побуждать их поощрительными выплатами, сдельной зарплатой, стахановским движением, наградами за трудовые рекорды и т. п. Наравне с бюрократией и управленцами рабочая аристократия вскоре достигла заметно привилегированного статуса. С этого времени, пока Сталин слал проклятие за проклятием в адрес «мелкобуржуазных уравнителей», курс против уравниловки набрал огромную силу. В борьбе с ней Троцкий призывал к «традиции большевизма, которая состояла в противодействии рабочей аристократии и бюрократическим привилегиям». Он не проповедовал уравниловку. «Вообще бесспорно, — отмечал он, — что на низком уровне производительных сил, а следовательно, и цивилизации в целом, невозможно достичь равенства вознаграждений». Он даже утверждал, что политика уравнительной оплаты труда первых лет революции зашла слишком далеко и препятствовала экономическому прогрессу. И тем не менее он считал, что социалистическое правительство обязано сдерживать неравенство в необходимых пределах, уменьшать его постепенно и защищать интересы огромных, не имеющих привилегий масс. «В конфликте между женщиной-труженицей и бюрократом мы, левая оппозиция, стоим на стороне женщины-труженицы против бюрократа… который схватил ее за горло». В том факте, что Сталин действовал как защитник привилегий, он видел «угрозу всем завоеваниям революции».
К данному времени Троцкий пересмотрел свои взгляды на пролетарскую демократию. Он заявлял, что трудящиеся смогут остановить рост привилегий, лишь когда они свободны в выражении своих требований и критики лиц, находящихся у власти. И с точки зрения социализма высший критерий, «по которому следует судить об экономическом развитии страны, — уровень жизни рабочих и роль, которую они играют в этом государстве». Если в годы нэпа он утверждал, что только мощь пролетарской демократии способна уравновесить объединенные силы нэпманов, кулаков и консервативных бюрократов, то сейчас он считал эту демократию единственным политическим фоном, при котором плановая экономика способна достичь своей полной эффективности. Поэтому для СССР оживление пролетарской демократии представляло жизненно важный экономический, а не только политический интерес. В противоположность мифу о вульгарном троцкизме Троцкий не был сторонником какого-либо «прямого контроля рабочих над промышленностью», т. е. управления заводскими комитетами или рабочими советами. Эта форма управления потерпела в России провал через несколько лет после революции; и Троцкий с тех пор был самым решительным сторонником управления и контроля одним человеком, утверждая, что управление силами заводских комитетов станет возможным лишь тогда, когда массы производителей получат хорошую подготовку и будут пропитаны сильным чувством социальной ответственности. Он также был абсолютно против «анархо-синдикалистских» схем в «рабочей оппозиции» при передаче управления индустрией профсоюзам или «ассоциациям трудящихся». Оказавшись в оппозиции и изгнании, он незначительно изменил свои взгляды. Пролетарскую демократию он представлял себе как права и свободы рабочих критиковать и противостоять правительству и тем самым влиять на его политику, но не обязательно как право осуществлять прямой контроль над производством. В централизованном планировании и центральном управлении он видел важное условие любой социалистической экономики и всякой экономики, развивающейся в направлении социализма. Но он отмечал, что процесс планирования, чтобы быть эффективным, должен осуществляться не только сверху вниз, но и снизу вверх. Производственные задания не должны спускаться с верху административной пирамиды без предварительного всенародного обсуждения, без тщательной оценки на месте ресурсов и возможностей, без предварительного изучения умонастроений рабочих и без того, чтобы последние четко поняли этот план и были готовы его выполнить. Когда мнению рабочего класса не дозволяется проверять, исправлять и изменять схемы, представленные плановым органом, серьезные диспропорции, которыми характеризовалась советская экономика при Сталине, неизбежны.
Троцкий направил свою критику на предположение о национальной независимости, которая лежала в основе ведения Сталиным экономических дел. Социализм в одной стране оставался для него «реакционной национал-социалистской утопией», недостижимой независимо от того, мчаться ли к нему со скоростью гоночной машины или ползти черепашьим шагом. Он отмечал, что Советский Союз не может собственными ресурсами и собственными усилиями превзойти или даже достичь производительности труда развитого западного капитализма, производительности, которая является необходимым условием социализма. В любом случае, расширение революции остается существенным условием для достижения социализма в СССР. Сталинский изоляционизм влиял не только на главную стратегию революции и социалистического строительства, но даже и на текущую торговую политику: Сталин не учитывал преимуществ «международного разделения труда» и фактически игнорировал важность международной торговли для советской индустриализации, особенно после Великой депрессии, когда условия торговли для Советского Союза резко ухудшились. Троцкий тогда призывал Москву улучшить свои торговые позиции политическими средствами и призывал многие миллионы безработных на Западе поднять свой голос с требованием торговать с Россией (и предоставлять торговые кредиты), что помогло бы России, но также содействовало бы созданию рабочих мест в капиталистических странах. От своего имени и от имени своей небольшой организации Троцкий опубликовал несколько впечатляющих манифестов на эту тему; но эта идея не получила ответа из Москвы.[33]
Эта детальная критика достигла кульминации в длительном и страстном протесте против моральной дискредитации, которую политика Сталина причиняет коммунизму. В 1931 году Сталин заявил, что Советский Союз уже заложил «основы социализма» — даже что он «вошел в эру социализма»; а его пропагандистам пришлось подкрепить это утверждение путем противопоставления фантастически светлого облика советского общества грубо утрированной картине страданий жизни при разлагающемся капитализме. Обличая это двойное искажение, Троцкий отмечал, что говорить советским массам, что голод и лишения, не говоря уже о репрессиях, которым они подвергаются, есть социализм, значит убить их веру в социализм и превратить их в своих врагов. В этом он видел «величайшее преступление» Сталина, потому что оно совершается против сокровенных надежд класса трудящихся и угрожает скомпрометировать будущее революции и коммунистического движения.
Мы уже говорили, что критика Троцким во всех аспектах согласовалась с традициями марксизма, а также предвосхищала реформы постсталинской эры. Сейчас может возникнуть вопрос: отвечала ли она ситуации 30-х годов и до какой степени? Были ли советы Троцкого осуществимы, годны к употреблению в то время, когда он их давал? Не был ли глубокий разрыв между марксистской теорией и практикой русской революции неотъемлемой чертой той эпохи? И не сделали ли обстоятельства этот разрыв неизбежным? Лишь очень немногие вопросы, с которыми историку приходится сталкиваться, могут так же серьезно пошатнуть его уверенность в правильности суждения, как эти. Сам Троцкий в менее полемическом тоне подчеркивал, что огромные проблемы, которые выпали на долю Советского Союза, коренятся в его бедности, отсталости и изоляции. Его основное обвинение сталинского правления состояло в том, что оно скорее усугубило эти трудности, чем создало их; и было нелегко для Троцкого, как и для историка, провести в данной ситуации черту между «объективными» и «субъективными» факторами, между страданиями, которые унаследовала русская революция, и теми, которые породили сталинские деспотизм и жестокость. Кроме того, тут существовало настоящее «единство противоположностей», диалектическое взаимодействие объективного и субъективного; бюрократический деспотизм и жестокость были неотъемлемой частью российской отсталости и изоляции — это была запоздалая реакция наследников революции на примитивную отсталость.
Ныне и Троцкий, и Сталин (хотя частью и молчаливо) придерживались мнения, что Советский Союз может достичь быстрого индустриального взлета только через первичное социалистическое накопление, — взгляда, исторически оправданного фактом, что ни одна из слаборазвитых наций нынешнего столетия не достигла прогресса, сравнимого с российским, на какой-либо иной основе. Первичное накопление, однако, предполагало, что рабочие и крестьяне вынесут более чем «обычную» тяготу экономического развития. Некоторые из основных диспропорций сталинского планирования были обусловлены именно этим. Капиталовложения в любом случае должны были расти намного быстрее, чем потребление. Надо было отдать тяжелой индустрии приоритет над легкой промышленностью. Теоретики оппозиции утверждали, что при индустриализации национальный доход будет расти столь быстро, что народное потребление будет расти вместе с инвестициями, хотя и не теми же темпами. Но вместо этого в критический период начала 30-х годов потребление катастрофически сократилось. Троцкий заявлял, что этого можно было бы избежать и что курс на индустриализацию велся бы под менее суровыми нагрузками, если бы он был начат на несколько лет раньше и более рациональным образом. Аргумент этот внушал доверие, но его истинность не могла быть доказана. Сталинский контраргумент, более державшийся в тайне, чем объявлявшийся публично, был тоже правдоподобен: Великая депрессия была бы такой же катастрофической, начнись она раньше и не столь резко. Большую часть времени с момента революции над городской частью России висела угроза голода (и до революции он вновь и вновь повторялся). В любом случае, индустриализация и быстрый рост городского населения были должны усугубить его, поскольку сельское хозяйство оставалось таким же расколотым и архаичным, как и прежде. Отказав капиталистическому земледелию в праве взять на себя снабжение лихорадочно растущих городов, большевикам пришлось выбрать коллективизацию. Если бы они попробовали вести постепенную коллективизацию, за которую выступал Троцкий, продолжалась сталинская аргументация, они бы оказались в худшем из миров: огромные массы мелких собственников так или иначе вызывали бы антагонизм; а прогресс, как и при капиталистическом ведении земледелия, был бы слишком медленным для обеспечения городов при быстрой индустриализации. Троцкий верил, напротив, что можно убедить крестьянство на добровольную и экономически здравую коллективизацию; и спорен вопрос, недооценил ли он размах, при котором любая форма коллективизации оскорбляла упрямую «неразумность» мужицкой привязанности к личной собственности. Сталин действовал по принципу Макиавелли, что нет ничего более опасного для правителя, чем оскорблять и в то же время стараться умилостивить своих врагов; и для Сталина его подчиненные стали его врагами. Он бросил все властные ресурсы на борьбу с мелкими собственниками; и целому поколению было суждено трудиться под тяжестью результатов этого экономического катаклизма. И все-таки такой ценой Сталин, с его точки зрения, добился огромного политического выигрыша: он сломил хребет архаичному сельскому индивидуализму, угрожавшему сорвать индустриализацию. Добившись этого выигрыша, он не мог отступить; он должен был защищаться не на жизнь, а на смерть.
Троцкий не верил в надежность макиавеллиевых достижений; он до самого конца отрицал, что Сталин победил крестьянский индивидуализм. Убежденный, что тот все еще способен уничтожить колхозы или подчинить их своим интересам и потребностям, он предсказывал, что внутри колхозов поднимется новый класс кулаков и возьмет власть в свои руки. И опять Троцкий уловил реальную тенденцию; но переоценил ее силу. Крестьянская жажда наживы вновь проявила себя во многих ипостасях, и Сталину пришлось бороться против возрождения кулаков в колхозах. Однако, сочетая экономические меры и террор, ему удалось ограничить рецидив частной собственности в узких и строго ограниченных границах; а крестьянский индивидуализм так никогда и не оправился от смертельного удара, который Сталин ему нанес, хотя его [крестьянского индивидуализма] предсмертный хрип звучал в ушах России еще четверть века.
Троцкий из изгнания неоднократно умолял сталинское Политбюро отказаться от этого дикого предприятия, призывал прекратить варварскую войну против сельского варварства и избрать более цивилизованный и гуманный курс действий, к которому обязывало их марксистско-ленинское наследие. Он призывал Политбюро выступить с инициативой великого примирения с крестьянством, объявить перед всем народом, что, внедряя силой коллективизацию, они допустили ошибку и что крестьяне, желающие покинуть колхоз и вернуться к частному земледелию, вольны сделать это. Он не сомневался, что это привело бы к распаду многих или, возможно, большинства колхозов; но потеря от этого будет небольшой, так как они, по его мнению, вообще были нежизнеспособны. А колхозы, которые выживут (если их снабдить машинами, кредитами и агрономической помощью и тем самым предложить их членам материальные выгоды, которые недоступны для мелкого собственника), все еще могут стать пионерами истинного, добровольного коллективистского движения, которое со временем преобразит все сельское хозяйство и поднимет его производительность до уровня, требуемого современной и развивающейся экономикой. Это, провозглашал Троцкий, есть именно то, что сделает оппозиция, если вернется к власти.
Сталинскому Политбюро было слишком поздно искать примирения с крестьянством. Еще с осени 1929 года все силы партии и государства были полностью брошены на борьбу, и попытка вывести их из боя для глубокого отхода назад легко могла привести к их разгрому. Так много было жертв в этой кампании, такие жестокие страсти разгорелись, столь много насилия было применено в отношении крестьян и настолько яростным был их призыв к отмщению, столь огромными и кровавыми были потрясения, что было более чем сомнительно, что отыщется какой-то разумный путь, пока на сцене оставалось поколение, пережившее этот шок. Если бы власти заявили, что крестьяне свободны покинуть колхозы, с треском рухнула бы вся аграрная структура; и вряд ли выжили бы какие-нибудь колхозы. Тогда понадобилось бы время, чтобы частное земледелие вернулось в привычную колею и стало работать в обычном режиме. А тем временем производство и снабжение продовольствием продолжали бы ухудшаться, и промышленное развитие потерпело бы тяжелое поражение. Не было похоже, что массовый исход из колхозов происходил бы мирно. Крестьяне сочли бы своим правом повернуться спиной к правительству и партии. Примирение потребовало бы амнистии и компенсации депортированных и экспроприированных; и легко представить настроение, с которым эшелоны ссыльных, возвращавшихся из концлагерей, были бы встречены их родными и односельчанами. Деколлективизация могла бы способствовать разгулу насилия, столь жестокого, как и то, что сопровождало коллективизацию. Возможно, новое правительство с чистым послужным списком, т. е. правительство, сформированное оппозицией, смогло бы утихомирить страну, не доводя ее до грани контрреволюции, — именно в это верил Троцкий. Для правительства Сталина любая подобная попытка была бы равносильна самоубийству. Любой признак слабости со стороны властей разжег бы ненависть, тлеющую в миллионах лачуг. Для Сталина не оставалось ничего другого, кроме как не прекращать войну, хотя, как он годы спустя признавался Черчиллю, она была даже страшнее, чем ужасы Второй мировой войны.[34]
Мы уже видели, что обстановка в деревенской России препятствовала разумным изменениям и в индустриальной политике, что новую и гигантскую промышленную структуру, во много раз превосходящую ту, что существовала в дореволюционной России, нужно было создавать на аграрной базе, которая была уже, чем при старом режиме, и что на многие годы существование всевозрастающих масс городских жителей — их число, как мы знаем, только в 30-х годах возросло с 30 до 60 миллионов человек — зависело от уменьшившегося и не отвечавшего потребностям запаса продовольствия. Никакое правительство не было в состоянии исправить эту диспропорцию: то есть всякое правительство, не готовое остановить индустриализацию или радикально замедлить ее и смириться с перспективой экономического застоя. Если бы Троцкий и его сторонники в любой момент после 1929–1930 годов вернулись к власти, им бы тоже пришлось учитывать последствия катастрофического уничтожения и падения поголовья скота. А так как они были привержены идее индустриализации, им бы пришлось проводить свою политику в этих сурово ограниченных условиях.
За несколько лет до этого Преображенский провозглашал, что первоначальное социалистическое накопление, которое, как он рассчитывал, будет происходить в значительно менее сковывающих условиях, станет «самой критической эрой в жизни социалистического государства… для нас будет вопросом жизни и смерти пронестись через этот переходный период как можно быстрее». Но насколько в большей степени это было вопросом жизни и смерти для Сталина, который отрезал все пути для отступления! Он пробивался через этот переходный период с убийственной скоростью, не обращая внимания на предупреждения и советы быть более умеренным. Преображенский призывал большевиков «придерживаться производительской, а не потребительской точки зрения…», потому что «мы еще не живем в социалистическом обществе с его производством для потребителя — мы живем под железной пятой закона о первоначальном социалистическом накоплении». Насколько тяжелее, насколько сокрушительно тяжкой стала сейчас эта железная пята! Насколько суровее стала и эта «производительская» точка зрения, которую после всего, что произошло, и при всех своих взглядах Сталин был вынужден принять! Преображенский предвидел, что в любом случае накопление будет сопровождаться относительной нехваткой потребительских товаров, и это приведет к экономическому неравенству между управленцами и рабочими, между квалифицированными, неквалифицированными и полуквалифицированными тружениками и что это неравенство необходимо для того, чтобы поощрять мастерство и производительность труда; но это не должно породить новые и фундаментальные противоречия. Фактически, неравенство росло в пропорции к дефициту, и оба этих элемента превзошли все ожидания.
Сталин использовал любой идеологический метод для того, чтобы увеличить, спрятать и оправдать разрыв между привилегиями немногих и лишениями масс, но идеологических увиливаний было недостаточно, и над этой бездной неусыпным стражем стоял террор. Его жестокость отвечала напряженности всех общественных отношений. Внешне жестокости, насилие 30-х годов выглядели как рецидив террора Гражданской войны. На деле же они далеко его превосходили и чрезвычайно отличались по масштабам и безоглядному применению силы. В Гражданскую войну именно горячее дыхание подлинного революционного гнева наносило удар по силам старого режима, которые строили заговоры, сплачивались, вооружались и воевали против новой республики. Только что набранные из восставших рабочих агенты ЧК были пропитаны жизненным опытом своего класса, делили с ним лишения и жертвы и полагались на его поддержку. Их террор был настолько выборочным, насколько это было возможно посреди хаоса Гражданской войны: он был нацелен на реальных и активных врагов революции, которые, даже если их была не «жалкая кучка», в любом случае были в меньшинстве. А в суровой атмосфере военного коммунизма этот террор также оберегал утопическое спартанское равенство тех лет.
Террор 30-х годов служил защите неравенства. По самой своей природе он был антинародным; и, будучи потенциально или фактически направлен против большинства, он не делал различия. И даже это не полностью объясняет его повсеместность и ярость. Массовые казни, массовые репрессии и массовые ссылки не требовались для того лишь, чтобы защитить дифференцированную шкалу оплаты труда или даже привилегии бюрократии — значительно большие виды неравенства и привилегий обычно оберегаются куда более мягкими средствами. Гигантская вспышка насилия пришла с коллективизацией; было, главным образом, необходимо увековечить великие перемены в селе, которые увековечивают террор. Только присутствие в деревнях карательных отрядов и политотделов не давало крестьянам возможности вернуться к частному земледелию. Колхозам, в которых отсутствовала внутренняя экономическая логичность, связь, позволяла существовать грубая внешняя сила. Нужно было добиться, чтобы эта сила оказывала влияние на огромное большинство народа — крестьянство все еще составляло от 60 до 70 % населения, — и заставить ее влиять в любое время года, будь то пахота, сев, сбор урожая и, наконец, время, когда крестьяне должны сдать свой урожай государству — и все это приводило к постоянным инъекциям таких гигантских доз страха в такую обширную часть общественного организма, что неизбежно подвергалось отравлению все тело. Как только машина террора, куда более мощная, чем те, что видывали до сих пор, была смонтирована и запущена, она набрала свою непредсказуемую энергию. Городская Россия не могла изолироваться от конвульсий, в которых содрогалась сельская Россия: отчаяние и ненависть крестьянства хлынули в города и поселки, захватывая большие части рабочего класса; и так же хлынуло и насилие, выпущенное на свободу навстречу отчаянию и ненависти.
При всей своей абсурдности перемены 1929–1930 годов свелись к социальной революции, такой же необратимой, как Октябрьская 1917 года, хотя и весьма на нее не похожей. Что проявилось в этом потрясении — это «перманентность» революционного процесса, которую пророчил Троцкий, только это проявление так отличалось от того, что он ожидал, что он не смог и не признал в нем таковой [перманентности]. Он все еще думал, как и все большевики до недавних пор, что революция нужна лишь для свержения феодального и буржуазного господства и экспроприации земельной собственности и крупного капитала, но после того, как эта задача решена, «переход от капитализма к социализму» будет происходить преимущественно мирным и эволюционным путем. В своем подходе к внутренним советским проблемам автор «Перманентной революции» был в некотором роде реформистом. Да, ранее, чем кто-либо, он понял, что Советская республика не сможет разрешить свои внутренние конфликты и проблемы в рамках народной реформы; и поэтому он с надеждой смотрел на мировую революцию, которая окончательно разрешит их. Его революционный подход к международной классовой борьбе и его реформистский подход к внутрисоветским проблемам были двумя сторонами одной монеты. Напротив, Сталин до 1929 года был уверен, что только народная перестройка может справиться с конфликтами советского общества. Увидев, что это не так, он тоже зашел слишком далеко за рамки внутренней реформы; и он устроил еще одну народную революцию. Что он отбросил, так это реформистский, а не националистский элемент своей политики. Его прагматичное безразличие к перспективам международного революционного процесса и квазиреволюционный характер его внутренней политики также были двумя сторонами одной медали.
По иронии судьбы историческое развитие сегодня подтвердило истинность идеи, лежащей в основе системы Троцкого, но оно также выявило спорность, по крайней мере частичную, этой схемы. «Оставленный в одиночестве рабочий класс России, — писал Троцкий в начале века, — неизбежно будет сокрушен контрреволюцией в тот момент, когда крестьянство повернется спиной к пролетариату». Казалось, тот момент был очень близок в начале 1921 года, а потом вновь в конце 20-х, когда крестьянство повернулось спиной к большевикам. «У рабочих не будет выбора, — писал дальше Троцкий, — кроме как связать судьбу… Русской революции с судьбой социалистической революции в Европе». С 1917 года он то и дело повторял, что Россия в одиночку не построит социализм, но все-таки ее революционный порыв еще не растрачен: 1917 год был всего лишь прелюдией к мировой революции. Сейчас выходило, что динамические силы русской революции все еще не достигли состояния покоя, хотя ее импульс не сумел разжечь революцию в Европе. Не сумев сработать наружу и расшириться в объеме и будучи сжатой внутри Советского Союза, эта динамическая энергия обратилась вовнутрь и стала вновь насильно преобразовывать структуру советского общества. Насильственная индустриализация и коллективизация стали заменителями для расширения революции, а ликвидация российских кулаков стала суррогатом свержения буржуазного господства за рубежом. Для Троцкого эта идея была неотделима от его схемы: только немецкий, французский или, на худой конец, китайский Октябрь обеспечат реальное продолжение русского Октября. Доведение до конца революционного процесса в России может произойти только через его интернационализацию. Исторически это все еще было истинно, но непосредственно Сталин действовал как невольный агент перманентной революции внутри Советского Союза. Троцкий отказывался признать это и принять эрзац за настоящую вещь.
Его точка зрения соответствовала классическому марксизму. Сталинские «великие переломы» были пронизаны абсурдом. Классическая революция, описанная Марксом, проводилась на гребне социальной осведомленности и политической активности масс; она была высшим проявлением их стремления жить и изменить свою жизнь. Потрясения 1929–1930 годов произошли при нижайшем уровне народной социальной информированности и политической энергии — это была революция сверху, основанная на подавлении всякой стихийной народной активности. Ее ведущей силой был не какой-то общественный класс, а партийная машина. Для Троцкого, чья мысль была пропитана и олицетворяла собой все богатые и разнообразные европейские традиции классической революции, эти потрясения были, следовательно, вовсе не революцией, — это было просто насилие над историей, совершенное сталинской бюрократией. И все же, какой «незаконной» с точки зрения классического марксизма ни была сталинская революция сверху, она произвела долговременные и беспрецедентные по масштабу изменения в отношениях собственности и в конечном итоге в образе жизни народа.
В течение своего повествования я неоднократно рассматривал особенность русской истории, которая состояла в чрезвычайной власти государства над народом. Старый царский абсолютизм черпал свою силу из примитивной, недифференцированной и бесформенной ткани русского общества. «В то время как на Западе, — замечал Милюков, — сословия создавали государство, в России государство приводило в действие сословия». Даже российский капитализм, добавлял Троцкий, появился «как дитя государства». Незрелость российских общественных классов побудила лидеров интеллигенции и небольших групп революционеров заменять собой народ и действовать как его доверенные лица. После относительно короткой, но обширной вспышки народной энергии России в первые два десятилетия этого столетия истощение этой энергии в Гражданской войне и послереволюционный раскол общества произвели подобный эффект. В 1921–1922 годах, когда рабочий класс был не в состоянии отстаивать свои собственные классовые интересы, Ленин и его старая гвардия взяли на себя роль его доверенных лиц. Логика этой «подмены» привела их к установлению политической монополии большевистской партии, которая затем уступила место много более суженной монополии сталинской группировки. Для того чтобы лучше уловить смысл дальнейших событий и борьбы между Сталиным и Троцким, нам надо кратко припомнить то положение различных классов советского общества, в каком они находились через десять лет после Гражданской войны.
Сейчас делом прошлого стало сокращение и распыление отличительных качеств рабочего класса начала 20-х годов. При нэпе, когда шло восстановление промышленности, вырос новый рабочий класс, по численности почти равный старому. Всего лишь за несколько лет к 1932 году занятость в промышленности возросла с 10 до 22 миллионов человек, а в последующие годы на заводы и шахты было привлечено так много новобранцев, что к 1940 году рабочий класс стал почти в три раза многочисленней, чем когда-либо. И все же, несмотря на колоссальный рост, рабочий класс не стал политической силой. Прямое влияние рабочих на политическую жизнь было неизмеримо меньше, чем в последние годы царизма, не говоря уже о 1917 годе; рабочие просто были не в состоянии защититься перед бюрократией. Дело не в том, что в рабочем государстве у них не было такой нужды, — не кто иной, как Ленин, в 1920–1921 годах настаивал на том, что рабочим придется защищаться от своего собственного государства; и если им надо было делать это в 1921 году, то в 1931 году им это понадобится тем более. Но они оставались пассивными и безгласными.
Чем вызван этот феномен продолжительного затмения социального сознания и паралича политической воли? Тут мог быть не один террор, и даже не тоталитарный террор; потому что он эффективен прямо пропорционально сопротивлению, которое встречает. Тут должно было быть что-то в самом рабочем классе, который был виновен в своей пассивности. Что же это было?
Миллионы новых рабочих пополняли промышленность, приходя из первобытно примитивной деревни, поначалу стихийно, гонимые сельской перенаселенностью, а потом в ходе планового перемещения рабочей силы из крестьянского хозяйства на завод, которое правительство проводило, используя колхозы как удобные центры по найму. Новички приносили с собой (в города и рабочие поселки) неграмотность, апатию и фаталистический дух глубинной России. Лишенные корней и сбитые с толку незнакомым окружением, эти люди сразу попадали в огромный механизм, который был должен превратить их в существа, очень отличные от тех, какими они были до сих пор, вставить их в ритм и дисциплину индустриальной жизни, привить им механические навыки и вбить в них самые последние заповеди, запреты и лозунги партии. Согнанные в огромные помещения и бараки, одетые в отрепье, недоедающие, постоянно под угрозами на рабочем месте и часто находясь в условиях полувоенной дисциплины, они были не в состоянии оказать сопротивление давлению, которое обрушилось на них. В основном их опыт не очень отличался от опыта поколения крестьян, лишенных корней, брошенных в индустриальные плавильные тигли раннего капитализма. Но в то время как при свободе это было стихийным действием рынка рабочей силы, страха безработицы и голода, которые медленно трансформировали и дисциплинировали крестьянина в промышленного рабочего, в сталинской России об этом заботилось государство и сжимало процесс трансформации во много более краткий период.
Настолько жестокой была обработка, которой подвергался промышленный рекрут, таким интенсивным было обучение, которое он проходил, таким забытым Богом и людьми и таким подавленным громадностью сил, которые формировали его жизнь, он себя ощущал, что у него не хватало ни разума, ни сил, чтобы выработать собственное мнение или выразить протест. Время от времени его недовольство находило выход в пьяной драке, в поломке машин исподтишка или в попытке сбежать с одного завода на другой. Он старался заботиться о самом себе и улучшать свою судьбу вне связи со своим классом. Его атавистический индивидуализм, как и запрет на забастовки, не позволял ему объединиться в целях самозащиты с коллегами-рабочими и действовать солидарно с ними. Сталин, подавлявший этот индивидуализм на его родной почве, в деревне, поддерживал его и играл на нем в заводской мастерской, где стахановское движение и «социалистическое соревнование» возбуждали в рабочих до предела жажду наживы и подстрекали их к соперничеству за станком.
Таким образом, пока крестьянство подвергалось коллективизации, рабочий класс был доведен до такого состояния, что от его традиционно коллективистского кругозора мало что оставалось. «Пока наше крестьянство превращается в пролетариев, наш рабочий класс полностью заражается крестьянским духом», — с горечью замечал один из ссыльных социологов оппозиции. Нечего и говорить, что классовая солидарность и марксистская воинственность были полностью истреблены. Они, правда, все еще сохранились в уцелевших могиканах «октябрьского поколения» и в совсем немногих молодых людях, воспитанных в 20-х годах, — как это видел каждый, кто наблюдал энтузиазм самопожертвования, с которым первые ударники отправлялись строить, часто почти на своих собственных костях, новые металлургические заводы и электростанции посреди голых скал Урала и дальше на востоке. Сталинская пропаганда, как обычно противореча самой себе, продолжала насаждать марксистские традиции, даже искажая и уродуя их. Рабочие, пропитанные этими традициями, были недовольны вторжением крестьянского индивидуализма на заводы и дракой за заработки и премии. Но такие рабочие были в меньшинстве, и их поглотили миллионы пролетаризированных мужиков. Кроме того, государство и партия беспрерывно иссушали интеллектуальные и политические ресурсы рабочего класса, отбирая из его среды наиболее классово сознательных, образованных и энергичных людей, чтобы заполнить ими вновь созданные управленческие и административные должности или призвать их на службу в особые отряды, чьей задачей была коллективизация крестьян. Лишенный своей элиты, рабочий класс к тому же был разорван центробежными силами и разоблачен. Конечно же он был глубоко расколот проблемой отношения к коллективизации. Эта кампания поначалу пробудила в стране большие надежды среди пролетариев с крепкими городскими корнями, которые всегда относились к кулакам с недоверием. Но работники, пришедшие из деревни, были возмущены, они заполняли города рассказами об ужасах, творящихся в деревне, и вызывали большое сочувствие. Социолог, которого мы цитировали выше, замечает, что за годы первой пятилетки города наполнились людьми, которых он описывает как sans culotte à rebours.[35] Еще со времен французской революции, объясняет он, санкюлот, т. е. человек без собственности, был врагом собственности; но в Советском Союзе в то время он был яростным защитником собственности. Его присутствие и настроение ощущались даже в старейших оплотах большевизма, что было неудивительно, если, например, в Донбассе в 1930 году не менее 40 % шахтеров были раскулаченными и другими крестьянами. В более старых слоях пролетарского общества настроение варьировало от мрачной враждебности к властям до такого чувства, что партия и государство прежде всего выражают надежды рабочего класса и что оппозиция им недопустима. Не было сомнения, что массы «санкюлотов наоборот» и многочисленные люмпен-пролетарии, ссыльные крестьяне, которые не уживались ни в каком индустриальном окружении и пополняли ряды пьяниц и преступников в городах, создали потенциально большой запас пушечного мяса для любого термидора, контрреволюционного или даже фашистского движения.
В своей раздробленности, замешательстве и отсутствии политического лица новый рабочий класс частично походил на рабочий класс эпохи раннего капитализма, который Маркс описывал как «класс в себе», но не «для себя». Класс в себе выполняет в обществе свои экономические функции, но не осознает своего места в обществе, не способен ощутить свой собственный корпоративный и «исторический» интерес и подчинить ему групповые или личные устремления его членов. Марксисты автоматически допускают, что, как только рабочий класс достигнет общественной самоинтеграции и политического сознания, которое превратит его в «класс для себя», он неограниченно укрепится в этой позиции и уже не погрузится вновь в прежнюю незрелость. Вместо этого рабочий класс России, свергнув царя, помещиков и капиталистов, снова впал в низкое состояние класса, безгласного и не осознающего свои интересы.
Состояние крестьянства, конечно, было еще хуже. Обрушившиеся на него удары полностью его дезорганизовали и выбили из колеи. Еще до 1929 года крестьянство, казалось, достигло той степени внутреннего единства, какой едва ли достигало в прошлом. В своей массе оно казалось и до некоторой степени было едино во враждебности, с которой сопротивлялось большевистской коллективизации. Его противоречия с партией и государством затеняли внутренний раскол, т. е. конфликты между зажиточными и бедными крестьянами. Кулак находился во главе деревенской общины; а крестьяне-бедняки, которые годами следили за попытками большевиков договориться с кулаком, воздерживались от оспаривания его положения и волей-неволей принимали его главенство. Потому проводникам коллективизации, когда они впервые появились на сцене, было трудно пробить брешь в солидарности сельчан. Настолько раздута была самоуверенность кулака и такое сильное влияние она оказывала на бедных крестьян, что они не верили комиссарам, которые всерьез грозили кулаку уничтожением. Многие думали, что все же безопасней стать на сторону кулака и защищать старый уклад земледелия, чем следовать призывам комиссаров. Но когда выяснилось, что власти вовсе не собираются отступать, а кулак в самом деле обречен, единство деревни рухнуло; давно подавляемая, но все еще тлеющая вражда бедных по отношению к зажиточным слоям вновь ожила. Огромные массы людей разрывались между интересами, расчетами и чувствами. Поскольку власти атаковали не только деревенский капитализм, но и частное земледелие в целом и так как даже беднейших крестьян заставляли отказаться от своего скудного имущества, крестьяне все еще старались сохранять единство, цепляясь за свои пожитки. Инстинкт собственности был часто таким же сильным у бедняка, как и у зажиточного крестьянина; и этот инстинкт вместе со здравым смыслом были потрясены и возмущены тиранией и бесчеловечностью коллективизации. И все-таки эти чувства расстраивались и ослаблялись при хладнокровном размышлении бедняков о том, что они могут в конце концов получить выгоду от раскулачивания зажиточных крестьян и обобществления хозяйств; а потом, когда уже не стало сомнений в том, кто победит, многие ринулись, чтобы примкнуть к стороне, имеющей перевес.
Конечно, идея коллективного хозяйства не была чужда глубинной России. Вера в то, что земля есть общее достояние всех, кто ее обрабатывает, что Создатель не собирался ее посредством кого-то обогатить, а кого-то разорить, укоренилась с давних пор; а мир (или община, т. е. первоначальная, базовая сельская община, внутри которой земля периодически перераспределялась среди ее членов) существовал чуть ли не до самой революции — только в 1907 году правительство Столыпина позволило «крепкому мужику» покинуть мир и тем самым уберечь свое имущество от перераспределения, избежав влияния уравниловки. Правда, с 1917 года крестьянская привязанность к своему собственному, возросшему участку земли возросла в огромной мере. Тем не менее, партийные агитаторы все еще могли представить колхоз законным наследником мира и прельщать им сельчан не в качестве подрывной новинки, а скорее как средством возрождения в измененном виде природного института, который, хоть и был разъеден капиталистической жадностью и ненасытностью, все еще почитался в памяти. Таким образом, импульсы и факторы, определявшие поведение крестьянства, были запутанными и противоречивыми, в результате чего страх и вера, ужас и надежда, отчаяние и вновь обретенная уверенность — все это боролось в уме мужика, лишая его присутствия духа и вызывая в нем возмущение. В то же время он не оказывал сопротивления и лишь пестовал свои обиды в пассивном повиновении.
В тот период, когда крестьян быстро доводили до такого состояния, они еще к тому же с яростным безумием погрузились в беспутство. В первые месяцы коллективизации они зарезали свыше 15 миллионов коров и быков, почти 40 миллионов коз и овец, 7 миллионов свиней и 4 миллиона лошадей; резня продолжалась до тех пор, пока поголовье скота по стране не упало более чем в два раза. Эта великая скотобойня дала мясо для главного блюда на празднике, которым мелкий собственник отмечал свои похороны. Кулак начал эту резню и подбил других следовать его примеру. Видя, что теряет все, что его, кормильца нации, ожидает грабеж его собственности, он вознамерился лишить страну поставок продовольствия; и, чтобы не дать колхозникам увести его скот на колхозные сборные пункты, заполнил собственные кладовые мясными тушами, чтобы заставить своих врагов голодать. Колхозники были поначалу захвачены врасплох этой формой «классовой борьбы» и с беспомощным изумлением наблюдали, как «середняки» и даже бедняки присоединялись к ней, пока вся деревенская Россия не превратилась в скотобойню.
Так начался этот странный карнавал, которым заправляло отчаяние и из-за которого бешенство заполняло котлы для варки мяса. Эпидемия оргиастического обжорства распространялась от деревни к деревне, от волости к волости, от губернии к губернии. Мужчины, женщины и дети набивали брюхо, срыгивали и возвращались к котлам. Никогда раньше в деревне не производили столько водки — почти каждая изба стала водочным заводом, — и пьянка, в старых славянских традициях, была тяжелой и глубокой. Когда все проедали и пропивали, кулаки устраивали в деревнях иллюминацию из пожаров, поджигая свои амбары и конюшни. Люди задыхались от вони гниющего мяса, паров водки, дыма своей горящей собственности и от собственного отчаяния и безнадежности. Часто бывало, что на этой сцене появлялся отряд коллективизаторов, чтобы прервать этот жуткий пир пулеметными очередями; эти бригады казнили на месте или уводили с собой этих невоздержанных врагов коллективизации и объявляли, что с данного момента все оставшиеся односельчане как примерные члены колхоза будут стремиться лишь к победе социализма на селе. Но и после того, как у кулаков и подкулачников (их помощников) имущество было отобрано, забой скота и пиршества продолжались — это невозможно было остановить. Животных убивали потому, что не осталось сена, или потому, что скотина заболевала из-за отсутствия ухода; и даже бедняки, которые, вступив в колхоз, имели прямой интерес в сохранении своего имущества, продолжали проматывать его и набивать свои оголодавшие желудки. Потом наступил долгий и ужасный пост: хозяйства остались без лошадей и без зерна для сева; колхозники Украины и Европейской России устремились в Среднюю Азию для закупок лошадей, а вернувшись с пустыми руками, впрягали в плуги немногих оставшихся коров и быков; и в 1931-м и 1932 годах обширные земные пространства остались невспаханными, а борозды были усеяны телами умерших от голода мужиков. Мелкий собственник скончался так, как и жил, в отчаянной беспомощности и варварстве; а его последнее поражение было как моральным, так и экономическим и политическим.
Но коллективизаторы тоже были морально разгромлены; и, как мы уже говорили, новая система земледелия должна была страдать от этого разгрома еще многие годы. Обычно успех революции не зависит в плане созидательной задачи от класса, ею свергнутого, будь это помещики или буржуазия; она может опираться на классы, которые сплотились на ее стороне. Парадокс сельской революции 1929–1930 годов состоял в том, что реализация ее позитивной программы зависела именно от побежденных: колхозы не могли процветать, когда мелкий собственник, превращенный в колхозника, вовсе не желал приводить ее в действие.
Отсутствие морального и политического единства среди рабочих и крестьян способствовало очевидному всемогуществу государства. Если после Гражданской войны бюрократическая власть устанавливалась на основе экономического развала страны и рассредоточения рабочего класса, то теперь эта власть стала неограниченной, благодаря обратным процессам, благодаря экономическому росту и расширению, которые должны были придать обществу новую структуру и форму, но на самом деле сделали общество даже еще более бесформенным и увеличили его духовную атрофию. В последующие годы вся энергия Советского Союза была направлена на достижение материального прогресса, так что ее осталось мало или не осталось вовсе для утверждения каких бы то ни было моральных или политических целей. И так как мощь государства еще увеличивалась, когда направлялась против аморфного и пассивного народа, лица, находившиеся у власти, делали все, что могли, чтобы удержать народ именно в этом состоянии.
Но даже бюрократия не была по-настоящему объединена каким-либо общим интересом или перспективой. Все противоречия, разделявшие другие классы, отражались и в ее среде. Все еще существовало старое отчуждение между госслужащими-коммунистами и беспартийными; оно остро проглядывало в частых чудовищных процессах над «специалистами», осуждаемыми как саботажники и «вредители». Все годы нэпа большинство этих «специалистов» и их друзья с надеждой ожидали момента, когда динамическая сила революции затихнет и Россия вновь станет «нормальным» государством. Они в самом деле молились на тот нэп и на тот термидор, призраки которых не давали покоя троцкистам и зиновьевцам; они поначалу ставили на Сталина и Бухарина против Троцкого; а потом страстно желали увидеть, как Бухарин или кто-то другой, «настоящий термидорианец» (т. е. контрреволюционер) одержит верх над Сталиным. И вот эти надежды рухнули; и те, кто их питал, часто не сумевшие или не желавшие приспособиться к этой новой ситуации, пришли в замешательство. В большевистском секторе бухаринцы и сталинцы были в ссоре. Первых, которые хорошо укрепились за годы нэпа, выслеживали и изгоняли из администрации. Их места и многие другие вакансии, которые были свободны все это время, заполняли вновь пришедшие из рядов рабочего класса и из молодой интеллигенции. Поэтому состав бюрократического аппарата был чрезвычайно нестабильным, а вид — весьма разношерстным. Даже та связь, которая, казалось бы, должна была его объединять — связь через привилегии, — была очень тонкой, когда не только отдельные личности, но и целые группы бюрократии могли (и это часто происходило) чуть ли не одним махом лишиться всех привилегий, превратиться в парий и оказаться в концентрационных лагерях. И даже сугубо сталинские элементы, люди, принадлежавшие партийной машине, и руководители национализированной индустрии, которые в буквальном смысле формировали правящие группы, ни в коей степени не были освобождены от чувства ненадежности, с которым вся иерархия трепетала под сталинской диктатурой.
Таким образом, лихорадочный экономический рост, сопровождавшая его общая неустроенность, затмение общественного сознания в массах и истощение их политической воли создавали основу для развития, при котором власть единственной группы становилась властью единственного лидера. Множество конфликтов между классами и внутри каждого класса, конфликтов, которые общество не могло разрешить самостоятельно, требовало присутствия постоянного арбитража, который мог исходить только с самой верхушки власти. Чем больше по масштабам была неурядица и хаос внизу, тем более стабильной и твердой должна была быть эта верхушка. Чем более ослабленными и лишенными воли были все общественные силы, тем сильнее и упрямее становился арбитр; и чем мощнее он становился, тем более бессильными они должны были оставаться. Ему приходилось концентрировать в себе всю волю для принятия решения и действия, которых у них не было. Ему пришлось сосредоточить в себе весь рассеянный до сих пор напор и порыв народа. В той степени, в которой основная масса народа опустилась ниже уровня высоких человеческих побуждений, он должен был представляться сверхчеловеческим существом. Его непогрешимый разум должен господствовать над рассеянностью их мышления. Его неусыпная бдительность должна оберегать их от всех опасностей, о которых они не ведают и от которых сами не в состоянии защититься. Каждый должен был ослепнуть, чтобы он, единственный зрячий, мог их вести. Его необходимо провозгласить единственным опекуном революции и социализма, а его коллеги, которые до настоящего времени выполняли это опекунство совместно, должны были отказаться от всяких претензий на это, чтобы не быть раздавленными. Чтобы сделать его превосходство бесспорным, все массы должны беспрерывно прославлять его; а сам он обязан оберегать свое первенство с исключительной тщательностью и следить, чтобы народное низкопоклонство возрастало в бесконечном крещендо. Подобно «Избраннику истории» Гегеля, он воплощал великий период в жизни нации, да и в жизни человечества тоже. Но для навязчивой мании величия, которую в нем развивало его положение, даже этого было мало: локтям супермена было тесно в рамках своего времени: в нем должны жить и сливаться воедино прошлое, настоящее и будущее: прошлое с призраками царей — ранних основателей империи, которые нелепо сталкивались с тенями Маркса и Ленина; настоящее с его гигантскими вулканическими и созидательными силами; и будущее, блистающее исполнением самых сокровенных мечтаний человечества. Секрет этого гротескного апофеоза, однако, лежал менее в Сталине, чем в обществе, которым он правил: как только это общество лишилось своей политической индивидуальности и ощущения своего собственного движения, эта индивидуальность и все движение истории стали персонифицировать в его лидере.
Процесс, благодаря которому сталинское правительство становилось правительством Сталина, был куда менее отчетливым и последовательным, чем эволюция, которая к этому привела, — трансформации власти партии большевиков во власть сталинской группы. С самого начала фракционная политическая монополия была до определенной степени лично сталинской, потому что его сторонники всегда были значительно более дисциплинированны, чем те, что находились в рядах соперников. Он всегда единолично командовал своими последователями, и притом так, как никогда не вели себя ни Троцкий, ни Бухарин, ни Зиновьев со своими сторонниками. Однако после разгрома всех своих соперников Сталину еще надо было добиться полного господства над своими собственными соратниками. Теперь оказалось, что власть единственной фракции, не меньшая, чем у партии в целом, противоречива по смыслу. При однопартийной системе, до тех пор пока члены партии могут свободно выражать свое мнение, различные группы и школы мысли, сформированные при неясной многопартийной системе, с ней несовместимы. Единственная фракция стремилась воспроизвести внутри себя фрагментарные оттенки фракций и школ, которые сама только что подавила. Сталину среди своих сторонников пришлось выискивать скрытых троцкистов и тайных бухаринцев. Ему пришлось лишать всех этих сторонников ограниченных свобод, все еще у них остававшихся. Теперь настал их черед понять, что, лишив свободы всех своих оппонентов, они отобрали ее и у себя и отдались на милость своего собственного вождя. Заявив когда-то, что партия должна быть монолитной, а иначе это не большевистская партия, Сталин теперь настаивал на том, что его собственная фракция должна быть монолитной, а иначе она не будет сталинской. Сталинизм перестал являться течением мысли или выражением какой-то политической группы — он стал сталинским личным интересом, его волей и прихотью.
Эта индивидуализация всех политических отношений повлияла и на позицию Троцкого. Если Сталин стал единственным официальным и общепринятым олицетворением революции, то Троцкий стал ее единственным неофициальным и неортодоксальным представителем. Такой ситуации до 1929 года не существовало. Троцкистская оппозиция никоим образом не являлась его личной вотчиной, хотя он и был ее выдающимся лидером. Ее руководящий центр состоял из энергичных и независимых людей: Раковского, Радека, Преображенского, Смирнова, Пятакова и других, и никого из них нельзя было назвать марионеткой Троцкого; и рядовые члены, боровшиеся за свободу внутри партии, сохраняли ее внутри более узких границ своей фракции. В объединенной оппозиции Зиновьев и Каменев, хотя и сознавая превосходство Троцкого, очень ревниво относились к собственному авторитету и воспринимали Троцкого как равного. Он не только не устанавливал своего диктата, но и часто, как мы видели, у него были подрезаны крылья в действиях против Сталина из-за уступок, которые он делал своим приверженцам или временным союзникам. И бухаринская идеология до 1929 года представляла альтернативу как сталинизму, так и троцкизму, альтернативу, которая привлекала многих внутри и вне партии. Таким образом, несмотря на растущую концентрацию власти в руках Сталина и растущий конформизм, надежды и ожидания большевиков еще не были сосредоточены на каком-то одном лидере и какой-то одной стратегии, а были привязаны к различным личностям, группам лидеров и различным позициям и оттенкам позиций.
События 1929–1930 годов все это изменили. Бухаринская школа мысли рухнула еще до того, как ей удалось открыто выступить против Сталина. Она не могла продолжать спор со свершившимися фактами великих перемен: она не могла сопротивляться индустриализации или по-прежнему ставить на крепкого мужика. Альфой и омегой бухаринской идеологии был ее подход к крестьянству; и эта идеология утратила смысл. Красная оппозиция потеряла под собой опору с того момента, как исчез мелкий собственник. В этом лежало существенное различие между разгромом Троцкого и Зиновьева и поражением Бухарина и Рыкова: чтобы победить первых, Сталину пришлось украсть у них их политическое оружие, а вторые сами выкинули свое оружие как устаревшее. Вот почему Бухарин, Рыков и Томский, когда в ноябре 1929 года их исключили из Политбюро, ушли с едва слышным хныканьем, в то время как Зиновьев и Каменев в свое время покинули сцену с боевым кличем.
Капитуляция зиновьевцев и конец идеологии Бухарина превратили сталинизм и троцкизм в единственных кандидатов на верность большевистским принципам. Но теперь, благодаря странно параллельному, хотя и противоположному развитию, эти две фракции тоже распадались, причем каждая по-своему: троцкисты — через бесконечные дезертирства, а сталинисты — через сомнения и замешательство в своих собственных рядах. И точно так же, как сталинизм в победе превратился в сталинский абсолютизм, так и троцкизм в поражении становился отождествлением одного Троцкого. Конечно, даже после всех капитуляций в тюрьмах и местах ссылки все еще оставались нераскаявшиеся оппозиционеры; и в начале 30-х годов, пока ими руководил Раковский, ряды их временами укреплялись новыми сторонниками и возвращавшимися капитулянтами, которые разочаровались в своей сдаче. И все-таки, несмотря на эти пополнения, троцкизм уже не мог вернуть себе сплоченность и уверенность, которые были у него еще в 1928 году. В лучшем случае это было множество рыхлых отколовшихся группировок, ощущающих свою изоляцию, не верящих в перспективу, но все еще упорствующих в своей верности Троцкому, тому, за что он выступал, или подразумевалось, что должен выступать. Они все еще спорили между собой и издавали противоречивые тезисы и статьи; но циркулировало все это лишь внутри тюремных стен. Еще до того, как террор достиг своего апогея великих репрессий, троцкисты уже не могли использовать тюрьмы и места ссылок как базы для политических акций в той манере, в какой это делали революционеры во времена царизма: их идеи не достигали рабочего класса и интеллигенции. С годами их связь с Троцким становилась все более хрупкой, и в 1932 году их переписка вообще прекратилась. Они уже точно не знали, за что выступают; а он уже не мог установить, совпадают или нет его взгляды с их представлениями. У него не было иного выбора, чем заменить собой оппозицию в целом; а у них не было другого выбора, нежели признать его вслух или молча своим единственным доверенным лицом и по определению — единственным опекуном революции. Сейчас лишь его голос был голосом оппозиции на фоне беспредельного безмолвия всей антисталинской России.
Таким образом, против Сталина, единственного доверенного лица большевизма у власти, Троцкий выступал в одиночку как доверенное лицо большевизма в оппозиции. Имя его, как и Сталина, стало чем-то вроде мифа; но если сталинское означало миф власти, поддерживаемый властью, то его имя стало легендой сопротивления и жертвенности, лелеемой жертвами. Молодежь, которая в 30-х годах вставала перед палачами с криком «Да здравствует Троцкий!», часто имела очень слабое представление о его идеях. Они отождествляли себя скорее с символом, чем с программой, символом их собственного возмущения против всей этой нищеты и репрессий, окружавших их, их собственной памяти о великих обещаниях Октября и их собственной, весьма смутной надежды на «возрождение» революции.
Таким его видели не только признанные сторонники Троцкого и капитулянты. Ощущение, что он представляет собой альтернативу сталинизму, продолжало существовать среди членов партии, молчаливо выполнявших приказы Сталина, и вне партии, среди политически мыслящих рабочих и интеллигенции. Всякий раз, когда люди опасались или чувствовали, что Сталин гонит их на грань катастрофы, и всякий раз, когда даже их покорность была потрясена чрезмерностью его жестокости, их мысли обращались, пусть даже мимолетно, к Троцкому, о котором они знали, что тот не сложил оружия и что за границей он продолжает свою одинокую борьбу против коррупции революции.
Сталин опасливо осознавал это; и он обращался с Троцким так, как в старые времена какой-нибудь признанный монарх обращается с опасным претендентом на трон или как папа при двойном и тройном расколе относится к антипапе.[36] Именно за роль антипапы ныне ирония истории осуждает Троцкого — наследника классического марксизма, который чрезвычайно не подходил для такой роли и одинаково не был способен и не желал ее играть. Все десятилетие, насыщенное самыми важными и потрясающими событиями, трансформацией советского общества, Великой депрессией на Западе, подъемом нацизма и громыханием надвигавшейся войны, — все 30-е годы эта дуэль между Сталиным и Троцким оставалась в центре внимания советской политики, часто заслоняя собой все другие проблемы. Сталин не расслаблялся ни на минуту сам и не позволял это делать своим пропагандистам и полицейским в антитроцкистской кампании, которую вел в каждой сфере мысли и деятельности и которую наращивал из года в год, из месяца в месяц. Страх перед претендентом лишил его сна. Он постоянно высматривал агентов, подосланных претендентом, которые, может быть, тайно переходили границу, проносили контрабандно послания претендента, подстрекали, строили козни и призывали к действию. Подозрение, не дававшее Сталину покоя, стремилось прочесть потаенные мысли о Троцком, которые могли гнездиться в головах самых раболепных из его подданных; и он отыскивал в самых безобидных высказываниях, даже в лести своих подхалимов сознательные и скрытые намеки на законность претензий Троцкого. Чем величественнее выглядел и выступал Сталин и чем подобострастней валялись перед ним в пыли бывшие приверженцы Троцкого, тем безумнее становилась навязчивая мысль о Троцком и тем неутомимей он старался заставить весь Советский Союз разделить с ним эту навязчивую идею. Неистовство, с которым он занимался этой ссорой, делая ее основной заботой как международного коммунизма, так и Советского Союза, и подчиняя ей все политические, тактические, интеллектуальные и другие интересы, не поддается описанию: во всей истории вряд ли найдется подобный случай, в котором такие огромные ресурсы власти и пропаганды были задействованы против одинокой личности.
Какой бы патологической ни была эта навязчивая идея, она имела под собой основу. Сталин не захватил власть раз и навсегда; он должен был завоевывать ее вновь и вновь. Его успехи не заслоняли того факта, что, по крайней мере, до окончания Великой чистки его превосходство останется неконсолидированным. Чем выше он поднимался, тем больше была пустота, его окружавшая, и тем больше была масса тех, кто имел повод бояться его и ненавидеть и кого он боялся и ненавидел. Он видел, что старый раскол между его оппонентами, разногласия между правыми и левыми большевиками становятся все более размытыми и сглаженными; а потому боялся этих «право-левацких заговоров» и «троцкистско-бухаринских блоков», которые приходилось откапывать его органам или изобретать снова и снова и фабрикация которых была действительно свойственна той ситуации. Наконец, его гегемония над собственной фракцией сделала даже истинных старых сталинцев потенциальными союзниками троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев. Возвысившись над всей большевистской партией, он рассматривал не без причин всю партию как потенциальную коалицию против себя самого; и ему приходилось использовать каждую частицу своей силы и коварства, чтобы не позволить этому потенциалу превратиться в реальность. Он знал, что если эта коалиция когда-нибудь оформится, Троцкий автоматически станет ее лидером. Заставив всех главарей оппозиции пасть ниц перед собой, он сам непреднамеренно возвеличивал моральный авторитет Троцкого. Тогда он стал делать все, что мог, и даже больше, чем мог, чтобы уничтожить этот авторитет. Он прибегал даже к еще более радикальным средствам и к еще более абсурдной клевете; но эти усилия были обречены на провал. Чем громче он осуждал своего противника как вождя или единственного побудителя всякой ереси и оппозиции, тем сильнее он обращал молчаливые антисталинские эмоции, которыми большевистская Россия была переполнена, к далекой, но все еще величественной фигуре изгнанника.
Глава 2 РАЗУМ И БЕЗУМИЕ
На протяжении 30-х годов разум Троцкого сражался с приливом абсурда в мировую политику. Некоторые из его русских приверженцев побаивались, что, хотя его критика сталинской политики была оправданной и даже неотразимой, ему все-таки не удалось учесть нелогичность положения Советского Союза. Ведь он сам несколько лет назад в споре с Бертраном Расселом утверждал, что невозможно «разметить разумным образом революционный путь заранее» и что «революция — это выражение невозможности реконструкции классового общества рациональными методами». И вот оказалось, что такими методами невозможно перестроить общество даже после революции при системе, которая отказалась от преимуществ капитализма, но еще не воспользовалась преимуществами социализма. Большинство факторов (если не все), содействовавших иррациональности классового общества, — фундаментальные конфликты интересов, фетишизм недвижимости и денег, неадекватность или отсутствие общественного контроля над производительными силами, — все они продолжали интенсивно действовать в Советском Союзе. Стремления большевиков сделать Россию индустриальной и образованной, создать плановую экономику и достичь контроля над социальным хаосом сами оказались инфицированными нелогичностью окружающей среды, в которой находилась Россия. Эта ситуация, хотя ее и можно было объяснить теоретически и даже предсказать, породила такие чудовищные нелепости, что аналитически и диалектически мыслящие умы временами попадали в тупик, пытаясь отделить разум от безумия.
На Западе это были годы Великой депрессии, и исторические анналы безумия и преступности вдруг пополнились подъемом и триумфом нацизма. Так или иначе, нацистский триумф с этих пор отодвинул на задний план жизнь нашего главного героя. Не забегая далеко вперед в своем повествовании, могу сказать, что попытка Троцкого предупредить рабочий класс Германии о грозящей ему опасности стала его величайшим политическим деянием в изгнании. Как никто другой и много раньше, чем кто-либо еще, он понял и оценил деструктивный бред, с которым национал-социализму было суждено внезапно появиться в мире. Его комментарии к германской ситуации, написанные между 1930-м и 1933 годами — годами перед приходом Гитлера к власти, — выделяются своим холодным, точным анализом и прогнозом этого чудовищного феномена социальной психопатологии, а также его последствий для национального рабочего движения, для Советского Союза и для всего мира. Что еще более подчеркивает политическое безумие масс в то время — это то, с какой беспечностью о будущем и ядовитой враждебностью люди, отвечавшие за судьбу германского коммунизма и социализма, реагировали на тревогу, которую поднял Троцкий из своего убежища на Принкипо в эти решающие три года. Исторический пересказ вряд ли сможет передать полностью тот взрыв злословия и насмешек, с которым он столкнулся. Он, в сущности, представил рецепт самоспасения рабочего движения от самого движения, которое как будто само стремилось уничтожить себя. Ему пришлось наблюдать капитуляцию 3-го Интернационала перед Гитлером, как отец со страхом, стыдом и гневом лицезреет самоубийство расточительного и рассеянного ребенка, — он не мог забыть, что сам был отцом-основателем этого Интернационала.
И тут случилась дикая вспышка гибельной, нелепой жестокости во время набега, который совершило это безумие даже на семейный круг Троцкого.
Прошло лишь несколько месяцев с начала мирового экономического кризиса, паники на Уолл-стрит в октябре 1929 г., — и все здание Веймарской республики рухнуло. Великая депрессия нанесла Германии сокрушительный удар и лишила работы шесть миллионов человек. В марте 1930 года канцлер — социал-демократ Герман Мюллер — был вынужден уйти в отставку: рухнула коалиция социалистов и католиков, на которой держалось его правительство. Партнеры по коалиции не смогли договориться, обязано ли правительство урезать пособие по безработице и если да, то насколько. Фельдмаршал Гинденбург, реликвия и символ империи Гогенцоллернов, а ныне президент республики, распустил парламент и назначил рейхсканцлером Гейнриха Брюнинга. Брюнинг управлял путем директив, ввел суровые антиинфляционные меры, сократил расходы на социальное страхование, массами увольнял государственных служащих, урезал заработную плату рабочих и служащих и задавил мелкий бизнес налогами, усугубив тем самым всеобщие страдания и отчаяние. На выборах, состоявшихся 14 сентября 1930 года, за партию Гитлера, набравшую в 1928 году только 800 000 голосов, проголосовало шесть с половиной миллионов человек; из самой маленькой партии в рейхстаге она стала второй по количеству депутатских мандатов. Коммунисты тоже увеличили количество проголосовавших за них избирателей с примерно трех миллионов до четырех с половиной. Социал-демократы, правившие Веймарской республикой четыре года, потерпели поражение; то же произошло с Deutschnazionale и другими партиями традиционно правого крыла. Выборы выявили нестабильность и острый кризис парламентской демократии.
Лидеры Веймарской республики отказались читать предзнаменования. Консерваторы рассматривали нацистское движение со смешанными чувствами: будучи недовольны своими собственными потерями и жестокостью нацизма, они, тем не менее, успокаивали себя ростом огромной партии, которая объявила беспощадную войну всем организациям рабочего класса. Они надеялись найти в нацизме союзника против левых и, возможно, обрести младшего партнера в правительстве. Напуганные угрозами Гитлера — тот важно разъезжал по стране, заявляя, что «скоро головы марксистов и евреев покатятся по песку», — социал-демократы решили «терпеть» правительство Брюнинга как «меньшее из двух зол». Коммунистическая партия радовалась своим победам и несерьезно отнеслась к огромному росту числа голосов, поданных за Гитлера. Как-то после выборов «Rote Fahne», самая значительная коммунистическая газета в Европе, написала: «Вчера был великий день герра Гитлера, но так называемая избирательная победа нацистов — начало их конца». «И несколько недель спустя 14 сентября стало высшей точкой прилива национал-социалистского движения в Германии — за этим может последовать только отлив и упадок».
Через несколько месяцев после того, как города и поселки Германии впервые отведали террора гитлеровских штурмовиков, Эрнст Тельман, вождь Коммунистической партии, заявил на Исполкоме Коминтерна в Москве: «После 14 сентября, после сенсационного успеха национал-социалистов их приверженцы по всей Германии ожидают от них очень многого. Однако мы не поддались панике, которая проявилась в среде рабочего класса, во всяком случае, среди сторонников социал-демократической партии. Мы трезво и серьезно заявляем, что 14 сентября было в определенном смысле лучшим днем Гитлера, после которого настанут не лучшие, а только худшие дни». Исполком Коминтерна поддержал это мнение, поздравил Тельмана и подтвердил стратегию Третьего периода, которая требовала от компартии отказа от мысли о какой-либо коалиции социалистов-коммунистов в борьбе с нацизмом и обязывала «сосредоточить огонь на социал-фашистах».[37]
Мы знаем, что Троцкий подвергал эту политику резкой критике еще в 1929 году. В марте 1930 года, т. е. за шесть месяцев до этих решающих выборов, он повторил эту критику в «Открытом письме» Коммунистической партии Советского Союза, где вновь говорил о растущей силе фашизма по всей Европе, но особенно в Германии, и настаивал на необходимости совместных действий социалистов и коммунистов. Как только стали известны результаты сентябрьских выборов, он тут же прокомментировал их в специальном памфлете, который постарался опубликовать на нескольких европейских языках. «Первым качеством революционной партии является ее способность смотреть в лицо реалиям», — писал Троцкий, высмеивая поздравлявший сам себя Коминтерн и отмечая, что завоевание коммунистами дополнительного миллиона голосов почти пустяк по сравнению с приобретением нацистами почти шести миллионов голосов. «Радикализация масс», которой хвастался Коминтерн, пошла скорее на пользу контрреволюции, чем революции. Причиной «гигантского» роста нацизма стали «глубокий социальный кризис», который нарушил внутренний баланс низов, и неспособность коммунистической партии справиться с проблемами, порожденными этим кризисом. Если коммунизм выражал революционные надежды рабочего, то нацизм озвучивал контрреволюционное отчаяние мелкого буржуа. Когда партия социалистической революции на подъеме, она ведет за собой не только рабочий класс, но и большие группы, принадлежащие низам среднего класса. В Германии, однако, произошло обратное: партия контрреволюционного упадка духа завоевала низы среднего класса, а также и значительные слои рабочих. Аналитики Коминтерна утешали себя идеей, что нацизм — это всего лишь отдаленные последствия кризиса 1923 года и последовавшей социальной напряженности. Троцкий возражал, что, вовсе не представляя собой запоздалую реакцию на какой-то кризис в прошлом, нацизм мобилизует силы для кризиса, который лежит впереди, и что «факт, что фашизм смог завоевать такую сильную стартовую позицию накануне революционного периода, а не в его конце, проистекает из слабости коммунизма, а не фашизма». Он приходит к выводу, что, «несмотря на парламентский успех коммунистической партии, пролетарская революция… потерпела тяжелое поражение… поражение, которое может оказаться решающим».
В этой брошюре Троцкий уже давал анализ национал-социализма, который он через какое-то время развил в серии книг и статей. Тридцать лет спустя некоторые из его идей могут показаться трюизмом, банальностью, но, когда он их формулировал, все они считались ересью. В главном его взгляд на нацизм содержал свежесть и оригинальность; он до сих пор остается гармоничным и реалистичным анализом национал-социализма (или фашизма в целом), который еще можно найти в марксистской литературе. Поэтому будет нелишним подытожить его взгляды, которые сам он развивал в противоречивой форме, в контексте дебатов по поводу коммунистической тактики.
Главный смысл концепции Троцкого лежит в его описании национал-социализма как «партии контрреволюционного отчаяния». Он видел в национал-социализме движение и идеологию «взбесившегося мелкого лавочника». Этим он отличается от всех остальных реакционных и контрреволюционных партий. Силы традиционной реакции обычно работали сверху, с вершины социальной пирамиды, стремясь защитить установленную власть. Фашизм и национал-социализм — это контрреволюция снизу, это плебейские движения, поднимающиеся из глубин общества. Обычно задавленные, эти побуждения становятся агрессивными в периоды национальных катастроф, с которыми укоренившаяся власть и традиционные партии не в состоянии совладать. Во время «процветания» 20-х годов гитлеровская партия была на самых задворках германской политики. Спад 1929 года вывел ее в передовые ряды. До сих пор огромные массы лавочников и мелких служащих следовали традиционным буржуазным партиям и видели себя поборниками парламентской демократии. Теперь они покинули эти партии и последовали за Гитлером, потому что внезапный экономический крах наполнил их ощущением ненадежности и страха и пробудил страстное желание отстоять свои права.
Мелкий буржуа обычно презирал свое социальное положение: он с завистью и ненавистью посматривал на крупный бизнес, в соперничестве с которым столь часто терпел поражения, и презирал рабочих, завидуя их способности к организации политической и профсоюзной и к коллективной самозащите. Маркс как-то писал, что в июне 1848 года заставило французских мелких буржуа яростно наброситься на восставших рабочих Парижа: торговцы, говорил он, увидели, что подходы к их лавкам заблокировали рабочие баррикады на улицах, и они вышли и разгромили эти баррикады. Германские лавочники в начале 30-х годов не имели такой причины для бешенства — никакие баррикады не мешали проходу к их магазинам. Но они были разорены экономически, имели основания обвинять Веймарскую республику, во главе которой уже сколько лет находились социал-демократы; и они были напуганы угрозой коммунизма, которая хотя и не материализовалась, но держала общество в постоянном напряжении и возбуждении. В глазах лавочника большой бизнес, еврейские финансы, парламентская демократия, социал-демократические правительства, коммунизм и марксизм в целом — все это слилось в одну картину многоголового чудовища, которое его душило, — все были сообщниками в ужасном заговоре, из-за которого он разорился. При виде большого бизнеса этот маленький человек потрясал кулаками, как будто стал социалистом; своим пронзительным криком на рабочего он выдавал свою буржуазную респектабельность, свою боязнь классовой борьбы, свою фанатичную национальную гордыню и свою ненависть к марксистскому интернационализму. Этот политический невроз обнищавших миллионов придал национал-социализму силу и побудительный толчок. Гитлер был по большому счету маленьким человеком с неврастеническими навязчивыми идеями, предрассудками и приступами бешенства. «Не каждый обезумевший мелкий бюргер может стать Гитлером, — говорил Троцкий, — но во всяком неистовом лавочнике есть что-то от Гитлера».
И все же низы среднего класса обычно были «человеческой пылью». Они не имели ничего от способности рабочих к самоорганизации, потому что от рождения были аморфны и разобщены; и, несмотря на беснование и угрозы, этой частью общества овладевала трусость, когда она наталкивалась на настоящее сопротивление. Вся биография европейской классовой борьбы и русской революции доказывает это. Мелкая буржуазия не могла подолгу играть какую-то независимую роль — в конце концов она должна была следовать либо за крупной буржуазией, либо за рабочим классом. Ее восстание против большого бизнеса было бессильным и беспомощным — мелкий кустарь и лавочник не могли одержать верх над олигархией монополистического капитала. А посему национал-социализм, находясь у власти, не мог сдержать ни одного из своих «социалистических» обещаний. Он раскрывал себя как преимущественно консервативную силу; он искал способы увековечить капитализм; он крушил рабочий класс и ускорял разорение того самого нижнего среднего класса, который привел его к власти. Но в тот момент этот нижний средний класс и экстремисты из люмпен-пролетариев развили лихорадочную деятельность, и их воображением владела мечта о социальном и политическом превосходстве, которое Гитлер должен был им обеспечить.
«Человеческую пыль притягивает магнит власти», — возражал Троцкий. Она в любом сражении следует за той стороной, которая проявляет большее стремление к победе, большее мужество и способность справиться с катастрофой вроде Великой депрессии. Вот почему в России большевизм, взяв на себя руководство рабочим классом в 1917 году, повел за собой в решающие моменты огромные рассеянные массы колеблющихся крестьян и даже часть мелкой городской буржуазии. Подобным образом германский рабочий класс еще привлечет к себе множество членов нижнего среднего класса, если те почувствуют в нем силу и стремление к победе, т. е. если стратегия социалистов и коммунистов не утратит свое направление и цель. Раздутые амбиции лавочника и сила нацизма выросли из слабости рабочего класса. Лидеры социал-демократии стремятся втереться в доверие среднего, низшего и высшего классов общества, поначалу при Веймарской республике, действуя как деловые менеджеры буржуазного государства, потом — смиренно подчинившись режиму Брюнинга, но постоянно — защищая социальный и политический статус-кво. И все-таки именно против Веймарской республики и ее продолжения Брюнингом, а также против этого статус-кво восстал нижний средний класс. Политика социал-демократии внесла решающий вклад в разрыв между организованным рабочим классом и мелкой буржуазией, раскол, на котором буйно расцвел нацизм. Социал-демократы продолжали проповедовать умеренность и осторожность, когда эти умеренность и осторожность обанкротились; и они продолжали защищать этот статус-кво, когда он стал настолько невыносим, что массы предпочли ему почти все, что угодно, даже бездну, в которую вовлек их Гитлер.
Страусиное поведение социал-демократов в точности отвечало их характеру. Еще большей, отмечал Троцкий, была ответственность коммунистической партии. Ее руководители до сих пор не осознавали размеров и сути угрозы. С притворным ультрарадикализмом они отказывались делать какое-либо различие между фашизмом и буржуазной демократией. Они продолжали утверждать, что, поскольку монополистический капитал склонен переделать буржуазную демократию в фашистскую, все партии, стоящие на платформе капитализма, будут обязаны пройти этот процесс. Тогда все кошки оказались серыми: Гитлер был фашистом, но такими же считались и лидеры традиционных буржуазных организаций — правых и центристских; таким, в частности, был Брюнинг, уже правивший посредством декретов, и такими же считались даже социал-демократы, сформировавшие «левое крыло фашизма». Это было не просто злоупотребление полемической бранью, потому что в основе лежала неверная политическая ориентация и ошибочная стратегия. Вновь и вновь коммунистические пропагандисты заявляли, что «Германия уже живет при фашистском правлении» и что «Гитлер не мог сделать положение хуже, чем оно было при Брюнинге — „канцлере голодной смерти“».[38]
Но, возражал Троцкий, утверждать, что фашизм уже одержал победу, значит объявить о том, что битва проиграна еще до того, как началась; в любом случае, говорить массам, что Гитлер не хуже, чем Брюнинг, значит морально разоружить их перед Гитлером. Со стороны партии рабочего класса просто недальновидно отрицать или затушевывать различие между фашизмом и буржуазной демократией. Да, оба эти явления — лишь различные формы капиталистического господства; но в фактических обстоятельствах того времени различие в формах и методах имело исключительное значение. При парламентской демократии буржуазия удерживала свое господство с помощью широкого общественного компромисса с рабочим классом, компромисса, который требовал постоянного ведения переговоров, торгов и предполагал существование независимых пролетарских организаций, политических партий и профсоюзов. С точки зрения революционного марксиста эти организации создавали «островки пролетарской демократии посреди буржуазной демократии», оплоты и бастионы, из которых рабочие могли бороться с буржуазным господством в целом. Фашизм означал конец социальному компромиссу и переговорам между классами; ему не требовались каналы, по которым совершались эти сделки, и он не мог потерпеть существования каких-либо независимых рабочих организаций. Извлекая урок из эволюции итальянского фашизма и, без сомнения, делая вывод из опыта большевистской однопартийной системы, Троцкий заранее убедительно описал гитлеровскую тоталитарную монополию на власть, при которой уже не найдется места для рабочих партий и независимых профсоюзов. По этой одной причине марксисты и ленинцы обязаны защищать буржуазную демократию или, скорее, «островки пролетарской демократии внутри ее» от атак фашистов. Заявляя, что социал-демократы «сформировали левое крыло фашизма» и что они рано или поздно «войдут в сговор с нацистами», сталинская пропаганда не заметила объективной невозможности подобной сделки. Следует добавить, что лидеры социал-демократов также питали такие иллюзии; в 1933 году они действительно совершили самоубийственную попытку достичь компромисса с Гитлером.[39]
У Троцкого не было сомнений, что Гитлер уничтожит все проявления рабочего движения, как реформистского, так и коммунистического. Его прогноз исходил из мнения, что национал-социализм нацелен исключительно на полное распыление германского общества.
Таким образом, было ошибочно рассматривать режим Брюнинга как фашистский, даже если он и ознаменовал фактический конец широкого компромисса между трудом и капиталом, на котором базировалась Веймарская республика. Брюнинг был не в состоянии сокрушить рабочее движение (как, впрочем, не смог удержать свои позиции в борьбе с национал-социализмом). Кроме сомнительной поддержки со стороны католической центристской партии и кроме социал-демократического «терпения», он мог положиться только на обычные ресурсы бюрократического истеблишмента. С ними одними он не смог подавить организованный рабочий класс, и поэтому политическая структура все еще оставалась той же, какой была при Веймарской республике. Только динамическая мощь национал-социализма могла сокрушить ее. Разрыв компромисса между классами подготовил сцену для Гражданской войны, в которой нацизм и рабочее движение в целом были бы реальными противниками. Режим Брюнинга был «похож на мяч на вершине пирамиды»; он покоился в состоянии неустойчивого равновесия между двумя враждующими лагерями. Тем временем нацисты вербовали миллионы, раздували истерию и накапливали огромную ударную силу; пока социалисты и точно так же коммунисты только тянули время и фактически саботировали мобилизацию своих собственных сил. Несколько цитат помогут прочувствовать настойчивость и даже раздражение, с которыми Троцкий приводил доводы:
«Режим Брюнинга — это переходная, кратковременная прелюдия к катастрофе… Умники, утверждающие, что не видят разницы между Брюнингом и Гитлером, фактически, говорят: нет разницы, существуют ли наши организации, или они уже уничтожены. Под этим псевдорадикальным пустословием таится самая омерзительная пассивность… Каждый мыслящий рабочий… должен знать об этом и видеть насквозь пустые и мерзкие разговоры о… Брюнинге и Гитлере, которые суть одно и то же. Мы отвечаем: Вы грубо ошибаетесь! Вы позорно ошибаетесь, потому что боитесь лежащих впереди трудностей, потому что напуганы громадными проблемами, с которыми сталкиваетесь. Вы сдаетесь еще до того, как начался бой, вы заявляете, что мы уже разгромлены. Вы лжете! Рабочий класс расколот… ослаблен… но он еще не уничтожен. Его силы еще не исчерпаны. Брюнинг — это переходный режим. Он знаменует переход к чему? Либо к победе фашизма, либо к победе рабочего класса… эти два лагеря только готовятся к решающему сражению. Если вы отождествляете Брюнинга с Гитлером, значит, вы отождествляете ситуацию до сражения с положением после разгрома; вы признаете поражение заранее, фактически, призываете к капитуляции без боя. Подавляющее большинство рабочих, особенно коммунистов, не желают этого. Сталинская бюрократия также не хочет этого. Но надо принимать во внимание не благие намерения, которыми Гитлер вымостит дорогу в этот ад… Мы должны положить конец пассивному, робкому, нерешительному, пораженческому и декламационному характеру политики Сталина, Мануильского, Тельмана и Реммеле. Мы должны показать революционным рабочим, что коммунистическая партия все еще владеет ключом к ситуации, но что сталинская бюрократия пытается закрыть этим ключом врата к революционным действиям».
Лидеры социал-демократов обещали начать «главное наступление», если и когда Гитлер попытается захватить власть, а пока они призывали рабочих к спокойствию и сдержанности. Сталинцы похвалялись, что, если Гитлер захватит власть, рабочие уничтожат его. Ведущий парламентарий от коммунистов Реммеле заявил в рейхстаге: «Пусть Гитлер возьмет власть — он скоро обанкротится, а потом придет наш день». На это Троцкий ответил следующим:
«Главное наступление необходимо начать до того, как Брюнинга заменит Гитлер, до того, как будут разгромлены рабочие организации… Это просто позор и преступление обещать, что рабочие уничтожат Гитлера, как только он захватит власть. Этим готовится путь для господства Гитлера… Если германский рабочий класс позволяет фашизму захватить власть, если он демонстрирует такую фатальную слепоту и пассивность, тогда уже не будет никакого повода предполагать, что после того, как фашисты захватят власть, тот же самый рабочий класс сразу стряхнет с себя свою летаргию и одержит полную победу. Ничего подобного не произошло в Италии [после взлета Муссолини]. Реммеле рассуждает в манере французских мелкобуржуазных любителей фразы, которые [в 1850–1851 годах] были убеждены, что, если Луи Бонапарт поставит себя выше Республики, народ восстанет… Однако народ, позволивший авантюристу захватить власть, оказался, без сомнения, не в состоянии избавиться от него… исторические катаклизмы и войны должны были совершаться до того, как его свергли. [Точно таким же был исход такой „борьбы“ с Гитлером, в сравнении с которым Муссолини и Наполеон III выглядели просто „кроткими, почти человечными аптекарями из небольшого городка“.] „Мы — завтрашние победители!“ — похвалялся Реммеле в Рейхстаге. „Мы не боимся, что Гитлер захватит власть“. Но это же значит, что победа завтрашнего дня будет принадлежать Гитлеру, а не Реммеле. А потом надо зарубить себе на носу: победа коммунистов придет не так скоро. „Мы не боимся“, если Гитлер захватит власть, — что это, как не формула трусости, вывернутая наизнанку? „Мы считаем, что не способны помешать приходу Гитлера к власти; хуже того: мы, бюрократы, настолько дегенерировали, что не осмеливаемся и думать всерьез о борьбе с Гитлером. Поэтому „мы не боимся““. Так чего же вы не боитесь: бороться с Гитлером? О нет… они не боятся победы Гитлера. Они не боятся отказа от борьбы. Они не боятся признаться в своей собственной трусости. Позор!»
Предупреждая, что все еще есть время, Троцкий ожидал, что социалисты и коммунисты объединятся. Их положение было далеко не безысходным, но оно быстро ухудшалось, и он требовал не более и не менее как подготовки и готовности к гражданской войне. Для социал-демократических проповедников умеренности и для сталинистов, которые не придавали значения захвату власти Гитлером, его призыв выглядел безответственной и зловредной провокацией или, в лучшем случае, бредом какого-то донкихота. Дальнейшие события слишком безжалостно подтвердили, на чьей стороне были безответственность, злой умысел или донкихотство. Им было суждено продемонстрировать, что из всех видов действий, доступных для германских левых, гражданская война, которая могла предотвратить приход Гитлера к власти, представляла на деле меньший риск или даже единственный, который бы избавил Германию и весь мир от ужасов Третьего рейха и катаклизмов мировой войны. В начале своей кампании Троцкий был убежден, что объединенный левый фронт все еще способен разгромить нацистов почти без борьбы, как большевики и меньшевики разгромили Корнилова в августе 1917 года — пример, на который он часто ссылался. Он приводил доводы, что демонстрация социалистической и коммунистической мощи все еще способна рассеять приверженцев Гитлера, что «человеческая пыль» обретала силу лавины только потому, что она врывалась в политический вакуум и не встречала достойного сопротивления. Что до некоторой степени благоприятствовало левым, так это факт, что традиционно правые еще не успели сговориться с Гитлером, несмотря на то что некоторые властелины германской индустрии и банковского бизнеса уже поддерживали его. В детальных исследованиях всех стратегических и тактических обстоятельств Троцкий анализирует двусмысленное поведение капиталистических олигархов, юнкеров, армии и полиции, которые разрывались между желанием использовать нацизм и страхом перед ним, между своей надеждой сокрушить руками Гитлера рабочее движение и опасением, что тот может погрузить Германию в кровавую гражданскую войну, исход которой предсказать никто не мог. Гинденбург, промышленные магнаты и офицерский корпус все еще были в затруднении — отсюда и конфликты и передряги между ними и нацистами. Требовалось решительное социалистическое и коммунистическое действие, чтобы усложнить эти затруднения, возвысить в глазах всех консервативных лидеров риск их поддержки Гитлера, усилить их шатания и расколы и нейтрализовать, по крайней мере, некоторых из них. Дезориентация и бездействие левых в отношении уменьшения опасности только подталкивали крупную буржуазию, армию и Гинденбурга в лапы нацистов.
«Объединенный фронт» между социалистами и коммунистами все еще мог трансформировать всю политическую арену. Теперь одна и та же смертельная угроза нависла над обеими партиями, хотя ни одна из них этого не осознавала. Одного этого должно было быть достаточно для них, чтобы объединить силы. Конечно, сама эта мысль была отвратительна главарям социал-демократии. Еще с 1918 года антикоммунизм являлся главной движущей силой их политики и вынуждал их скорее цепляться за «меньшее зло» в виде Гинденбурга с Брюнингом, чем соединиться с коммунизмом в битве против Гитлера. Вновь и вновь Троцкий показывал, как, хватаясь за «меньшее зло», они просто открывают ворота для большего зла нацизма. Для него это стало еще одной причиной, почему коммунистам следовало сделать объединенный фронт главным пунктом всей стратегии рабочего класса, но они не сумели добиться этого, потому что были сбиты с толку линией Третьего периода Коминтерна. Коммунистическая партия не смела даже пытаться открыть глаза миллионам социал-демократических рабочих на ту опасность, которая угрожала им всем, если их собственные лидеры были слепы перед лицом этой угрозы; а московский запрет на соглашение с социал-демократической партией не позволял коммунистам эффективного сближения с ней. Ежедневная сталинская брань в адрес «социал-фашистов» без всякой на то нужды углубляла раскол в рядах рабочего класса, давая вождям социал-демократии благовидный предлог для их антикоммунизма и все более облегчая им проведение их гибельного курса. Только искренний и убедительный коммунистический призыв к социал-демократической совести и к заботе о своих интересах, призыв, неустанно повторяемый во всеуслышание рабочим классом, мог бы сломать барьеры между этими двумя партиями.
Их объединенному фронту не следовало быть дипломатической или парламентской игрой с выражением ничего не значащей и неискренней сердечности в стиле Англо-русского комитета 1924–1926 годов (или, можно добавить, Народного фронта 1936–1938 годов), а он должен был заняться подготовкой и организацией совместных боевых действий. Обе партии и их профсоюзы должны были «шагать отдельно, но наносить удар согласованно» и договориться между собой, «как бить, кого бить и когда бить». Для этого им не надо было отказываться от каких-либо своих принципов или искать идеологического компромисса. Коммунисты должны были всегда помнить, что социал-демократы могут быть в лучшем случае их «временными и ненадежными союзниками», которые всегда будут опасаться внепарламентских действий и могут разорвать этот союз в самый критический момент. И все-таки долг коммунистов был — оказать на них сильнейшее давление, чтобы пробудить к действию. Если они поддадутся этому давлению, все будет хорошо; если нет, миллионы их сторонников, по крайней мере, увидят, какую позицию занимает каждая партия, и будут более склонны поддержать чисто коммунистический призыв к действию. Уже сейчас, в 1930–1931 годах, ни одного дня не проходило без разрозненных, но кровавых столкновений между рабочими и штурмовиками; но в них боевой дух рабочих растрачивался без всякой пользы. Лишь спорадически социалисты и коммунисты договаривались совместно отразить атаки нацистов. Комментируя один из таких случаев, Троцкий замечает: «О, эти верховные вожди! О, эти семь мудрецов стратегии! Поучитесь у рабочих… делайте так, как делают они! И делайте это шире, в масштабе всей страны». В течение 1931 года число гитлеровских штурмовиков выросло со 100 000 до 400 000. Троцкий призывал левые силы Германии увеличить ряды их антинацистской милиции и сообща принимать меры для защиты партийных учреждений, заводских советов, профсоюзов и т. д. Помня русскую Красную гвардию, он писал: «Каждый завод должен стать антифашистским бастионом со своими собственными командирами и своими батальонами. Необходимо нанести на карту фашистские гарнизоны и укрепленные пункты в каждом городе и каждом районе. Фашисты пытаются окружить пролетарские оплоты. Надо окружить тех, кто окружает».
Руководители немецкого рабочего движения не могли ни думать, ни действовать категориями гражданской войны отчасти потому, что Гитлер, продвигаясь по пути к вершине власти, время от времени отрекался от каких-либо мыслей о государственном перевороте и каких-либо намерениях о применении силы. Он заявлял, что возьмет на себя власть и будет вершить ее в рамках Конституции; и все эти заверения произвели свой эффект. «Он убаюкивает своих противников, — предупреждал Троцкий, — чтобы застичь их врасплох и нанести смертельный удар в нужный момент. Его реверанс в сторону парламентской демократии поможет ему в ближайшем будущем создать коалицию, в которой его партия получит самые важные посты, чтобы использовать их позднее для государственного переворота». «Эта военная хитрость, не важно, сколь она очевидна и проста, таит в себе огромную силу, потому что она учитывает психологические потребности промежуточных сторон, которые хотели бы все устроить мирно и законно, и — это куда более опасно — потому что оно утоляет легковерность народных масс».
Теперь «Правда» и «Rote Fahne» называли Троцкого «паникером», «авантюристом» и «марионеткой Брюнинга», который призывал коммунистов отказаться от пролетарской революции, защищать буржуазную демократию и забыть, что «без предварительной победы над социал-фашизмом мы не можем победить фашизм».[40]
Не без возмущения, но все-таки с бесконечным терпением Троцкий обращался даже с самыми абсурдными аргументами, чтобы разъяснить свои взгляды тем, кто был одурманен полемическими трюками. Он продолжал неустанно разоблачать обманчивую внешность утверждения, что не может быть «победы над фашизмом без предшествующей победы над социал-фашизмом», отмечая, что, напротив, только когда фашизм побежден, коммунисты смогут эффективно соперничать с социал-демократами и что пролетарская революция в Германии может развиться только из успешного сопротивления нацизму.
И все это оказалось бесполезным. Еще в сентябре 1932 года, за несколько месяцев до того, как Гитлер стал канцлером, Тельман на сессии Исполкома Коминтерна все еще повторял, что говорил Мюнценберг: «В своей брошюре о том, как победить национал-социализм, Троцкий дает только один ответ, и он таков: Германская Коммунистическая партия должна объединиться с Социал-демократической партией… Это, согласно Троцкому, единственный путь, которым немецкий рабочий класс может спастись от фашизма. Либо, говорит он, компартия объединится с социал-демократами, либо германский рабочий класс потеряет десять или двадцать лет. Это теория крайне обанкротившегося фашиста и контрреволюционера… Это на самом деле самая опасная и самая преступная теория из тех, что Троцкий истолковывал в последние годы своей контрреволюционной пропаганды».
«Приближается один из решающих моментов истории, — говорил в ответ Троцкий, — когда Коминтерн как революционный фактор может быть стерт с политической карты целой исторической эпохи. Пусть слепцы и трусы отказываются замечать это. Пусть клеветники и наемные писаки обвиняют нас в сговоре с контрреволюцией. Не стала контрреволюция чем-то… что мешает пищеварению коммунистических бюрократов… ничего нельзя скрывать, ничего нельзя преуменьшать. <…> Мы должны сказать передовым рабочим во весь голос: после Третьего периода беспечности и хвастовства установился четвертый период паники и капитуляции». В почти безнадежной попытке пробудить коммунистов к действию Троцкий облекает в слова всю силу убеждения и вновь бьет в набат: «Рабочие-коммунисты! Вас сотни тысяч, вас — миллионы… Если к власти придет фашизм, он пройдется, как страшный танк, по вашим черепам и хребтам. Ваше спасение лежит в беспощадной борьбе. Только боевое единство с социал-демократическими рабочими может принести победу. Спешите, коммунисты-рабочие, времени осталось очень мало».
Оставаться в бездействии в такое время на Принкипо для Троцкого было все труднее и труднее. Письма и газеты с континента доходили сюда с большой, иногда с двухнедельной задержкой; еще больше времени требовалось, чтобы его брошюры и манифесты достигли Германии. В 1923 году, когда Германия, казалось, находилась на грани революции, он попросил Политбюро освободить его от официальных обязанностей и разрешить ему отправиться в Германию и руководить там, как просила германская партия, революционными операциями. Насколько больше он жаждал оказаться ближе к сцене действий сейчас, когда на десятилетия вперед решалось будущее коммунизма и политические судьбы мира. В 1931 году шли разговоры о том, что он собирается в короткую поездку в Германию для чтения лекций; но, конечно, ничего подобного не вышло. Выбраться из Турции не было шансов. Хуже того, его немногие последователи в Германии не делали успехов. Они издавали тоненькую газету «Перманентная революция», которая выходила раз в месяц, заполняя колонки трудами Троцкого, и не производила почти никакого воздействия (хотя его брошюры читались и обсуждались в широких кругах). Он планировал создать какой-нибудь международный секретариат в Берлине, где были очень активны братья Соболевичусы и куда уже был переведен из Парижа «Бюллетень оппозиции». Чтобы улучшить его связь с секретариатом, было решено, что Лёва поедет в Берлин в качестве представителя своего отца или, как требовал организационный этикет, как «представитель Русской секции Левой оппозиции».
Лёва, как мы знаем, делил со своими родителями все превратности их изгнания и был правой рукой Троцкого. И все-таки отношения между отцом и сыном не были безмятежными. Они были в полном согласии в вопросах политики, а обожание Лёвой своего отца доходило до отождествления с ним. И все же именно это отождествление стало причиной напряженности. У Троцкого было тревожное ощущение, что его собственная личность и интересы слишком тяжело наложились на Лёву и что он низвел Лёву до исполнения огорчительной роли маленького сына великого человека. И все же он страстно желал сыновней преданности. Чем более одинок он был, тем больше он зависел от нее. Лёва был единственным человеком, с кем он мог свободно и подробно обсуждать свои идеи и планы и делиться сокровенными мыслями, его самым доверенным критиком и, как Троцкому нравилось считать, его «связующим звеном» (в последующие годы — его единственной связью) с молодым революционным поколением России. И все же временами абсолютная преданность Левы тревожила Троцкого: ему хотелось видеть в своем сыне больше независимости и он чуть ли не желал видеть какие-то признаки сыновнего несогласия. Но разногласия, когда появлялся намек на них, огорчали его и порождали в нем страх отчуждения. Затворничество и неразрывные связи углубляли взаимную зависимость, но также и подчеркивали стрессы, которые, хоть и не редкость в отношениях между отцом и сыном, часто вызывали раздражительную напряженность между двумя пленниками, которые слишком долго совместно использовали одну тюремную камеру. Троцкий был строг по отношению к своим помощникам и секретарям, но требования его никогда не были столь же строгими, как те, что он предъявлял к себе и к своему сыну. С посторонними он был сдержан и вежлив; но под огромным нервным напряжением его самообладание неизбежно давало сбой, когда он оказывался наедине со своим ближайшим родственником. И на голову Лёвы обрушивались резкие обвинения в «беспорядке» в секретариате, «безделье и сентиментальности», в том, что он «подводит отца», — обвинения, которые могли лишь ранить преданного, трудолюбивого и добросовестного молодого человека.
Поэтому некоторое облегчение было смешано с печалью, когда родители и сын согласились на расставание. Возможно, была еще одна причина для такого решения: жена Раймонда Молинье Жанна ушла от своего мужа и предпочла остаться с Лёвой. Однако Молинье все еще оставался частым и полезным гостем на Принкипо; и отъезд Лёвы и Жанны наверняка избавил их от неприятных встреч. Поначалу было сомнительно, что Леве удастся получить разрешение на въезд в Германию. (За год до этого он безуспешно пытался получить французскую визу: французская полиция ответила, что ей известно о его революционной деятельности и она не желает видеть его в Париже.) Но, представившись студентом Technische Hochschule в Берлине, он в конце концов в феврале 1931 года получил германскую визу. Академическая цель его пребывания была не только предлогом, потому что в этой Hochschule он действительно много занимался на курсах прикладной физики и математики; но его главным занятием оставалась, конечно, политика.[41]
За несколько недель до отъезда Лёвы, в середине января, случилось нечто, повлиявшее на жизнь всей семьи: приехали из Москвы Зина и ее пятилетний сын Сева. Ее уже несколько месяцев дожидались в Буйюк-Ада; но надежды на приезд почти улетучились, потому что советское правительство неоднократно отказывало в разрешении на эту поездку. Ее муж, Платон Волков, находился в ссылке, а ее саму дважды брали под стражу из-за участия в оппозиции. Лишь после вмешательства западноевропейских друзей, которые призвали советских послов проявить сострадание — ее здоровье было надорвано после смерти сестры Нины, за которой она ухаживала до самого конца, — Зина получила разрешение на выезд. Но это была ловушка. Ей разрешили взять с собой лишь одного ребенка, но заставили оставить другого — маленькую дочь, шести-семилетнюю заложницу у Сталина. Первая жена Троцкого, Александра Львовна, которая сама была в трудном положении и воспитывала двоих детей Нины, позаботилась и об этом ребенке тоже и убедила Зину уехать, воссоединиться с отцом и поправить здоровье за границей.
Зина приехала на Принкипо в полном нервном истощении, хотя оно не проявилось сразу в первый момент безудержной радости от воссоединения. Отец встретил ее с исключительной нежностью. «В начальный период моего пребывания, — писала она позднее своей матери в Ленинград, — он был так добр и внимателен ко мне, что я просто не могу это описать…» Из всех детей она, первенец, больше всего походила на него. У нее было такое же резко очерченное, смуглое лицо, тот же жгучий взгляд, такая же улыбка, тот же сарказм, те же сильные, глубокие эмоции и что-то от его неукротимого ума и красноречия. Похоже, она унаследовала его политические пристрастия, его воинственность и жажду деятельности. «Она была, — как выразилась ее мать, — больше пронизана духом гражданственности, чем семейности».
В чувствах Троцкого к ней был налет угрызений совести. Еще с тех давних дней 1917 года, когда, обращаясь к массам у цирка «Модерн» в Петрограде, он ощущал любящий взгляд своих двух дочерей-подростков, смотревших на него из толпы слушателей, он знал о сильном чувстве Зины к нему. И все-таки она была для него чуть ли не посторонней. Прошло почти тридцать лет с тех пор, как он расстался со своей первой женой и двумя детьми в восточносибирском поселении Верхоленск (месте его первой ссылки) — около тридцати лет с того момента, как для того, чтобы обмануть полицию и задержать погоню, он уложил в свою постель манекен. Получилось так, что эта кукла как будто обманула и его отпрысков от первого брака. За пятнадцать лет, до 1917 года, он видел своих дочерей мельком два или три раза; да и потом, в годы революции, Гражданской войны и последовавшей за этим жестокой борьбы, мог уделить им лишь очень мало времени и внимания. Сердце рвалось к ним, когда его сослали в Алма-Ату, но уже было поздно: Нина к тому времени умерла, а Зина была слишком больна, чтобы совершить поездку из Москвы, слишком больна даже для того, чтобы позднее прийти на последнюю прощальную семейную встречу у поезда, когда его депортировали из России. Она приехала на Принкипо убитая горем, но, тем не менее, переполненная радостью, любовью и гордостью за своего отца; она приехала не просто как больная и страдающая дочь, но и как преданный сторонник, надеясь быть ему полезной, предлагая свои услуги и стремясь завоевать его доверие. Они вместе пролили слезы над кончиной Нины, говорили о друзьях и товарищах, о сосланных родственниках и спорили о политике. Она слушала его в исступленном восторге и с дрожью читала рукописи «Истории русской революции» и другие его труды, знакомилась с дискуссиями, в которых он был завязан, впитывала в себя их драматическую тяжесть и наслаждалась его сарказмом и остроумием. Она содрогалась от смеха, когда наткнулась на очерк Черчилля «Чудовище Европы»: и это было то самое слово, с которым ей так нравилось обращаться к своему отцу.
Другие члены семьи также проявляли к ней любовь и сочувствие и делали все, что могли, чтобы она чувствовала себя как дома. Надо сказать, положение Натальи Ивановны было деликатным; но она была ближе к детям Троцкого от первого брака, чем он сам, и не только старалась преодолеть отчуждение дружбой, но и вела себя по отношению к ним как вторая мать. Не обманываясь внешним улучшением состояния Зины, она водила ее к докторам и уделяла тщательное внимание ее здоровью. Будучи слишком чувствительной, чтобы вообразить, что скрытое душевное напряжение исчезнет навсегда, она старалась держаться в тени, когда чувствовала, что отца и дочь лучше оставить наедине. Любопытно, что отношения Лёвы с сестрой были куда более напряженными. Их характеры были в полном противоречии друг с другом. Больше походя на свою мать, чем на отца, Лёва был сдержан, скромен и уравновешен; его смущала энергичность и страстная экспансивность сестры, в то время как ее чувства были окрашены ревностью к близости Лёвы к их отцу. От тепла встречи и на время, пока Лёва готовился к переезду в Берлин, эта напряженность оставалась приглушенной. Вся семья была в восторге от ребенка Зины, чей лепет и проказы внесли незнакомую нотку в суровый и распланированный быт домочадцев. Похоже, впервые Троцкий, у которого было уже пять внуков, охотно отдался ощущениям дедушки.
Вскоре после приезда Зины глубокой ночью в доме вспыхнул пожар, поглотивший большую часть семейного имущества и библиотеку Троцкого. С трудом он вынес из пламени свои архивы и рукопись только что законченного первого тома своей «Истории…». Каждому пришла в голову мысль о поджоге: может быть, ГПУ пыталось уничтожить архивы? Началось расследование; был проведен перекрестный допрос свидетелей, но ничего не выяснилось. «Все мы были подавлены и встревожены, — пишет один из секретарей Троцкого, — все, кроме самого Троцкого». Семейство перебралось в соседнюю гостиницу; и, «как только мы там устроились, он разложил на столе свои рукописи, позвал стенографиста и начал диктовать главу из книги, как будто этой ночью ничего не произошло». Через несколько дней они переехали в Кодикой — англо-американский жилой район на восточной окраине Константинополя — в деревянный дом, окруженный высокой оградой из колючей проволоки, где семейство, укомплектованное секретарями, полицейскими и рыбаками, оставалось в течение примерно года, пока дом в Буйюк-Ада вновь не стал обитаемым.
Через несколько месяцев после переезда в Кодикой вспыхнул еще один пожар. Опять в спешке вынесли архивы; а семье пришлось расположиться биваком в сараях и хижинах по соседству; и вновь всех посетила мысль о поджоге. Но оказалось, что виновником пожара был ребенок Зины, который играл со спичками на куче щепок, тряпок и опилок на чердаке. Все-таки это принесло облегчение после всех тревог; и все смеялись и дразнили «маленького агента ГПУ».
По прошествии нескольких недель вернулась болезнь Зины. У нее были поражены легкие. Ей пришлось выдержать несколько тяжелых операций. Она не могла переносить жары Восточного Средиземноморья, и ее мучила тревога за оставленных мужа и ребенка. Под тяжестью болезни и тревог ее хрупкое душевное равновесие нарушилось. На поверхность вырвались скрытое напряжение и противоречия, возможно укоренившиеся в невзгодах детства и питаемые последующими переживаниями. Поведение ее стало взрывным и непоследовательным. Она отводила душу в воспоминаниях, страстях и обидах, которые до настоящего времени скрывались за порогом ее сознания. Ею владело навязчивое чувство, что она — нежеланная дочь, ненужная отцу, которого она обожала со всем своим пылом как животворного гения революции. Она сама писала, что лишь вера в него поддерживала в ней жизнь и давала силу для схватки со своими проблемами — без него ее жизнь была бы пуста. И все же она ощущала непреодолимый барьер между им и собой. «Я знаю, я знаю, — эти слова она бросила ему, — что детей не хотят, что они приходят лишь как наказание за совершенные грехи». Казалось, что в этом обвинении виделся тот шок, который она пережила ребенком, когда на его кровати увидела не более чем манекен мужчины.
В этом эмоциональном замешательстве она изо всех сил старалась подавить внутреннее недовольство вторым браком отца. Внешне ее отношение к Наталье Ивановне походило на любовь и заботу; но в этом было какое-то неестественное возбуждение. Она ходила вокруг своей мачехи на цыпочках, постоянно расспрашивая и беспокоясь о ней и расточая ласку и извинения. И тем не менее, недовольство было достаточно близко к поверхности, чтобы отец и мачеха не могли ощутить его; то и дело оно прорывалось и било, как пощечина. Несмотря на то что они старались не замечать либо сглаживать его, отношения становились все более напряженными. Чтобы не ухудшить их еще больше, Троцкий замкнулся в себе. Чем глубже он уходил в себя, тем тяжелее было Зине обрести его доверие и близость. Она надеялась, что будет работать у него хотя бы одним из помощников. Он, обеспокоенный состоянием ее здоровья, а также держа в уме ее возможное возвращение в Россию к ребенку, не поддерживал этого стремления. Он намеревался использовать ее пребывание за границей для лечения и в то же время не хотел компрометировать ее политически, как будто то, что она его дочь, уже не стало ее окончательной и бесповоротной компрометацией. Ухудшение ее здоровья, считал он, требует от него даже еще большей сдержанности и делает совместную работу почти невозможной. Он не мог довериться ей в делах оппозиции в России, а это было как раз то, в чем она была более всего заинтересована. В это время его переписка со сторонниками в России все еще была достаточно обширной, часть ее велась открыто, а часть поступала тайно с шифрованными подписями и адресами. Необходимо было проявлять крайнюю осмотрительность с кодами, и следовало удвоить секретность в отношении больной и неуравновешенной личности, которую по возвращении в Россию могут подвергнуть инквизиторскому допросу. Таких мер предосторожности требовали элементарные правила подпольной связи; но несчастная женщина воспринимала все это как пренебрежительное отношение к себе, как признак недоверия со стороны отца. «Для папы, — часто повторяла она, — я никчемный человек». Летом она покинула дом и в соседнем санатории перенесла операцию на легких. Потом она вернулась, физическое здоровье стало получше, но страдания ее не ослабели.
Глубоко страдающий и охваченный жалостью, Троцкий был весь во власти чувства вины и беспомощности. Насколько легче разбираться в том, как бороться с величайшими недугами общества, чем избавить от страданий неизлечимо больную дочь! Насколько легче поставить диагноз расстройства коллективного разума германской мелкой буржуазии, чем проникнуть в подавленные болью потаенные уголки личности Зины! Насколько выше было марксистское понимание социальной психологии над пониманием проблем духа личности! Он смотрел в лицо Зины, в ее глаза, затемненные безумием, — это были его черты, его глаза. Для него, образца интеллектуальной логики и самодисциплины, было невыносимо видеть ее такой неуравновешенной, почти сумасшедшей. В нем боролись нежность и ужас, сострадание и отвращение, гордость и унижение. Он был ранен; он был беспомощен; в нем росло раздражение. Иногда, когда в Зине взрывалась ревность и ранила Наталью Ивановну, он повышал голос, требуя тактичности и вежливости. Его окрики приводили ее в состояние полной прострации. Вспоминая одну из таких сцен, она писала ему год спустя: «Папа, не кричи на меня, прошу тебя — твой крик — это то, что я не могу вынести; в этом я схожа со своей матерью». И она добавляла: «Я ничего не хочу больше, чем найти в себе силы сделать это — стать мягче по отношению к Наталье Ивановне, где я оказалась без вины виноватой».
При разгоревшихся страстях и все более тревожном состоянии Зины — она стала страдать от приступов бреда — она больше не могла оставаться в семье. Какое-то время Троцкий полагал, что ей надо пройти курс психоаналитического лечения, и написал об этом Пфемфертам в Берлин. Зина сопротивлялась. У нее нет желания, как она заявила, погрузиться в «грязь» своего подсознания, и она не переносила даже мысли, что, преодолев столько препятствий и совершив столько жертв на пути к отцу, снова будет разлучена с ним. Ей пришлось бы расстаться и с сыном, потому что ей очень трудно заниматься его воспитанием. В конце концов она уступила убеждениям и осенью 1931 года, оставив Севу, уехала в Берлин. Расставание было мучительным и для отца, и для дочери. Вот как она пересказывала это Лёве: «Ты — удивительная личность [говорил ей отец при последней беседе], я никогда не встречал подобных людей». «Он произнес это, — добавила она, — выразительным и строгим голосом».
Это был голос разума, сбитого с толку и расстроенного безумием.
Жизнь в германской столице, когда туда приехала Зина, была средоточием хаоса и неразберихи. Она приехала через несколько недель после плебисцита, устроенного по инициативе Гитлера и Геббельса, целью которого было свергнуть социал-демократическое Landesregierung[42] Пруссии. Нацисты развязали дикую шовинистическую кампанию, призывая к народной революции против партии, которая «согласилась с рабством и унижением Версальского мира». Коммунистическая партия отреагировала тем, что направила социал-демократическим министрам Пруссии Брауну и Зеверингу ультиматум, в котором предложила свою помощь в защите правительства при условии, если они согласятся на некоторые требования, но угрожала голосовать против, если эти требования будут отклонены. На первый взгляд это был отход от тактики Третьего периода, по крайней мере, в том, что коммунисты напрямую обратились к лидерам социал-демократии. Фактически же они «сосредоточили огонь на социал-фашистах»; и, когда прусское правительство отклонило их требования, призвали рабочих голосовать против этого правительства. Таким образом, вместо того чтобы создать единый фронт с социал-демократами, условно или безоговорочно, они сформировали непризнанный, но слишком реальный и безоговорочный единый фронт с нацистами; а чтобы спасти лицо, они назвали это предприятие «красный плебисцит».
В коммунистической стратегии отныне проявилась фатальная и глубоко деморализующая двусмысленность, которой суждено было продолжаться до захвата Гитлером власти и даже после. Совсем не редко на знаменах коммунистов и нацистов появлялись одни и те же лозунги. Нацисты, старавшиеся заполучить на свою сторону социально недовольные и радикальные элементы, обещали, что их народная революция сведет счеты с финансовым капиталом. Коммунистическая партия, теперь уже с осторожностью призывавшая к пролетарской социалистической революции, говорила вместо этого о народной революции, которая приведет к «социальному и национальному освобождению» Германии и разрушит оковы Версаля. Все больше и больше в ее пропаганду проникал дух национализма как раз в то время, когда в Германии не было ничего более срочного, чем оказание сопротивления росту расового и шовинистского фанатизма. Хотя плебисцит завершился в пользу социал-демократов, фактически он углубил брешь в рядах рабочего класса и лишь увеличил разброд и замешательство.
Троцкий нападал на «национальный коммунизм» Тельмана и Коминтерна с предельной энергией, разоблачая абсурд красного плебисцита. Все это предприятие, утверждал он, еще более отвратительно, потому что коммунисты и нацисты остались и не могли не остаться смертельными врагами. В самооправдание сталинисты заявляли, что социал-демократы прокладывают путь для нацизма. Все это верно, замечал Троцкий, но если социал-демократы прокладывали дорогу для победы нацизма, надо ли коммунистам укорачивать ее? Иногда бывает, что партии революции и контрреволюции атакуют одного и того же «умеренного» врага с противоположных полюсов. Но марксистская партия может себе это позволить, лишь если волна событий работает в ее пользу, а не тогда, когда прилив, как это случилось в Германии, помогает контрреволюции. «Выйти на улицу с лозунгом „Долой правительство Брюнинга и Брауна!“ — опрометчивое дело, когда соотношение сил таково, что на смену правительству Брюнинга и Брауна может прийти только правительство Гитлера и Гугенберга. Тот же самый лозунг обрел бы совершенно другой смысл, если бы он предвещал прямую борьбу рабочего класса за власть». Даже сейчас он не сомневался в благих намерениях коммунистической партии, но «к сожалению, сталинская бюрократия пытается… действовать против фашизма, используя оружие последнего. Она одалживает цвета из политической палитры нацизма и стремится победить нацизм на аукционе патриотизма. Это не методы принципиальной классовой борьбы, а трюки мелкой рыночной конкуренции… предательство марксизма… демонстрация концентрированной бюрократической тупости». Те, кто говорят о народной революции и освобождении Германии от оков Версаля, забыли афоризм Карла Либкнехта, что для рабочего класса «главный враг находится в его собственной стране». Намеки на национализм в коммунистическом мышлении начались со сталинского «социализма в одной стране», а теперь они породили тельмановский «национальный коммунизм». «Идеи имеют не только свою логику, но и свою собственную взрывную силу»; а отсутствие щепетильности, с которым Коминтерн пытается перещеголять Гитлера в националистической демагогии, проявило «духовную пустоту сталинизма».
На карту, как считал Троцкий, поставлены не только все с трудом добытые завоевания немецкого рабочего движения, но и будущее цивилизации: вместе с нацизмом в Европу возвращается тень Средневековья. Гитлер, если победит, не только сохранит капитализм, но и сведет его до варварского уровня. Разбушевавшийся бюргер «не признает не только марксизм, но даже и дарвинизм», а рационализму и материализму XVIII, XIX и XX столетий он противопоставляет мифы X или XI века, мистику расы и крови. Это их пресловутое расовое превосходство должно разжечь гордость нижнего среднего класса Германии и дать им воображаемый выход из жизненных невзгод. В своем бешеном антимарксизме и отрицании «экономического взгляда на историю» «национал-социализм опускается еще ниже: с экономического материализма до зоологического материализма». Нацизм вобрал в себя «все отбросы международной политической мысли… чтобы создать интеллектуальное сокровище нового германского мессианизма». Он возбудил и собрал вокруг себя все силы варварства, прятавшиеся под тонкой поверхностью «цивилизованного» классового общества. Он дал выход неистощимым запасам мрака, невежества и дикости. В памятной фразе, пронизанной предчувствием костров и газовых камер Третьего рейха, Троцкий так описал суть нацизма: «Все, что общество, если бы оно развивалось нормально [т. е. к социализму], отвергло бы… как экскременты культуры, сейчас изрыгается из его горла: капиталистическая цивилизация извергает непереваренное варварство — такова физиология национал-социализма».
То, что коммунистические (и некоммунистические тоже) убеждения начала 30-х годов были невосприимчивы к такому философско-историческому взгляду на нацизм, возможно, не удивит историка. Что для него должно быть трудно для понимания — это как могли лидеры Советского Союза и огромные массы коммунистов всего мира оставаться глухими к тому, что говорил Троцкий об угрозе Советскому Союзу. В ноябре 1931 года, за десять лет до битвы под Москвой, он писал: «Победа фашизма в Германии будет означать неизбежность войны против СССР». В то время Москва все еще рассматривала Францию как главного западного противника Советского Союза и опасалась неминуемого нападения со стороны Японии, которая только что приступила к вторжению в Маньчжурию. Прогресс нацизма все еще вызывал небольшие опасения или вообще никаких у Сталина и его советников, хотя Гитлер во всеуслышание заявил, что он всеми силами стремится уничтожить большевизм и завоевать Восток. Сталин полагал, что все это бредни «бунтаря» Гитлера, но, когда Гитлер станет канцлером, ему будет трудно отказаться от тех выгод, которые Германия извлекала из своих связей с Россией по Рапалльскому договору. Сталин ожидал, что старания Гитлера перевооружить Германию приведут к его конфликту с Францией и вынудят поубавить враждебность в отношении Советского Союза. Коминтерн не просто так подстрекал германских коммунистов оказать двусмысленную поддержку гитлеровской кампании против Версальского договора: эта кампания должна была отвлечь Гитлера от его намерения возглавить крестовый поход Запада против большевизма.
Троцкий воевал с этим непониманием международных последствий нацизма. Он не верил, что Франция все еще является главным врагом России, как это было в годы интервенции. «Ни одно нормальное буржуазное парламентское правительство, — утверждал он, — не может сейчас рисковать войной против СССР: это повлекло бы неисчислимые внутренние осложнения. Но как только Гитлер захватил власть… и разогнал и деморализовал германский рабочий класс на многие предстоящие годы, у него будет только правительство, способное вести войну против СССР». Также не верил он, что существует серьезная угроза Советскому Союзу со стороны Японии. Он предсказывал, что, вторгшись в Маньчжурию, Япония ввязалась в затяжную и изматывающую войну с Китаем, которая отвлечет японские силы от Советского Союза и ускорит приход революции в Китае. «Основные условия на Востоке — огромные расстояния, гигантское население и экономическая отсталость — подразумевают, что весь процесс японского завоевания будет медленным, ползучим и расточительным. В любом случае, на Дальнем Востоке никакая непосредственная опасность не угрожает Советскому Союзу. Решающие события наступающего периода будут разворачиваться в Европе, в Германии», где «политические и экономические противоречия достигли беспрецедентной остроты… и развязка близка». И вновь: «На многие годы вперед судьба не только Германии… но и судьбы Европы и судьбы всего мира будут решаться в Германии». «Социалистическое строительство в Советском Союзе, марш Испанской революции, развитие предреволюционной ситуации в Англии, будущее французского империализма, судьба революционного движения в Китае и Индии — все эти проблемы сводятся… к этому единственному вопросу: кто победит в Германии в наступающие месяцы? Коммунизм или фашизм?»
Троцкий полагал, что для антисоветского крестового похода Гитлер может заручиться поддержкой мирового капитализма и что это повлечет за собой «ужасающую изоляцию Советского Союза и необходимость сражаться не на жизнь, а на смерть в тяжелейших и опаснейших условиях». «Если случится, что фашизм сокрушит германский рабочий класс, это будет равносильно, по крайней мере, наполовину крушению Республики Советов». Германия, СССР и весь мир могут быть спасены от катастрофы только тогда, когда рабочим удастся преградить Гитлеру дорогу к власти. Поэтому сталинская политика в Германии направлена против жизненно важных интересов как Советского Союза, так и германского коммунизма. Интересы советской безопасности и международного пролетариата неразрывно связаны. Годами Сталин и Коминтерн кричали о неизбежности антисоветского крестового похода; но теперь, когда угроза стала реальной, они хранят молчание. И все-таки это должно стать аксиомой, что за нацистской попыткой захватить власть «должна последовать мобилизация Красной армии. Для государства рабочих это должно быть вопросом революционной самозащиты… Германия — это не только Германия. Она — сердце Европы. Гитлер — не только Гитлер. Он — кандидат на роль супер-Врангеля. Но и Красная армия — это не только Красная армия. Это инструмент пролетарской мировой революции».
Спустя несколько месяцев, в апреле 1932 года, он повторил эту же мысль даже более впечатляюще. Погрязшие в рутине политики и дипломаты, говорил он, слепы к тому, что происходит, как это было и накануне Первой мировой войны. «Мои отношения с нынешним правительством в Москве не таковы, чтобы это позволяло мне выступать от его имени или ссылаться на его намерения… С полнейшей искренностью я могу заявить, как, по моему мнению, Советскому правительству следовало бы действовать в случае фашистского переворота в Германии. На их месте в самый первый момент после получения телеграфного сообщения об этом событии я бы подписал приказ о мобилизации нескольких возрастных групп. Перед лицом смертельного врага, когда логика ситуации указывает на неизбежную войну, было бы безответственным и непростительным давать врагу время на то, чтобы обосноваться, укрепить свои позиции, заключить союзы… и разработать план нападения…» И вновь: «Война между гитлеровской Германией и Советским Союзом будет неизбежной и произойдет в короткие сроки», ввиду чего даже вопрос о том, кто нападет первым, имеет вторичное значение. Имея в виду тех во Франции и в Британии, кто надеялся спасти статус-кво на Западе и Версальскую систему путем отвлечения германского империализма на Восток, Троцкий писал, что, «какими бы иллюзиями ни тешили себя в Париже, можно безопасно предсказать, что одной из первых пламя войны между большевизмом и фашизмом поглотит Версальскую систему».
Коминтерновская пресса тут же окрестила Троцкого «вероломным поджигателем войны», стремящимся поссорить Россию и Германию; и для многих людей за пределами Коминтерна смелость его заявлений казалась безрассудной. Однако его поведение не покажется таким уж безрассудным, если вспомнить, что еще в начале 30-х годов при разоруженных Германии, Британии и Соединенных Штатах Советский Союз являлся величайшей военной державой мира. Но Троцкий, по сути, не призывал советское правительство развязать войну против Германии, даже нацистской Германии. В 1933 году, после того как Гитлер стал канцлером, Троцкий заявил, что в существующей обстановке мобилизация Красной армии не имеет смысла. Он отстаивал эту точку зрения, объяснял, исходя из предположения, что Гитлеру потребуется еще пробиться к власти, — он отказывался верить, что германское рабочее движение позволит Гитлеру стать хозяином страны, не произведя ни единого выстрела. Они настаивал на обязанности Красной армии вмешаться лишь в контексте предполагаемой гражданской войны в Германии. Допуская, что это был бы опасный курс, но все же лучше, чем пассивно дожидаться восхождения Гитлера и перевооружения Германии, линия поведения Троцкого, революционная в своем политическом аспекте, в военном аспекте была схожа с той, которую был вынужден избрать четыре-пять лет спустя Уинстон Черчилль, когда призвал британское и французское правительства ответить на вступление Гитлера в Рейнскую провинцию мобилизацией и подготовкой к войне. Эта линия принесла Черчиллю неоспоримый моральный авторитет, который был ему необходим, чтобы стать лидером Британии во Второй мировой войне. А все, что досталось Троцкому, — это поношение.
Тем временем нацистская лавина продолжала свое движение. Весной 1932 года Германии предстояло избрать президента, и Гитлер выдвинул свою кандидатуру. Кандидат от социалистов и коммунистов наверняка бы набрал больше голосов, чем Гитлер или любой другой соперник, — на неоднократных парламентских выборах того года коммунисты и социал-демократы неизменно набирали более 3 миллионов голосов. Но социал-демократы решили поддержать кандидатуру Гинденбурга, склонного к уединению 85-летнего президента, которому они противостояли на предыдущих выборах как символу старой имперской реакции, но за чьей старческой спиной теперь пытались укрыться. Коммунистическая партия призвала рабочих голосовать за Тельмана. Гинденбург был переизбран и сразу же нанес завершающий смертельный удар по парламентскому режиму и по социал-демократам. Он отправил в отставку Брюнинга, который только что сделал несмелую попытку объявить вне закона гитлеровских штурмовиков, а также пробуждал к себе неприязнь восточнопрусских юнкеров. Новый канцлер Гинденбурга фон Папен снял запрет на существование штурмовых отрядов, а 20 июля 1932 года низложил социал-демократическое правительство Пруссии, которое нацисты безуспешно пытались свергнуть путем плебисцита. Это событие было примечательно своим трагикомическим характером: какой-то лейтенант, командовавший взводом солдат, вывел из кабинетов премьер-министра и министра внутренних дел Пруссии, которые под своим началом номинально имели всю прусскую полицию. Слишком поздно и формально коммунисты посоветовали социал-демократам объявить всеобщую забастовку и предложили свою поддержку. Вновь социал-демократы отказались выступить за общее дело вместе со своими «врагами слева» и сами себя ввели в заблуждение, что камарилья фон Папена и Гинденбурга (движущей силой которой был генерал Шляйхер) как-то переиграет Гитлера и поставит его в безвыходное положение. Такова была широко распространенная иллюзия этих последних дней Веймарской республики: фон Папен, так легко взявший социал-демократическую «крепость» в Пруссии, представлялся весьма могущественным; казалось, он похитил у Гитлера дар громовержца, а нацистское движение вроде быстро теряло свою стремительность.
Тем более стоит дивиться точности и правильности анализа и предсказаний Троцкого. «Чем меньше рабочие готовы к борьбе, — комментировал он, — тем сильнее впечатление силы, которое производит правительство Папена». Однако это еще не фашистский переворот — он все еще впереди. Папен не сумеет переиграть Гитлера и помешать нацистской диктатуре, потому что у него нет даже той «ограниченной силы, которой обладал Брюнинг: его поддерживают только самые архаичные элементы прусской бюрократии. Он не сможет обуздать ярость и бешенство миллионов, идущих за Гитлером, — только стойкость и воинственность миллионов рабочих способны этого достичь. Но как могут рабочие обладать этой решимостью, когда они видят, как прусское социалистическое правительство позволяет свергнуть себя „щелчком по носу“, и когда коммунисты, которые им годами твердили, что Германия уже фашистская, теперь призывают подняться во всеобщей забастовке против папеновского „фашистского“ переворота и на защиту „социал-фашистского“ правительства Пруссии? И все же в каком бы замешательстве ни были рабочие, альтернатива такова — либо победа нацизма, либо победа рабочего класса — tertium non datur».[43] У Папена, настаивал Троцкий, осталось не более «ста дней»; и столько же у Шляйхера, который сменит его на посту канцлера. Потом рейхсвер и юнкеры сформируют коалицию с нацистами, надеясь тех усмирить. И все будет напрасно: «Все мыслимые [правительственные] комбинации с Гитлером должны привести к поглощению фашизмом бюрократии, судов, полиции и армии». И даже теперь, утверждал он, еще не слишком поздно для «объединенного фронта» рабочих; но — «как много времени было растрачено бесцельно, бессмысленно и позорно!».
Примерно в это время Троцкий спорил с Коминтерном по поводу испанской революции. В 1930 году пришел конец диктатуре Примо де Риверы, а затем в апреле 1931 года рухнула монархия. Пока Германия развивалась из буржуазной демократии в авторитарный режим, в Испании происходило противоположное. И все же в обеих странах Коминтерн цеплялся за стратегию Третьего периода. В то время как германская партия объявила, что противоречия между фашизмом и буржуазной демократией не имеют значения, испанская партия не придавала значения конфликту между монархией и республикой. В Москве Мануильский после падения Риверы говорил на Исполкоме Коминтерна в феврале 1930 года: «Движения такого рода проходят по экрану истории как частные инциденты и не оставляют глубоких следов в умах. трудящихся масс… Единственный удар… может иметь большую важность, чем „революция“, вроде испанской». О революции, которой предстояло занимать внимание мира около десятилетия, все еще говорили, заключая это слово в кавычки. Отречение короля Альфонсо застало партию врасплох. Когда впоследствии Испания огласилась громкими требованиями демократического созыва кортесов, официальные коммунисты, вроде анархо-синдикалистов, утверждали, что рабочие и крестьяне ничего не выиграют от любого парламента; и они поддержали бойкот выборов. В то же время Коминтерн заявил, что испанская революция ввиду отсталости страны должна удерживаться в пределах «буржуазной демократии» и что «пролетарская диктатура не стоит на повестке дня». Легко заметить здесь сталинский канон, развитый как антитезис перманентной революции Троцкого и применявшийся в Китае в 1925–1927 годах. Этот канон должен был подчеркнуть сталинскую политику в Испании. На более позднем этапе, в 1936–1938 годах, она была призвана оправдать коммунистическую коалицию с буржуазно-республиканскими партиями в Народном фронте, «умеренную» политику коммунистической партии и ее репрессии против ПОУМ, троцкистов и радикальных анархо-синдикалистов. В начале 30-х, однако, тот же канон нелепо сочетался с ультралевой тактикой и с отклонением требования создания Учредительной ассамблеи и демократических выборов, классической составляющей буржуазной революции.
Троцкий утверждал, что испанская революция должна пройти, как это сделала русская революция, от буржуазной фазы к социалистической, если ее не постигнет разгром. Из всех европейских стран Испания была наиболее близка к дореволюционной России по общественной структуре, по расстановке политических сил — и в Испании, как в России рабочим Советам, хунтам было предназначено стать органами революции. Настаивая на перманентности революции, Троцкий призывал коммунистов избрать более реалистическую тактику, выдвинуть или поддержать требования всеобщих политических прав, Учредительной ассамблеи, самоопределения каталонцев и басков и, прежде всего, поддержать борьбу крестьян за землю. В плане решения земельной проблемы крестьяне связывали свои надежды с кортесами, и коммунисты обязаны были провозгласить свою аграрную программу с парламентской трибуны с целью поддержки внепарламентских действий крестьянства. В рамках стратегии Третьего периода они этого делать не могли и проявляли склонность к пренебрежению парламентом и его бойкоту. «Парламентский кретинизм — отвратительная болезнь, но антипарламентский кретинизм немногим лучше», — замечал Троцкий. Разве большевики в 1917 году не требовали Учредительного собрания? В Испании парламентская политика была даже важнее, чем в России, потому что ритм революции должен был там быть медленнее; а испанским коммунистам в своих действиях следовало «меньше принимать в расчет русский опыт, а больше — опыт Французской революции. Диктатуре якобинцев предшествовали три парламентские ассамблеи». Нечто подобное могло произойти в Испании.
Испанская компартия была не только дезориентирована, мала и слаба; она была еще и дезорганизована расколами и разногласиями, которые были неотделимы от сталинской ортодоксальности. Она уже исключила из своих рядов несколько троцкистских и полутроцкистских групп, а также Андреса Нина, ее основателя и, в один период, руководителя. Этим расколам было суждено в последующие годы стать причиной падения боевого духа в республиканской Испании, а травля Нина привела к его убийству. Уже в апреле 1931 года, всего лишь через несколько дней после свержения монархии, Троцкий выразил в конфиденциальном письме в Политбюро в Москве протест против охоты за еретиками в Испании. Он припомнил, что в 1917 году большевики под руководством Ленина объединились со всеми близкими к ним группировками, независимо от их прошлых разногласий — сам он тогда вступил в большевистскую партию, — и обнаружили, что это (а также способность базировать единство и дисциплину на свободе внутренних дискуссий) решительно усилило их в борьбе за власть. «Есть ли какие-то другие способы или методы, — задавал он вопрос, — которые позволили бы пролетарскому авангарду Испании разработать свои идеи и проникнуться неколебимым убеждением в правоте и справедливости этих идей — убеждением, которое одно лишь позволит ему вести народные массы в решающее наступление на старый порядок?» Охота на еретиков сбивала с толку и деморализовала ряды коммунистов и облегчала победу фашистов, которая будет иметь «серьезные последствия для всей Европы и СССР». Он просил Политбюро посоветовать — точно «посоветовать», а не приказать — испанским коммунистам созвать конгресс единства; и сам готов был советовать своим сторонникам сотрудничать в этом деле. «Ход событий в Испании ежедневно будет подтверждать необходимость единства в коммунистических рядах. Серьезная историческая ответственность ляжет на тех, кто поддерживает раскол». На это письмо Москва не ответила; но в нем были раскрыты истоки того поражения, которое испанской революции придется понести семь-восемь лет спустя.
В разгар этих споров Сталин лишил Троцкого советского гражданства и права когда-либо возвращаться в Россию. «Правда» опубликовала указ по этому поводу 20 февраля 1932 года, выдвинув в качестве причины «контрреволюционную деятельность» Троцкого без указания конкретных прегрешений. Это была беспрецедентная мера. Меньшевистские и эсеровские эмигранты, заседавшие в ведущих органах 2-го Интернационала и при материальной и моральной поддержке этого Интернационала занимавшиеся агитацией против большевиков, до тех пор еще не были лишены советского гражданства. Чтобы исправить это упущение и скрыть истинную цель, указ от 20 февраля также лишал гражданства около 30 меньшевиков-эмигрантов.
В этом выпаде был четкий злобный расчет. В отличие от Троцкого меньшевистские лидеры не были высланы: большинству из них в 1921–1922 годах «посоветовали» покинуть страну, если они хотят избежать преследований, и они уехали. Это Ленин решил дать им такой «совет», а Троцкий, несомненно, поддержал это решение. Его враждебность по отношению к меньшевикам не стихла даже в изгнании и довела его до серьезной ошибки в суждении всего за несколько месяцев до указа от 20 февраля. В 1931 году во время злополучного процесса над меньшевиками, который происходил в Москве, Троцкий принял за чистую монету обвинения, выдвинутые против них. Подсудимые Суханов, Громан и другие обвинялись в экономическом саботаже и заговоре с участием их товарищей-эмигрантов. Обвинения основывались на фальшивых уликах и «признаниях».[44]
В поведении Троцкого частично сыграло роль то, что в утверждениях прокурора имелся и элемент правды: главный подсудимый Громан, ранее экономический советник в Государственной плановой комиссии, действительно стремился помешать реализации первого пятилетнего плана. Громан долгое время поддерживал политику Сталина и Бухарина и активно противостоял программе индустриализации, составленной Троцким. Во время этого процесса Троцкий высказывал мнение, что Громан и его группа «саботировали» советскую экономику при молчаливой поддержке Сталина; и только левый курс положил конец покровительству Сталина, а меньшевиков привел на скамью подсудимых.[45]
Хотя эти обстоятельства и повлияли на согласие Троцкого с составом обвинения, они этого обвинения не оправдывают. Позднее Троцкий сам публично выразил сожаление об этой ошибке. Но этот инцидент показывает, насколько сильной осталась его враждебность по отношению к меньшевикам, и можно легко вообразить, с каким извращенным удовольствием Сталин выставил на осмеяние и Троцкого, и меньшевистских «саботажников» в одном указе, одновременно лишив их гражданства.
Это событие произошло вскоре после несколько загадочного «дела Туркула». 31 октября 1931 года «Rote Fahne» опубликовала статью, в которой утверждалось, что генерал Туркул — эмигрант, командовавший Белой гвардией в Гражданскую войну, намеревался организовать покушение на жизнь Троцкого, учитывая тот факт, что на Принкипо Троцкого охраняли недостаточно надежно и что если бы эта попытка удалась, преступники возложили бы вину на советское правительство. Эти утверждения звучали достаточно правдоподобно, но вызывало недоумение, почему из всех газет с ним выступила только «Rote Fahne». По инициативе Троцкого его друзья направили протесты в советские посольства в Берлине и Париже, напоминая советскому правительству, что оно обещало защищать его жизнь в ссылке, и спрашивая, что оно собирается предпринять, чтобы сдержать свое обещание. Москва эти запросы оставила без ответа, а Троцкий пришел к выводу, что у «Rote Fahne» была лишь одна цель: — обеспечить алиби Сталина в случае какого-либо покушения. Затем его сторонники направили советскому правительству заявление, содержавшее явные признаки стиля Троцкого, в котором утверждалось, что «Сталин заботится не о том, чтобы помешать белогвардейцам выполнить их план, а о том, чтобы не дать им возможности свалить ответственность за этот террористический акт на Сталина и его агентов». Сталин ответил не напрямую, а через Коминтерн, распекая Троцкого за черную неблагодарность, которой он отплатил за то внимание, которое Сталин проявил по отношению к нему. Этот ответ предполагал, что жизни Троцкого действительно угрожала опасность со стороны белоэмигрантов. Теперь Сталин наказывал за «неблагодарность», лишив Троцкого страны и даже минимума формальной защиты, которую любое правительство обязано предоставить своим гражданам в зарубежных странах.
На эту карательную меру возлагалась та задача, которую не удалось выполнить при казни Блюмкина, — разорвать все контакты между Троцким и его сторонниками в Советском Союзе. Несмотря на цензуру и подслушивание, Троцкий все еще получал много почты из колоний ссыльных и из тюрем. В Берлине Лёва пытался установить связь со старыми товарищами, которые приезжали туда в командировки, и докладывал на Принкипо о своих успехах и неудачах. Так, весной 1931 года он случайно встретился с Пятаковым, но этот близкий друг прежних лет, а ныне «Иуда рыжий» — так писал Лёва — «отвернулся и сделал вид, что не видит меня». Позднее, в июле, прохаживаясь по одному из крупнейших магазинов города, Лёва неожиданно встретил Ивана Смирнова, который со времени своей капитуляции сохранял высокий управленческий пост в промышленности. Они обнялись; Смирнов тепло расспрашивал о Троцком и всех членах его семьи и, излив свое горе капитулянта, заговорил о жуткой ситуации и недовольстве, распространившемся повсюду в Советском Союзе. Хотя и разочаровавшись в надеждах, с которыми сдавался Сталину, он не имел никакого желания возобновлять борьбу; он предпочитал ждать и наблюдать. Тем не менее он сказал, что вместе с друзьями приветствовал бы блок с Троцким и его последователями, ближайшей целью которого был бы просто обмен информацией. Меньше всего он хотел бы поддерживать контакты с Троцким; и так как он должен был вот-вот вернуться в Москву, то пообещал прислать через доверенных друзей документ с обзором состояния советской экономики и политического настроения в стране. Они договорились о пароле, который должен будет использовать посыльный. В начале осени Е. С. Гольцман, старый большевик, капитулянт, привез от Смирнова меморандум, которому было суждено выйти в «Бюллетене оппозиции» через год и впервые раскрыть полный объем уничтожения поголовья скота во время коллективизации, серьезные диспропорции в промышленности, влияние инфляции на экономику и т. д. Этот меморандум заканчивался следующим полным смысла заключением: «Ввиду неспособности нынешнего руководства выбраться из экономического и политического тупика крепнет убеждение о необходимости смены партийного руководства». Лёва и Гольцман часто встречались и обсуждали события в Советском Союзе.
Смирнов и Гольцман выступали не только от своего имени, но и от лица многих капитулянтов, которые скромно, но, тем не менее, безошибочно обращали свои взоры на Троцкого. Их тревогу вызывала как буря, собирающаяся над Германией, так и внутреннее положение в России. Они были встревожены параличом германского коммунизма и с симпатией следили за кампанией, ведущейся Троцким. Большинство из них уже думали то самое, что Радек выразил позже, в 1933 году, когда, беседуя с доверенным немецким коммунистом, он показал на кабинет Сталина в Кремле и произнес: «Там сидят те, кто виновен в победе Гитлера».[46]
Не видя способа для изменения политики Коминтерна, разгневанные и разочарованные капитулянты отодвигались назад, в направлении троцкистской оппозиции. Это не ускользнуло от внимания Сталина, который более, чем когда-либо, желал оградить партию от влияния Троцкого. Теперь он сожалел, что выслал Троцкого из России, потому что ссылка дала тому возможность вещать свои идеи на весь мир. Сталин решил обратить эту «ошибку» себе на пользу: лишенный советского гражданства Троцкий был раз и навсегда заклеймен изгнанником, а отсюда любой советский гражданин, пытающийся установить связь с Троцким, будет виновен в сговоре не только с опозоренным лидером внутренней оппозиции, но также и с иностранным заговорщиком.
Троцкий ответил «Открытым письмом» президиуму Центрального исполкома, от чьего имени был опубликован указ от 20 февраля. Он разоблачил беззаконие указа (который описал как «проявление термидорианства» и «беспомощный и даже жалкий» акт сталинской личной мести), а также подвел итог десятилетия внутрипартийной борьбы. «Вы думаете, что этим фальшивым клочком бумаги… вы остановите рост критики большевизма? Помешаете нам выполнять свой долг? Запугаете наших единомышленников?.. Оппозиция перешагнет через Указ от 20 февраля точно так же, как рабочий перешагнет через грязную лужу по пути в свой цех». Он хорошо понимал, что эта репрессалия — не «последнее слово» Сталина. «Нам известен арсенал его методов… и вы знаете Сталина так же хорошо, как и я. Многие из вас в разговорах со мной или близкими мне людьми не раз давали свою оценку Сталину, и давали ее без всяких иллюзий». Это он обращался к окружению Сталина, «людям из аппарата». Он взывал к их совести, но в их же личных интересах. Он стремился убедить их, что они ничего не выиграют, но много потеряют при сталинской диктатуре. Он красочно описывал унижения, которые они вместе со всей партией терпят от Сталина.
«Вы начали борьбу с троцкизмом под флагом старой большевистской гвардии. Воображаемым амбициям Троцкого в плане личного лидерства, амбициям, которые выдумали сами, вы противопоставили „коллективное руководство ленинским Центральным Комитетом“. Что же осталось от того коллективного руководства? Что осталось от ленинского Центрального комитета? Аппарат, независимый от рабочего класса и партии, подготовил арену для сталинской диктатуры, которая независима от аппарата. И теперь для каждого дать клятву верности „ленинскому Центральному Комитету“ почти равносильно тому, чтобы открыто призвать к восстанию. Можно дать только клятву верности Сталину — это единственная разрешенная формула. Общественный оратор, пропагандист, журналист, теоретик, педагог, спортсмен — все обязаны включать в свои выступления, статьи, лекции фразу… „под руководством Сталина“; все должны провозглашать непогрешимость Сталина, который сидит верхом на спине Центрального Комитета. Каждый партиец и советский чиновник, начиная с верхушки правительства и кончая скромным служащим в каком-нибудь захолустье, должны поклясться… что в случае каких-либо разногласий, возникших между Центральным Комитетом и Сталиным, он, нижеподписавшийся, будет поддерживать Сталина в споре с Центральным Комитетом».
Сталин подавлял свою собственную фракцию, которая помогала ему ранее и теперь все еще помогала подавлять его противников. Внутри собственной фракции он создал еще более узкую группу, действующую через секретных агентов, использовавшую пароли, коды и т. д. Он страстно желал окончательно уничтожить оппозицию — отсюда и указ от 20 февраля, — для того чтобы свободно сводить счеты с собственными приверженцами и собственным окружением. Поэтому работникам «аппарата» в их же собственных интересах следовало отказываться от исполнения сталинских приказов — только таким образом они могли спасти самих себя.
«Сила Сталина всегда заключалась в созданной им машине, а не в нем самом… Отрезанный от машины… Сталин… ничего собой не представляет… Пришло время расстаться со сталинским мифом. Пришло время вам довериться рабочему классу и его настоящей, не поддельной партии… Вы хотите и дальше идти по сталинской дороге? Но дальше дороги нет. Сталин завел вас в тупик… Настало время пересмотреть всю советскую систему и безжалостно очистить ее от той грязи, которой она заросла. Время наконец-то исполнить до конца последний и настойчивый ленинский совет: „Уберите Сталина!“»
Здесь Троцкий настойчиво и многозначительно обращался скорее к вождям сталинской бюрократии, чем к рядовым большевикам. Отдавая себя работе по реформе правящей партии, а не по ее свержению, он был вынужден обращаться к ним, потому что только Центральный комитет, состоявший почти полностью из сталинистов, мог начать реформу в конституционной форме. Троцкий фактически подсказывал главарям старой сталинской фракции приступить — и это в 1932 году! — к десталинизации, которую некоторые из них должны будут провести двадцать лет спустя, после смерти Сталина. Этот призыв, хотя и остался без внимания, ни в коей мере не был бесцельным, потому что конфликт между Сталиным и его старыми соратниками и приверженцами должен был закончиться фатально для многих из последних. Наблюдая за этим конфликтом, Троцкий ни в коей мере не собирался преуменьшать его значение, даже хотя он его и умалял в некоторых из своих более доступных трудов. Это, как мы знаем, был самый опасный и мрачный момент в советской истории, когда народ стал чувствовать полную мощь катастрофы в сельском хозяйстве и голода, когда хаос инфляции стал угрожать уничтожением плодов так тяжело дававшегося промышленного прогресса. «Несчастья и крушение планов накладывались одно на другое, популярность Сталина была минимальна. Он напряженно следил за волнами недовольства, которые вздымались и ударялись о стены Кремля» — так этот момент мы описывали где-то в другом месте. Недовольство, надо добавить, не только било в стены Кремля — оно и пробивало их.
Разрыв между Сталиным и его окружением проявился еще в 1930 году, когда в заявлении «Головокружение от успехов» он демонстративно снял с себя ответственность за применение насилия при коллективизации и через голову Центрального комитета представил себя стране как единственного защитника крестьянства. Центральный комитет запротестовал; Сталину пришлось сказать народу, что весь комитет, а не он один, призывает прекратить насилие. Следующее расхождение во мнениях было вызвано временной опалой Ярославского в том же году. Ярославский являлся столпом сталинской фракции, самым яростным хранителем ее ортодоксии и автором учебника по истории партии — шедевра фальсификации, который превозносился в качестве надежного путеводителя через доктринальный лабиринт внутрипартийной борьбы и был вбит в головы партийцев. Именно этот учебник стал теперь причиной опалы Ярославского. Сталин вдруг обнаружил, что учебник изобилует ересью, и приказал запретить его. Ярославский, составляя этот учебник в 20-х годах, не мог довести фальсификацию до той степени, которая бы устраивала Сталина в 1931 году. Фальсификатор истории трудится не в вакууме: объем, который он может охватить, и наглость, которую он может себе позволить, зависят от того, насколько велико и плотно забвение, которым время, безразличие и прежние фальсификации оплели людей и события; а в 20-х годах Ярославскому приходилось признавать факт, что у многих читателей все еще свежи воспоминания о годах революции и Гражданской войны. В 1931 году Сталин требовал более обширных фальшивок. По мере того как он набирал властную силу, он требовал кроить одежду истории по своим меркам, а то и вообще заново. Несколько лет назад в любом сталинистском тексте было достаточно осудить Троцкого как «уклониста» от большевизма и восхвалять Сталина как надежного толкователя ленинизма. Теперь уже автор любого учебника был обязан клеймить Троцкого как человека, всегда являвшегося неистовым контрреволюционером; описывать его как предателя даже в то время, когда он был председателем Петроградского Совета и военным комиссаром, заставлять людей забыть, что негодяй никогда бы не занимал таких высоких постов, наделять Сталина всем величием, которое содрали с Троцкого, и установить безусловно апостольский ряд из Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Это было не в интересах всей сталинской фракции в целом, а только сталинской диктатуры, чтобы фальсификация была доведена до такой крайности. «История» Ярославского представляла сталинскую точку зрения во время, когда Сталина все еще считали primus inter pares:[47] поэтому в ней восхвалялся сталинизм, но не прославлялся сам Сталин и сверхчеловеческий гений, который дал ему право поставить себя выше своей собственной фракции. Поэтому Ярославского и свалили. Но это вызвало такое недовольство даже среди сталинских прихвостней, что скоро опала была с него снята.
Более драматичным было снятие также в 1931 году Рязанова с поста директора Института Маркса — Энгельса. Известный знаток Маркса долгое время был в стороне от политической деятельности и, несмотря на свою старую дружбу с Троцким, проявлял по отношению к Сталину полную лояльность, отдавая всю энергию богатым архивам института и библиотеке. И все-таки одним своим присутствием в институте он поддерживал свойственные ученым традиции классического марксизма как раз тогда, когда Сталин стремился превратить институт в место поклонения его личному культу. Посему Рязанова выгнали из института и выслали из Москвы под предлогом, что он замышлял заговор с меньшевиками с целью замалчивания некоторых неопубликованных трудов Маркса.[48]
С чередой этих дел были связаны и печально известные нападки Сталина на редакторов «Пролетарской революции», которых он обвинил в торговле «троцкистской контрабандой». Журнал печатал исторический очерк об отношении большевиков к Розе Люксембург в период до 1914 года, должным образом признавая ее революционные и марксистские заслуги. В этом не было ничего необычного, потому что со времени убийства Люксембург в 1919 году коммунисты регулярно и торжественно платили дань уважения ее памяти; после годовщин со дня кончины Ленина в 1924 году гибель Люксембург и Либкнехта ежегодно отмечалась в единой торжественной церемонии, посвященной «Трем „Л“». И вот теперь Сталин осуждал идеи Люксембург как по сути враждебные большевизму и родственные троцкизму. Их сходство было неоспоримо, но до сих пор сталинисты боролись с живущим лидером оппозиции, а не с призраком. Сталин дошел до того, что стал подозревать, что, оказывая уважение призраку, люди втихомолку пытаются реабилитировать Троцкого.
«Я думаю [писал он], что этими редакторами двигал тот гнилой либерализм, который сейчас широко распространяется среди некоторых большевиков. Некоторые думают, что троцкизм — это школа мысли внутри коммунизма, фракция, которая наверняка совершила ошибки, совершила немало глупостей и даже вела себя временами в антисоветском духе, но все равно это коммунистическая фракция. Вряд ли необходимо указывать, что такая точка зрения глубоко ошибочна и вредна. Троцкизм, фактически, это острие контрреволюционной буржуазии, ведущей войну против коммунизма… Троцкизм является авангардом контрреволюционной буржуазии. Вот почему либерализм по отношению к нему… граничит с преступлением и предательством рабочего класса».
Сталин конфликтовал не только с «гнилым либерализмом» в своем окружении. Ему приходилось принимать и более прямые вызовы. Внутри Центрального комитета и вокруг него постоянно возникали новые группы недовольных. Дела Рютина, Слепкова, Сырцова и Ломинадзе тянулись уже более двух лет. Все четверо уже были понижены в должности, осуждены, реабилитированы и вновь заклеймены как заговорщики. Сталин и Центральный комитет все никак не могли договориться, насколько виновны эти лица и какова должна быть мера их наказания. В 1932 году было разоблачено еще несколько новых «групп заговорщиков»: одну группу возглавляли А. Смирнов, бывший комиссар по сельскому хозяйству, Эйсмонт, комиссар по снабжению, и Толмачев, комиссар по транспорту; другая группа (Конора, Коварского и Вульфа) была раскрыта в комиссариате по сельскому хозяйству; была выявлена «сеть оппозиции» в профсоюзах и различных комиссариатах.[49]
Лидеры этих групп не вступали ни в какой настоящий заговор. Те из них, кто являлись членами Центрального комитета, просто пользовались своим законным правом, пытаясь убедить коллег в том, что политика Сталина пагубна, что он виновен в превышении власти и что ЦК должен сместить его с поста Генерального секретаря. Они по этому поводу распространяли служебные записки и пытались получить моральную поддержку со стороны предыдущих оппозиционеров. Так, Рютин искал совета Зиновьева и Каменева, а Эйсмонт и Толмачев обращались к Троцкому и Рыкову. В 1931-м и 1932 годах Сталин оказывал давление на ЦК, стремясь получить свободу рук в отношении этих критиков. В комитете он столкнулся с сопротивлением, и даже ГПУ не выказывало желания активно действовать.
Лишь после долгих проволочек он смог в ноябре 1932-го и в январе 1933 года исключить некоторых мятежников и провозгласить новую анафему Зиновьеву и Каменеву, которых опять выслали из Москвы, на этот раз в Сибирь. Во время этой второй ссылки Зиновьев якобы заявил, что величайшей ошибкой его жизни, даже большей, чем оппозиция Ленину в дни Октябрьской революции, было решение покинуть Троцкого и капитулировать перед Сталиным в 1927 году. Вскоре после этого Преображенский, Иван Смирнов, Мрачковский, Муралов, Тер-Ваганян и многие другие капитулянты были вновь высланы и посажены за решетку; их преследовали даже еще более жестоко, чем оппозиционеров, которые никогда не капитулировали. К концу года казалось, что оппозиция отвоевала почву, утерянную ею с 1927 года.
Современный отчет так описывает гонения на капитулянтов: «Эти старые революционеры, испытанные политические лидеры сделали попытку найти общий язык с людьми аппарата. Эта попытка затянулась почти на четыре года и завершилась провалом. Когда они капитулировали, в партийных ячейках велась разъяснительная работа в том духе, что „все старые большевики порвали с оппозицией“». Этот аргумент, несомненно, производил большое впечатление… Теперь аресты [капитулянтов] производят еще более сильное впечатление, но уже противоположного характера. «Да, — говорят многие, — левая оппозиция в конечном итоге была права, если так много ранее дезертировавших из нее возвращаются назад». На деле они возвращались не по собственной воле — Сталин выгонял их из партии, потому что опасался их присутствия на раннем этапе его конфликта с собственными сторонниками и разброда в своем окружении. Как раз во время второй ссылки Зиновьева и Каменева жена Сталина Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством: она сломилась под тяжестью угрызений совести оттого, как ее муж управлял делами партии и государства.
Таковы были обстоятельства, в которых Троцкий призывал сталинское окружение выполнить, наконец, завещание Ленина и «удалить Сталина». Нельзя сказать, что это была всего лишь импульсивная реакция на указ, лишавший его гражданства. Он учитывал возможность того, что сталинские деспотические амбиции могут в конце концов возмутить членов правящей группы и подтолкнуть их на действия в плане самозащиты. Если учесть, что через пять-шесть лет Сталин прикажет казнить 98 из 139 членов и кандидатов в члены Центрального комитета (и 1108 из 1966 делегатов XVII съезда партии) и тем самым ликвидировать большинство сталинских «кадров», почти три четверти их элиты, невольно согласишься, что Троцкий, обращаясь к этим кадрам, имел достаточно причин для того, чтобы озвучить не только свои, т. е. оппозиции, интересы, но также и донести до людей голос разума в пользу их собственного самосохранения. «Спасайтесь — это ваш последний шанс!» — кричал он, фактически, тем сталинцам, которые вскоре стали жертвами сталинского террора. Он призывал людей типа Хрущева и Микояна «очистить советское государство от грязи, которой оно заросло», за двадцать четыре года до того, как они оказались готовы приступить к этой работе, и когда было куда меньше грязи, чем ее могло бы быть. Он, конечно, знал, что, даже если бы они решились восстать против Сталина, они делали бы это с опаской, нерешительно и под влиянием тысячи запретов. Тем не менее, он планировал «единый фронт» с ними и предлагал им важную поддержку, уверенный, что, как только начнется движение против Сталина, он и его сторонники окажутся в первых рядах.
Он делал все, что мог, чтобы подбодрить недовольных Сталиным. Лёва, который в Берлине стоял ближе к московским передрягам, был особенно за то, чтобы отец именно это и делал. Сообщения из Москвы продолжали делать акцент на озлоблении среди сталинцев и на разговорах о необходимости «удалить Сталина». Но из тех же самых сообщений было видно, что сталинские оппозиционеры приходили в ужас при одной только мысли о возвращении Троцкого. «Если Троцкий вернется, — говорили они, — он всех нас перестреляет». Или: «Он расквитается за все, что мы сделали ему и его сторонникам, и будет ставить нас к стенке тысячами». Сталин играл на этом страхе и разжигал его. «Это показывает, какой линии поведения мы должны придерживаться, — писал Троцкий сыну. — Ни в коем случае не должны мы стращать людей лозунгами или формулами, которые можно истолковать как намерение… отомстить. Чем ближе конфронтация… тем мягче и более примирительной должна быть манера разговора, хотя, конечно, мы не должны делать никаких принципиальных уступок». В «Бюллетене оппозиции» и в специальной листовке, предназначенной для распространения в России, Троцкий таким образом стремился успокоить тех, кто боялся его мести:
«Конечно, надо положить конец бонапартистскому режиму единоличного вождя, которому каждый обязан поклоняться, — надо положить конец этому позорному извращению идеи революционной партии. Но что важно, это изменить систему, а не подвергать остракизму личностей. Сталинская клика усердно распространяет слухи, что левая оппозиция вернется… с мечом в руке, и ее первым делом будет беспощадная месть ее противникам… Необходимо отвергнуть эту ядовитую ложь… Месть не является политическим чувством. Большевики-ленинцы никогда ею не руководствовались; и меньше всего мы будем ей руководствоваться и в дальнейшем. Мы все слишком хорошо знаем… причины, по которым десятки тысяч партийцев были загнаны в тупик… Мы готовы работать рука об руку со всеми, кто готов возродить партию и предотвратить катастрофу».
Однако это был год 1932-й, а не 1953-й или 1956-й. Несмотря на признаки, вроде бы предвещавшие это, оппозиция Сталину так и не материализовалась. «Аппаратчики» были не способны восстать против своего главаря. Страх возвращения Троцкого и его мести был не самым главным из препятствий, которые их удерживали. Неспособными их сделал сам распад сталинской фракции. Сталин правил ими, разделяя их, устраивая соперничавшие между собой закрытые заседания фракции и формируя свою преторианскую гвардию, членам которой была неведома верность прежним товарищам, и которые стремились укрепить его личную диктатуру. Это был «секретный персонал», работавший через своих агентов, используя «секретные пароли и коды», о которых упоминал Троцкий. Существовали «пятерки», «шестерки» и «семерки», которые, как утверждал Хрущев, Сталин создал внутри Политбюро и Центрального комитета, благодаря чему превратил ЦК в абсолютно беспомощный орган. Мастерство, с которым он завоевал власть, не давало осечек. Он мог заметить любое враждебное проявление внутри Центрального комитета еще до того, как оно могло распространиться. Ни одна группа недовольных, даже состоявшая из самых влиятельных сталинцев, не могла выступить с какой-либо критикой и попытаться повлиять на остальных в иерархии, ибо, лишь только она пыталась это сделать, ее тут же «разоблачали» и клеймили за предательство.
И все-таки тайные совещания, «пятерки», «шестерки» и другие сталинские заговорщицкие штучки стоили бы немногого, если б недовольные не были парализованы страхом, который поражал все прежние оппозиции. Они боялись, что любое движение против Сталина может стать сигналом для взрыва народного возмущения и подготовит почву для контрреволюции, которая поглотит вместе со Сталиным всех его большевистских противников. Этот страх не давал покоя и Троцкому. Вскоре после того, как он обратился со своим драматическим призывом и завершил его словами «Уберите Сталина!», им овладели сомнения. В октябре 1932 года он уже пишет сыну:
«Лозунг „Уберите Сталина!“ верен в определенном, отдельном смысле [смысле, который вкладывал Ленин, когда советовал Центральному комитету избрать другого Генерального секретаря]… Если б мы были сильны сейчас… в провозглашении этого лозунга не было бы никакой опасности. Но в настоящее время Милюков, меньшевики и термидорианцы всех сортов… с готовностью откликнутся на призыв „Уберите Сталина!“. Все еще может так случиться, что в пределах нескольких месяцев Сталину, может быть, придется защищаться от давления Термидора, и нам, может быть, придется временно поддерживать его. Мы все еще не прошли этот этап… В таких условиях лозунг „Долой Сталина“ является двусмысленным, и его в данный момент не следует поднимать как боевой клич».
В то же время Троцкий заявлял в «Бюллетене»: «Если в настоящее время расстроить бюрократическое равновесие в СССР [т. е. сталинское правление], это почти наверняка будет на пользу силам контрреволюции».
Для недовольных Сталиным в Москве, не говоря о капитулянтах, этот эвфемизм был равносилен совету умерить свой пыл. Если даже для Троцкого мысль «Долой Сталина» представлялась слишком опасной, то насколько опасней должен был этот клич звучать для них. И что же им оставалось делать? «Вы хотите и дальше идти по сталинскому пути? Но впереди нет никакой дороги, — говорил им Троцкий в марте. — Сталин завел вас в тупик». Теперь они поняли, что нет и пути назад и что все, что они могут, это попытаться выжить в тупике и надеяться, что время и развитие народа выведут их из этого тупика. Они пришли к выводу, что тем временем им придется склонить голову перед неизбежным; и им было суждено смириться на более чем два десятка лет, до смерти Сталина.
Когда-то Зиновьев и Каменев говорили Троцкому, что Сталин отомстит и ему, и его детям и внукам «до третьего и четвертого колена». Ныне воистину библейская месть обрушилась на семью Троцкого. Указ, лишавший его советского гражданства, отобрал это гражданство и у всех его родственников, разделивших с ним изгнание; и этот декрет запрещал им возвращаться в Советский Союз. Это немедленно отразилось на Зине. Она оказалась отрезанной от своего мужа и дочери и без всякой надежды когда-нибудь вновь с ними увидеться.
Она уже провела больше четырех месяцев в германской столице. Незнакомый город и его политическая драма поначалу так поглотили ее, что, к удовлетворению своих докторов, она, похоже, стала приходить в себя. Улучшение было внешним, и докторов, возможно, ввел в заблуждение пациент, который из гордости не желал раскрывать перед ними свой потревоженный разум. Она упорно отказывалась от проведения психоаналитических исследований. «Доктора только запутали меня, — признавалась она впоследствии, — но я запутала их, бедняг, куда сильнее». Ее душевное напряжение не уменьшалось. Обожание отца по-прежнему было в конфликте с ее обидами. В своих мыслях и в переписке она возвращалась к их последнему расставанию: ее обижала его странная холодность, отчужденность и олимпийское превосходство. Она грустно размышляла над его словами: «Ты — удивительный человек, я никогда не встречал таких»; она изнемогала от их непонятной суровости. Она стремилась к теплым отношениям хотя бы в переписке, но он писал ей редко, или, по крайней мере, реже, чем ей хотелось бы; и в своих письмах, хотя и полных заботы о ней, она все еще ощущала его холодность и отдаленность.
Были и разногласия с Лёвой. Она не могла ужиться с ним, хотя в Берлине не было никого ей ближе и хотя даже отец умолял их поддерживать друг друга в их затруднительном положении. Она обвиняла Лёву в отсутствии сочувствия, и один его вид вызывал в ней мучительную ревность. «Каждый раз, когда я вижу его, — писала она вскоре после приезда в Берлин, — я испытываю нервный срыв». Она избегала встреч с ним, а он был слишком занят политической деятельностью и своей Hochschule. Сам род его занятий, тесно связанный с отцом, возбуждал в ней зависть: она противопоставляла этому собственную пассивность и бесполезность и презирала себя за то, что была «Зиной-бездельницей».
Указ, лишивший ее перспектив возвращения в Россию, обострил в ней чувство одиночества и беззащитности. Отец посоветовал ей подать протест в советское посольство в спокойном и сдержанном тоне: может, если они там, в Москве, поймут, что она не занимается политической деятельностью, а только пытается поправить свое здоровье, ее смогут освободить от действия данного указа. Неизвестно, поступила ли она по его совету; но, во всяком случае, своего гражданства не вернула. Тем временем ее доктора пришли к заключению, что для исцеления ей нужно вернуться в семью в Россию и как можно скорей возобновить нормальную жизнь в свойственной ей среде. Это было именно то, чего она не могла сделать. Изгнанница, одинокая в этом гигантском и чужом городе, отстраненная от половины своей семьи и винящая себя за то, что бросила другую… Ее нервные срывы и приступы рассеянности стали все более частыми. У нее не было иного выбора, нежели против своего желания вернуться к психиатрическую лечебницу, из которой она вышла, чтобы увидеть обширное политическое безумие, охватившее нацию, в глубь которой ее забросила судьба.
В своих письмах она описывала страдания и мучения Германии, насыщая свой рассказ острыми политическими наблюдениями и язвительным юмором висельника. Когда она впервые написала отцу, чтобы передать, как переживает оттого, что отрезана от России и родных, она была почти так же подавлена красным плебисцитом и замешательством в рядах рабочего класса и его моральным разложением. Она напряженно следила за кампанией Троцкого в Германии, но удовлетворение, которое та ей приносила, омрачалось сознанием того, что она отлучена от его работы и политических интересов. «Нет смысла в переписке с папой… Фома неверующий, — говорила она в одном из писем. — Он все выше и выше над облаками в области высокой политики…. а я, главным образом, застряла в психиатрическом свинстве». Собственное видение политической неразберихи обострялось еще и конвульсивной проницательностью ее безумных глаз. В ее почте есть фразы настолько богатые и саркастические, как будто сошли с кончика пера ее отца. Как рефрен, в ее письмах возникает облик голодного и пьяного Берлина, полного грохота тяжелых сапог и разбухшего от отчаяния и кровожадности. «Берлин поет… все время, часто голосом хриплым от пьянства и голода… Это веселый, по-настоящему веселый город. И только подумать, что старик Крылов мог опрометчиво заявить, что никто не станет петь на голодный желудок».
Обреченный город околдовал ее; она привязалась к нему, как будто ему принадлежала; она переживала вместе с ним все его страхи и потрясения. В начале июня 1932 года, когда гитлеровские штурмовики, которых не коснулся запрет Брюнинга, воспряли в мятежном триумфе, Лёва посоветовал ей уехать из Берлина в Вену и там в спокойной обстановке продолжать психоаналитическое лечение. Хотя его самого беспокоила полиция, он боялся, что и ее тоже потревожат. Она отклонила этот совет, отвергла страхи и пожаловалась на Принкипо, что Лёва ведет себя с ней как хозяин и грозит ей. Когда отец повторил совет Лёвы, она ответила в странно благочестивом тоне, говоря, что даже не осмеливается протестовать; но потом сослалась на свою любовь к Берлину и отказалась сдвинуться с места. Забота отца и брата даже оскорбляла ее. Разве не ее отец много раз говорил, что судьба Европы, а может быть, и человечества решается в Берлине на десятилетия вперед? Не по этой ли причине ему хотелось, чтобы Лёва был там? Разве не он отказался принять секретарем немецкого троцкиста, заявив, что было бы стыдно, если бы в такое время хоть один из его сторонников покинул политическое поле боя? Почему же тогда ее просят уехать? Она чувствовала себя отвергнутой и униженной.
Поскольку ее мучило одиночество, врачи спросили, нельзя ли привезти к ней хотя бы одного ребенка, оставленного на Принкипо, чтобы занять ее мозг и породить в ней чувство какой-то ответственности. Но на ребенка также действовал указ от 20 февраля: в возрасте шести лет Сева был «не имеющим гражданства политическим эмигрантом», официально таковым зарегистрированным, — проблема для консульских лиц, выдающих разрешения на поездку и визы. Заявления отклонялись под тем предлогом, что он не может путешествовать в одиночку без родителей или дедушки с бабушкой. Ребенок был глубоко расстроен отсутствием матери и ее письмами, в которых она обещала скоро вернуться, — с большим трудом ее убедили не присылать таких посланий. Эти ожидания воссоединения и тревога от неизвестности подтачивали нервную систему ребенка — и нервы всей семьи.
В своем бедственном положении Зина все меньше и меньше присматривала за собой, даже не могла разумно распорядиться своим денежным содержанием и расходами. Она обвиняла себя в том, что является обузой для отца, и переехала в низкосортный пансион, где жила среди бродяг и хулиганов. Ей даже часто приходилось разнимать их, когда дело доходило до драки. Любая попытка брата и даже отца вытащить ее из этих условий и уладить денежные дела вызывала в ней раздражение и провоцировала нервные приступы. После одного такого срыва она послала отцу сердитую почтовую открытку, ругая его за нападки и прося оставить ее в покое.
Страдания Зины и напряжение, которым они ложились на Троцкого, в какой-то степени затрудняли его отношения с Лёвой, от которого он ожидал проявления большей терпимости и любви к ней. И все же его надежда на Лёву и зависимость от него становились все сильнее и уязвимее. Он осыпал похвалами то, как Лёва вел дела «Бюллетеня» и политическую работу, и продолжал доверять ему свои мысли, советуясь с ним и приглашая к критике. Его трогало самопожертвование Лёвы, его преданность, которым у Троцкого были тысячи доказательств. (Вновь и вновь он упрекал Лёву за то, что тот был чересчур скрупулезен в денежных вопросах и тратил на «Бюллетень» собственные деньги.) И вновь он подозревал, что согласие между ними во взглядах и идеях произрастает только из сыновней верности, которая его так радовала и так раздражала. Чем больше он уставал и напрягался, тем более придирчив, даже непредсказуем становился в своих требованиях к сыну. Одиночество и изоляция Троцкого, как говорила Наталья, проявлялись в нетерпении, с которым он ожидал писем от Лёвы. Когда писем из Берлина не было в течение нескольких дней, он взрывался в гневе, обвинял Лёву в безразличии и даже оскорблял его; потом сердился сам на себя, полный жалости к сыну, и даже еще больше капризничал.
Груз личных проблем Лёвы был достаточно тяжел. Из Москвы жена писала ему душераздирающие письма об их сломанной жизни и несчастье их ребенка. Он уезжал за границу, невзирая на ее возражения и слезы, напоминала она ему, чтобы быть со своими родителями и защищать отца; и вот теперь он ни с родителями, ни с женой и ребенком. Было бесполезно ей объяснять, что ожидало бы его в России, — она была простой работницей, больной, бедствующей и отчаявшейся; и она грозила покончить с собой. Он ничем не мог облегчить ее участь, кроме как присылать деньги. Да и его связь с Жанной Молинье оказалась немногим счастливее. Лишь преданность делу отца помогала ему отстраниться от личных тревог и разочарований. Он твердо выполнял тысячи и одну инструкцию с Принкипо, держал связь со всеми разбросанными троцкистскими группами; надоедал русским издателям, обеспечивая своевременный выход «Бюллетеня»; присматривал за тем, чтобы важные отцовские брошюры правильно переводились на немецкий и публиковались; торговался с литературными агентами и часами бродил пешком, часто голодный, по улицам Берлина в надежде встретить какого-нибудь соотечественника в заграничной командировке или западного туриста на пути в Россию, через которых можно было бы получить кусочек информации и передать послание. Сверх этого он педантично посещал свои курсы математики и физики, а в короткие ночные часы посредством писем беседовал со своими родителями. Ничто не приводило его в большее отчаяние, чем отцовские насмешки и всякие намеки на то, что его усилия не оправдывают ожиданий. Ему было трудно рассеять родительское недовольство, оправдаться, попросить объяснений или извиниться; только с матерью он делился горестями и жаловался ей.
Наталья, болезненная и страдающая женщина, оказавшаяся в опасном клубке переживаний Зины и разрывавшаяся между мужем и сыном, делала все, что могла. У нее хватало проницательности, чтобы четко себе представлять их затруднения, достаточно любви к ним и достаточно силы духа, чтобы поддержать каждого. В своих письмах она объясняла Лёве проблемы Зины и вновь и вновь передавала и Лёве и Зине невыносимое напряжение, в котором жил их отец, все время держа героическую оборону в борьбе с враждебным миром, — так чему же удивляться, что время от времени в семейном кругу выдержка его подводила? «С отцом проблемы бывают, как вы знаете, не по большим вопросам, а по мелким проблемам». В больших проблемах его терпение было бесконечным; а вот по тривиальному поводу он легко раздражался и даже обижался. Но из-за этого, умоляла она детей, они никогда не должны сомневаться в его глубокой и страстной любви к ним. «Твоя боль — это боль всех нас троих», — писала она Лёве, умоляя его чаще писать отцу, и писать «вдохновляющие» письма, а также оказывать Зине больше тепла и внимания. Все же временами удары были слишком тяжелы даже для неусыпной стойкости Натальи. «Чему быть, того не миновать» — эти слова покорности нередко встречались в ее письмах Лёве; а однажды она ему призналась: «Я пишу так же, как и ты, — со скрытыми чувствами и закрытыми глазами».
Был конец лета 1932 года. Прошло уже три с половиной года, как Троцкий приехал на Принкипо. Все это время он упорно трудился, преследуя разные интересы, не оставляя без внимания ни одного из своих корреспондентов, заполняя страницы «Бюллетеня» и занимаясь, помимо десятка небольших книг и брошюр, работой над «Моей жизнью» и тремя большими томами «Истории…». (Последнее приложение к третьему тому он отправил Александре Рамм 29 июня.) Это были годы поистине чудовищного труда, тем более что, презирая поверхностное сочинительство, он неоднократно переписывал все части каждой из своих книг, терпеливо корпя над каждой страницей и почти каждой фразой.
Этот великий труд утомлял его. Голова его была полна новых литературных планов: он намеревался написать историю Гражданской войны, жизнеописание Ленина, совместную биографию Маркса и Энгельса, а также другие книги. Но обстоятельства не благоприятствовали тому, чтобы он занялся главной работой; и он нуждался в отдыхе. Более, чем когда-либо, его раздражало это заточение на Принкипо;[50] а политические события не давали покоя.
Скупых новостей, приходивших из России, было достаточно, чтобы привести его в ярость. В Германии социалисты и коммунисты двигались по своим разбитым колеям к самому краю пропасти. Его политическая кампания не давала результатов. Сила троцкистской группы была смехотворно мала. В международной организации оппозиции назревали проблемы: в берлинском секретариате братья Соболевичус, лишь недавно поддерживавшие его в споре с ультралевым Ленинбундом, теперь заняли тревожно примирительную позицию по отношению к сталинизму. О, если б он только мог вырваться со своего заколдованного и отвратительного острова и оказаться поближе к основным течениям политической жизни и — к цивилизации!
Ранней осенью датские студенты-социал-демократы пригласили его в Копенгаген для чтения лекций к пятнадцатой годовщине Октябрьской революции. До этого ему было прислано совсем немного подобных приглашений; но не было никакого шанса на то, что ему позволят появиться где-нибудь в Европе.[51]
Он сомневался в том, даст ли ему визу социал-демократическое правительство Дании, но на этот раз приглашение принял. Получив визу, он был моментально готов к поездке. В глубине души Троцкий таил надежду, что, может быть, ему не понадобится возвращаться, хотя он проявил достаточно осторожности, заполучив турецкую въездную визу. Они вместе с Натальей надеялись также, что смогут захватить с собой Севу в Копенгаген, а оттуда переправить его к Зине. Но им не удалось получить разрешение на поездку для ребенка, и поэтому пришлось оставить Принкипо на попечении одного из секретарей.
14 ноября в сопровождении Натальи и трех секретарей Троцкий отплыл из Константинополя. Он зарегистрировался как г-н Седов, пассажир без гражданства; но инкогнито не могло уберечь его от человеческого любопытства — оно только сгустило ауру загадочности и скандала, которая его окружала. «Правда», перефразируя Бернарда Шоу, глумилась над «сбежавшим львом», и эта насмешка непреднамеренно создавала некоторую нервозность, с которой правительства, полицейские управления и пресса многих стран наблюдали за его передвижением. Если бы он пересекал Европу как глава реального и мощного заговора и если б его приветствовали толпы сторонников, его путешествие и то не вызвало бы такого смятения, какое происходило, когда он путешествовал как изгнанник, лишенный защиты всякого правительства и сопровождаемый лишь стареющей больной женщиной да несколькими молодыми приверженцами, когда его единственной целью было чтение лекций. Впереди него неслись дикие слухи. Газеты делали различные предположения об истинной цели поездки; они не сомневались, что чтение лекций — лишь предлог; некоторые утверждали, что где-то в Европе он должен встретиться с секретным представителем Сталина; другие считали, что он намерен организовать свой последний заговор против Сталина. В греческих и итальянских портах его осаждали репортеры, но он отказался разговаривать с ними. Троцкому не было разрешено посещение Афин. В Неаполе он сошел с корабля и под полицейским эскортом посетил руины Помпеи. Французы запретили ему сходить на берег в Марселе; в открытом море полиция приказала ему перейти на маленькую моторную лодку, которая доставила его на заброшенную пристань за пределами Марселя, где он и высадился. Троцкого спешно провезли на машине и поезде через Францию, остановившись лишь на час в Париже, так что преследовавшие его всю дорогу от Марселя репортеры смогли сесть ему на хвост лишь в Дюнкерке, где он поднялся на борт корабля, отправлявшегося в Данию. На пути через Францию его сопровождали проклятия правых газет, чьи ведущие авторы были вне себя при мысли о том, что «брест-литовскому предателю», человеку, «укравшему сбережения вдов и сирот французских рантье», разрешено ступить на французскую землю. Он пробовал снизить накал страстей и уверял репортеров, что находится в «сугубо частной поездке, лишенной какого бы то ни было политического значения».
23 ноября он прибыл в Данию и получил приказ сойти на берег в Эсбьерге, чтобы «попасть в Копенгаген через черный ход», как выразилась «Politiken». Собралась толпа коммунистов, чтобы освистать его; но, как писала та же газета, «в тот момент, когда показался Троцкий, воцарилась глубокая тишина — ощущение исторической личности и, возможно, исторического момента». Репортеры отмечали «абсолютное спокойствие» Троцкого и нервозность его секретарей и организаторов этого визита. Лишь только он въехал в Копенгаген, как принц Ааге — член королевской семьи, которому вторила часть прессы, осудил «убийцу царской семьи»; датский двор не забыл, что мать последнего царя была датской принцессой. В то же самое время советский посол выразил озабоченность своего правительства в связи с этим визитом. Социал-демократы оказали Троцкому теплый прием, но это тепло было недолгим. Поскольку и королевская семья, и советское посольство продолжали разжигать недовольство, смущенные министры-социалисты стали выражать нетерпение в ожидании его скорейшего отъезда.
Троцкий изо всех сил старался держаться подальше от публики. Он находился в каком-то странном окружении на вилле, которую Раймонд Молинье арендовал у знаменитой танцовщицы, отправившейся на гастроли, — комнаты были забиты разными безделушками, а стены покрыты привлекательными изображениями отсутствующей хозяйки. Потом газеты раскрыли место нахождения Троцкого, опубликовав фотографию этой виллы; и тогда он со своими компаньонами поспешно переехал в пансионат в каком-то пригороде. Бывали всякие мелкие инциденты. Загадочно исчезла автомашина Молинье, которой пользовался Троцкий. Через несколько часов полиция возвратила машину без каких-либо объяснений и сняла отпечатки пальцев ее владельца. Ходили слухи, что враги Троцкого готовят срыв его лекций. Он постоянно находился под охраной как полиции, так и своих сторонников; только раз или два совершал короткие поездки по городу.
Чтение лекций прошло без обструкций или беспорядков. В течение двух часов, говоря на немецком, он выступал перед аудиторией из 2000 человек. Темой его выступления была русская революция. Так как власти разрешили эту лекцию при условии, что он избежит полемики, он придерживался несколько профессорского тона, кратко пересказав своим слушателям содержание трех томов своей только что законченной «Истории…». Сдержанность не скрыла глубины и силы его убеждений; эта речь в поддержку Октябрьской революции стала еще эффективней, потому что была свободна от апологетики и искренне признавала частичные ошибки и неудачи. Почти через четверть века бывшие его слушатели все еще вспоминали эту лекцию, давая ей яркую оценку как образцу ораторского мастерства. Кстати, это было в последний раз, когда Троцкий лично выступал перед большой аудиторией.
Из других его действий в Копенгагене можно упомянуть интервью и выступление на английском по радио на Соединенные Штаты. «Мой английский язык, мой плохой английский, — говорил он в своем радиовыступлении, — ни в коей мере не соответствует моему восхищению англосаксонской культурой». Тем, кто останавливался на реакционных событиях в Советском Союзе (и в его собственной судьбе), отрицая смысл существования Октябрьской революции, он заявлял, что «перспектива нуждается в критике как созидательном элементе». Пятнадцать лет после Октября — это лишь «минута на часах истории». Американская гражданская война тоже возмущала современников. И все же «из гражданской войны вышли Соединенные Штаты с их безграничной деловой инициативой, их рациональной технологией, их экономическим порывом. Эти достижения… создадут часть фундамента для нового общества». Он говорил американским журналистам, что, хотя и депрессия 1929 года нанесла такой тяжелый удар по их стране, положение Соединенных Штатов по отношению к остальному капиталистическому миру укрепилось. Он заявил французским репортерам, что никогда не откажет Сталину в поддержке, если этого потребует защита Советского Союза: «La politique ne connaît ni ressentiment personnel ni l'èsprit de vengeance. La politique ne connaît que l'éfficacité».[52]
Четыре года спустя во время великой репрессии и процесса над Зиновьевым, Каменевым и другими обвинению пришлось строить решающую часть судебного дела против Троцкого и подсудимых на том, что из Копенгагена в эту последнюю неделю ноября 1932 года он дергал ниточки гигантского заговора и приказывал своим сторонникам убить Сталина, Ворошилова и других членов Политбюро, саботировать промышленность, травить массы русских рабочих и подрывать экономическую и военную мощь страны для того, чтобы реставрировать капитализм. Как утверждал генеральный прокурор Вышинский, именно в Копенгагене в присутствии своего сына Троцкий принимал Гольцмана, Фрица Давида и Бермана Юрина — тех троих, которые сидели позади Зиновьева и Каменева на скамье подсудимых и через которых он передавал свои распоряжения. Нет нужды в том, чтобы опровергать в деталях эти обвинения и «признания» подсудимых, которыми они поддерживались. Наследники Сталина, двадцать лет отстаивавшие эти обвинения, уже этого не делают; на XX и XXII съездах Коммунистической партии Советского Союза Хрущев, которого все еще мучил призрак Троцкого, описывал, как стряпались такие обвинения и как добывались такие «признания». Много раньше, еще во время этих процессов, Троцкий вышиб опору под аргументами обвинения, разоблачив его абсурдность и противоречивость. Например, отель «Bristol», который Вышинский по неосторожности назвал штаб-квартирой Троцкого в Копенгагене, в 1932 году не существовал, а был снесен за много лет до того. Лёва, которого Вышинский описал как действовавшего в Копенгагене начальника штаба лидера террористов, не приезжал к своему отцу в датскую столицу. Троцкий мог восстановить каждый эпизод своего путешествия в Данию по своим педантично систематическим записям, а также мог призвать засвидетельствовать в свою пользу многочисленных очевидцев.
Его окружение в Копенгагене было шире, чем обычно. Помимо трех секретарей, приехало еще двадцать пять его сторонников — немцев, французов, итальянцев, и среди них Молинье, Навиль, Снивлье и Розенталь, французский адвокат Троцкого. Из Гамбурга для встречи с ним и его охраны приехала группа студентов. Еще одним гостем был Оскар Кон — знаменитый германский адвокат, сподвижник Карла Либкнехта, исполнявший функции адвоката Троцкого в Германии. Присутствие столь многих сторонников дало Троцкому возможность устроить неофициальную «международную конференцию», на которой обсуждалась ситуация в Германии и дела различных троцкистских группировок. Ничто не могло быть менее похоже на сборище заговорщиков, чем это маленькое собрание возбужденных и весьма словоохотливых фанатиков какой-то бесплодной секты. «Все бесконечно говорили, — вспоминал единственный участник от Британии, — за исключением Троцкого, который упорно трудился почти все это время, либо записывая, либо что-то диктуя».[53]
Пять лет спустя каждый из присутствовавших, если только не оказался в нацистском концлагере, должен был свидетельствовать, что там не было никого из тех, кто, согласно Вышинскому, получал от Троцкого приказы в Копенгагене, и никто не мог проникнуть незамеченным сквозь многочисленную охрану. Единственным человеком с русскими связями, которого принимал Троцкий, был Сенин-Соболевичус. Он приехал, чтобы очистить себя от подозрений, что является агентом Сталина, и провел час или два с Троцким, который отнесся к нему как к политическому оппоненту: в своей переписке Соболевичус открыто и отчасти правильно критиковал Троцкого за недооценку перспективных достижений Сталина в индустрии и коллективизации. Насколько можно судить по последующим письмам, их встреча в Копенгагене завершилась улаживанием разногласий. В любом случае, Соболевичус не появится в качестве свидетеля ни на одном из московских процессов. Вероятно, он также не внес и какого-либо собственного вклада в эти процессы, потому что, если бы он это сделал, он бы снабдил обвинение куда более точным описанием окружения Троцкого в Копенгагене, чем то, которое представил Вышинский.
Так что пребывание Троцкого в Дании прошло без особых событий. После публичной лекции он лишь однажды встретился с небольшой группой датских студентов, пригласивших его к себе. Его хозяин записал такой необычный случай:
«Троцкий и еще пять-шесть человек были у меня дома, когда мне позвонил один друг и рассказал, что только что вышла какая-то газета с телеграммой из Москвы, в которой сообщалось, что умер Зиновьев. Троцкий встал, глубоко потрясенный… „Я боролся против Зиновьева… — произнес он. — В некоторых вопросах я был с ним един. Я знаю его ошибки, но в этот момент не буду думать о них. Я буду думать только о том, что он всегда старался трудиться на благо рабочего движения…“ Троцкий продолжал в ярких фразах отдавать почести памяти своего умершего противника и товарища по борьбе… было очень трогательно слушать его торжественную речь в этой маленькой группе».
Ни один посторонний, даже друзья и секретари Троцкого не знали о разочаровании и боли, которую он пережил в Копенгагене. С его стороны было довольно опрометчиво пересекать всю Европу со всеми необходимыми предосторожностями и среди всего этого враждебного рева, и лишь ради того, чтобы прочесть лекцию в Дании, а потом быть вынужденным вернуться на Принкипо. Он предпринимал достойные сочувствия усилия, чтобы отложить возвращение, если уж нельзя было избежать его вообще. Американским журналистам он с тоской заметил, как хотел бы получить на время возможность «обозревать мировую панораму из Нью-Йорка», что было бы похоже взгляду на горизонт «с верхушки небоскреба». «Разве это утопия, я вас спрашиваю, думать, что я мог бы поработать два-три месяца в одной из огромных американских библиотек? Я надеюсь, хороший пример, данный датским правительством, не будет истрачен впустую на другие страны». Однако этот пример оказался далеко не поучительным: датское правительство отказало ему в каком-либо кратковременном убежище. Тщетно Оскар Кон обращался к Стаунингу — премьер-министру от социалистов и личному другу Кона; напрасно сам Троцкий просил у Стаунинга продления визы на две недели только для того, чтобы он с женой мог пройти курс лечения в Копенгагене. Также безуспешно он обращался за шведской визой. В ней ему было отказано под предлогом возражений со стороны советского посла, а им была не кто иная, как Александра Коллонтай, бывший лидер «рабочей оппозиции».
Еще более гнетущей, чем непробиваемая стена враждебности, в которую он вновь врезался, была тревога за Зину, чье здоровье все ухудшалось. Возможно, во время датской поездки Троцкий получил это зловещее письмо, которое звучало как обвинение. «Ты действуешь, — писала она ему, — слишком нетерпеливо, а поэтому иногда импульсивно. Понимаешь ли ты смысл чего-то такого же сложного и такого же элементарного, как инстинкт — вещи, с которой шутить нельзя?.. Кто сказал, что инстинкты слепы?.. Это неправда. У инстинкта ужасно острые глаза, которые видят в темноте… и преодолевают время и пространство — не зря инстинкт является памятью поколений и начинается там, где начинается сама жизнь. Он может руководствоваться всевозможными целями. Что еще более пугает, это то, что он безошибочно и беспощадно поражает тех, кто оказываются у него на пути». Зина писала о «предчувствиях», «подозрительных грезах» и «ужасно обостренной чувствительности», которые составляют инстинкт, и далее продолжала: «Тебя не испугает, если я скажу, что был момент, когда я почувствовала, что нечто подобное коснулось и меня; но с диким бешенством я ринулась в борьбу. И никто не поддержал меня. Доктора только запутывали меня… ты знаешь, что меня поддерживало? Вера в тебя. Несмотря на все, это было так просто и очевидно, несмотря на все… И разве это не инстинкт?»
Лёве надо было приехать в Копенгаген, чтобы помимо прочего поговорить с родителями о Зине, но недействующий паспорт и трудности с визой задерживали его в Берлине. Тем временем он посылал тревожные письма о поведении Зины: ее разум все больше расстраивался; если прислать к ней Севу, она не сможет за ним присматривать; и она все меньше и меньше способна присматривать за самой собой. Ему не нравилась странная линия ее поведения: она явно вошла в контакт с Германской компартией; и он опасался, что она подставит себя под полицейские преследования. «Разве ты не видишь, разве ты не видишь, — говорила она ему в дни после отставки Папена, — что Германия сейчас идет прямо к [коммунистической] революции?» Он советовал родителям сделать все возможное, чтобы отправить ее в Австрию. День за днем, а иногда дважды в день либо Троцкий, либо Наталья, встревоженные, беседовали с Лёвой по телефону, спрашивая у него последние новости, пытаясь узнать, считают ли и доктора, что Зине небезопасно поручать заботу о ее ребенке, и умоляя Лёву приехать в Копенгаген.
Так прошло восемь дней; дней, о которых миру говорилось, что Троцкий их использовал для организации своего чудовищного заговора против советского правительства. Он провел эти дни, «строя заговор» против тирании, в которой обычный паспорт и визовые ограничения сочетались с отсутствием гражданства и бездомностью. Он использовал любую возможность и всякие случайные обстоятельства, любую невинную уловку и публичную шутку, чтобы отвоевать еще несколько недель и даже дней пребывания в Дании или где угодно в Европе. В это время Наталья обратилась к французскому премьер-министру Эдуарду Эррио, умоляя его разрешить Лёве встретиться с ней во Франции, когда они с Троцким будут возвращаться в Турцию. Поскольку восемь дней, на которые Троцкому была выдана виза, закончились, он заявил, что опоздал на свой пароход и еще не готов к отъезду. Возможно, он думал, что, пока он будет дожидаться следующего парохода, подъедет Лёва? Может, они вместе решат, отправлять ли и как отправлять ребенка к Зине? Кто знает, возможно, какое-нибудь правительство смягчится и где-нибудь на этом недоброжелательном континенте он получит визу? Но датские власти настаивали на том, что его время закончилось и что он должен уезжать. Его спешно вывезли из страны на машине, чтобы он успел сесть на корабль до истечения визы. Таким образом, 2 декабря Троцкий, Наталья и секретари покинули Данию. На этот раз на пристани никто их не освистывал, и никто не пришел попрощаться.
Когда корабль зашел в Антверпен, порт был черен от полицейских мундиров и оцеплен. На борт для допроса Троцкого поднялись пограничники; он отказался отвечать на вопросы, заявив, что допрос незаконен, так как он не сходит на берег в Бельгии. Вспыхнула ссора, послышались угрозы ареста. Никому из его спутников не было дозволено сойти на берег.
В этот момент его осенили воспоминания десятилетней давности. В 1922 году, когда в Москве судили Дору Каплан за покушение на жизнь Ленина, Эмиль Вандервельде, известный бельгийский социалист и председатель 2-го Интернационала, обратился за разрешением выступить адвокатом защиты. Его просьба была удовлетворена; а Вандервельде воспользовался этой возможностью в советском суде для атаки советской системы правления. То же самое он сделал в «Открытом письме» Троцкому. Оставив это письмо без ответа в 1922 году, Троцкий решил ответить сейчас, пока его корабль находился в бельгийских водах. А Вандервельде тогда был королевским премьер-министром и даже в оппозиции занимал самое высокое место в бельгийской политике.
«Правительство, членом которого я был [писал ему Троцкий], позволило вам не только приехать в Советский Союз, но даже выступать адвокатом тех, кто пытался убить руководителя первого государства рабочих. В вашем прошении от имени защиты, которое мы опубликовали в нашей печати, вы неоднократно ссылались на принципы демократии. Таково было ваше право. 4 декабря 1932 г. я с моими спутниками остановился по пути в порту Антверпена. Я не имею намерений проповедовать здесь диктатуру пролетариата или выступать в качестве советника защиты кого-либо из бельгийских коммунистов или забастовщиков, которые, насколько мне известно, не совершали никаких покушений на жизни министров. [И тем не менее] часть порта, где встал наш корабль, тщательно оцеплена. По обе стороны дежурят полицейские катера. Со своей палубы мы имеем возможность обозревать парад полицейских агентов демократии… Это впечатляющее зрелище! Здесь больше полицейских и шпиков — извините меня за употребление таких вульгарных терминов краткости ради, — чем матросов и грузчиков. Наш корабль похож на временную тюрьму, а прилегающая территория порта — тюремный двор».
Он, конечно, знал, что этот прием и придирки, которыми он сопровождался, «являлись пустяками по сравнению с преследованиями, которым подвергались боевые рабочие и коммунисты вообще»; он упоминал эти факты лишь для того, чтобы дать Вандервельде весьма запоздалый ответ на его филиппику 1922 года о большевизме и демократии:
«Уверен, что не ошибаюсь, причисляя Бельгию к демократическим странам. Война [1914–1918 годов], в которой вы сражались, была войной за демократию, не так ли? С той войны вы находитесь во главе Бельгии как ее премьер-министр. Что еще нужно, чтобы довести демократию до расцвета?.. Почему же тогда ваша демократия так сильно попахивает старым прусским полицейским государством? Как можно предполагать, что какая-то демократия, испытывающая нервный шок, когда некий большевик случайно приблизился к ее границам, будет когда-нибудь способна избавиться от классовой борьбы и гарантировать мирный переход капитализма в социализм?»
О да, он, Троцкий, все знал о ГПУ и политических преследованиях в Советском Союзе. Но советское правительство, по крайней мере, не хвасталось своими демократическими добродетелями, оно открыто отождествляло себя с диктатурой пролетариата; и единственный тест, по которому его можно было оценить, — обеспечивало ли оно переход от капитализма к социализму.
«Диктатура имеет свои собственные методы и свою логику, которые весьма суровы. Нередко… революционеры, установившие диктатуру, сами становятся жертвами этой логики… Однако перед классовыми врагами я беру на себя полную ответственность не только за Октябрьскую Революцию… но и даже за такую Советскую Республику, какой она есть сегодня, включая то правительство, которое выслало меня и лишило советского гражданства. [Но] вы — вы защищаете капитализм якобы во имя демократии. Где же тогда эта демократия? В любом случае, ее не найти в гавани Антверпена».
Несмотря на это, он покидал воды Антверпена «без малейшего пессимизма». Перед глазами стояла картина «крепких, суровых фламандских докеров, покрытых густым слоем угольной пыли», которые, отделенные от его корабля полицейским кордоном, «смотрели на эту сцену в молчании, зная себе цену», признав в нем «своего», иронически подмигивая полицейским, обмениваясь дружескими улыбками с опасным пассажиром на палубе и «касаясь заскорузлыми пальцами своих кепи в приветствии». «Когда пароход отплывал по Шельде в туман, мимо портовых кранов, застывших в бездействии из-за экономического кризиса, с причалов звучали прощальные крики неизвестных, но верных друзей. Проходя по курсу между Антверпеном и Флюссингеном, я посылаю братский привет рабочим Бельгии».
6 декабря Троцкий и Наталья сошли с поезда в Париже на Северном вокзале, где их опять окружил плотный полицейский кордон и отделил от толпы пассажиров. Здесь их ожидал Лёва: Эррио удовлетворил просьбу Натальи. На границе Троцкому говорили, что в Марселе ему придется девять дней ждать судна до Константинополя. Он был рад этой задержке. Молинье снял для него жилище возле Марселя; и Троцкий попросил своих друзей приехать сюда и провести с ним несколько дней. Но едва он успел приехать в Марсель, как полиция заявила, что он не сможет оставаться здесь ни единого дня и должен немедленно сесть на итальянское грузовое судно, которое, как выяснилось, покидало порт в ту же ночь. Он поднялся на борт, протестуя; но, обнаружив, что на корабле нет никаких условий для перевозки пассажиров, а плыть придется пятнадцать дней, и опасаясь, что его хотят заманить в ловушку, вернулся на берег. Была полночь. Полицейские пытались заставить его вернуться на корабль, но не добились успеха. Ругаясь с жандармами, вся группа устроилась лагерем в порту, где оставалась всю мрачную холодную ночь вплоть до предрассветных часов. Из порта Троцкий отправил телеграмму протеста Эррио, министру внутренних дел, Блюму и Торезу; он также послал в Италию запрос по поводу итальянской транзитной визы. Перед рассветом полицейские доставили его с Натальей в отель, предупредив о неминуемой депортации.
Наступил день, шли часы, но ни от Эррио, ни от кого-либо еще в Париже так и не было ответа. Как ни странно, немедленно ответил министр иностранных дел в правительстве Муссолини и выдал транзитную визу. И полиция спешно посадила Троцкого и Наталью на первый поезд, отходивший в Италию. Они обнялись с Лёвой через кордон полицейских. Им удалось провести вместе только один день, настолько заполненный волнениями, что у них не было шанса, как рассказывала Наталья, просто разглядеть друг друга, не говоря уже о том, чтобы избавиться от проблем, довлевших над ними, — мелкие придирки да недоразумения, порожденные этими обстоятельствами, отняли это время.
В поезде Троцкий и Наталья стали размышлять над абсурдностью всего происходящего. Они испытывали душевную боль и усталость, как будто на них обрушились сразу все тяготы их жизни, тупоголовость правительств и жандармов, неудачи Зины и неопределенность в отношении ее ребенка. Уже на территории Италии Наталья писала Лёве: «…мы долго, долго сидели с папой в темном купе и плакали…»
На следующее утро они проснулись в Венеции, которой никогда до этого не видели, и сквозь слезы их глаза широко распахнулись перед блеском и славой Сан Марко.
12 декабря они сошли на берег Принкипо. «Сбежавший лев» вновь оказался в своей «клетке»; но на этот раз он, казалось, примирился со своим возвращением. Может быть, его нервы чуть успокоились при виде красоты острова, вежливости турецких чиновников, проявленной к нему на границе, и искренних лиц рыбаков Буйюк-Ада, излучавших дружеское гостеприимство. Его звали к работе книжные полки и столы, заваленные письмами и газетами. «Хорошо работать в Принкипо с пером в руке, — отметил он позднее в своем дневнике, — особенно осенью и зимой, когда остров пуст, а в парке появляются вальдшнепы». За окнами море с косяками рыбы, подплывающей прямо к берегу, было похоже на гладкое, спокойное озеро. После всех волнений и шумихи последних недель безмолвие острова, которое никогда не тревожит гудок авто или телефонный звонок, предлагало временное облегчение и располагало к размышлению.
Последние недели года прошли спокойно. Единственным диссонирующим моментом стал окончательный разрыв с Сениным-Соболевичусом, который в Берлине отмежевался от лица Международного секретариата оппозиции от одной из острых атак Троцкого на Сталина.[54]
Этот инцидент удивил Троцкого. Хотя за несколько месяцев до этого он и писал Соболевичусу, что «партия оказывает на вас сильное давление», но предполагал, что в Копенгагене они смогут прийти к соглашению. «Вы говорили мне, — писал он Сенину 18 декабря, — что поездка в Советский Союз окончательно убедила вас, что оппозиция была права». Даже теперь Троцкий не подозревал нечестной игры, но думал, что Сенин уступает «партийному давлению» и что это может привести его к капитуляции. «Капитуляция, — предупреждал он Сенина, — это политическая смерть»; и он советовал ему взять время и подумать. Он, очевидно, сожалел о том, что теряет интеллигентного и полезного сторонника; но разрыв произошел, и скоро Сенин исчез с горизонта Троцкого.
В эти недели отдыха Троцкий обрел в рыбной ловле старое «средство для того, чтоб прогнать грусть и успокоить тревожные мысли». На страницах дневника, заполненных перед самым отъездом с Принкипо, он описывает это в манере Уолтона[55] и делает любовные характерные зарисовки товарищей-рыбаков, особенно молодого, почти безграмотного грека Хараламбоса, с которым часто выходил навстречу опасности. Молодой грек был рыбаком до мозга костей; все его предки, насколько позволяла проследить память, были рыбаками. «Его личный мир простирается примерно на четыре километра вокруг Принкипо, но он знает этот мир» и находит его достаточно волшебным, чтобы заполнить им свою жизнь (как у Уолтона: «нечто вроде поэзии; и нечто вроде математики, которую невозможно выучить до конца»), «Он мог, как артист, читать прекрасную книгу Мраморного моря» и отвлекал к ней от далеких блужданий мозг старого революционера. Они объяснялись друг с другом только жестами, гримасами и немногими турецкими, греческими и русскими односложными словами. Этого было для Хараламбоса достаточно, чтобы передать, что происходило в морской глубине, определить по горизонту, небесам, погоде и ветрам, как надо забрасывать сети — прямо, по спирали или полукругом, — какие грузила надо сбрасывать из лодки, чтобы поймать лобстеров в ловушки, и как надо охранять улов от скрывающихся вокруг дельфинов. Автор «Перманентной революции» охотно и смиренно учился этому «сложному и первобытному искусству, которое не изменилось за тысячи лет». Он замечал «уничтожающий взгляд» Хараламбоса, когда неправильно бросал грузило. «Из любезности и чувства социальной дисциплины он признавал, что в целом я неплохо забрасываю грузила. Но стоило мне сравнить свою работу с его, и гордость тут же покидала меня. Вообще-то, было бы неплохо вернуться к Хараламбосу, почитать с ним книгу Мраморного моря и также написать свою собственную».
Этот идиллический перерыв оборвался резко и мрачно. 5 января 1933 года Лёва телеграммой сообщил родителям, что Зина покончила жизнь самоубийством. Она покончила с собой через неделю после того, как ей, наконец, привезли ребенка. Кажется, присутствие ребенка вовсе не успокоило ее нервы, а вконец расшатало их. Среди оставленных ею бумаг была и эта записка на немецком: «Я чувствую приближение моей ужасной болезни. В этих условиях я не верю самой себе, даже когда ухаживаю за своим ребенком. Ни при каких обстоятельствах ему не следовало приезжать сюда. Он очень обидчивый и нервный. И еще он боится фрау В. [домохозяйку]. Он с фрау К. [вот ее адрес]. Он ни слова не знает по-немецки. Позвоните моему брату». Ее припадки умопомешательства случались все чаще и все с большей силой; она чувствовала себя ненужной даже своему ребенку; у нее уже не было сил продолжать борьбу; и в довершение ко всему полиция только что объявила, что она должна покинуть Германию. Это были последние дни правительства генерала Шляйхера — перед концом месяца Гитлер будет провозглашен канцлером. Громче, чем когда-либо до сих пор, по Берлину грохотали сапоги и раздавалось хриплое и пьяное пение; а одна песня, грубая и жестокая — «Die Strassen frei für die braunen Batallionen»,[56] — забивала все остальные. «Страшный танк» нацизма набирал ход, чтобы сокрушить германского рабочего. Отовсюду гремел «Хорст Вессель», страна ее была для нее закрыта, а сама она была оторвана от семьи, ее изгоняли из Германии, а сил, чтобы искать другое убежище, у нее уже не было — все это привело к тому, что Зина заперлась и забаррикадировалась в своей комнате и открыла газ. Заграждение было столь внушительным, что все попытки спасти ее оказались тщетными — доктор был удивлен, поняв, какую «редкую энергию» она проявила в самом акте смерти. И в последние минуты сознание освобождения породило слабую улыбку на ее лице — выражение облегчения и спокойствия. Ей было тридцать лет.
Сообщение Левы о самоубийстве было лаконичным, но, как говорил Троцкий, «в каждой строчке ощущалось невыносимое душевное напряжение, потому что он оказался один на один с телом своей старшей сестры». Как рассказать ребенку о том, что произошло? И как сообщить эту новость матери Зины, Александре Соколовской, живущей в Ленинграде? Лёва попытался дозвониться до своего брата в Москве. «То ли потому, что ГПУ было сбито с толку… или потому, что они надеялись подслушать какой-нибудь секрет — но против всех ожиданий Лёву соединили по телефону, и… он передал эту трагическую новость… Таков был последний разговор наших двух сыновей, обреченных братьев над еще неостывшим трупом их сестры».
Через шесть дней после самоубийства Зины Троцкий написал «Открытое письмо» партийному руководству в Москве. Он описал, как указ от 20 февраля сломал дух Зины: она «не по собственному желанию выбрала смерть — ее довел до этого Сталин». «Не было даже тени политического смысла в преследовании моей дочери — это была всего лишь бесполезная неприкрытая месть». Он завершил письмо на ноте, в которой горе сдерживает гнев: «Я ограничиваюсь этим письмом, не думая о дальнейших заключениях. Время для таких заключений еще придет — их сделает возрожденная партия».
Из Ленинграда от матери Зины донесся стон боли, обвинения и отчаяния. Теперь она потеряла обоих своих детей, которые оба родились во время первой отцовской ссылки и оба были сражены во время его последнего изгнания. «Я сама сойду с ума, если ничего не узнаю», — писала она Троцкому 31 января, расспрашивая у него обо всех обстоятельствах. Она цитировала то, что Зина написала ей всего лишь несколько недель назад: «Печально, что я уже не смогу вернуться к папе. Ты знаешь, как я его обожала и восхищалась им с самого раннего детства. А теперь у нас полный разлад. Это — первопричина моей болезни». Зина жаловалась на его холодность к ней. «Я объясняла ей, — были слова матери, — что все происходит из-за ее характера, из того факта, что тебе трудно проявлять свои чувства, даже когда ты хотел бы их показать». (Для тех, кто знаком только с официальным, публичным обликом Троцкого, пылкого краснобая, свидетельство первой жены о его сдержанном, неласковом характере может выглядеть сюрпризом.) Затем последовало горькое, мучительное обвинение: «Все же ты учитывал лишь ее [Зины] физическое состояние, но ведь она была взрослым человеком и полностью развитым существом, нуждающимся в интеллектуальном общении». Она жаждала политической деятельности и нуждалась в свободе действий, потому что она походила на своего отца — «ты, ее отец, мог бы спасти ее». И что, спрашивала Александра, было за конфликтом между Зиной и Левой, о котором Зина также писала? И почему Троцкий настаивал на психиатрическом лечении, когда «она замкнулась в себе — как и мы оба, — и было невозможно заставить ее говорить о тех вещах, о которых она не хотела говорить!». И все же, нападая на Троцкого с этими обвинениями, мать смягчала их, размышляя, что, если бы Зина осталась в России, она бы все равно погибла — умерла от туберкулеза. «Наши дети были обречены, — добавляла Александра и описывала страх, с которым она взирает на оставшихся с ней внуков: — Я уже не верю в жизнь. Я не верю, что они вырастут. Все время я ожидаю какого-нибудь нового ужаса». И она завершала письмо словами: «Мне было трудно писать и посылать это письмо. Извини мою жестокость по отношению к тебе, но ты тоже должен знать все о наших друзьях, знакомых и родне».
Неизвестно, ответил ли Троцкий и как на это письмо — может быть, рана была слишком глубока для слов. Спустя некоторое время, извиняясь перед друзьями за то, что не ответил на их соболезнования, он писал, что его сразила малярия и он был при смерти.[57]
До самого конца Троцкий отказывался верить, что германское рабочее движение настолько лишено какой-либо силы самосохранения, что почти не окажет сопротивления нацизму и постыдно рухнет при первом же натиске. Почти три года он уверял, что невозможно, чтобы Гитлер победил без гражданской войны. Но невероятное произошло: 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером еще до того, как социалисты и коммунисты начали вводить в бой свои огромные резервы. Неделю спустя Троцкий заявил: «Приход Гитлера к власти — это ужасный удар по рабочему классу. Но это еще не конец, не безнадежное поражение. Враг, которого можно было разгромить, когда он только взбирался наверх, сейчас уже захватил целый ряд командных постов. Тем самым он обрел огромное преимущество, но битва еще не закончилась». Даже теперь все еще было время для действий, ибо Гитлер еще не обладал всей полнотой власти; ему приходилось делить ее с Гугенбергом и Немецкой национальной народной партией. Возглавляемая им коалиция была слаба, и ее раздирали противоречия. Ему еще предстояло лишить своих партнеров всякого влияния и получить полный контроль над всеми государственными ресурсами. Пока его позиция оставалась уязвимой. Социалисты и коммунисты все еще могли нанести ответный удар — но было безнадежно поздно: «…на чаше весов — жизнь германского рабочего класса, существование Коммунистического Интернационала и… жизнь Советской Республики!»
Сейчас из многочисленных архивов и дневников мы знаем, сколь велика была на самом деле уязвимость первого гитлеровского правительства, когда оно только появилось на свет. Даже месяц спустя, 5 марта, после налета нацистов на Карл-Либкнехт-Хаус в Берлине и пожара в Рейхстаге, на выборах, проходивших в условиях разнузданного нацистского террора, социалисты и коммунисты все еще набрали 12 миллионов голосов, не говоря о 6 миллионах, отданных за католическую оппозицию Гитлеру. Мы также знаем о ссорах, дрязгах и взаимном недоверии между Гитлером и его партнерами, которые вполне могли бы развалить их коалицию, если бы эти миллионы социалистов и коммунистов пришли в движение. Еще 6 февраля Троцкий замечал, что рабочий класс «не ведет никаких оборонительных боев, а просто отступает, а завтра этот отход вполне может превратиться в разгром охваченных паникой масс». Он в весьма резкой форме завершил этот мрачный пассаж:
«Для того, чтобы прояснить историческую важность партийных решений… в эти дни и недели, по моему мнению, необходимо поставить этот вопрос, перед коммунистами… с максимальной остротой и непримиримостью: [продолжающийся] отказ партии сформировать единый фронт и создать местные комитеты обороны — комитеты, которые могли бы завтра стать Советами, будет означать не что иное, как капитуляцию перед фашизмом, что есть историческое преступление, равносильное ликвидации партии и Коммунистического Интернационала. Случись такое несчастье, рабочему классу придется потесниться и уступить место Четвертому Интернационалу; и путь этот пройдет через горы трупов и годы невыносимых страданий и катастроф».
Еще до того, как эти слова появились в печати, уже лежали в руинах огромные массовые организации германского рабочего движения, его партии и профсоюзы, его многие газеты, культурные институты и спортивные организации.
Сокрушительное поражение сразу же повлияло на судьбу семьи Троцких. В Берлине был запрещен «Бюллетень оппозиции», и Лёве пришлось уйти в подполье и тайно перейти границу. 24 марта Троцкий написал Пфемфертам (чей дом фашисты уже разрушили): «Мы все это время тревожились за Л.Л. [т. е. Лёву]. Немецкие друзья думают, что, если он попадет в фашистские руки, он не выйдет живым. Я считал так же. Но вчера мы получили от него телеграмму: „Я переезжаю в Париж“. Будем надеяться, что в этом переезде ему будет сопутствовать удача. Никаких других новостей от него пока не было».
В эти недели Троцкий отрекся от верности 3-му Интернационалу. В статье под названием «Трагедия германского пролетариата» (с подзаголовком «Германские рабочие снова восстанут — сталинизм не пройдет!») он подвел итог случившегося: то, что рабочее движение претерпело в Германии, было не временной неудачей или тактическим отступлением, а решающим стратегическим поражением, которое привело рабочий класс к прострации и параличу на целую эпоху. 2-й и также 3-й Интернационал отказывались признать это, заявляя об «эфемерном» успехе Гитлера, а теперь, когда стало слишком поздно, заявляют о едином фронте. Но «до того, как какая-то серьезная борьба в Германии станет вновь возможной, авангард рабочего класса должен переориентироваться, четко уяснить, что произошло, установить ответственность за… разгром, расчистить новые пути и, таким образом, снова обрести уверенность в себе и чувство собственного достоинства». Много лет ключ к ситуации находился в руках коммунистов, но ныне он уже не у них. Все позиции в Германии на будущие годы были утрачены. Для рабочего движения было важно укрепить свои опорные пункты и сражаться в странах, окружающих Германию, — в Австрии, Чехословакии, Польше, Нидерландах и Франции. «Австрия, которой больше всего угрожает фашистский переворот, сейчас — передовой бастион». Верхом безответственности со стороны Коминтерна было заявить, что немецкие рабочие находятся «накануне великих битв», потому что они отдали 5 миллионов голосов за коммунистов. «Да, пяти миллионам коммунистов все еще удалось пробиться к кабинам для голосования. Но на заводах и на улицах их присутствие не ощущается. Они потеряны, рассеяны, деморализованы… Бюрократический террор сталинизма парализовал их волю еще до того, как бандитский террор фашизма начал свою работу».
Он приходит к заключению, что сталинизм получил свое «4 августа» — такой же позорный коллапс, который случился со 2-м Интернационалом в момент, когда разразилась Первая мировая война. Тогда Ленин, Троцкий, Роза Люксембург, Карл Либкнехт и их сообщники объявили, что 2-й Интернационал мертв, и провозгласили идею 3-го Интернационала. Аналогия с 4 августа предполагала, что Троцкий провозгласит ныне идею создания 4-го Интернационала. Однако он этого еще не сделал. Он только призвал к созданию новой Коммунистической партии в Германии. «Передовые рабочие Германии будут с этих пор отзываться о временах господства сталинской бюрократии [над немецким коммунизмом] не иначе, как с чувством горького стыда… Официальная Коммунистическая партия Германии обречена. С этих пор она будет лишь разлагаться, рушиться и превращаться в ничто». Он все еще учитывал возможность того, что поражение может сработать как спасительный шок для других коммунистических партий, побудит их заняться выяснением причин, определением доли ответственности и, возможно, приведет к разрыву со сталинизмом. Случись такое, Коминтерн (или какая-то часть его) сможет все еще спасти свою революционную честь и смысл существования. «Но в Германии в любом случае страшная песенка сталинской бюрократии спета. Под ужасными ударами врага передовые немецкие рабочие будут вынуждены построить новую партию». Можно спорить, что было бы нелогично требовать создания новой Коммунистической партии, но не для нового Интернационала; но историческое развитие в целом не происходит согласно законам логики; и следовало подождать и посмотреть, извлечет ли какая-нибудь компартия урок из немецкого опыта.
Если у Троцкого и были какие-то надежды, то они быстро рассеялись. Исполком Коминтерна на своей первой сессии после победы Гитлера объявил, что эта победа не имеет никакого значения. Он утверждал, что стратегия и тактика Германской компартии были безошибочными с начала до конца; и он же запретил какой-либо компартии открывать любые дебаты на эту тему. Ни одна партия не осмелилась игнорировать этот запрет. Зрелище было настолько шокирующим, что вынудило Троцкого заявить, что «организация, которая не пробудилась при громовом грохоте фашизма… мертва и не может ожить». В июле он объявил, что недостаточно будет построить в Германии новую компартию; пришло время заложить основы нового Интернационала.
И даже теперь он не мог решить, должен ли новый Интернационал распространить свою деятельность на Советский Союз, т. е. прекратят ли его сторонники в СССР считать себя фракцией старой партии и создадут ли свою новую партию. В течение нескольких месяцев он старался отговорить их от такого курса и настаивал на том, что вся деятельность 4-го Интернационала должна прекратиться у границ Советского Союза. Он все еще видел в большевистской монополии на власть, которой так злоупотреблял Сталин, sine qua non[58] выживания революции. Оппозиция, заявлял он, будет оправдана при создании независимой партии лишь в том случае, если она откажется от всякой надежды реформировать режим и переориентируется на революционную борьбу против сталинизма; но этого она делать не должна. Новый Интернационал вполне может воздержаться от работы внутри Советского Союза, потому что «ключ к ситуации» в рабочем движении уже не находится в Советском Союзе: у оппозиции едва ли есть шанс на какую-нибудь деятельность там, по крайней мере в ближайшем будущем; а потому вопрос о новой компартии чисто теоретический. Только если и только когда новый Интернационал вырастет в жизненно важную политическую силу в других странах, тогда и в СССР может измениться расстановка сил. Самое главное, революция должна добиться на Западе успеха, прогресса, которого под руководством Сталина добиться нельзя, прогресса, который ослабит мертвую хватку сталинизма в Советском Союзе и придаст новую силу коммунистической оппозиции.[59]
Создалась явно невыносимая ситуация. Логика его нового рискованного начинания еще раз выявила лучшее в Троцком. Было несообразно пропагандировать новую партию в Германии, но не новый Интернационал; и точно так же было нелогично для этого нового Интернационала воздерживаться от действий внутри Советского Союза. И поэтому в октябрю 1933 года Троцкий пришел к выводу, что оппозиция должна создать внутри себя партию также и в СССР. Понадобилось около шести месяцев, чтобы прийти к такому заключению. Сделав это, он был вынужден пересмотреть некоторые свои взгляды, которых твердо придерживался в течение шести лет. Он перестал поддерживать политическую монополию правящей партии. Новая партия, если она когда-нибудь появится на свет, обязана не только стремиться к реформе и конституционной замене сталинского правительства, но и к его свержению революционным путем. Считал ли он Советский Союз все еще государством рабочего класса? Или теперь он рассматривал этот режим как термидорианскую или бонапартистскую разновидность контрреволюции? И должна ли оппозиция сохранять свою приверженность идее безусловной защиты Советского Союза?
Троцкий утверждал, что после всех событий прошедших лет было бы глупо думать, что Сталина можно свергнуть на съезде Коммунистической партии или съезде Советов. «Не осталось никаких конституционных путей для устранения правящей клики. Только сила может вынудить бюрократию передать власть в руки пролетарского авангарда». Однако этот авангард был разогнан и сокрушен — в ближайшем будущем он не сможет бороться за власть. Поэтому вопрос реформы или революции — дело долгосрочной перспективы. Оппозиция не сможет заявить о своих правах на власть, пока не обретет поддержку большинства рабочего класса; и она не сможет добиться этого без предшествующих этому социальных сдвигов дома и радикальных перемен на международной арене, в первую очередь без революционного прогресса за пределами Советского Союза. После таких перемен и изменений «сталинский аппарат почувствует себя подвешенным в вакууме»; и оппозиция с помощью народных масс сможет победить даже без революции или гражданской войны. Если Сталин и его приверженцы, несмотря на свою изоляцию, все еще будут продолжать цепляться за власть, оппозиция устранит их посредством «полицейской операции». Столкнувшись со вспышкой политической энергии рабочего класса, сталинизм будет крайне слаб как раз потому, что у него «были корни в рабочем классе, и нигде больше»: только при молчаливом согласии и покорности, если не активной поддержке, рабочих был силен Сталин — без этого его можно свергнуть одним пинком.
Советский Союз, считал Троцкий, остается рабочим государством. При господстве общественной собственности на средства производства советское общество занято переходом от капитализма к социализму, даже если оно и платит непомерно высокую цену за каждый шаг вперед. Бюрократия, независимо от уровня привилегий, все еще оставалась «злокачественным наростом на теле рабочего класса, а не новым классом собственников». Привилегии и растущее социальное неравенство отражали не новый тип эксплуатации, как уверяли ультрарадикалы, а являлись результатом бедности и материального недостатка. До некоторой степени, как стимулы для повышения эффективности труда и роста производства, привилегии и неравенство были «буржуазными инструментами социалистического прогресса». Паразитическое и деспотичное бюрократическое правление могло поставить под угрозу все завоевания революции и спровоцировать контрреволюцию; но оно могло превратиться и в «инструмент» — и плохой и дорогой — «социалистического развития». «Растрачивая… огромную часть национального дохода, советская бюрократия в то же время… заинтересована в поддержке экономического и культурного роста народа: чем выше национальный доход, тем больше резерв привилегий для бюрократии. И все же экономический и культурный прогресс трудящихся масс, достигнутый советским государством, подорвет базис бюрократического господства». Таким образом, за двадцать лет до конца сталинской эры Троцкий предвидел, что индустриализацией Советского Союза и распространением образованности в народе сталинизм может уничтожить почву, на которой он вырос и которая его питала, почву изначальной бедности, безграмотности и варварства.[60]
Перестав защищать однопартийную систему в СССР, Троцкий, тем не менее, повторял свои ранние предупреждения о том, что, «если сейчас нарушить бюрократическое равновесие в СССР, это наверняка будет на руку силам контрреволюции». Он заново сформулировал свою преданность безусловной защите Советского Союза: «новый Интернационал… до того как сможет реформировать Советское государство, должен взять на себя обязанность защищать его. Любая политическая группировка, не признающая этой обязанности под тем предлогом, что Советский Союз уже больше не государство рабочих, рискует стать пассивным инструментом империализма». Сторонники нового Интернационала, добавлял он, «должны в час смертельной опасности сражаться на последней баррикаде» для обороны СССР.
И все-таки, несмотря на то что он так яростно настаивал на том, что Советский Союз, если судить по его экономической структуре, остается рабочим государством, теперь он придерживался мнения, что как фактор международной революции он немногим отличается от потухшего вулкана. «С начала Первой мировой войны и особенно с Октябрьской революции большевистская партия играла ведущую роль в глобальной революционной борьбе. Сейчас эта важная позиция утеряна». Не только официальный большевизм, эта «пародия на партию», но и большевистская оппозиция вместе с ним из-за трудности условий, в которых работает, не в состоянии «осуществлять какое-либо международное руководство». Революционный центр тяжести определенно переместился на Запад, где непосредственные возможности для строительства новой партии много шире. Он провозгласил идею 4-го Интернационала, веря, что с Запада, а не из Советского Союза революция получит новые импульсы.
Мы уже видели, с какими колебаниями Троцкий решился отречься от клятвы верности 3-му Интернационалу. Причины его нерешительности было нетрудно заметить, потому что он сам много раз возражал против шага, который сейчас Совершал сам. Ведь именно к 3-му Интернационалу, заявлял он, революционные рабочие всех стран обращались за руководством и наставлениями; именно в нем они видели законного наследника 2-го и 1-го Интернационалов и само воплощение идеи русской революции; и, пока Советский Союз оставался государством рабочих, а Коминтерн поддерживал связь с ним, сознательная элита рабочего класса могла оправдать свою лояльность Коминтерну. Теперь он был не столь уверен, что этот аргумент сохранил свою ценность. Теперь ему было легко, учитывая роль, которую он играл в 3-м Интернационале, объявить о своем окончательном разрыве с ним. Крайне редко бывает так, чтобы один из главных архитекторов великого и жизненно важного движения нашел в себе силы объявить, что это движение бессмысленно. Троцкому повернуться спиной к 3-му Интернационалу было много труднее, чем осудить 2-й Интернационал в 1914 году. Его заставил это сделать только оглушительный провал Коминтерна в Германии. Он признавал, что есть разница между 1914-м и 1933 годами. В 1914 году лидеры 2-го Интернационала, поддержав империалистическую войну, сознательно и учитывая все последствия предали оказанное им доверие; а в 1933 году Коминтерн облегчил Гитлеру победу из-за своей полной безответственности и слепоты. И все же катастрофа 1933 года в других отношениях была даже страшнее, чем в 1914 году. В Первую мировую войну революционный марксизм быстро оправился от удара: Циммервальд, Кинталь и русская революция отметили собой мощный протест против «социально-империалистического» извращения марксизма. Несравнимый с этим протест против чудовищных преступлений 1933 года происходил или должен был сформироваться внутри коммунистического движения. Не только политика Коминтерна способствовала потере германским рабочим движением всего, что оно завоевало за восемьдесят лет борьбы; и не только эта политика допустила, кроме этого, опасность, более того, неизбежность новой мировой войны; все это происходило в атмосфере жуткого безразличия и апатии со стороны всего движения. Что же случилось, спрашивал Троцкий, с политической совестью и разумом огромных масс коммунистов?
Он пришел к заключению, что реформизм и сталинизм доказали невменяемость разума и уничтожили дух рабочих. То, что все его предупреждения, такие ясные, такие громкие, так отчетливо подтвержденные событиями, остались неуслышанными, утвердило его в правильности этого вывода. Никто лучше его не знал, насколько незамеченными остались его предупреждения, потому что в письме Соболевичусу он в начале 1932 года заметил, что троцкистская оппозиция в Германии не сумела завербовать в Германии даже «десятка местных заводских рабочих» (и привлекла в свои ряды лишь несколько интеллектуалов и иммигрантов). В Первую мировую войну, по крайней мере, несколько тысяч немецких рабочих вступили в тайную организацию «Спартак» и поддержали осуждение 4 августа, которое озвучили из своих тюремных камер Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Теперь, после гитлеровского триумфа, все коммунистические партии мира восприняли коминтерновские самооправдания и поздравления в свой собственный адрес в ошеломленном молчании. Неужели во всех этих партиях не осталось даже проблеска разума, международной солидарности и ответственности? — вновь и вновь вопрошал Троцкий. Если нет, тогда сталинизм безвозвратно девальвировал все коммунистическое движение, так что стараться реанимировать его — сизифов труд. Уже десять лет, как он занимался этим трудом, и теперь отказывался продолжать катить этот тяжелый камень вверх на мрачную гору.
Еще больнее для него было отвергнуть в конце концов советскую партию — партию, которую основал Ленин, которая совершила революцию и в рядах которой он достиг своего величия. Год назад, после второй ссылки Зиновьева, Каменева, Смирнова, Преображенского и других, дело выглядело так, будто объединенная оппозиция вновь обретала жизнь. Каждое сообщение из Москвы свидетельствовало, что в атмосфере всеобщего развала даже ближайшее окружение мечтает избавиться от Сталина. Однако с 1932 года Сталин опять взял верх. Он преуспел в этом отчасти потому, что вновь принял на вооружение некоторые из мер, которые отстаивал Троцкий: он предоставил экономике передышку в конце первого пятилетнего плана; он сделал уступку колхозному крестьянству. Поэтому хаос, беспорядок и внутрипартийное брожение затихли. Германская катастрофа не ослабила, а, наоборот, усилила Сталина. Те, кто представлял себе ее последствия, понимали, что сейчас не время подрывать стабильность правительства в Москве. Установление тоталитарного правления в Германии дало новый импульс тоталитарной тенденции в Советском Союзе. Когда над Германией загремел крик «Ein Führer, eine Partei, ein Volk!»,[61] советская иерархия и многие рядовые члены общества поняли, что только под руководством одного лидера могут выжить революция и сам Советский Союз. В мае 1933 года Зиновьев и Каменев опять капитулировали и вернулись из ссылки. При своей первой капитуляции в 1927 году они сдались Сталину, но не опустились, да и никто от них этого и не ожидал, на колени перед ним. Когда это потребовалось от них в 1932 году, они все еще не могли себя заставить сделать это. Однако в 1933 году они это сделали: в своем новом отречении они прославляли непогрешимость и уникальный гений Сталина.
Все это происходило тогда, когда Троцкий увлекся идеей 4-го Интернационала, но еще не был готов призвать к созданию новой партии в Советском Союзе. Триумфальный выход Сталина из кризиса, новая деспотическая аура вокруг него и самые последние капитуляции вынудили Троцкого разорвать последнюю нить, которая в теории все еще связывала его со старой партией. Комментируя «трагическую судьбу» Зиновьева и Каменева, он писал: «Будущий историк, который захочет показать, как беспощадно эпоха великих сотрясений опустошает характеры, возьмет в качестве примеров Зиновьева и Каменева… Сталинский аппарат стал машиной для дробления хребтов [бывших революционеров]». И еще: «Сталин, как гоголевский герой, собирает мертвые души из-за отсутствия живых». Отныне надежда Троцкого на какое-либо перерождение советской партии перестала существовать. Было бесполезно продолжать взывать к людям с переломанными позвоночниками и мертвыми душами, а марксистско-ленинские традиции покинули партию, которая склонилась перед тираном. Большевизм мог возродиться лишь при полной независимости от деспота и за пределами его власти.
Так вкратце выглядела история Троцкого с новым Интернационалом. Создав его и получив после обсуждения поддержку всех своих групп, он, однако, не провозгласил эти группы частью 4-го Интернационала. Зная их слабость, он удовольствовался лишь озвучиванием идеи в надежде, что за короткое время она завоюет много больше сторонников. Он отчасти повторял в рамках своего собственного опыта путь эры Циммервальда, память о которой ясно различима в его трудах и поведении. С того момента, когда они с Лениным начали выступать за 3-й Интернационал в 1915 году, понадобилось четыре года пропаганды и подготовительной работы, чтобы созвать учредительный съезд Интернационала. Сходным образом, сейчас «не было вопроса о каком-нибудь немедленном провозглашении… Интернационала, а речь шла только о подготовительной работе. Новая ориентация означает… что разговоры о „реформировании“ [сталинской организации] и все требования восстановления в партии исключенных оппозиционеров должны быть определенно прекращены… Левая оппозиция перестает считать себя и действовать как [внутрипартийная] оппозиция». Понадобилось ровно четыре года, прежде чем он оказался готов созвать учредительный съезд.
Его надежды на новый Интернационал в 1933 году не были такими сумасбродными, какими казались после. По германскому вопросу Коминтерн себя безнадежно дискредитировал, а троцкизм одержал убедительную моральную победу. Если до настоящего времени, считал Троцкий, все его обращения к европейскому коммунистическому мнению получали слишком мало понимания, то это происходило отчасти потому, что главные пункты его разногласий со Сталиным, внутренние проблемы Советского Союза и китайская революция были слишком далеки от европейских коммунистов или слишком туманны для них. В своей самой последней фазе этот спор сосредоточился на Германии, «сердце Европы». Приход Гитлера оказал влияние на каждую коммунистическую партию. Он поставил вопрос о жизни и смерти. Он указывал на войну. Он угрожал коммунизму уничтожением. И Троцкий и Коминтерн вели спор публично и с исключительной энергией до того самого момента, когда эти разногласия были проверены событиями. Результат проверки не вызывал никаких сомнений. В мозгу каждого были (или должны были быть) свежи все за и против: каждый коммунист мог их просмотреть и обдумать заново. Заключение тоже было несомненным: те, кто привел самую мощную компартию Запада к столь позорному фиаско, виновны в некомпетентности, граничащей с предательством, и потеряли право на какое-либо руководство. По этому же признаку оппозиция выдвинула (или должна была предъявить) право на руководство.
Какая-то информация обо всем этом определенно проникала в ряды сталинистов. Чем злобней Коминтерн нападал на Троцкого и высмеивал его за то, что тот «играет роль привидения», «преувеличивает нацистскую угрозу» и «призывает к созданию единого фронта с социал-фашистами», тем больше эти насмешки отражались рикошетом на самих авторах. Смущение и стыд охватили многие партийные ячейки. Даже закоренелые сталинцы испытывали неосознанное восхищение дальновидностью Троцкого и его бесстрашным сопротивлением.[62]
В среде германских беженцев от гитлеровского террора и среди польских, чешских, голландских, американских и других общин возникли новые троцкистские и полутроцкистские группировки. Эти группы были невелики, но их влиянием нельзя было пренебречь. Они притягивали к себе встревоженных и преданных членов партии. Они резко критиковали совесть коммунизма. Они вынудили Сталина перейти к обороне. Только неистовые обращения к партийному патриотизму, угрозы исключения и действительные исключения смогли избавить от недомогания в партийных рядах; и в конечном итоге Коминтерн смог преодолеть раскол, лишь изменив свои позиции, выбросив за борт лозунги о социал-фашизме и приняв тактику единого фронта (а вслед за этим — и Народного фронта). Кроме того, крушение Веймарской республики потрясло и социал-демократические партии. Их вере в парламентскую демократию был нанесен жестокий удар. Едва ли нашлась бы в Европе социалистическая партия, которая под впечатлением германского опыта не внесла бы торжественно в свою программу в той или иной форме «пролетарскую диктатуру». Внутри этих партий радикальные и левацкие группы уважали Троцкого и находили его идеи более рациональными и привлекательными, чем все, что мог предложить формальный коммунизм. Это был действительно знак его политического влияния в изгнании. Если у него и был когда-нибудь шанс основать независимую коммунистическую партию, то он был сейчас.
И все же аргументы, которые он сам так часто и убедительно выдвигал против курса действий, которым ныне сам следовал, не потеряли своей силы. Все еще было истиной, что пока народная собственность на средства производства остается в Советском Союзе невредимой, а знамя большевизма все еще реет над Москвой, связь международного коммунизма с Советским Союзом остается неразрывной. Для массы людей, симпатизировавших коммунизму, первое рабоче-крестьянское государство по-прежнему оставалось бастионом мировой революции; а официальные компартии представляли для них ошеломляющую притягательную силу. Они не видели альтернативы сталинскому руководству, которое в их глазах представляло русскую революцию и большевистскую традицию. Сталинской бюрократии фактически удалось отождествить себя с ленинизмом и марксизмом в целом. Боевые отряды французских докеров, польские горняки и китайские партизаны в равной степени видели в тех, кто правил Москвой, лучших знатоков советских интересов и надежных советников для мирового коммунизма. Отсюда и безрассудное послушание, с которым они так часто воспринимали повороты и зигзаги, а также самые абсурдные предписания сталинской политики. Их оппоненты представлялись им врагами Советского Союза и коммунизма точно так же, как правоверному католику враги папского престола кажутся врагами христианства.
Все это сулило беду рискованному предприятию Троцкого. Его идеи и лозунги были таковы, что на них откликались лишь те, кто симпатизировал коммунизму, — а ведь это были люди, менее всего склонные к объединению в рядах нового Интернационала. Они так долго оставались безразличными к призыву Троцкого реформировать свои партии, что их еще меньше трогало, когда он призывал их порвать с этими партиями.
Последствия германского разгрома не благоприятствовали (или не могли благоприятствовать) новому Интернационалу вне зависимости от того, насколько дискредитировали себя его предшественники. Каждый из прежних Интернационалов поднимался на приливной волне рабочего движения; и в момент своего образования ни одному из них не пришлось соперничать с предшественником. 4-й Интернационал намеревался бросить вызов двум уже созданным и мощным соперникам в период глубокой депрессии в движении. В Германии и в самом деле, как предсказывал Троцкий, рабочий класс не был способен политически оправиться еще многие годы; но именно по этой причине троцкизм не мог извлечь никакой практической выгоды из того морального превосходства, которое завоевал в германском вопросе. По всей остальной Европе рабочему классу было суждено отступать до конца десятилетия, несмотря на всплеск его энергии во Франции и в Испании в 1936 году. Долгая тягостная цепь отступлений и поражений породила моральную слабость, в атмосфере которой даже самые убедительные заявления в пользу нового Интернационала не находили отклика. Троцкий считал, что рабочий класс нуждается в новом руководстве как раз для того, чтобы остановить отступление и перегруппировать силы для обороны и контратаки. Но массы коммунистов (и социалистов), те из них, кто еще не потерял мужества, понимали, что нельзя менять лошадей на переправе. И поэтому два созданных Интернационала процветали даже при своих промахах и поражениях: их сторонники, чего бы они ни опасались, отказывались от поиска новых лидеров и новых методов борьбы под градом ударов, которые им наносили нацизм и фашизм. Они были готовы скорее пойти ко дну под старыми и знакомыми знаменами, чем сплотиться под новым штандартом, за которым видели лишь гигантскую, но загадочную или подозрительную фигуру знаменосца.
Троцкий был убежден, что Коминтерн как революционная организация изжил себя. Он, в общем, не ошибался. Десять лет спустя Сталину пришлось распустить эту организацию и объявить, что она уже не служит никаким целям; а в эти десять лет Коминтерну было суждено лишь добавить к своему банкротству в Германии новые провалы во Франции и Испании и двусмысленность своей политики под сенью пакта между Сталиным и Гитлером в 1931–1941 годах. Но все, что предпринимал Сталин, чтобы разрушить Коминтерн морально, не смогло убить эту организацию. В то же самое время, когда он распускал Коминтерн, его западноевропейские партии черпали новые силы из своего сопротивления нацистской оккупации; и, все еще находясь под сталинскими знаменами, хотя и не в выраженном явно конфликте со Сталиным, югославская и китайская революции добьются победы. Несмотря на активные усилия Сталина превратить все коммунистические партии в простые пешки, Югославская, Китайская и некоторые другие партии имели достаточно сил, чтобы жить собственной жизнью, вести свою борьбу и изменять судьбы своих стран и мира. Кроме того, они ощутили потом новый революционный импульс в победах советского оружия во Второй мировой войне.
Мысль о том, что эти новые импульсы придут с Запада, а не из Советского Союза, была лейтмотивом заступничества Троцкого за 4-й Интернационал. Снова и снова он заявлял, что в Советском Союзе сталинизм продолжает играть двойную роль, одновременно прогрессивную и реакционную, он на международной арене оказывает только контрреволюционное влияние. И тут его подвело чувство реальности. Сталинизму было суждено играть эту двоякую роль как в международном плане, так и внутри своей страны: ему пришлось как стимулировать классовую борьбу, так и препятствовать ей вне Советского Союза. В любом случае, в следующие три или четыре десятилетия революционные импульсы исходили не с Запада. Таким образом, что основная предпосылка, на которой Троцкий намеревался создать 4-й Интернационал, оказалась нереалистичной. Поскольку все его старания реформировать Коминтерн потерпели неудачу, он не мог более, как мы уже видели, продолжать этот сизифов труд. Ему пришлось заняться поисками другого решения. Однако его новая работа оказалась, по крайней мере, столь же бесполезной, как и прежняя. Сизиф лишь, надеясь на перемены, перешел с одного склона горы на другой; и там он снова покатил свой камень вверх.
Мы уже видели, как Троцкий, отвернувшись от Коминтерна, переориентировал своих приверженцев и призвал их оставаться беззаветными защитниками Советского Союза. Сам он, обращаясь в своих статьях к мнению западной буржуазии, стремился привлечь ее внимание к тому факту, что Третий рейх означает мировую войну. Еще весной 1933 года он призвал западные державы войти в союз с Советским Союзом. Это были первые недели и месяцы Третьего рейха, когда едва ли нашелся бы хоть один западный государственный деятель, всерьез рассматривавший эту идею. В то время Гитлер облачился в тогу пацифиста, и на Международной конференции по разоружению были приняты, к облегчению и восторгу официального Лондона, планы по разоружению, подготовленные Остином Чемберленом и Джоном Саймоном. В июне 1933 года Троцкий написал в эссе «Гитлер и разоружение» следующее: «Недооценивать врага — величайшая опасность… лидеры германскою рабочего движения не желают принимать Гитлера всерьез… Та же самая опасность может возникнуть и в плане мировой политики». Он отмечал, насколько готово было британское правительство ответить на «умеренность» Гитлера и «мирные намерения»: «Дипломатическая практика имеет свои преимущества, так как дело движется по знакомой, накатанной дорожке. Но она тут же нарушается, как только сталкивается с новыми и важными фактами». Остин Чемберлен и Джон Саймон «ожидали встретить [в Гитлере] безумца, размахивающего топором; а вместо этого перед ними предстал человек, прячущий револьвер в кармане, — какое облегчение!». Это был первый большой дипломатический успех Гитлера. Его целью было перевооружение Германии, которая со времен Версаля вернула себе место самой мощной индустриальной, но все еще безоружной державы Европы. «Это сочетание потенциальной мощи и фактической слабости определяло как опасный характер нацистских целей, так и крайнюю осторожность первых шагов Гитлера, ведущих к этим целям». Гитлер поддержал британские проекты разоружения, отлично понимая, что Франция не сможет их принять, — это дало ему шанс натравить Британию на Францию и перевести на последнюю ту ненависть, которая возникнет в результате гонки вооружений. «Миролюбие Гитлера — не случайная дипломатическая импровизация, а необходимый элемент в крупном маневре, предназначенный для того, чтобы радикально сместить баланс сил в пользу Германии и подготовить наступление германского империализма на Европу и весь мир». Троцкий предрекал, что, если отразить выпады Гитлера, они неизбежно приведут к мировой войне через пять — десять лет. «В поход именно против Советского Союза рвется Гитлер. Но если на этом направлении он встретит сопротивление, то извержение вполне может произойти и на другом направлении… Оружие, которое можно использовать на Востоке, точно так же сгодится и против Запада». Троцкий замечал, что не считает себя «приглашенным выступать в качестве стража Версальского договора. Европа нуждается в новой организации. Но горе, если эта работа окажется в руках фашизма!».
В заявлениях для американской прессы Троцкий призывал правительство Соединенных Штатов (которое в тот, шестнадцатый год революции все еще не признало советское правительство) пойти на сближение с Советским Союзом, чтобы отразить угрозу со стороны Японии и Германии. Мы не знаем, имели ли эти призывы какое-либо влияние на решение президента Рузвельта, принятое вскоре после этого, об установлении дипломатических отношений с Москвой. Но взгляды Троцкого наверняка повлияли на сталинскую дипломатию, которая отныне подняла на щит вопрос антинацистского альянса. Там, где дело касалось безопасности его собственного правительства, Сталин вовсе не отказывался получать выгоду от советов своего противника, даже если делал это с запозданием и всегда в своей грубой, извращенной манере.
Тем временем советское правительство пролонгировало Рапалльские соглашения с Германией, и это побудило ультрарадикальных антисталинистов осудить еще одно сталинское «предательство». Троцкий считал этот вопрос слишком серьезным, чтобы делать его предметом дебатов. Он не уставал разоблачать сталинскую и коминтерновскую долю ответственности в приходе Гитлера к власти. Но он и не отрицал права Сталина преследовать выгоду на дипломатическом фронте. Спустя два года, как мы знаем, он призвал советское правительство мобилизовать Красную армию в случае, если Гитлер станет угрожать захватом власти; но он делал это, полагая, что левые силы в Германии возьмутся за оружие против нацизма, и в этом случае Красная армия будет обязана оказать помощь. Бескровная победа Гитлера и полный разгром немецких левых, теперь отмечал Троцкий, изменили баланс не в пользу Советского Союза, тем более когда Советский Союз был внутренне ослаблен сталинской коллективизацией. Поэтому советская дипломатия имела право занять выжидательную позицию, вести переговоры и даже искать временного компромисса с Гитлером. С несколько озадачивающей беспристрастностью Троцкий объявил, что, если бы в нынешних условиях оппозиция пришла к власти, она не смогла бы действовать по-другому: «В своих непосредственных практических действиях оппозиции пришлось бы исходить из существующего баланса сил. Она была бы вынуждена, в частности, поддерживать дипломатические и экономические связи с гитлеровской Германией. В то же время она начала бы подготовку к реваншу. Это было бы великим делом, требующим времени, — задача, которую не выполнить впечатляющими жестами, а которая требует радикального пересмотра политики в каждой области». Этот вывод оставался не затуманенным какими-либо личными эмоциями против Сталина и сугубо объективным.
Наступили последние месяцы пребывания Троцкого на Принкипо. Какое-то время его французские друзья, особенно его переводчик — Морис Парижанин, призывали французское правительство отменить распоряжение, по которому Троцкий в 1916 году был выслан из Франции «навсегда», и предоставить ему убежище. Троцкий скептически относился к этому: он считал, что правительство радикалов, только что сформированное во главе с Эдуардом Даладье, будет радо улучшить отношения с Советским Союзом, а потому не потерпит его присутствия во Франции. Но он делал все, чтобы помочь ситуации. Только что он подготовил к публикации в Нью-Йорке нелестную реплику по поводу характера Эдуарда Эррио, написанную вскоре после ночной потасовки с полицией в Марселе; теперь он воздерживался от публикации, чтобы не сыграть на руку противникам его допуска во Францию. Он также написал Анри Герну, министру образования, который, как член правительства, выступал в защиту права Троцкого на убежище, и торжественно пообещал вести себя во Франции с крайней осторожностью и не причинять правительству никаких проблем.
Проходили недели, а решения все не было. Все это время он набрасывал свои мысли о 4-м Интернационале, а также писал небольшие очерки на французские политические и литературные темы. Неопределенность в отношении ближайшего будущего вынудила его отложить в сторону более крупные литературные планы и погрузиться в такие финансовые проблемы, каких он не ведал с 1929 года. Поездка в Копенгаген, болезнь Зины, переезд Лёвы во Францию и перевод «Бюллетеня оппозиции» в Париж заставили его пойти на крупные расходы как раз тогда, когда его доходы резко сократились. В Германии, где его основные труды имели широкий круг читателей, нацисты запрещали и сжигали его книги вместе с марксистской и фрейдистской литературой, как раз после того, как из печати вышел третий том «Истории русской революции». В Соединенных Штатах эта «История…» тоже не слишком хорошо расходилась. Уже в марте он писал своему британскому поклоннику: «Мировой финансовый кризис стал и моим кризисом тоже, особенно потому что продажи моей „Истории…“ очень жалкие». Он временами писал статьи в «Manchester Guardian» и другие газеты, но гонорары были ничтожные. Чтобы ускорить решение по французской визе, он написал 7 июля Анри Молинье, что был бы рад и виду на жительство, позволяющему ему остановиться не в метрополии, а на Корсике, ибо даже там он был бы в более тесном контакте с европейской политикой и несколько дальше от ГПУ, чем на Принкипо. Однако его французские друзья требовали для него убежища во Франции, и их настойчивость вскоре была вознаграждена. Перед серединой июля он получил визу. Это ни в коей мере не было неограниченным видом на жительство: ему разрешалось остановиться только в одном из южных департаментов; ему не разрешалось приезжать, даже на короткое время, в Париж; и он обязан был строго соблюдать инкогнито и подвергаться строгому полицейскому наблюдению.
Он принял эти условия как невероятную удачу. Наконец-то он выберется из своего турецкого захолустья! И он стал собираться во Францию, чей образ жизни и культура были так близки ему по духу и которая сейчас являлась главным центром пролетарской политики на Западе. Захваченный подготовкой, полный надежд, он все же бросил взгляд назад, на прожитые на Принкипо годы. «Четыре с половиной года назад, когда мы приехали сюда, — писал он в дневнике, — над Соединенными Штатами все еще светило солнце процветания. Сейчас те дни кажутся доисторическими, похожими на волшебную сказку… Здесь на этом острове спокойствия и забвения эхо огромного мира доходило до нас с запозданием и приглушенным». Не без труда он отрывался от великолепия Мраморного моря и рыболовных экспедиций, от мыслей о своих верных рыбаках, некоторые из которых, «чьи кости были насквозь пропитаны морской солью», недавно нашли упокоение на деревенском кладбище, в то время как другим, в эти годы депрессии, пришлось все упорней и упорней биться за то, чтобы продать свой улов. «Дом уже пуст. Деревянные ящики уже внизу, на первом этаже; молодые руки вбивают гвозди. Пол нашей старой и полуразвалившейся виллы был выкрашен весной такой подозрительной краской, что даже сейчас, четыре месяца спустя, столы, стулья и наши подошвы прилипают к нему… Странно, мне кажется, как будто мои ноги как-то пустили корни в почву Принкипо».
Судьба не оградила его от горестей и страданий на этом острове. Тень смерти много раз сгущалась здесь над ним, даже в часы отъезда. Последнее, что он написал на Принкипо (кроме прощального послания с благодарностями турецкому правительству), был некролог в связи со смертью Скрыпника, старого большевика, руководителя Октябрьского восстания, впоследствии ярого сталинца, который, поссорившись со Сталиным, только что покончил жизнь самоубийством.
И все же, несмотря на все превратности, годы, проведенные Троцким на Принкипо, были самыми спокойными, самыми творческими и наименее бедственными в его изгнании.
Глава 3 РЕВОЛЮЦИОНЕР-ИСТОРИК
Подобно Фукидиду, Данте, Макиавелли, Гейне, Марксу, Герцену и другим мыслителям и поэтам, Троцкий достиг своего расцвета лишь в изгнании, за несколько лет на Принкипо. Последующие поколения будут помнить его и как историка Октябрьской революции, и как ее лидера. Ни один другой большевик не создал (или не мог создать) столь огромный и великолепный отчет о событиях 1917 года; и никто из многих писателей из антибольшевистских партий не мог ни в какой степени соперничать с этим повествованием. Надежду на это достижение в Троцком можно было разглядеть заранее. Его описания революции 1905 года до сегодняшнего дня дают ярчайшую панораму этой «генеральной репетиции» 1917 года. Он озвучил свой первый рассказ и анализ о потрясениях 1917 года всего лишь через несколько недель после Октябрьского восстания, в перерывах работы мирной конференции в Брест-Литовске, и в последующие годы продолжал работать над исторической интерпретацией событий, главным героем которых был он сам. В нем таился и революционный порыв делать историю, и побуждение писателя описать ее и уловить ее смысл.
Все ссыльные размышляют о прошлом, но лишь немногие, очень немногие завоевывают будущее. Однако едва ли кому-то из них приходилось так биться за свою жизнь, морально и физически, как это делал Троцкий. Сталин поначалу наложил на него изгнание так же, как это делали римляне, — взамен смертной казни; и сам не удовольствовался этой заменой. Еще до того, как Троцкий был убит физически, его моральные убийцы годами были заняты этой работой, вначале стерев его имя из анналов революции, а потом вписав туда же — как синоним контрреволюции. Поэтому Троцкий-историк воевал на двух фронтах: он защищал революцию от врагов, и он отстаивал свое собственное место в ней. Ни один писатель никогда не создавал свое основное произведение в таких условиях, воспламеняющих всю его страсть, лишающих спокойствия и извращающих его взгляды. В Троцком вспыхнула вся страсть, но разум оставался спокойным, а представления — ясными. Он часто вспоминал афоризм Спинозы: «Никогда не плачь и не смейся, но понимай». Сам он не мог удержаться от слез и смеха; однако он понимал.
Было бы неверным сказать, что как историк он сочетал в себе крайнюю пристрастность со строгой объективностью. Ему и не надо было их сочетать: они были теплом и светом его работы и, как тепло и свет, принадлежали друг другу. Он презирал «объективность» и «примиренческую справедливость» ученого, который делает вид, что «стоит на стене осажденного города и пристально рассматривает осаждающих и осажденных». Его место было, как это уже случилось в 1917–1922 годах, внутри осажденного города революции. И его вовлеченность в эту борьбу вовсе не туманила обзор, а, наоборот, обостряла его восприятие окружающего мира. Его антагонизм к правящим классам старой России и их добровольным и невольным сторонникам позволяли ему отчетливо видеть не только их пороки и слабости, но и ничтожные и бесплодные достоинства, которыми они обладали. Здесь, как и в лучших примерах военного мышления, исключительная пристрастность действительно идет рука об руку с трезвой наблюдательностью. Для хорошего солдата нет ничего важнее, чем получить реальную картину «другого склона холма». Троцкий, командир Октябрьского восстания, действовал по этому принципу; и Троцкий-историк поступал точно так же. В своем изображении революции он достиг единства субъективных и объективных элементов.
Его историческое сочинительство настолько диалектично, как едва ли было любое иное произведение марксистской школы мысли со времен Маркса, у которого он позаимствовал свой метод и стиль. Рядом с небольшими историческими работами Маркса «Классовая борьба во Франции», «18-е брюмера Луи Бонапарта» и «Гражданская война во Франции» произведение Троцкого «История русской революции» выглядит как огромное настенное панно рядом с миниатюрой. Несмотря на то что Маркс возвышается над своим учеником в сфере силы абстрактного мышления и грубого воображения, его последователь превосходит учителя как эпический художник, особенно как мастер наглядного изображения масс и личностей в действии. Его социально-политический анализ и художественное видение находятся в такой гармонии, что тут нет и следа какого-либо расхождения. Мысль и воображение парят бок о бок. Он излагает свою теорию революции с напряженностью и напором рассказчика; и повествование черпает свою глубину из его идей. Его сцены, портреты и диалоги реалистичны до иллюзорности и в глубине своей освещаются его концепцией исторического процесса. Многие критики-немарксисты были под впечатлением от этой отличительной особенности его творчества. Вот, например, что говорит британский историк А. Л. Роуз:
«Настоящая ценность „Истории…“ Троцкого состоит не в силе его художественного слова, не в характере или сцене, хотя поистине его дар настолько ярок и резок, что непрерывно напоминает о Карлейле.[63] Есть тут близость техники, даже манеры письма: стремительные огни перемещаются по сцене и странные эпизоды демонстрируются с необыкновенной значимостью и четкостью рельефа, в какой-то степени присутствует та же трудность в прослеживании череды событий — и свет настолько же ослепляющий, можно добавить. Но там, где у Карлейля была всего лишь изумительная мощь интуиции, на которую можно положиться, у Троцкого есть теория истории, которая позволяет ему уловить, что действительно важно, и установить связь между вещами. Тот же элемент можно проиллюстрировать еще более точно сравнением с „Всемирным кризисом“ Уинстона Черчилля, ибо эти два человека не так уж не схожи в характерах и одаренности ума. Но тут вновь замечаешь разницу, потому что история г-на Черчилля, вся ее индивидуальность, ее яркость и энергия — точки, где он сходится с Троцким, — не имеют за собой философии истории».
Ремарка о сходстве между Троцким и Черчиллем верна: находясь на противоположных полюсах, эти люди представляют одну и ту же смесь реализма и романтизма, сходную сварливость, одинаковую склонность смотреть вперед и отрываться от своего класса и своей среды и тот же порыв творить и писать историю. Не стоит отрицать наличие у Черчилля «философии истории», даже если он придерживался ее сугубо инстинктивно; но верно и то, что у Троцкого была полностью сформировавшаяся и подробная теория. Что важно, так это то, что его теоретическое Weltanschauung[64] пронизывает его восприимчивость, усиливает его интуицию и возвышает его способность проникать в будущее. И хотя он, как и Карлейль, обладал мощью и ослепительной яркостью воображения, он также отличался лаконизмом и четкостью выражения и уравновешенностью величайших классических историков. Он воистину является единственным гениальным историком, которых до сих пор произвела марксистская школа мысли и также пока — отвергла.
Из двух главных исторических трудов Троцкого — «Моя жизнь» и «История…» — первая, конечно, менее честолюбива. Он написал ее, в некотором роде, слишком рано, хотя, если б он ее не написал в 1929 году или вскоре после этого, он бы, возможно, не написал ее вообще. В ней рассказывается в основном о первой половине его жизни, т. е. о революционном триумфе; и лишь схематично дается начало второй половины, которая все еще разворачивалась. Он закончил эту книгу после нескольких месяцев ссылки, лишь лет через пять после того, как борьба между ним и Сталиным началась всерьез. Конфликт был слишком свеж, и, пересказывая его, Троцкий был скован тактическими соображениями и отсутствием перспективы. То, что ему предстояло пережить в грядущие одиннадцать лет, было не только само по себе тяжело, но и наложило отпечаток на весь его прежний опыт: вся его жизнь стала отблеском трагедии из-за ее сурового и мрачного эпилога. Бросая вызов тем, кто рассуждал о его трагедии, он завершил «Мою жизнь» заявлением: «Я наслаждаюсь зрелищем всякой сцены, которая мне понятна», повторив это после Прудона. «То, что заставляет других чахнуть, меня возвышает… вдохновляет и укрепляет; как после этого… могу я оплакивать свою судьбу?» Повторил бы он эти слова несколько лет спустя? Если полагается, чтобы трагедия обязательно включала в себя кару главному герою, то Троцкий не являлся героем трагедии — его не удавалось покарать до самого конца. Как Шелли, который не мог вынести, что его Прометей кончит тем, что унизится перед Юпитером, так и Троцкий не был «расположен к столь жалкой катастрофе». Он пережил трагедию современного предтечи, вступившего в конфликт с современниками, трагедии, образец которой он сам видел в Бабефе[65] — только его драма была много крупнее и куда большей катастрофической мощи. Но в его автобиографии не было предчувствия даже такого рода трагедии, отчего остается впечатление некоей поверхностности во взглядах писателя на собственные успехи, поверхностной характеристики главного героя трагедии буквально перед тем, как на него со всех сторон обрушились несчастья.
Наименее убедительны последние главы «Моей жизни», где он рассказывает о своей борьбе со Сталиным. Даже тут он дает нам в изобилии примеры своей проницательности, множество эпизодов и словесных портретов, но не докапывается до корней и лишь отчасти объясняет восхождение Сталина на вершину власти. Он изображает Сталина слишком злодеем ex machina;[66] и рассматривает его (как делал это и в предшествующие годы) как слишком незначительную личность, чтобы быть соперником, не говоря о том, чтобы лидировать в Советском государстве и в мировом коммунизме на протяжении трех полных десятилетий. «Руководящей части партии (более широким кругам он был вообще неизвестен) Сталин всегда казался человеком, которому суждено играть вторую и третью скрипку», — говорит он и предполагает, что, хотя Сталин и добился роли первой скрипки, он скоро, очень скоро закончит свою пьесу. Можно вспомнить, что Ленин в своем завещании описывал Сталина как одного из «двух самых способных людей в Центральном Комитете» (вторым был Троцкий) и предупреждал партию, что вражда между этими двумя людьми является серьезнейшей опасностью для революции. Троцкий не мог замалчивать более широкие политические основания для возвышения Сталина, и показывает его как олицетворение партийного механизма и жадности новой бюрократии до власти и привилегий. И все же он не смог убедительно объяснить, почему ведущие кадры большевиков вначале способствовали узурпации им власти, а потом потворствовали ей и почему все это привело к таким чрезвычайным формам внутрипартийной борьбы. Как автобиограф (в не меньшей мере, чем лидер оппозиции) Троцкий фактически игнорирует сложную связь между подавлением большевиками всех остальных партий и внутренними репрессиями, в которых Сталин был главной действующей силой. Он не увидел, почему партия должна использовать имеющееся у нее оружие против самой себя куда более жестоко, чем против врагов; а ему эти действия кажутся результатом всего лишь какого-то «заговора».
И все-таки «Моя жизнь» остается автобиографическим шедевром. Франсуа Мориа напрямую сравнивает ее вступительные главы с описанием детства Толстым и Горьким. У Троцкого та же «детская» свежесть восприятия и почти такая же неистощимая зрительная память, та же способность воскрешения в памяти атмосферы и настроения и та же самая кажущаяся легкость в оживлении характеров и сцен. Описывая гримасу, жест или блеск в глазах одним-двумя небольшими штрихами, он передает истинную природу и душевную особенность человеческого существа. В этой манере он изображает целую галерею родственников, домашних слуг, соседей, школьных учителей и т. д. Вот несколько примеров, хотя его проза слишком сложно текстурирована, чтобы любой отрывок из нее хотя бы отдаленно был так же полон жизни, как в его контексте. Он описывает своего школьного преподавателя в Одессе: «Он никогда не смотрел в лицо человеку, с которым разговаривал; он бесшумно ходил по коридорам и по классам на резиновых подошвах. Он говорил негромким сиплым фальцетом, который, даже без повышения голоса, мог наводить страх… Человеконенавистник по природе… он казался уравновешенным, но внутренне постоянно находился в состоянии хронического раздражения». Один из учителей был «худым, с колючими усами на зеленовато-желтом лице; его зрачки были мутными, движения такими вялыми, как будто он только что проснулся. Он громко кашлял и плевался в классе… Несколько лет спустя он перерезал себе горло бритвой». Другой учитель: «Крупный и импозантный мужчина в золотых очках на крошечном носике, с полным лицом, обрамленным жидкой бородкой. Когда он улыбался, становилось видно… что он слабовольный, маленький человек, замученный внутренними противоречиями». И еще один: «Огромный немец с крупной головой и бородой, доходившей до пояса. Он носил свое тяжелое тело на почти детских конечностях. Это был самый честный человек, и он страдал из-за проделок своих учеников».
Нам дают увидеть «печать обреченности» на семьях соседей-помещиков, которые «с жуткой скоростью двигались в одном и том же направлении — к крушению». Когда-то «вся округа принадлежала одной из этих семей; но сейчас их отпрыск живет, сочиняя петиции, жалобы и письма за крестьян. Когда он заходил к нам в дом, он обычно прятал в рукав табак и кусочки сахара, а жена его делала то же самое. С горящими глазами она рассказывала нам истории о своей юности, в которой были крепостные, дорогие пианино, шелка и духи. Ее два сына выросли почти безграмотными. Младший, Виктор, был приказчиком в нашем магазине». А вот беглое знакомство с каким-то еврейским землевладельцем: он «получил образование аристократического типа. Он легко говорил по-французски, играл на фортепьяно… Левая его рука была недоразвитой, но правая вполне нормальной, как он выражался, для того, чтобы играть концерты… Часто останавливаясь посреди игры, он вставал и подходил к зеркалу. Потом, если никого не было рядом, он палил свою бороду со всех сторон горящей папиросой — таково было его представление о том, какой должна быть опрятная борода». А на фоне этой вереницы разорившихся помещиков и выскочек из крестьян, изнуренных работников и различных родственников всегда чувствовалось дыхание украинской степи: «Имя Фальц-Файн[67] звучало, как топот ног десяти тысяч овец, как блеяние бесчисленных овец, как переливы пастушьего свистка в степи… как лай множества собак-волкодавов. Сама степь дышала этим именем и в летнюю жару, и в зимнюю стужу».
Из среды, в которой проходило его детство, Троцкий переносит нас в первые революционные кружки Николаева, в тюрьмы Одессы и Москвы, колонии ссыльных в Сибири, а потом показывает нам плеяду редакторов «Искры», раскол на II съезде партии и рождение большевизма. Во всей литературе об этом периоде нет ни мемуаров, ни свидетельств очевидцев, которые бы так же ярко отразили картину раскола, как это мы видим в «Моей жизни». Тот факт, что в 1903 году Троцкий был меньшевиком, но писал как большевик, во многом связан с атмосферой и его изображением личностей. В ретроспективе он на стороне Ленина; но он также обязан отдать должное и себе, Мартову, Аксельроду и Засулич и объяснить, почему они пошли против Ленина. В отличие от почти всех большевистских и меньшевистских мемуаристов, он показывает каждую из противостоявших групп изнутри; и хотя теперь он политически осуждает меньшевиков и себя самого, он делает это с пониманием и симпатией. Еще до того, как ввести нас в курс политических противоречий, он заставляет нас почувствовать лежащее в основе столкновение характеров:
«Работая бок о бок с Лениным, Мартов — его ближайший товарищ по оружию — уже начал чувствовать себя неловко. Они еще обращались друг к другу по отчеству, но в их отношения стала закрадываться некая холодность. Мартов больше жил в настоящем… Ленин, хотя и твердо стоя в настоящем, уже пытался проникнуть взором сквозь завесу над будущим. Мартов развивал бесчисленные, часто оригинальные гипотезы и предложения, которые сам быстро забывал; а Ленин дожидался момента, когда в них возникнет необходимость. Детальная утонченность идей Мартова заставляла Ленина качать головой… Можно сказать, что даже перед разрывом… Ленин был „тверд“, а Мартов — „мягок“. И они оба знали это. Ленин бросал взгляды на Мартова, которого высоко ценил, с критическим и несколько подозрительным видом; а Мартов, чувствуя эти взгляды, опускал глаза вниз, а его узкие плечи нервно подергивались. Когда они встречались и разговаривали после этого, по крайней мере, в моем присутствии, не хватало дружеской интонации и шуток. Ленин, разговаривая, смотрел куда-то вдаль, а глаза Мартова становились безжизненными под его сползавшим и всегда нечистым пенсне. А когда Ленин разговаривал с Мартовым, в его голосе возникала особенная интонация: „Кто это сказал? Юлий?“ — и имя „Юлий“ произносилось особенным образом, слегка подчеркнуто, как будто с целью сделать предупреждение: „Хороший человек, тут никаких сомнений, даже замечательный, но слишком мягкий“».
Сразу возникает ощущение судьбоносности, возникшее в этот момент между двумя «ближайшими товарищами по оружию», и поражения, висевшего над хрупкой и неопрятной фигурой Мартова. Троцкий не забывает, как многим, будучи молодым, он был обязан Мартову; и поэтому, даже вынося свое окончательное суждение, он делает это со скорбной теплотой: «Мартов был… одной из самых трагических фигур революционного движения. Одаренный писатель, оригинальный политик, проницательный мыслитель — он стоял далеко вверху над… движением, лидером которого он стал. Но его мысли не хватало смелости; его проницательность была лишена воли. Чистое упрямство не могло ее заменить. Его первая реакция на события всегда походила на революционную. Однако, после размышлений, не имея поддержки в виде активной воли, он обычно отступал». Это отсутствие активной воли описано здесь как основной недостаток, разрушавший отважный ум и благородный характер. Насколько отлична следующая зарисовка Плеханова, сделанная со сдержанной антипатией:
«…он явно что-то чувствовал… По крайней мере, он говорил Аксельроду, имея в виду Ленина: „Из такого материала делают робеспьеров“. Сам Плеханов на съезде какой-либо завидной роли не играл. Только однажды я увидел и услышал его во всей его мощи. Это было на заседании комиссии по выработке Программы. С ярким, по-научному точным проектом Программы в уме, уверенный в себе, своих знаниях и превосходстве, с веселой иронической искоркой в глазах, седеющими колючими усами, слегка театральными, энергичными и впечатляющими жестами, Плеханов как председатель освещал все большое скопление своей личностью, как живой фейерверк эрудиции и остроумия».
Как потрясающа эта внешне льстивая картина человека с его самодовольством и тщеславием, прорывавшимися сквозь его блеск, и намек на фейерверк, который вот-вот пропадет во тьме.
Не менее побуждающими к размышлению и памятными являются портреты лидеров европейского социализма в довоенную (до 1914 года) эру: Августа Бебеля, Карла Каутского, Жана Жореса, Виктора Адлера, Рудольфа Гильфердинга, Карла Реннера и многих других. Короче говоря, часто через юмористические пассажи, связанные с каким-нибудь внешне тривиальным эпизодом, Троцкий рассказывает нам о времени и людях больше, чем это могут сделать много академических томов. Он, например, повествует о том, как в 1902 году после своего первого бегства из Сибири он остановился в Вене без гроша в кармане, голодный, но полностью осознающий важность своей миссии, и зашел в штаб социал-демократов, чтобы попросить помощи знаменитого Виктора Адлера на дальнейшую поездку в Лондон. Было воскресенье; учреждения были закрыты. На лестнице он встретил какого-то старого джентльмена, «который выглядел совсем недружелюбно», и ему он сказал, что должен видеть Адлера. «Вы знаете, какой сегодня день?» — сурово спросил этот господин. «Воскресенье, — сказал он и попробовал обойти незваного гостя. — Это не важно. Я хочу видеть Адлера». При этом человек, к которому «приставал» Троцкий, «ответил голосом командира, ведущего батальон в атаку: „Я говорю вам, доктор Адлер по воскресеньям не принимает!“ Троцкий попытался произвести на старика впечатление срочностью своего дела; но тот прогремел в ответ: „Даже если ваше дело в десять раз важнее — вы понимаете или нет? — даже если бы вы принесли новость — вы слышите меня? — что убили вашего царя, что в вашей стране произошла революция — вы слышите меня? — даже это не дало бы вам права нарушать отдых доктора в воскресенье!“ Это был Фриц Аустерлиц, знаменитый редактор „Arbeitzeitung“, этот „ужас своей редакции“, который в 1914 году станет самым шовинистическим пропагандистом войны.
На этой лестнице молодой революционер, недавно вынырнувший из российского подполья, налетел прямо на воплощение упорядоченного, иерархического, насквозь пропитанного бюрократией европейского социализма. В нескольких предложениях он описывает свою встречу с Адлером, которого ему в конце концов удалось отыскать: „Короткий мужчина с выраженной сутулостью, почти горбун, с глазами навыкате на усталом лице“. Троцкий извинился за причиненное беспокойство во время воскресного отдыха. „Продолжайте, продолжайте“, — ответил Адлер с кажущейся суровостью, но тоном, который меня не запугал, а, напротив, подбодрил. Была видна интеллигентность, излучавшаяся каждой морщинкой на его лице». Услышав рассказ о странной встрече на лестнице, Адлер удивился: «Кто бы это мог быть? Это высокий человек? И он с вами так разговаривал? Он кричал? О, это Аустерлиц. Вы говорите, он кричал? О да, это Аустерлиц. Не принимайте это близко к сердцу. Если когда-нибудь вы принесете весть о революции в России, можете звонить в мою дверь даже ночью!» Эти несколько строк сразу же сталкивают нас с еще одним элементом европейского довоенного социализма: восприимчивая интеллигентность старого лидера, который, однако, постепенно становится почетным пленником партийного старшины. Книга усеяна сотнями подобных лаконичных и впечатляющих случаев и диалогов.
Когда он подходит к вершинам своей жизни, Октябрьской революции и Гражданской войне, Троцкий описывает их с крайней сдержанностью, редкими, часто точечными мазками. Вот как, да еще при редких иллюстрациях, он изображает поток народных чувств, лежавших в основе короткого триумфа реакции в голодные и штормовые дни июля 1917 года, когда большевизм, казалось, был разбит, а Ленин, заклейменный немецким шпионом, ушел в подполье. Троцкий приводит нас в столовую в Петроградском Совете:
«Я заметил, что Графов (солдат, командовавший столовой) пододвигал ко мне стакан горячего чая или бутерброд получше, чем у других, при этом избегая моего взгляда. Очевидно, он симпатизировал большевикам, но был вынужден скрывать это от начальства. Я стал внимательнее осматриваться вокруг себя и убедился, что Графов был не один: весь низший персонал Смольного — носильщики, посыльные, охранники — были безошибочно на стороне большевиков. Потом я понял, что наше дело наполовину победило. Но пока это была лишь половина».
Детская ремарка, беглый взгляд на «запачканный воротничок» Ленина на следующий день после Октябрьского восстания, вид длинного, темного, забитого людьми коридора в Смольном, кипящего жизнью, как муравейник, гротескный эпизод, имевший место в разгар решающей битвы, и короткая беседа — в основном через такие детали он передает цвет и атмосферу исторической сцены. Его артистизм состоит в непрямом подходе к событиям, слишком огромным для того, чтобы описать их фронтально (в автобиографии), и слишком великим для высоких слов.
О «Моей жизни» говорилось, что она разоблачает эгоизм Троцкого и его «самодраматизацию». Автобиография — вещь эгоистическая по определению, а эти критики доходят до того, что утверждают, что Троцкому не следовало ввязываться в нее. Он сам мучился «марксистскими» угрызениями совести, которые не исчезали даже тогда, когда он писал заглавие этой книги. «Если бы я писал эти мемуары в других обстоятельствах, — извиняется он, — хотя в других обстоятельствах я бы едва ли их вообще написал, — я бы колебался, включить ли многое из того, что говорю на этих страницах». Но он был вынужден отражать лавину сталинских фальсификаций, которые покрывали каждую часть его жизни. «Мои друзья находятся либо в тюрьме, либо в ссылке. Я обязан выговориться… Здесь вопрос не только исторической правды, но также и политической борьбы, которая все еще продолжается». Он находился в положении человека на скамье подсудимых, обвиняемого во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, который пытается оправдаться, представляя суду полный отчет о своих деяниях, а потом на него орут за то, что он предубежденно относится к себе.
Это говорится не ради отрицания безошибочного наличия склонности Троцкого к эгоцентризму. Эта черта принадлежит его художественной натуре; она развилась в дореволюционные годы, когда он был сам по себе — ни большевик, ни меньшевик; а сталинские поношения, вынудившие его избрать тактику активной самозащиты, вывели эту черту на передний план. И все же можно говорить о его «самодраматизации», только если в автобиографии или в любой его биографии можно было бы выставить его жизнь в еще более драматичном свете, чем на самом деле. Кроме того, как мы это увидим позднее, он нисколько не преувеличил свою роль в революции. И в «Моей жизни», и в «Истории…» его настоящий герой не кто иной, как Ленин, в чью тень он сознательно себя помещает.
Кое-кто критиковал «Мою жизнь» за отсутствие самоанализа и за неспособность автора раскрыть свое подсознание. Разумеется, Троцкий не дает «внутренних монологов»; он не останавливается на своих снах или комплексах, соблюдает почти пуританскую сдержанность в отношении секса. Это, прежде всего, политическая автобиография — политическая в очень широком смысле. И все же уважение автора к разумной сути психоанализа проявляется в тщательности, с которой он описывает свое детство, где не упускает таких возможных улик для психоаналитика, как переживания и «происшествия» его детских лет, игрушки и т. д. (Повествование начинается словами: «Временами мне казалось, что я помню, как сосал материнскую грудь…») Он дает это дополнительное объяснение своей осторожности к фрейдистскому самоанализу. «Память… не безучастна, — говорит он в предисловии. — Нередко она подавляет либо загоняет в темный угол эпизоды, которые противоречат характеру индивидуального управляющего жизненного инстинкта… Однако это вопрос для „психоаналитической“ критики, которая иногда бывает изобретательной и поучительной, но чаще капризной и спорной». Он достаточно глубоко и сочувственно погружался в объект психоанализа, чтобы знать его подводные камни и ловушки, и у него не было ни времени, ни терпения на «причудливые и спорные» догадки о своем подсознании. Вместо этого он создает автопортрет, замечательный по осознанной цельности и человеческой теплоте.
В роли политического труда «Моя жизнь» не сумела достичь своей непосредственной цели: она не произвела впечатления на коммунистическую публику, для которой в первую очередь и была предназначена. Даже всего лишь чтение ее рядовым членом партии расценивалось как дерзость; и члены партии не читали эту книгу. Те немногие, кто все же прочел, чувствовали себя оскорбленными либо испытывали раздражение. Они были либо привержены культу личности Сталина, и для них книга подтверждала сталинские инсинуации о личных амбициях Троцкого; либо они были шокированы, видя, что лидер революции вообще занимается изображением собственного портрета. «Вот вам Троцкий — Нарцисс, поклоняющийся самому себе!» — таков был типичный комментарий. А поэтому коммунисты не обращали внимания на богатый исторический материал, который излагал перед ними Троцкий, на его способность проникновения в суть революции и его интерпретацию большевизма, из которой они смогли бы извлечь много уроков для самих себя. С другой стороны, книга нашла широкий круг читателей среди буржуазии, которая восхищалась ее литературными достоинствами, но которой была почти не нужна или вообще неинтересна ее основная идея: «Mein Leid ertönt der unbekannten Menge, Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang»,[68] — так Троцкий мог сказать о самом себе.
«История…» стала венцом его литературных трудов по масштабу и силе, а также самым полным выражением его идей о революции. Она занимает особое место в мировой литературе среди рассказов о революции, составленных одним из ее главных действующих лиц.
Он вводит нас в сцену 1917 года главой «Особенности российского развития», которая представляет события в глубокой исторической перспективе; и сразу же в этой главе признаешь обогащенную и зрелую версию его самого раннего изображения перманентной революции, датирующегося еще 1906 годом. Нам показывают Россию, входящую в XX век, не избавившись при этом от оков Средневековья, не прошедшую через Реформацию и буржуазную революцию, но, тем не менее, с элементами современной буржуазной цивилизации, пронизывающими ее архаическое существование. Вынужденная развиваться под превосходящим экономическим и военным давлением с Запада, она не могла пройти все фазы «классического цикла» западноевропейского прогресса. «Дикари внезапно отбросили свои луки и стрелы и поменяли их на винтовки, не пройдя дорогу, которая лежала между этими двумя видами оружия в прошлом». Современная Россия не могла провести собственную Реформацию или буржуазную революцию под руководством буржуазии. Ее крайняя отсталость неожиданно вынудила ее двигаться политически до той точки, которую Западная Европа уже достигла, и двигаться дальше ее — к социалистической революции. Из-за того, что ее слабая буржуазия была не способна сбросить иго полуфеодального абсолютизма, вперед в качестве революционной силы выступил ее небольшой, но компактный рабочий класс, в конечном итоге нашедший поддержку у мятежного крестьянства. Рабочий класс не мог удовлетвориться революцией, которая привела к установлению буржуазной демократии, — ему было необходимо бороться за реализацию социалистической программы. Таким образом, согласно «закону комбинированного развития», высокая степень отсталости имеет склонность к высокой степени прогресса, и это привело к взрыву 1917 года.
«Закон комбинированного развития» объясняет силу напряженности внутри общественной структуры России. Однако Троцкий относится к социальной структуре как к «относительно постоянному» элементу ситуации, которая сама по себе не учитывает события революции. В противоположность Покровскому[69] он считает, что ни в 1917 году, ни в предшествующее десятилетие в структуре российского общества не произошло никаких фундаментальных изменений — война ослабила и обнажила эту структуру, но не изменила ее. Национальная экономика и базовые отношения между общественными классами в широком смысле в 1917 году были такими же, что и в 1912–1914-м и даже в 1905–1907 годах. Что же тогда является прямой причиной взрывов в феврале и октябре, а также жестоких приливов и отливов революции в промежутке между этими двумя месяцами? Троцкий отвечает: перемены в психологии масс. Если бы структура общества была постоянным фактором, нравы и настроения масс были бы переменной составляющей, которая определяет приливы и отливы событий, их ритм и направление. «Самая очевидная черта революции — это прямое вмешательство масс в исторические события. Революция присутствует у них в нервах еще до того, как выходит на улицу». Поэтому «История», в большой степени, — это изучение психологии революционных масс. Тщательно рассматривая хитросплетения между «постоянным» и «переменным» факторами, Троцкий показывает, что революции вызываются не только тем, что общественные и политические институты давно обветшали и требуют, чтобы их свергли, но и теми обстоятельствами, что многие миллионы людей впервые услышали этот «зов» и узнали о нем. В общественной структуре революция созрела задолго до 1917 года; в умах масс она созрела лишь в 1917 году. Так что, как ни парадоксально, более глубокие корни революции лежат не в мобильности людских умов, а в их бездеятельном консерватизме; люди восстают массой, когда вдруг начинают осознавать свою умственную отсталость от времени и хотят возместить ее одним махом. Вот урок, который «История…» хочет внедрить в сознание: никакое великое потрясение в обществе не вытекает автоматически из разложения более старого порядка; в эпоху распада, не ведая об этом, могут жить целые поколения. Но когда под воздействием какой-нибудь катастрофы вроде войны или экономического коллапса они начинают это осознавать, происходит гигантский всплеск отчаяния, надежды и активности. Поэтому историк обязан «проникнуть в нервы» и умы миллионов людей, чтобы ощутить и передать мощный подъем, который переворачивает установленный порядок.
Академический педант, готовый перерыть горы документов, чтобы восстановить по ним единственный исторический эпизод, может сказать, что ни один историк не способен «войти в нервы» миллионов. Троцкий знает, какие стоят перед ним трудности: проявления массового сознания бессистемны и разбросаны, а это может привести историка к спорным построениям и ложным предчувствиям. Но он указывает, что этот историк, тем не менее, может проверить истинность или ложность его изображения массового сознания с помощью некоторых строго объективных тестов. Он обязан точно следовать внутренним свидетельствам событий. Он может и должен проверять, согласуется ли с самим собой это движение массового сознания; обязательно ли каждая фаза его вытекает из того, что происходило до этого, и явно ли оно ведет к тому, что происходит после этого. Далее он обязан обдумать, согласуется ли поток массового сознания с ходом событий: отражаются ли настроения масс в событиях, а те, в свою очередь, отражают ли настроения масс? Если утверждают, что ответы на такие вопросы должны быть туманными и субъективными, то Троцкий отвечает, при этом ссылаясь на марксистский манер на практику как на критерий истины. Он отмечает, что то, что он делает как историк, большевистские лидеры делали, когда совершали революцию: полагаясь на анализ и наблюдения, они делали предположения об умонастроениях масс. Все их важнейшие политические решения основывались на этих «догадках»; и ходу революции суждено было доказать, что, несмотря на пробы и ошибки, они были в общих чертах верны. Если в общих чертах корректное изображение политических эмоций и чувств миллионов революционер мог сформировать в пылу боя, то почему он не смог бы нарисовать эту картину после событий.
Стиль, в котором Троцкий описывает массы в действии, имеет много общего с методом Эйзенштейна,[70] использованном в классическом «Броненосце „Потемкин“». Он отбирает из толпы несколько человек, выставляет напоказ в момент возбуждения или апатии и дает им возможность выразить свое настроение фразой или жестом; потом он вновь показывает нам эту плотную и разгоряченную толпу, раскачиваемую приливными эмоциями или приведенную в движение; и мы сразу же признаем, что вот они — эмоции или действия, которые предрекались отдельной фразой или жестом. Он обладает особым даром подслушивания множества людей, когда они размышляют вслух, и позволяет нам услышать их ради нас самих. В осмыслении и изображении он постоянно переходит от общего к частному и назад к общему, и этот пассаж никогда не выглядит неестественным или вымученным. Тут опять вспоминается сравнение Троцкого с Карлейлем; но это сравнение скорее подсвечивает контраст между ними, нежели сходство. В книгах обоих авторов многие характеры, преобладающие черты зависят от массовых сцен. Оба заставляют нас чувствовать стихийную «силу восставшего народа, так что мы видим ее, как если бы наблюдали оползень или лавину в движении». Но если толпы Карлейля движимы только эмоциями, у Троцкого они размышляют. Они стихийны, и все же они человечны. Массы у Карлейля окутаны в пурпурный туман мистицизма, что предполагает, что революционный народ Франции — орудие Божьей кары, слепо несущее возмездие грешному правящему классу. Его массы приводят нас в восторг и вызывают отвращение. Он «входит в нервы», но лишь после того, как сам потрудился до безумия, — он сам целиком состоит из нервов и во власти приступа галлюцинаций. Троцкий рисует массовые сцены с не менее впечатляющим натиском богатого художественного воображения, но при этом с кристальной ясностью. Он позволяет нам ощутить, что отныне люди творят собственную историю, и делают это в соответствии с «законами истории», но также и через свое сознание и волю. И этими людьми, пусть даже они неграмотны и грубы, он гордится; и он хочет, чтобы и мы гордились ими. Для него революция — тот короткий, но чреватый важными последствиями момент, когда униженные и притесняемые получают, наконец, свое слово. В его глазах этот момент искупает вину веков угнетения. Он то и дело возвращается к нему с ностальгией, которая придает этому воспроизведению яркую и отчетливую рельефность.
Однако Троцкий не переоценивает роли масс. Он не противопоставляет их партиям и лидерам, как это делает, например, Кропоткин, великий анархист-историк французской революции, который стремился доказать, что всякое продвижение революции происходит благодаря стихийным народным действиям, а каждое поражение приписывал интригам и искусному управлению государственными делами политиканами. Троцкий видит в массах движущую силу переворота, но все же силу, которая нуждается в концентрации и управлении. Управление может обеспечить только партия. «Без руководящей организации энергия масс будет растранжирена подобно пару, не запертому в цилиндре двигателя». На этой идее базируются огромные контрасты, которые он изображает между двумя революциями 1917 года. Февральская революция была в основном делом самих масс, чья энергия оказалась достаточно мощной для того, чтобы заставить отречься царя и породить Советы. Но потом эта энергия была растрачена еще до того, как решилась хотя бы одна из множества проблем, и тем позволила князю Львову стать главой правительства. Октябрьская революция была преимущественно творением большевиков, которые концентрировали и направляли энергию масс.
Однако в представлении Троцкого отношения между классами и партиями куда более сложны, чем может предположить любое механическое сравнение. Он показывает утонченное взаимодействие многих объективных и субъективных факторов. То, что руководит партией в этом действии, — это, главным образом, определенный классовый интерес. Но связь между классом и партией часто запутана и иногда двусмысленна; к тому же в революционную эру она и весьма нестабильна. Даже если партия в конечном итоге управляется ее ядром из какого-то конкретного класса, в нее могут быть завербованы последователи из другого, потенциально враждебного класса. Также партия может оказаться впереди своего класса и проповедовать программу, которую этот класс еще не готов принять, но под натиском событий будет вынужден принять; и т. д., и т. п. В революции рушится традиционный политический баланс сил, и внезапно обретают форму новые расстановки сил. «История…» Троцкого — великое исследование динамики этих процессов.
Мы уже говорили, что Троцкий не скрывает своей враждебности к врагам Октябрьской революции. Чтобы изложить это более точно, он сражается с ними перед трибуналом истории как обвинитель; и тут он наносит им во второй раз поражение, подобное тому, что уже наносил на улицах Петрограда. Как правило, это не та роль, которая соответствует историку. И все же в истории, как и в юриспруденции, бывает, что обвинитель может представить наиболее полную возможную истину по разбираемому делу — а именно когда он обвиняет лиц на скамье подсудимых в преступлениях, которые они действительно совершили; когда он не преувеличивает их вину; когда он проникает в их состояние и мотивы и отдает должное смягчающим обстоятельствам; когда он поддерживает каждый пункт обвинительного акта подробными и вескими доказательствами и, наконец, когда подсудимые, имея полную свободу опровергнуть доказательства, не только не могут сделать этого, но и громко ссорятся между собой на скамье подсудимых, это только подтверждает истину. Таков стиль, в котором Троцкий выполнял свои обязанности. Когда его «История…» была опубликована, да и многие годы после этого большинство вождей антибольшевистских партий вроде Милюкова, Керенского, Церетели, Чернова, Дана, Абрамовича и других были живы и действовали в эмиграции. И никто из них не выставил напоказ ни единого изъяна в ткани фактов, которую он представил; и никто, за частичным исключением Милюкова, не пытался всерьез создать альтернативный рассказ.[71]
И посему (поскольку ни одной истории, достойной этого, пока не было создано и в Советском Союзе) труд Троцкого уже пятое десятилетие после Октября остается единственной полномасштабной историей революции. И это не случайно. Все остальные главные действующие лица, вновь за частичным исключением Милюкова, так запутались в своих противоречиях и провалах, что не были способны представить полностью собственные более или менее гармоничные версии. Они отказывались возвращаться в ипостаси историков на поле смертельной битвы, где каждая достопримечательность и, фактически, каждая пядь напоминает им об их позоре. Троцкий вновь посещает это поле сражений с чистой совестью и поднятой головой.
И тем не менее, в его «Истории…» нет настоящих злодеев. Он, как правило, не описывает врагов большевизма коррумпированными и развращенными людьми. Он не лишает их личных достоинств и чести. Если они, тем не менее, и подвергаются осуждению, то это потому, что то показывает их защитниками не имеющих оправдания дел, отставшими от времени, поднятыми событиями на высоту ответственности, до которой они духовно не доросли, и потому что у них вечный разлад между словом и делом. Злодеяние, которое он изобличает, лежит скорее в архаической социальной системе, чем в отдельных личностях. Его детерминистский взгляд на историю позволяет ему относиться к соперникам не снисходительно, но справедливо, а временами и щедро. Когда он описывает врага, он показывает его самодовольным, важничающим, подавляющим своим авторитетом и сокрушает его своей иронией или возмущением. Нередко, однако, он перестает отдавать дань уважения прошлым достижениям, честности и даже героизму какого-нибудь соперника и вздыхает по поводу падения личности, достойной лучшей участи. Когда он описывает обанкротившегося соперника, то опирается на неизбежность происходящего и ликует при этой исторической справедливости; но иногда ликование стихает, и он бросает сочувственный взгляд — обычно последний взгляд — на поверженную жертву.
Он никогда не изображал врагов революции чернее, чем они красили друг друга. Часто он красит их в менее черный цвет, потому что ведет критический анализ их взаимной неприязни и зависти и делает поправку на преувеличение в тех жестоких оскорблениях, которыми они обменивались. Он ведет себя по отношению к царю не более безжалостно, чем Витте, Милюков, Деникин и даже более ортодоксальные монархисты. Он даже «защищает» царя от либеральных критиков, которые утверждали, что с помощью своевременных уступок царь мог бы избежать катастрофы. Троцкий возражает, что Николай II сделал немного уступок, да и не мог бы сделать больше, ради самосохранения. Как в «Войне и мире» Толстого, так и у Троцкого царь является «рабом истории». «Николай II получил от своих предков не только гигантскую империю, но и революцию. И они не передали ему по наследству ни одного качества, которое позволило бы ему управлять империей, или даже провинцией, или какой-нибудь страной. Историческому наводнению, которое все ближе и ближе подкатывало свои волны к воротам его дворца, последний Романов противопоставил лишь глухое безразличие». Он проводит памятную аналогию между тремя обреченными монархами: Николаем II, Людовиком XVI и Карлом I, а также между их супругами. Главной чертой характера Николая была не жестокость или глупость, но «скудость внутренних сил, слабость нервной разгрузки, бедность духовных ресурсов». «И Николай и Людовик производили впечатление людей, загруженных сверх меры, но в то же время не желающих уступить хотя бы часть тех прав, которые сами не в состоянии были использовать». Каждый шел к пропасти «с короной, нахлобученной на глаза». Но, замечает Троцкий, «разве было бы легче… идти к пропасти, которую никак не можешь избежать, с широко открытыми глазами?». Он показывает, что в решающие моменты, когда на этих троих суверенов обрушилась их судьба, они были неразличимо похожи друг на друга, потому что «на щекотку люди реагируют по-разному, а на красное раскаленное железо — одинаково». Что же до царицы и Марии-Антуанетты, то они обе «были предприимчивы, но с куриными мозгами», и обе «в то время, когда тонули, видели радужные сны».
А вот как он изображает кадетов, меньшевиков и эсеров. Милюков: «Профессор истории, автор важных научных работ, основатель партии конституционных демократов (кадетов)… совершенно лишенный того несносного, полуаристократического и полуинтеллектуального дилетантства, которое свойственно большинству русских либералов-политиканов. Милюков свою профессию воспринимал очень серьезно, и одно это уже выделяет его». Русская буржуазия его не любила, потому что «[он] прозаически и трезво, без прикрас выражал политическую сущность российской буржуазии. Пристально разглядывая себя в зеркале Милюкова, буржуа замечал, что сам он скучен, эгоистичен и труслив; и, как это часто бывает, он обижался на зеркало». Родзянко, этот лорд Чемберлен при царе, ставший одним из лидеров февральского режима, являет собой гротескную фигуру: «Получив власть из рук заговорщиков, мятежников и цареубийц, [он] в те дни имел озабоченный вид… ходил на цыпочках вокруг пламени революции, задыхаясь от дыма и приговаривая: „Пусть она сгорит до углей, а потом мы попробуем что-нибудь состряпать“.
Меньшевики и социалисты-революционеры у Троцкого, конечно, имеют мало общего с безликими эсеровскими фантомами, которых обычно изображали в сталинской и даже постсталинской литературе. Каждый из них принадлежит своей породе, но имеет свои личные черты характера. Вот, например, набросок образа Чхеидзе — меньшевистского председателя Петроградского Совета: „Он старался при исполнении своих обязанностей использовать все запасы добросовестности, скрывая постоянное отсутствие уверенности в себе за ширмой изобретательной шутливости. Он носил в себе неискоренимый отпечаток своей провинции… горной Грузии… этой Жиронды русской революции“. „Самая достойная фигура“ этой Жиронды, Церетели, провел многие годы на сибирской каторге и все же остался радикалом южнофранцузского типа. В условиях обычной парламентской рутины он чувствовал себя как рыба в воде. Но он родился в эпоху революции и отравился в юности дозой марксизма. В любом случае, из всех меньшевиков Церетели… открыл широчайший горизонт и [сильнейшее] желание проводить последовательную политику. По этой причине он, более чем кто-либо другой, поддерживал уничтожение февральского режима. Чхеидзе полностью подчинялся Церетели, хотя временами он и пугался этой доктринерской прямолинейности, которая заставила вчерашнего революционера-каторжанина объединиться с консервативными представителями буржуазии».
Скобелев, когда-то ученик Троцкого, похож на студента, «играющего роль государственного деятеля на самодельной сцене».
Что касается Либера:
«Если первой скрипкой в оркестре… был Церетели, то пронзительным кларнетом был Либер, игравший во всю мощь своих легких и до того, что кровь приливала к глазам. Это был меньшевик из Еврейского Рабочего Союза (Бунда) с долгим революционным прошлым, очень честный, очень темпераментный, очень красноречивый, очень ограниченный и страстно желающий показать себя несгибаемым патриотом и железным государственным деятелем… вне себя от ненависти к большевикам».
Чернов, бывший участник циммервальдского движения, ныне министр в правительстве Керенского:
«Скорее начитанный, чем образованный человек со значительными, но бессистемными познаниями, Чернов всегда имел в своем распоряжении безграничный набор нужных цитат, которые долгое время захватывали воображение российской молодежи, но учили немногому. Был лишь один вопрос, на который этот многословный лидер не мог ответить: кого он ведет и куда? Эклектические формулы Чернова, приукрашенные нравоучениями и стихами, какое-то время объединяли самую разнообразную публику, которая в критические моменты разбегалась в разные стороны. Неудивительно, что Чернов приятно контрастирует своими методами формирования партии с ленинским „сектантством“… Он решил избегать каких-либо вопросов, воздержание от голосования стало для него формой политической жизни… При всех различиях между Черновым и Керенским, которые друг друга ненавидели, оба они вырастали из дореволюционного прошлого — из старого вялого русского общества, из этой малокровной и надменной интеллигенции, сжигаемой желанием учить народные массы, быть их опекунами и покровителями, но при этом полностью неспособной слушать эти массы, понимать их и учиться у них».
Что отличает большевиков Троцкого от всех других партий — это как раз способность «учиться у масс» так же, как и учить их. Но они учатся и отвечают этой задаче не без нежелания и внутреннего сопротивления; и, когда Троцкий подводит итог прославлением революции и ее партии, у читателя возникает вопрос: а как долго собираются большевики «учиться у масс»? Партия, которую он нам показывает, очень отличается от «железной фаланги», которая по официальной легенде шагает вперед непреклонно и непреодолимо, свободная от всех человеческих недостатков, вперед к предопределенной цели. Не то чтобы у большевиков Троцкого не было «железа», целеустремленности и мужества; но они обладают этими качествами в дозах, присущих человеческому характеру и распределенных весьма неравномерно среди лидеров и рядовых членов. Мы видим их в ярчайшие моменты, когда, несмотря на изоляцию, оскорбления и насилие, они сохраняют надежду и продолжают борьбу. Они не имеют равных среди противников по части самоотверженной преданности делу. В их изображении всегда присутствует величие цели и характера. Но мы также видим их и в состоянии смятения и замешательства, когда их лидеры — недальновидны и робки, а рядовые члены застенчиво и неуклюже пробираются на ощупь в темноте. По этой причине Троцкого обвиняли в том, что он представляет карикатуры на большевизм. Ведь в решающий момент колебания и раскол подавляются и преодолеваются, а сомнение уступает место уверенности. То, что партии приходилось бороться с собой и с врагами, чтобы возвысить свою роль, не умаляет ее заслуг — это делает заслуги еще величественней. Троцкий не лишает политического уважения даже Зиновьева, Каменева, Рыкова, Калинина и других, которые уклонялись от риска октябрьского рывка; если его повествование и дискредитирует их, то только потому, что после этого события они выставляли себя неослабными лидерами этой железной фаланги.
«История…» выдвигает на первый план два крупных «внутренних кризиса» большевизма в год революции. В первом случае Ленин, только что вернувшийся из Швейцарии, обнародует свои «Апрельские тезисы» и политически «перевооружает» свою партию для войны против февральского режима; во втором — на предпоследней стадии революции сторонники и противники восстания столкнулись лицом к лицу в большевистском ЦК. В обоих кризисах в центре внимания долгое время находится узкий круг лидеров. Тем не менее, эти сцены запечатлены в нашем сознании так же глубоко, как и широкие, величественные картины Февральского восстания и Октябрьской революции или как несколько горестных дней июля, когда происходил спад движения. В обоих кризисах нас заставляют почувствовать, что судьба революции зависела от немногих членов Центрального комитета: их голоса решали, то ли энергия масс будет растрачена впустую, а массы разбиты, то ли двигаться к победе. Проблема масс и лидеров исследуется во всей ее остроте; и почти сразу же внимание фокусируется и сосредотачивается на единственном лидере — Ленине.
И в апреле и в октябре Ленин остается почти одиноким, непонятым и отвергнутым своими поборниками. Члены Центрального комитета готовы сжечь письмо, в котором он призывает их готовиться к восстанию; и он решается «начать войну» против них и, если потребуется, обратиться к рядовым членам партии, хотя это и запрещено партийной дисциплиной. «Ленин не доверял Центральному Комитету — без Ленина», — комментирует Троцкий; и «Ленин был не так не прав в своем недоверии». И все же в каждом кризисе он в конечном итоге убеждал в верности своей стратегии и бросал партию в бой. Его дальновидность, реализм и сконцентрированная воля возникают из рассказа как решающие элементы исторического процесса, по крайней мере, равного по важности стихийной борьбе миллионов рабочих и солдат. Если их энергия была «паром», а большевистская партия — «цилиндром», то Ленин был машинистом.
И тут Троцкий подступает к классической проблеме личности в истории; и здесь он, вероятно, наименее успешен. Его основанный на фактах отчет о деятельности Ленина безупречен. Ни на одной из стадий нельзя сказать, что здесь, в той или этой точке Ленин не действовал, а другие большевики не вели себя так, как это описывает Троцкий. Не совершает он и ошибки и не стремится представить Ленина независимым творцом событий. «Ленин не противостоял партии извне, а сам являлся ее самым полным выражением», — уверяет он нас и неоднократно показывает, что Ленин просто переводил в четкие формулы и действия те мысли и настроения, которые волновали простых людей, и что поэтому он в итоге победил. Лидер и массы действуют в унисон. В этом глубокая гармония между Лениным и его партией, даже когда у него возникают противоречия с Центральным комитетом. Точно так же, как большевизм не случайно вошел в историю, так и роль Ленина не была случайной: он был «продуктом всего прошлого… вросшим в это прошлое глубочайшими корнями». Он был не «творцом революционного процесса»; а всего лишь звеном, «великим звеном» в цепи объективных исторических причин.
Однако, отводя Ленину место звена в этой цепи, Троцкий затем дает знать, что без этого звена цепь рассыпалась бы на кусочки. Он задает вопрос, что бы случилось, если б Ленину не удалось вернуться в Россию в апреле 1917 года: «Можно ли… уверенно сказать, что партия нашла бы свою дорогу без него? Мы бы никоим образом не осмелились сказать это». Вполне допустимо, добавляет он, что «дезориентированная и расколотая партия могла бы упустить революционную возможность на многие годы». Если в «Истории…» Троцкий выражает свое мнение с осторожностью, то в других местах он везде ставит точки над «i». В письме Преображенскому из Алма-Аты он говорит: «Вы лучше меня знаете, что, если бы Ленину не удалось приехать в Петроград в апреле 1917 г., Октябрьской революции не было бы». В своем «Французском дневнике» Троцкий категорически утверждает: «Если бы в 1917 г. в Петрограде не было меня, Октябрьская революция все равно бы произошла — при условии, что там был бы Ленин и руководил ею. Если бы в Петрограде не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции: руководство большевистской партии не позволило бы ей произойти — в этом я не имею ни малейшего сомнения!» Если здесь Ленин все еще не «творец истории», то только в смысле, что он не делал революцию ex nihilo:[72] распад социальной структуры, «пар» энергии масс, «цилиндр» большевистской партии (который сконструировал и построил Ленин) — все это должно быть в наличии, чтобы он смог сыграть свою роль. Но даже если бы все эти элементы были, говорит Троцкий, без Ленина большевики «упустили бы революционный шанс на много лет вперед». На сколько лет? Пять, шесть? А может быть, тридцать, сорок? Мы не знаем. В любом случае, без Ленина Россия продолжала бы жить при капиталистических порядках или даже при реставрированном царизме, возможно, неопределенно долго; и, по крайней мере, в этом столетии история была бы совсем не той, какая она есть.
Для марксиста — это потрясающее заключение. По общему признанию, спор имеет привкус схоластики, и историк не может разрешить его ссылкой на эмпирическое доказательство: он не может узаконить революцию, держать Ленина вне поля действия и наблюдать, что произойдет. Однако если эта тема прослеживается чуть дальше, то это делается не ради спора, а ради света, который он проливает на нашего главного героя. Здесь взгляды Троцкого-историка находятся под тесным влиянием опыта и настроения Троцкого, лидера разгромленной оппозиции — сомнительно, выражал ли он ранее в своей карьере взгляд, который так противоречит существу марксистской интеллектуальной традиции.
В свете этой традиции весьма характерна знаменитая статья Плеханова «Роль личности в истории». Подобно другим теоретическим трудам Плеханова, она оказала воспитательное влияние на несколько поколений российских марксистов. Плеханов обсуждает эту тему в терминах классического противоречия между необходимостью и свободой. Он не отрицает роли личности; он согласен с изречением Карлейля, что «великий человек — это новичок»: «Это очень удачное определение. Великий человек — это именно новичок, потому что он видит дальше, чем другие, и желает чего-то сильнее, чем другие». Отсюда и «колоссальное значение» в истории, и «жуткая власть» великого лидера. Но Плеханов настаивает на том, что лидер — всего лишь орган исторической потребности или необходимости и что необходимость создает этот орган, когда нуждается в нем. Поэтому не бывает «незаменимых» великих людей. Любая историческая тенденция, если она достаточно глубока и широка, выражает себя через определенное количество людей, а не только через некоторого индивидуума. Обсуждая Французскую революцию, Плеханов задает вопрос, аналогичный тому, который ставит и Троцкий: каков был бы курс революции без Робеспьера и Наполеона?
«Давайте представим себе, что Робеспьер являлся абсолютно необходимой силой в своей партии; но даже так он был не один. Если бы случайно упавший кирпич убил его, скажем, в январе 1793 г., его место конечно же было бы занято кем-то другим; и, хотя эта другая личность могла бы уступать ему во всех отношениях, события, тем не менее, шли бы тем же путем, что и при Робеспьере… Вероятно, Жиронда не избежала бы разгрома; может быть, партия Робеспьера утратила бы власть несколько раньше., или позже, но она бы определенно пала…»
Как полагает Троцкий, если бы Ленина, скажем, в марте 1917 года убило кирпичом, большевистской революции не произошло бы ни в том году, ни «в течение многих последующих лет». Тем самым падение кирпича повернуло бы могучее течение истории в какое-то другое направление. Дискуссия о роли личности в истории превращается в дебаты о случае в истории, дискуссию на тему основ философии марксизма. Плеханов завершает свой спор, заявляя, что такие случайные «изменения курса событий могут, до некоторой степени, повлиять на последующую политическую… жизнь Европы», но что «ни при каких обстоятельствах конечный результат революционного процесса не будет „противоположным“ тому, каким он вышел. Благодаря особым качествам своего интеллекта и характера влиятельные личности могут изменить отдельные свойства событий и некоторые конкретные последствия, но они не могут изменить общей тенденции, которая определяется другими силами». Троцкий намекает, что личность Ленина изменила не только «отдельные свойства событий», но и генеральную тенденцию — без Ленина общественные силы, составлявшие эту тенденцию и входившие в нее, были бы неэффективны. Это утверждение плохо согласуется с Weltanschauung[73] Троцкого и с еще многими другими вещами помимо этого. Если бы и вправду все великие революции не могли свершиться без какого-то конкретного лидера, тогда культ лидера в целом ни в коем случае не был бы абсурден; а его осуждение историческими материалистами от Маркса до Троцкого и отрицание его всем прогрессивным мышлением было бы бессмысленным.
Очевидно, Троцкий становится жертвой «оптического обмана», о котором говорит Плеханов в своем споре с историками, которые настаивают, что роль Наполеона была решающей, потому что никто не смог занять его место с такой же или сходной результативностью. Эта «иллюзия» состоит в том факте, что лидер кажется незаменимым, потому что, заняв свое место, он не дает занять его другим.
«Выступив вперед [в роли „спасителя порядка“]… Наполеон сделал невозможным для всех остальных генералов сыграть эту роль; а некоторые из них могли бы сыграть ее так же или почти так же, как он. Едва потребность общества в энергичном военном лидере удовлетворена, социальная организация преграждает путь к этому посту… всем другим одаренным воинам… Сила личности Наполеона представляется нам в крайне преувеличенной форме, потому что мы наделяем его силой социальной организации, которая вывела его в передние ряды и удерживала там. Его сила кажется нам совершенно исключительной, потому что другие силы, подобные его личной, не превратились из потенциала в действительность. И когда нас спрашивают: „А что случилось бы, если б не было Наполеона?“, наше воображение приходит в замешательство, и нам кажется, что без него социальное движение, на котором основывались его сила и влияние, не могло бы существовать».
Подобным же образом, можно утверждать, влияние Ленина на события представляется нам здорово преувеличенным, потому что, как только Ленин занял место вождя, он исключил для других возможность занять это место. Конечно, невозможно сказать, кто бы занял его место, не будь там Ленина. Это мог быть и сам Троцкий. Неспроста такие известные революционеры, как Луначарский, Урицкий и Мануильский, споря летом 1917 года и сравнивая Ленина и Троцкого, соглашались, что в тот момент Троцкий затмевал Ленина, — и это когда на месте был и Ленин. Хотя влияние Ленина на большевистскую партию было решающим, Октябрьское восстание фактически было проведено по плану Троцкого, а не Ленина. Если б не было ни Троцкого, ни Ленина, вперед выступил бы кто-то другой. Тот факт, что среди большевиков вроде бы не было никого другого их масштаба и репутации, вовсе не доказывает, что в их отсутствие такой человек не появился бы. История действительно имеет ограниченное число вакансий на посты великих вождей, и, как только эти вакансии заполнены, потенциальные кандидаты лишаются возможности развиться и достичь «реализации своих способностей». Надо ли утверждать, «что они не достигли бы этого ни при каких обстоятельствах»? И не могли ли сыграть роль Ленина или Троцкого лидеры меньшего веса с той разницей, возможно, что меньшие люди вместо того, чтобы «позволить судьбе управлять» ими, позволят ей «тащить себя волоком»?
Это факт, что почти все великие вожди или диктаторы кажутся незаменимыми при их жизни, а после кончины кто-то занимает их место — обычно тот, кто своим коллегам кажется наименее подходящим кандидатом, «посредственностью», которой суждено играть роль второй или третьей скрипки. Отсюда удивление столь многих, когда впервые увидели Сталина в роли преемника Ленина, а потом Хрущева в качестве наследника Сталина, — удивление, являющееся побочным продуктом оптической иллюзии по поводу незаменимого колосса. Троцкий утверждает, что только гений Ленина мог справиться с задачами русской революции, и часто дает знать, что в других странах революция, чтобы победить, также обязана иметь партию вроде большевистской и лидера наподобие Ленина. Никто не возражает против экстраординарных способностей и характера Ленина или против того, что большевизму повезло, что Ленин оказался во главе этого движения. Но разве в наше время китайская и югославская революции не одержали победы под руководством партий, весьма отличавшихся от большевистской в 1917 году, и при лидерах меньшего, даже много меньшего веса? В каждом случае революционная тенденция находила или создавала свой орган на том человеческом материале, какой был под рукой. И если кажется невозможным допустить, что Октябрьская революция произошла бы без Ленина, то наверняка возможно и противоположное допущение, что кирпич, упавший с какой-нибудь крыши в Цюрихе в начале 1917 года, изменил бы судьбы человечества в этом столетии.
Добавим, что это последнее мнение плохо согласуется с основной философией Троцкого и концепцией революции, которую он не мог подкреплять последовательно. Так, в «Преданной революции», написанной несколько лет спустя, он утверждает:
«Качество руководства, конечно, далеко не безразлично… но не является единственным фактором и в конечном счете не является решающим… Большевики… победили… не из-за личного превосходства их вождей, а благодаря новому соотношению социальных сил… [Во французской революции также] в последовательной смене лидерства Мирабо, Бриссо, Робеспьера, Барраса и Бонапарта есть подчинение объективному закону, несравненно более действенному, чем особые свойства самих главных действующих лиц истории».[74]
Как уже указывалось, «оптический обман» Троцкого больше проливает свет на него самого и состояние его ума в эти годы, чем на Ленина. Он создает «Историю…» только после того, как началась оргия сталинского «культа личности», и его мнение о Ленине — негативное отражение этого культа. Он опротестовывает «незаменимого» Сталина в пользу «незаменимого» Ленина. Кроме того, ввиду апатии и аморфности советского общества в те годы лидер виделся значительно важнее и серьезней, чем в 1917 году, когда вся масса народа бурлила политической энергией и активностью. Троцкий в своем поражении тоже обретал черты личности исключительной, даже великой. Как историк он проецировал гигантский призрак лидера на экран 1917 года и формулировал свою защиту: «Из исключительного значения, которое имел приезд Ленина, вытекает единственный вывод, что лидеры создаются не случайно, что они постепенно отбираются и воспитываются в течение десятилетий, что их нельзя заменить по прихоти, что их механическое исключение из борьбы наносит партии тяжелую рану и во многих случаях может парализовать ее на долгое время». В своем дневнике он извлекает еще более недвусмысленную мораль:
«…Считаю, что работа, которой я занят сейчас [оппозиция Сталину и создание 4-го Интернационала], несмотря на ее недостаточный и фрагментарный характер, есть самое важное дело моей жизни — более важное, чем 1917 г., более важное, чем период гражданской войны или что-либо другое… Я не могу говорить об „обязательности“ своей работы даже в период с 1917 по 1921 гг., но сейчас моя работа „обязательна“ в полном смысле этого слова. В этом утверждении вовсе нет наглости. Крушение двух Интернационалов породило проблему, которую никто из лидеров этих Интернационалов не способен был решить. Превратности личной судьбы столкнули меня с этой проблемой и вооружили важным опытом в обращении с ней. Сейчас нет никого, кроме меня, кто мог бы выполнить эту миссию вооружения нового поколения революционным методом… Мне надо, по крайней мере, примерно пять лет непрерывной работы, чтобы оставить хорошее наследие».
Ему необходимо было почувствовать, что лидер, будь то Ленин в 1917 году или он сам в 30-х годах, является незаменимой величиной, — из этого убеждения он черпал силы для своих одиноких и героических усилий. И теперь, когда он один из целого поколения большевиков выступал против Сталина, никто в самом деле не мог занять его место. Но как раз потому, что он был одинок и незаменим, столь много его труда было затрачено впустую.
Совершенно независимо от за и против в этом споре чувства Троцкого по отношению к Ленину требуют дальнейшего разъяснения. Можно процитировать мнения этих двух современников. «Троцкий обидчив и не допускает возражений. Только в своих отношениях с Лениным после их союза он всегда проявлял трогательное и мягкое уважение. Со скромностью, характерной для истинно великих людей, он признавал превосходство Ленина» — так писал Луначарский в 1923 году в начале антитроцкистской кампании. Крупская, беседуя в начале 30-х годов с известным иностранцем, не коммунистом, и зная, что ее подслушивают и что ее слова будут доложены Сталину, также отмечала «деспотический и трудный характер» Троцкого, но добавляла: «Он очень глубоко любил Владимира Ильича; узнав о его смерти, он побледнел и два часа не мог прийти в себя». Эта любовь и признание превосходства Ленина очевидны во всех послереволюционных высказываниях Троцкого о Ленине. Еще в сентябре 1918 года после покушения Доры Каплан на жизнь Ленина он отдал дань уважения раненому вождю:
«Все, что было лучшего в русских революционерах-интеллектуалах ранних времен, их дух самоотверженности, мужество, ненависть к угнетению — все сконцентрировано в образе этого человека… Поддерживаемый молодым революционным пролетариатом России, используя богатый опыт мирового рабочего движения, он поднялся во весь рост… как величайший человек нашей революционной эпохи… Никогда еще существование любого из нас не казалась нам настолько второстепенным по важности, как сейчас, в момент, когда жизнь величайшего человека нашей эпохи в опасности».
В этих словах нет и намека на низкопоклонство. Ленин еще не был окружен никаким культом, а Троцкий не раз заявлял о своем серьезном несогласии с ним. В 1920 году по случаю пятидесятилетия со дня рождения Ленина он опубликовал очерк, более сдержанный по тону, о Ленине как «национальном типе», олицетворяющем лучшие черты русского характера. В ссылке, после того как оставил Принкипо, он начал работу над полномасштабной биографией Ленина, в которой закончил лишь несколько вступительных глав. То, что Троцкий не смог завершить этот труд, частично возмещается изобилием биографических набросков, которые он написал и опубликовал в начале 20-х годов. Они относятся к двум решающим периодам жизни Ленина, 1902–1903-му и 1917–1918 годам, и дают портрет, трепещущий жизнью и наполненный той нежностью, о которой говорил Луначарский.
Что приводило Троцкого в восхищение в Ленине, это его «целеустремленность», его tension vers le but[75] — но также и его индивидуальность, в которой благородство соответствовало жажде жизни, важность цели — богатому чувству юмора, фанатическая преданность принципам — гибкости мышления, беспощадность и хитроумие в действиях — такту и деликатности, высокий интеллект — простоте. Он не изображает «величайшего человека эпохи» непогрешимым существом и поэтому разрушает сталинскую икону Ленина, не все-таки он подходит к Ленину с непокрытой головой и, не утратив присутствия духа, преклоняется перед ним. Он не преклоняет колена. Он мужественно отдает дань уважения не идолу, а человеку, каким он его знал. Даже описывая героический характер Ленина, он не делает из него полубога. Он изображает в натуральную величину и в повседневной жизни личность, а не священную статую. Для создания бессмертной фигуры он использует самый недолговечный жанр: журналистский очерк. Его наброски о Ленине производят куда более мощный художественный эффект, чем те, что нарисованы двумя выдающимися современными писателями-романистами: Горьким и Уэллсом. Он жадно наблюдает за Лениным со всех сторон: он улавливает его мысль, то, как он строит аргументацию; его внешность и поведение на трибуне; его жестикуляцию и телодвижения; тон его смеха; даже его шутки. Мы видим, как Ленин нахмурил брови в возмущении и гневе; мы наблюдаем, как он нежно играет с собакой в какой-то драматический момент, как он принимает решение по важному вопросу; мы видим мельком, как он спешит, как школьник, по Красной площади в зал заседаний правительства, решив сыграть забавную шутку со своими коллегами — коммунистами. И все время в проницательном взгляде художника отблеск любви к «этому прозаичному гению революции».
Но во взгляде художника есть и вспышка угрызения совести. Троцкий провел рядом с Лениным в тесном с ним сотрудничестве лишь около шести лет, свои лучшие годы, открывшие новую эру. Предыдущие тринадцать-четырнадцать лет он провел во фракционной борьбе против Ленина, нанося тому жестокие личные оскорбления, называя Ленина «неряшливым адвокатом», «омерзительной карикатурой на Робеспьера, злобной и морально отталкивающей», «эксплуататором российской отсталости», «дезорганизатором русского рабочего класса» и т. д. — оскорбления, в сравнении с которыми ответы Ленина были сдержанными, почти мягкими. Хотя с 1917 года Ленин никогда не напоминал об этом, брань была слишком обидной, чтобы не оставить никаких следов. Даже между 1917-м и 1923 годами, когда они трудились в теснейшем политическом единении, их отношениям недоставало личной близости — в Ленине чувствовалась определенная сдержанность.[76]
Троцкий в своем «трогательном почтении» делает сами собой подразумевавшиеся и тактичные поправки. В своем труде он все еще, может быть только подсознательно, старается посмертно отдать долг Ленину за все причиненные обиды. Он признает, что в 1903 году, когда порвал с Лениным, революция была для него все еще, главным образом, «теоретической абстракцией», а Ленин в это время уже полностью уловил реальный смысл происходящего. Вновь и вновь он говорит о внутреннем сопротивлении, которое ему приходилось преодолевать, «двигаясь к Ленину». Но, преодолев его и присоединившись к Ленину, он устроился в его тени; и там он все еще держится как историк. Он добросовестно рассказывает все об их разногласиях; но от воспоминаний его память сокращается в размерах. Она инстинктивно урезает продолжительность их разрыва в отношениях, смягчает жестокость их вражды и с удовольствием задерживается на годах дружбы, стараясь растянуть их как назад, так и вперед. Иногда, предаваясь мечтательности, он, кажется, вновь переживает жизнь в непрерывной гармонии с Лениным. Он подумывает о том, чтобы написать книгу о тесной, плодотворной и пожизненной дружбе Маркса и Энгельса, его идеале дружбы, которой ему не было суждено добиться в своей собственной жизни. Через одиннадцать лет после смерти Ленина он замечает в своем дневнике:
«Прошлую ночь… мне снилось, что я разговаривал с Лениным. Судя по окружению, это было на каком-то корабле на палубе третьего класса. Ленин лежал на койке в каюте, а я стоял или сидел рядом с ним. Он сочувственно спрашивал меня о моей болезни. „Похоже, вы переутомились, и вам необходимо отдохнуть“. Я ответил, что всегда быстро восстанавливаюсь от усталости, но… что на этот раз проблема находится где-то глубже… „Тогда вам следует серьезно (он подчеркнул это слово) посоветоваться с докторами (несколько имен…)“. Я ответил, что я уже много раз советовался… но, глядя на Ленина, я вспомнил, что он уже мертв. Я попытался немедленно отогнать эту мысль. Закончив ему рассказывать о своей поездке к врачам в Берлин в 1926 г., я хотел было добавить: „Это было после вашей смерти“; но сдержался и произнес: „После того, как вы заболели“».
Мечты и грезы защищали Троцкого в его уязвимости и ранимости; и в исполнении желаний он видел себя защищенным ленинской заботой и привязанностью.
«Оптический обман» в отношении Ленина — единственный пример субъективистского мышления «Истории…». В остальном Троцкий излагает события как объективный мыслитель. Наверняка лишь актер или очевидец может так глубоко ощущать истинную природу, цвет и вкус каждого факта и каждой сцены. Но как историк он стоит выше себя — актера и очевидца. То, что говорится о Цезаре — что как писатель он лишь бледная тень полководца и политика, — к Троцкому не относится. Он подвергает свой труд самым придирчивым проверкам и подкрепляет повествование самыми точными доказательствами, которые черпает скорее у врагов, чем у друзей. Он никогда не ссылается на свой собственный авторитет и очень редко представляет себя драматической личностью. Например, он посвятил лишь одно короткое сухое предложение своему вступлению в должность председателя Петроградского Совета, являвшемуся в то время одной из величайших сцен и важнейшим событием. Возможно, недостатком «Истории…» является то, что если попробовать только на ее основе оценить, насколько важна была роль Троцкого в этой революции, то получится неверное представление. Троцкий в 1917 году вырисовывается несравнимо крупнее на каждой странице «Правды», в каждой антибольшевистской газете и в материалах Советов и партии, чем это он делает на своих собственных страницах. Его силуэт — единственное почти пустое место на огромном и живом полотне.
Хэзлит утверждал, что гений оратора и литературное величие несовместимы. И все-таки Троцкий, в такой полной мере обладавший ораторской быстротой восприятия, непринужденным красноречием и способностью реагировать на аудиторию, в такой же степени имел привычку глубокого и длительного размышления и «душевного терпения», необходимого для настоящего писателя. Луначарский, сам выдающийся оратор, описывал Троцкого как «первого оратора своего времени», а его литературные труды — как «затвердевшую речь». «Он литературно образован даже в своем ораторстве и красноречив даже в литературе». Это мнение хорошо приложимо уже к ранним произведениям Троцкого, а Луначарский выразил это мнение в 1923 году, до того как Троцкий-писатель поднялся в полный рост. В «Моей жизни» и в «Истории…» риторический элемент строго подчинен требованиям повествования и толкования, а проза имеет эпический ритм. Это все еще «затвердевшая речь» в том смысле, в каком находится и все повествование.
Десятилетиями основные труды Троцкого читались только в переводе. Так как этот человек оказался в изгнании, и его литературный гений оказался сосланным в иностранные языки. Он нашел искусных и преданных переводчиков в лице Макса Истмена, Александры Рамм и Мориса Парижанина, которые познакомили европейское и американское общество с его главными произведениями. Но все-таки в любом переводе в какой-то степени теряется дух и стиль произведения, хотя Троцкий, впитавший в себя так много из европейских литературных традиций, был самым космополитическим из русских писателей. Но именно из родных ему источников он черпал глубже всего, впитывая энергию, утонченность, колорит и юмор русского языка. Для своего поколения он — величайший мастер русской прозы. Английским ушам его стиль иногда может показаться избыточным. Это дело вкуса и принятых стилистических стандартов, которые различаются не только от нации к нации, но и внутри одной нации — от эпохи к эпохе. Эмоциональная энергия и сильный повторяющийся акцент принадлежат стилю революционной эры, когда оратор и писатель разъясняют огромным массам народа идеи, ради которых ведется война не на жизнь, а на смерть. И конечно, разговор на повышенных тонах, который ведут люди на полях сражений или во время революции, невыносим у тихого камина английского коттеджа. Тем не менее, «Моя жизнь» и «История…» свободны от этих «излишеств». Тут Троцкий пользуется классической экономией выражения. Здесь он выступает в качестве «объективного творца слов», домогающегося предельной точности в нюансах значения слова — рьяный труженик в области письма. Он лепит свое произведение, внимательно следя за структурой целого и пропорциями частей, с неослабевающим чувством художественного единства. Он так близко вплетает в повествование свой теоретический аргумент, что при попытке отделить его от ткани теряется текстура и рисунок произведения. Он знает, когда сжать, а когда растянуть свой рассказ, как это умеют очень немногие рассказчики. И тем не менее, он растягивает или сжимает текст не со спорными намерениями: скорость и модуляция у него настраиваются на пульс событий. Все целое — это ливневый поток, подходящий для способа представления революции. Но на длинных участках текста он удерживает ритм повествования ровным и регулярным, пока, достигнув кульминации, он не поднимается и не начинает расти, становясь страстным и бурным до такой степени, что штурм Красной гвардией Зимнего дворца, сирены крейсеров на Неве, окончательный разрыв между партиями в Советах, крушение социального порядка и триумф революции воспроизводятся с гармоничным эффектом. И во всем этом гигантском охвате событий его Sachlichkeit[77] никогда не утрачивалась — оригинальность Троцкого лежит в сочетании классического величия и трезвой современности.
Свои страницы он усеивает ослепительными сравнениями и метафорами; они неожиданно выскакивают из его воображения, но он никогда не теряет контроля над ними. Образность его речи так же точна, как и ярка. Он пользуется метафорами с определенной целью: ускорить мысль, осветить ситуацию или плотно скрепить вместе нити идей. Картина может появиться перед глазами в одном-единственном предложении; она может складываться медленней; может перерасти в главу, как растение, вначале давшее ростки, несколькими страницами позже уже расцветающее и плодоносящее перед концом главы. Обратите, например, внимание на использование метафоры в отрывке, описывающем начало Февральской революции: изображается демонстрация 2500 петроградских рабочих, которые в узком месте наталкиваются на отряд казаков, «этих старорежимных карателей и душителей» народного восстания:
«Перегородив дорогу своими лошадьми, офицеры сначала набросились на толпу. Позади них, заполнив всю ширину проспекта, скакали казаки. Наступил решающий момент! Всадники осторожно, длинной цепью двигались по коридору, только что проделанному офицерами. „Некоторые из них улыбались, — припоминает Каюров, — а один даже явно подмигнул рабочим“. Это подмигивание не было лишено смысла. Рабочим придало смелости это дружеское, невраждебное заверение, и они слегка заразили этим казаков. Тот, кто подмигнул, нашел последователей. Казаки, не нарушая дисциплину открыто, не сумели заставить толпу разойтись, а пробирались сквозь нее отдельными ручейками. Это повторилось три или четыре раза, отчего обе стороны даже сблизились. Отдельные казаки начали отвечать на вопросы рабочих и даже вступали в короткие разговоры с ними. От дисциплины тут осталась одна видимость, которая грозила исчезнуть в любую секунду. Офицеры поспешили отделить свой патруль от рабочих и, отказавшись от намерения разогнать их, выстроили казаков вдоль улицы в виде оцепления, чтобы не дать демонстрантам добраться до центра города. Но даже это не помогло: неподвижно застыв в идеальном строю, казаки не мешали рабочим пробираться под брюхом своих лошадей. Революция не выбирает своих путей: она совершает свои первые шаги к победе под брюхом казацких лошадей».
Обобщающая картина революции, ныряющей под брюхом казачьей лошади, естественным образом возникает при чтении этого пассажа: он освещает всю новизну, оптимизм и неопределенность ситуации. Мы чувствуем, что на этот раз рабочих уже не подавят, хотя их положение еще не безопасно. Но перевернем еще двадцать страниц, рассказывающих о развитии восстания, и эта метафора появится в измененном виде как напоминание о пути, который прошла революция:
«Один за другим приходили радостные сообщения о победах. Появились наши собственные броневики! С развевающимися красными флагами они наводили ужас в районах на тех, кто еще не покорился. Теперь уже не было нужды ползать под брюхом казачьей лошади. Революция вставала во весь рост».
Не менее типичен и другой способ изображения, в котором Троцкий описывает необычную сцену с такой насыщенностью, что сама сцена становится навязчивым символом. Так он описывает вражду между офицерами и солдатами в разлагающейся царской армии:
«Стихийная борьба имеет свои приливы и отливы. Офицеры пытались приспособиться, солдаты опять стали выжидать. В ходе этой временной передышки, в эти дни и недели перемирия социальная ненависть, которая разлагала армию старого режима, становилась все более и более мощной. Все чаще и чаще она вспыхивала в виде яростной молнии. В Москве в одном из цирков проходил митинг инвалидов, где собрались вместе и солдаты и офицеры. Оратор-калека начал осыпать офицеров обвинениями. Поднялся шум протеста, грохот каблуков, тростей, костылей. „И как долго вы, господин офицер, оскорбляли солдат розгами и кулаками?“ Эти раненые, контуженные, покалеченные люди стояли, как две стены, лицом к лицу. Калеки-солдаты против калек-офицеров, большинство против меньшинства, костыли против костылей. Эта кошмарная сцена в цирке предвещала жестокость надвигающейся гражданской войны».
Этот суровый реалистичный репортаж весь — спрессованная страсть. Вся сцена доведена до нас в шести четких и жестких фразах. Всего лишь несколько слов переносят нас в цирк и режут наш слух «стуком каблуков, тростей, костылей». Банальное сравнение подчеркивает необычность зрелища: инвалиды стояли, «как две стены, лицом друг к другу». Как много трагического пафоса сконцентрировано в этих немногих и внешне безыскусных фразах.
Сарказм, ирония и юмор пронизывают все его произведения. Он выступает против установившегося порядка вещей не только из-за возмущения и теоретического убеждения, но также и из осознания абсурдности этого порядка. Его раз за разом поражают человеческое слабоумие, низость и лицемерие. В «Моей жизни» он вспоминает, как в начале 1917 года в Нью-Йорке русско-американские социалисты реагировали на его пророчество, что русская революция завершится свержением господства как буржуазии, так и царизма:
«Почти каждый, с кем я беседовал, воспринимал мои слова как шутку. На специальном заседании „достойных и самых достойных“ социал-демократов я прочел лекцию, в которой утверждал, что в следующей фазе русской революции пролетарская партия неизбежно придет к власти. Эффект был как от камня, брошенного в лужу, полную кичливых и флегматичных лягушек. Доктор Ингерман, не колеблясь, заявил, что я несведущ в основах политической арифметики и что не стоит тратить и пяти минут на то, чтобы опровергнуть мои бессмысленные сны».
Вот с таким забавным презрением Троцкий чаще всего высмеивал своих соперников. Его смех не добродушен, кроме редких случаев, или при воспоминаниях детства и юности, когда он все еще мог объективно смеяться. Потом он слишком глубоко ушел в слишком яростную борьбу; и он высмеивал людей и институты, чтобы настроить народ против них. «Что же! — восклицает он в результате. — Мы собираемся позволить этим надутым и флегматичным лягушкам жить так и дальше и управлять за нас нашими делами?» Его сатира должна была помочь угнетенным и униженным. Как Лессинг (в знаменитом портрете Гейне), он не только отрезал голову своему врагу, но «и был достаточно злобен для того, чтобы поднять ее с земли и показать публике, что она совершенно пуста изнутри». Никогда он не сносил столь много голов и показывал их пустоту, как в то время, когда повторно посещал вместе с Клио великое поле битвы Октября.
Глава 4 «ВРАГ НАРОДА»
«По той же причине, по которой мне было суждено принять участие в великих событиях, прошлое ныне лишает меня возможности действия, — так писал Троцкий в своем дневнике. — Я доведен до того, что интерпретирую события и пытаюсь предсказать их будущий курс». Кажется, это единственное подобное наблюдение, сделанное им в отношении себя; и оно говорит больше, чем он, возможно, хотел сказать. Судя по контексту, он имел в виду, что остракизм сделал для него невозможным участие в какой-либо широкомасштабной политической деятельности. Поистине прошлое «лишило его возможности действия» в том или ином смысле. Его идеи и методы, а также политический характер принадлежали эпохе, которой настоящее, т. е. период его ссылки, было враждебно, и из-за этого они не оказывали своего влияния. Его идеи и методы были от классического марксизма и связаны с перспективой революции на «передовом» капиталистическом Западе. Его политический характер сформировался в атмосфере революции снизу и пролетарской демократии, в которой выращивались российский и международный марксизм. В период же между двумя мировыми войнами, несмотря на ожесточенную классовую борьбу, мировая революция оказалась в тупике. Выносливость западного капитализма оказалась куда значительнее, чем ожидал классический марксизм, и она тем более возросла, когда социал-демократический реформизм и сталинизм разоружили рабочее движение политически и духовно. Только в последовавший после Второй мировой войны период мировая революция продолжила свой ход, но теперь ее главной ареной будет отсталый Восток, а ее формы и частично содержание будут очень отличаться от того, что предсказывал классический марксизм. В Восточную Европу революция будет принесена в основном «сверху и извне» — путем завоеваний и оккупации, в то время как в Китае она возникнет не как пролетарская демократия, распространяющаяся из городов в деревню, а как гигантская «Жакерия», завоевывающая города из деревни и только потом переходившая от «буржуазно-демократической» фазы к социалистической. В любом случае, годы ссылки Троцкого, с марксистской точки зрения, были периодом расстройства, исторического пробела, и почва рушилась под борцом за классическую социалистическую революцию. В бурных событиях 30-х годов, особенно происходивших за пределами СССР, Троцкий был в высшей степени посторонним человеком.
И все же его прошлое, «лишившее его возможности действия», не позволяло оставаться пассивным: человек Октября, основатель Красной армии и давний вдохновитель Коммунистического интернационала, не был в состоянии смириться с ролью постороннего человека. Не то чтобы такая роль была несовместима с его марксистским мировоззрением. Сами Маркс и Энгельс на долгие периоды были изолированы от «практической» политики и заняты фундаментальным теоретическим трудом и довольствовались «интерпретацией» событий — они, в некотором смысле, были посторонними. Не они, а Лассаль возглавил первое массовое социалистическое движение в Германии; не они, а Прудон и Бланки инспирировали французский социализм; а их влияние на британское рабочее движение было весьма далеким и поверхностным. Они не воспринимали свой собственный философский постулат о «единстве теории и практики» так узко, чтобы чувствовать свою обязанность участвовать в номинальной политической деятельности во всех случаях.[78]
Когда у них не осталось шансов построить свою партию, они удалились в царство идей. Работа, которую они там вели, исторически, но не в данный момент, имела исключительную практическую важность, ибо, погруженная в богатый опыт классовой борьбы, она подсказывала будущие действия. Что же до Троцкого, ни его характер, ни условия не позволяли ему отойти от официальной политической деятельности. Он не отказывался и не мог отказаться от повседневной борьбы. Десятилетия после 1848 года, когда Маркс писал свой «Капитал», были лишены заметных политический событий, но время изгнания Троцкого стало эпохой всемирных социальных сражений и катастроф, в стороне от которых человек его биографии оставаться не мог. Да и не был он ни на момент волен отказаться от своей бесконечной и жестокой дуэли со Сталиным. Его прошлое так же безжалостно подстегивало его к действию, как и отрезало от перспективы действий.
Все его поведение в изгнании отмечено этим конфликтом между необходимостью и невозможностью действия. Он чувствовал этот конфликт, но никогда ясно не осознавал его. Даже когда он мельком видел эту невозможность, он воспринимал ее как нечто внешнее, временное и возникающее лишь в результате преследований и физической изоляции. Это незнание более глубоких причин своих затруднений придавало ему сил в борьбе с препятствиями, может быть, более страшными, чем те, с которыми когда-либо сталкивалась какая-нибудь историческая личность. Необходимость вынуждала его к официальной политической деятельности. И все же он, отпрянув, возвращался вновь и вновь не в силу здравого мышления, которое у него всегда жило надеждой, а в силу своих непроизвольных и инстинктивных рефлексов. Его воля боролась с этими настроениями и никогда не сдавалась. Но это — ожесточенное, отчаянное и изнурительное столкновение.
За годы на Принкипо полная физическая изоляция сделала эту дилемму менее тягостной. Он мучился и страстно желал оказаться поближе к сцене политических действий, убежденный, что это позволило бы ему эффективно в них вмешиваться. А пока у него не было выбора, кроме как погрузиться в литературную историческую работу. Он удалился, хотя и не полностью, в царство теоретических замыслов, в котором сейчас покоились его неисчерпаемые силы. Вот почему четыре года на Принкипо стали самым творческим периодом в его изгнании. Его выход с Принкипо должен был усилить и обострить его дилемму. Не то чтобы ему сейчас приходилось переживать в полную силу безжалостную враждебность, от которой уединение частично его оберегало. Близость к сцене политических действий возбудила в нем всю ту страсть к действию, в которой ныне располагалась его слабость. Ему было суждено обнаружить впервые или уже повторно, что поток событий проходил мимо него, хотя он прилагал усилия, чтобы повернуть этот поток. В оставшиеся восемь лет он не создал ни единого произведения, столь же весомого и бессмертного, как его «История…» или даже его биография, хотя рука его никогда не выпускала пера. Он покидал Принкипо, планируя написать «Историю гражданской войны», которая из-за его уникального авторитета стала бы такой же значительной, как и «История революции», а возможно, даже более яркой. Он начал писать широкомасштабную биографию Ленина, которая, как он рассчитывал, доверительно сообщая Максу Истмену и Виктору Голланцу, станет «главной работой моей жизни» и возможностью для всестороннего, «позитивного и критического» изображения философии диалектического материализма. Он не осуществил эти планы отчасти потому, что скитания и преследования не позволяли ему сосредоточиться, но в основном потому, что он пожертвовал ими ради своей официальной политической деятельности, неутомимого труда в 4-м Интернационале.
Таким образом, все его существование разрывалось между необходимостью и невозможностью действия. Только сейчас, в момент отъезда с Принкипо, у него возникло предчувствие серьезности этого конфликта. Он уезжал в приподнятом настроении, полный надежд и великих ожиданий, но, тем не менее, с леденящим душу страхом в самых потаенных уголках души.
17 июля 1933 года он отплыл с Принкипо на борту тихоходного итальянского корабля «Bulgaria» вместе с Натальей, Максом Шахтманом и тремя секретарями (ван Хейденоортом, Клементом и Сарой Вебер). Путешествие до Марселя заняло целую неделю. Вновь предпринятые меры предосторожности не дали результата. Как и в поездке в Данию, он путешествовал под фамилией жены и старался изо всех сил не вызывать подозрений; но, когда судно зашло в порт Пирей, его уже ждала толпа энергичных репортеров. Он заявил им, что его поездка — сугубо частного характера, что они с женой посвятят несколько предстоящих месяцев лечению, и отказался от каких-либо политических заявлений. «Наша поездка не имеет права привлекать публичное внимание, особенно сейчас, когда мир занят бесконечно более важными вопросами». Но пресса по-прежнему следила за ним с подозрением и высказывала различные предположения по поводу его целей. Ходили слухи, что он по инициативе Сталина собирается во Францию, чтобы встретить Литвинова, советского народного комиссара по иностранным делам, чтобы обсудить условия своего возвращения в Россию. Этот слух был таким распространенным и упорным, что серьезная немецкая газета «Vossische Zeitung» задала Троцкому вопрос, правда ли это, а советское телеграфное агентство ТАСС опубликовало специальное опровержение.[79]
В пути большую часть времени он проводил в своей каюте, работая над размышлениями о 4-м Интернационале. Он писал статью «Нельзя оставаться в одном Интернационале со Сталиным… и К°». (Он также подготовил краткую и доброжелательную рецензию на только что изданный роман «Fontamara» одного из своих молодых итальянских сторонников — Игнацио Силоне.) После нескольких дней напряженного труда он заболел, когда корабль приближался к берегам Франции: его уложил в постель острый приступ люмбаго. «Было очень жарко, — вспоминала Наталья, — его мучили боли… он не мог встать с постели. Мы позвали судового врача. Пароход подходил к месту своего назначения. Мы боялись высадки». Боль его, даже затруднявшая дыхание, несколько ослабела, когда еще на приличном расстоянии от Марселя корабль был вдруг остановлен и французская полиция приказала ему и Наталье пересесть на небольшой буксир, в то время как секретарям было разрешено продолжать свой путь до Марселя. Ему не хотелось расставаться с секретарями, и он собрался было заявить протест, как вдруг заметил Лёву и Раймонда Молинье, ожидавших их на борту этого буксира. Он медленно спустился, с трудом переводя дух от боли. Это Лёва так устроил, чтобы избавить отца от внимания публики и избежать роя репортеров, которые поджидали Троцкого в гавани и среди которых наверняка были внедрены агенты ГПУ. Троцкий скромно причалил к берегу в Кассисе возле Марселя, где офицер Sûreté Génerale[80] вручил ему официальный документ, отменяющий инструкцию, согласно которой он в 1916 году был выслан из Франции «навсегда». «Давно, — заметил Троцкий, — я с таким удовольствием не получал какой-либо официальной бумаги».
Но это удовольствие было тут же несколько испорчено шумным протестом правых газет против разрешения на его въезд в страну. Забавно, что в день его приезда, 24 июля, «Humanité» тоже протестовала против отмены распоряжения 1916 года о его высылке — приказа, изданного по подстрекательству графа Извольского, последнего царского посла во Франции, в виде наказания за антивоенную деятельность Троцкого. «Humanité» также опубликовала резолюцию французского Политбюро, призывавшую компартию следить за передвижениями Троцкого. Опасения Лёвы и принятые меры предосторожности оказались вполне оправданными. Из Кассиса в сопровождении нескольких молодых французских троцкистов они поехали в направлении Бордо, а потом на север в Сент-Пале, что возле Руана на берегу Атлантики, где Молинье снял виллу. Тем временем секретари высадились на берег в Марселе, выгрузили библиотеку Троцкого, его архивы и багаж, послали все это в Париж и отправились туда сами. Ищейки ГПУ сделали из этого вывод, что Троцкий тоже уехал в Париж, — на этом предположении Вышинский построит во время московских процессов четыре года спустя основную часть своих домыслов о террористической деятельности Троцкого во Франции.
Группа Троцкого медленно двигалась по направлению к Руану, и из-за непрекращающейся боли у Троцкого остановилась в деревенском постоялом дворе в департаменте Жиронда — ночью Лёва и один молодой француз встали на страже у дверей в комнату Троцкого. Только на следующий день они добрались до Сент-Пале. По приезде Троцкий с высокой температурой отправился в постель. Но не прошло и часа, как ему пришлось одеться и в спешке покинуть дом — вспыхнул пожар, комнаты заволокло дымом; веранда, сад и ограда были охвачены пламенем. Было что-то символическое в этом вступительном инциденте; не раз за период пребывания Троцкого во Франции земля горела под его ногами, и он был вынужден все бросать и отправляться в путь. Но несчастное происшествие в Сент-Пале было совершенно случайным; лето выдалось исключительно жарким, и пылало немало лесов и домов. Этот случай мог поставить Троцкого в неудобное положение, если б стала известна его личность, ведь он был обязан сохранять инкогнито. Вокруг виллы собралась толпа, и, чтобы остаться неузнанным, он перебежал через дорогу, спрятался в машине Молинье, стоявшей на обочине, и там дождался, пока жена с сыном и их друзья, воспользовавшись переменой ветра, потушили пожар. К нему подошли люди, но он представился американским туристом, с трудом говорящим по-французски, и с облегчением заметил, что акцент его не выдал. На следующий день местная газета, сообщавшая об этом событии, упомянула «пожилую американскую пару», которая въехала в эту виллу как раз перед тем, как вспыхнул пожар.
Он оставался в Сент-Пале с 25 июля до 1 октября, держась все это время в комнатах, главным образом в постели. Состояние его здоровья, как рассказывала Наталья, ухудшалось каждый раз, когда что-нибудь случалось; он страдал от бессонницы, головных болей и лихорадки. «Он не мог встать, чтобы взглянуть на сад или прогуляться к пляжу, и со дня на день откладывал это „предприятие“. Когда ему становилось получше, он принимал посетителей, но быстро уставал и проводил долгие часы в доме или в шезлонге в саду. Посетителям приходилось напоминать, что он не в силах вынести разговор дольше пятнадцати — двадцати минут, сильно слабеет и почти падает в обморок, так что некоторые из них задерживались в Сент-Пале на несколько дней ради короткого разговора с ним».
И все-таки за два месяца в Сент-Пале он принял не менее пятидесяти посетителей. Среди них были, помимо французских и других троцкистов: Дженни Ли (супруга Анерина Бивена) и А. С. Смит из Британской независимой лейбористской партии; Джейкоб Уолчер и Пауль Фролич, руководители сперва Германской коммунистической партии, а затем Социалистической рабочей партии; Маринг-Сневлиет, когда-то представитель Коминтерна в Индонезии и Китае, а ныне депутат парламента Голландии и лидер Независимой социалистической партии; Поль Анри Спаак, будущий генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), а в то время — лидер Бельгийской социалистической молодежи и нечто вроде ученика Троцкого, переполненный благоговением перед мастером и усердно, но трусливо покорный; Рут Фишер; Карло Росселли, выдающийся итальянский антифашист; Андре Мальро и другие.
Большинство посетителей прибыли в связи с созванной в конце августа в Париже конференцией партий и групп, заинтересованных идеей нового Интернационала. Троцкий, будучи не в состоянии присутствовать на конференции, активно участвовал в ее подготовке, писал для нее «Тезисы» и резолюции и проявлял живой интерес к организационным деталям. Он надеялся заполучить на свою сторону тех, кто находился вне существовавших Интернационалов. Однако из четырнадцати небольших партий и групп, представленных на конференции, лишь три (Германская социалистическая рабочая партия и две голландские группы) присоединились к троцкистам в их работе над 4-м Интернационалом. Все остальные были напуганы свирепостью сопротивления Троцкого как реформизму, так и сталинизму; даже те три, что присоединились, сделали это с оговорками и образовали не Интернационал, а всего лишь предварительную организацию. Внешне Троцкий проявил удовлетворение этим началом и увидел в нем событие столь же важное, что и Циммервальдская конференция для своего времени.
И все же он не мог обмануться в ощущении, что начало оказалось весьма слабым; и этот факт определенно повлиял на его подавленное настроение. Интимное выражение его настроения в эти недели мы находим в переписке с Натальей, которая в начале сентября уехала в Париж для консультации с врачами. Их письма, грустные и нежные, показывают его одиноким и морально зависимым от нее в такой степени, в какой он вряд ли бывал когда-либо ранее, в более активные периоды своей жизни. Ее пребывание в Париже напомнило ему о далеких годах, когда они жили там вместе; и его не покидало мучительное ощущение упадка сил и надвигающейся старости. Через день или два после ее отъезда он написал: «Как мне мучительно хочется взглянуть на нашу старую фотографию, нашу совместную фотографию, где мы с тобой в молодости… Ты сейчас в Париже… В тот день, когда ты уехала… я плохо себя чувствовал… Я пошел в твою комнату и стал трогать твои вещи». Вновь и вновь он напрягается, стараясь восстановить в памяти картины их юности, и жалуется на бессонницу, апатию и потерю памяти, «вызванную страданиями недавних лет». Но он заверяет ее, что его интеллектуальные способности не затронуты и что доктор хорошо за ним присматривает — товарищ, приехавший из Парижа и остававшийся при нем. «Дорогая, самая дорогая моя, — писал он 11 сентября, — на Принкипо было спокойней. Недавнее прошлое кажется лучше, чем оно было на самом деле. А ведь мы с такой надеждой смотрели на нашу жизнь во Франции. Неужели это старость? Или это лишь временный, хотя и слишком резкий спад, после которого я все же оправлюсь? Увидим. Вчера меня навестили двое пожилых рабочих и школьный учитель. Навиль тоже приходил к нам… Мне стало скучно; в этой беседе не было ничего существенного, но я с любопытством наблюдал за этими пожилыми рабочими из провинции».
Неделю спустя он несколько восстановился и описал Наталье, как, все еще находясь в постели, принимал группу сторонников и здорово поспорил с ними; и как Лёва, проводив их, вернулся, обнял его поверх одеяла, поцеловал и прошептал: «Я люблю тебя, папа» — эта сыновняя любовь и восхищение тронули его после стольких лет отчуждения. Но через несколько дней он пишет опять, что ощущает себя стариком среди этой молодежи, приезжающей к нему, и что ночью он проснулся и, «как брошенное дитя, стал звать Наталью — не говорил ли Гёте, что старость захватывает нас внезапно и обнаруживает нас детьми?». «В какое уныние ты впал, — отвечала Наталья. — Ведь ты никогда не был таким… Представляю тебя бледным, усталым, грустным — это ужасно угнетает. Это так не похоже на тебя… Ты предъявляешь к себе сверхчеловеческие требования и говоришь о старости, когда стоит удивляться, как много еще ты можешь взвалить на плечи». Он внутренне пасовал от невозможности выполнения своей задачи; и эти визиты, разговоры, в основном ходящие по кругу, и интриги мелких групп — все это едва ли могло поднять его дух.
К началу октября состояние его здоровья улучшилось, и, чтобы получить полный отдых, он отправился с Натальей в Баньер-де-Бигор в Пиренеях, где они провели три недели, совершили несколько поездок и побывали в Лурде, который и позабавил и возмутил его, как памятник человеческой доверчивости. Он пришел в себя и тосковал по работе. Из Баньера он писал Голланцу, призывавшему его приняться за «Ленина», что сейчас сосредоточится на этой книге и отложит в сторону свой план по «Истории Красной армии».
Таким образом прошло три месяца с момента его появления во Франции. Протесты против допуска его в страну затихли; ему удавалось сохранять свое инкогнито; его местонахождение было неизвестно прессе, и лишь немногие друзья и доброжелатели, приезжавшие в Сент-Пале, знали его точный адрес — так тщательно Лёва организовывал их визиты. Сталинисты не могли выследить его и устроить запланированные демонстрации против его присутствия. Один троцкистский сторонник, все еще бывший членом партии, приехал в Руан, чтобы понаблюдать, что там происходит в партийных ячейках, и, если понадобится, предупредить в Сент-Пале; но местные сталинисты даже не подозревали, что Троцкий находится по соседству. Правительство, успокоенное его благоразумием, сняло некоторые ограничения на свободу передвижения и разрешило ему останавливаться везде, кроме Парижа и департамента Сена. И поэтому он 1 ноября переехал в Барбизон, небольшой городок под Парижем, давший имя знаменитой школе живописи. Там он жил в доме за городом, в маленьком парке на краю леса Фонтенбло, хорошо укрывшись от надоедливых глаз, охраняемый часовыми и сторожевыми собаками. Он поддерживал тесный контакт со своими последователями в Париже — курьеры регулярно перевозили почту туда и обратно, а зимой в сопровождении телохранителя он совершил две или три поездки в столицу. В Барбизоне он надеялся, что без помех продолжит работу над «Лениным», по крайней мере в течение года.
Казалось, от его недавней апатии не осталось и следа. Он возобновил свой обычный режим дня: в шесть утра, когда все в доме еще спали, он уже был за работой и, сделав перерыв только на завтрак, продолжал до обеда. После обеда и часового отдыха он вновь садился за работу; в 16:00 он, Наталья и секретари пили чай стоя; потом каждый возвращался к своим занятиям до ужина. Вечерами домочадцы и гости создавали кружок спорщиков, в котором он, естественно, был председателем. Он вновь занялся серьезной исследовательской и литературной работой: собирал материалы для «Ленина», копался в прошлом семьи Ульяновых, детстве и юности Ленина, изучал Россию 70-х и 80-х годов XIX века, созидательные периоды интеллектуального роста Ленина, темы, которые заполнят первую и единственную завершенную часть этой биографии. Готовясь приступить к философским трудам Ленина и стараясь закрыть прорехи в собственных знаниях, он вернулся к классикам логики и диалектики — Аристотелю, Декарту и особенно Гегелю. Он не позволял себе отвлекаться на другие проекты. Примерно в это же время Гарольд Ласки посоветовал ему написать книгу «Куда идет Америка?» — нечто сходное по типу с «Куда идет Британия?». «Я не знаю никого, — писал наставник и руководитель Британской лейбористской партии, сам известный авторитет в области американской истории и политики, — не знаю никого, чья книга на эту тему была бы более интересна для англо-американской публики». Но Троцкий не стал отвлекаться на это.
Теперь более, чем когда-либо, он следил за французской политикой и литературой. Для разрядки он писал и переписывал наброски характеров Бриана, Мильерана, Пуанкаре, Эррио; прорецензировал довольно много французских романов. Из этих небольших по размерам произведений заслуживают краткого обобщения его очерки о «Voyage au bout de la nuit»[81] Селина и «Мемуары» Пуанкаре. Поводом для этого стал дебют Селина с его «Путешествием». «Селин вошел в большую литературу, как другие входят в свои дома, — написал Троцкий, восхваляя равнодушие писателя к респектабельности, его обширный опыт, тонкий слух и дерзкую манеру выражения. — Он перетряхнул лексикон французской литературы» и вернул в него слова, давно запрещенные академическим пуризмом. Укоренившись в богатых традициях, берущих свое начало от Рабле, он писал «Путешествие», «как если бы он первым использовал французские слова». Он к тому же отвергал условности французской буржуазии, идеальным олицетворением которой был Пуанкаре. Непосредственное соседство Селина и Пуанкаре представилось Троцкому вступительной сценой в «Путешествии», где описывается Пуанкаре, открывающий выставку собак. «Неподкупный нотариус французской буржуазии» и святой покровитель Третьей республики «не имел ни единого собственного отличительного признака» — все в нем было условно и подражательно; его личность, как это кажется по его речам и мемуарам, похожа на «проволочный скелет, обернутый в бумажные цветы и золотую мишуру». «Я — буржуа, и ничто буржуазное мне не чуждо», — сказал бы Пуанкаре. Его жадность, проявившаяся при взыскании репараций с побежденной Германии, и его лицемерие, «столь совершенное, что стало каким-то видом искренности», были наряжены в одежды традиционного французского рационализма. И все же логика и прозрачность буржуазной Франции относились к этой философской традиции так же, «как средневековая схоластика — к Аристотелю»: «она рассматривала мир не в трех измерениях реальности, а в двух измерениях документов». Знаменитое французское чувство меры было в Пуанкаре «чувством малых пропорций». Французская буржуазия «унаследовала от своих предков гардероб, богатый на исторические костюмы», который она использовала для прикрытия своего тупого консерватизма; а рядом с рационализмом «религия патриотизма» была для нее тем, чем религия была для англосаксонского среднего класса. «Свободомыслящая французская буржуазия», от имени которой выступал Пуанкаре, «переносила на собственную нацию все символы, которыми другие народы наделяют Отца, Сына и Святого Духа»; Франция для него — Дева Мария. «Литургия патриотизма — неизбежная часть политического ритуала».
Заслуга Селина была в том, что он разоблачил и отверг эти святыни. Он описал образ жизни, в котором убийство ради небольшой прибыли не было редким исключением или крайностью, на которую претендовала условная мораль, но почти естественным явлением. Все же новатор скорее в стиле, чем в идеях, Селин сам был буржуа, усталым, отчаявшимся и «так был раздражен собственным видом в зеркале, что разбивал его на куски до тех пор, пока не порезал руки». Троцкий пришел к выводу, что, если б у Селина была лишь сильная ненависть ко лжи и неверие в любую истину, он не смог бы написать другую книгу, подобную «Путешествию», — если б в нем не произошли радикальные изменения, он утонул бы во мраке. (Некоторое время спустя Селин в самом деле был захвачен и унесен волной нацизма.)
Стоит также отметить заметки Троцкого о Мальро, ибо он был одним из первых, если не первым, рецензентом «La Condition Humaine»,[82] которую превозносил как открытие великого и самобытного таланта. Он убедил одного нью-йоркского издателя организовать американское издание этой книги и рекомендовал ее в следующих выражениях: «Только великая сверхчеловеческая цель, ради которой человек готов платить своей жизнью, придает смысл личному существованию. Таков конечный смысл романа, который свободен от философской склонности к поучению и с начала до конца остается настоящим произведением искусства». В более ранней рецензии, однако, он ведет речь о полосе «дешевого макиавеллизма» у Мальро, который был загипнотизирован не столько революцией и ее истинными бойцами, сколько псевдореволюционными приключениями и «бюрократическими суперменами», стремящимися господствовать и распоряжаться рабочим классом. Притягательность этого рода «супермена», как мы теперь знаем, облегчит Мальро его связь поначалу со сталинизмом, а затем с голлизмом. Однако в то время он все еще пытался примирить свои сталинистские наклонности с симпатией и восхищением перед Троцким.[83]
В Барбизоне Троцкий смог ближе рассмотреть своих западноевропейских последователей, особенно французских, и попытался выйти за пределы узкого мира своей фракции в деле вербовки единомышленников в 4-й Интернационал. Он придавал большое значение мнению Рут Фишер и Маслова, которые жили во Франции в эмиграции; он часто принимал Фишер в Барбизоне и, к досаде германских троцкистов, сделал ее членом Международного секретариата. Он написал восторженное предисловие к брошюре Марии Риизе, прежде бывшей коммунистическим депутатом рейхстага, в которой она разоблачила замешательство и панику, в результате чего рухнула Германская компартия в 1933 году, и объявила о своей приверженности троцкизму. Вскоре после этого, однако, Риизе дезертировала из троцкистского лагеря, вернулась в Германию и высказалась за национал-социализм. Вербовка новых членов шла с трудом. Немногие группы, согласившиеся работать вместе на новый Интернационал, имели резкие разногласия. Некоторые из старых троцкистов вроде Нина и его друзей откололись, чтобы создать независимую партию — ПОУМ в Каталонии. Во Франции все троцкистские группы в большинстве случаев набирали до ста членов, а газета «Verité» выходила тиражом менее 3000 экземпляров. Ромер держался в стороне. «За два года пребывания Троцкого во Франции, — заявил он, — мы ни разу не виделись, и я ожидал, что он сделает первый шаг».[84]
К настоящему времени Троцкий стал понимать, что Ромер не без причины был поражен «политической безответственностью» Молинье, хотя и семья Молинье очень помогла ему в его французских странствиях. Его также раздражала «заносчивость» Навиля и «отсутствие революционного духа и инициативы». Многие часы он провел в дискуссиях с Симоной Вайль, в то время троцкисткой, но нашел ее «бестолковой», «не имеющей никакого понятия о политической деятельности рабочего класса и марксизме», — в последующие годы она завоевала известность как философский неофит католицизма и мистики. Впечатление, которое на него производили большинство французских приверженцев, хорошо передается в письме Виктору Сержу, написанном двумя годами позже, где он описывает их как «филистеров»: «Я даже побывал в их домах и ощутил запах их мелкобуржуазной жизни — нос меня не обманул». Все, на кого он мог полагаться, это несколько пылких и молодых рабочих и студентов; и все же им недоставало политических знаний и опыта, и они произрастали вне рабочего движения. «Мы должны искать пути для рабочих, — заключил он, — и в этом процессе должны избегать экс-революционеров и даже грубо отталкивать их в сторону».
В это время имело место «дело Стависки» — скандал, раскрывший шокирующие масштабы коррупции в Третьей республике, ее министерствах, среди депутатов, начальников полиции и в прессе. Главная опора республики — радикальная партия — была тесно связана с этим явлением; а правительство едва не задохнулось в вони, окружавшей это дело. Фашистские и полуфашистские лиги, особенно Croix de Feu,[85] или «кагуляры», возглавляемые полковником де ла Роком, наживались на народном возмущении и угрожали свергнуть парламентский режим. 6 февраля 1934 года они устроили чуть ли не восстание и с криком «Daladier au poteau!»[86] бросились на штурм палаты депутатов. Однако переворот не удался и в течение недели вызвал всеобщую забастовку рабочих Парижа, в которой социалисты и коммунисты спонтанно сформировали Объединенный фронт, впервые за прошедшие годы. Это произошло как раз тогда, когда Коминтерн отказывался от своей «ультралевой» тактики; и этот Объединенный фронт от 12 февраля создал прецедент.
Радикальная партия к ним еще не присоединилась — Народный фронт, который включит ее, возникнет только в следующем году. Но новая глава была открыта: правительство Даладье было спасено Объединенным фронтом и становилось все более зависимым от его поддержки; политический баланс сил во Франции сместился; произошел всплеск энергии среди рабочих и оживление классовой борьбы.
В этих обстоятельствах Троцкий считал тем более срочной необходимость присоединения его сторонников к массовому движению. Поскольку они не могли вернуться в Коммунистическую партию, которая клеветала и беспощадно преследовала их, он советовал им вступать в Социалистическую партию (SFIO), которая под руководством Леона Блюма все еще имела власть над большинством рабочих. (SFIO еще не стала партией «белых воротничков» и мелкой буржуазии, которой она станет после Второй мировой войны.) Троцкий советовал своим приверженцам вступать в эту партию не для того, чтобы воспринять ее идеи, а, напротив, чтобы противостоять реформизму внутри собственной цитадели и «нести в массы свою революционную программу». SFIO была не централизованным органом, а федерацией различных групп и фракций, открыто соперничающих за влияние: в такой организации для троцкистов открывалась возможность превратить людей в сторонников 4-го Интернационала. Таков был «французский поворот», который все троцкистские группы дебатировали в 1934–1935 годах, — в конечном итоге Троцкий посоветовал почти всем им следовать подобным курсом в своих собственных странах, т. е. присоединиться как особые группы к социал-демократическим партиям.
В этом отношении он безоговорочно признавал, что его проект нового Интернационала был нереален; «французский поворот» оказался отчаянной попыткой спасти его. Он не мог принести успех. Троцкизм не мог обратиться, кроме эпизодических случаев, к рядовым членам социал-демократической партии; он слишком сильно противоречил привычкам мышления социал-демократов и глубоко укоренившимся реформистским традициям. Троцкий не мог перебороть влияние Блюма на его родной почве — то, что он и пытался косвенно произвести. Его последователи вступали в SFIO в качестве небольшой группки, не имеющей власти или престижа, заранее провозглашая свою враждебность к установившимся партийным лидерам, и соглашались с ее доктринами. Приток со стороны молодежи был невелик, но скоро натолкнулся на стену враждебности. И тем не менее, «французский поворот» еще более отдалил троцкистов от масс коммунистов и дал пищу сталинской пропаганде. Для рядовых коммунистов призыв вступать в SFIO лишь для того, чтобы «дать бой реформистам», звучал как неубедительный предлог. Коммунисты видели, что социал-демократы зарабатывали временный политический капитал за счет притока троцкистов, и слышали, как последние поносили сталинизм с социал-демократической платформы. Их старое недоверие к троцкизму превратилось в слепую ненависть к «ренегатам и предателям». Разумеется, некоторое время спустя они в самом деле видели, как троцкисты резко критиковали социал-демократических лидеров и их политику и как их самих исключали из SFIO. Но это происходило уже во времена Народного фронта; а Коммунистическая партия аплодировала этому и даже подстрекала к исключениям из партии. Все-таки «французский поворот» содействовал превращению антипатии рядового французского коммуниста к троцкизму в глубокую враждебность. И даже если разница была лишь в каком-то нюансе, это имело значение: изменение происходило так незаметно, что настроение западных коммунистов развилось до той степени яростной ненависти к троцкизму, в какой им было суждено встретить великие репрессии.
Еще не прошло шести месяцев с приезда Троцкого в Барбизон, когда относительный мир, в котором он там жил, вдруг был уничтожен. Он еще сохранял инкогнито и скрывал свое место нахождения так хорошо, что даже друзья не знали, где он находится, и связывались с ним по тайному адресу. Ни одно его письмо не было отправлено по почте из Барбизона; секретарь исполнял роль курьера и перевозил письма между Барбизоном и Парижем. Все эти меры предосторожности разрушил тривиальный инцидент. Однажды апрельским вечером полиция задержала курьера Троцкого за незначительное дорожное нарушение. Озадаченная его неясными ответами и иностранным акцентом — курьером был Клемент, немецкий политэмигрант, — полиция пришла в замешательство от открытия, что Троцкий находится в Барбизоне. Поскольку начальство Сюрте старательно хранило информацию в секрете от полиции, местные жандармы, гордые тем, что обнаружили, звонили об этой новости во все колокола. Местный прокурор в сопровождении отряда полицейских и репортеров из Парижа приехал, чтобы допросить Троцкого. Правая печать сразу же возобновила свои шумные протесты, a «Humanité» снова вступила в соперничество с ней. Правительство было напугано. Фашистские лиги уже нападали на него за предоставление Троцкому убежища: это, кричали они, было одним из преступлений «прогнившего и выродившегося» режима, истинное лицо которого было показано в «деле Стависки». Из Берлина министерство пропаганды Геббельса распространило басню, что Троцкий готовил коммунистическое восстание. Мелкая буржуазия, запуганная экономическим спадом, злая на Третью республику и накормленная сенсационными заголовками о загадочных поступках Троцкого, легко поверила, что за всем этим стоит «людоед Европы». «Humanité» утверждала, что он готовил заговор против французских национальных интересов. Чтобы усмирить волну враждебных протестов, министерство объявило, что собирается изгнать Троцкого, и вручило ему приказ о высылке. Однако оно не привело это распоряжение в исполнение, потому что ни одна страна не была готова его принять.
16 или 17 апреля полиция приказала ему покинуть Барбизон. Его дом осаждали толпы; были опасения атаки со стороны либо кагуляров, либо сталинистов. Он сбрил бороду, сделал все, чтобы стать неузнаваемым, и выскользнул из дома. Он уехал в Париж и несколько дней оставался вместе с сыном в бедной студенческой мансарде. Но Париж был для него запретным и слишком опасным городом; и потому, оставив Наталью, он вновь пустился в путь. Вместе с Анри Молинье и ван Хейденоортом он поехал на юг, не имея в виду конкретного направления. Ему надо было оставаться во Франции еще четырнадцать месяцев; но предстояло или вести жизнь бродяги, или укрыться в отдаленной деревушке в Альпах; и все время ему приходилось пригибать свою слишком бросающуюся в глаза голову.
В сопровождении полицейского детектива он переезжал с места на место и из отеля в отель, пока не добрался до Шамони. Почти сразу же местная газета вышла с этой горячей новостью. «Вероятно, полиция подозревала, — замечал он, — что у меня есть какие-то намерения в отношении Швейцарии или Италии, и выдала меня». Ему пришлось вновь отправиться в путь. Полиция запретила ему останавливаться в приграничном районе и приказала поискать убежище в небольшом городке или в деревне, расположенных, как минимум, в 300 километрах от Парижа. В Шамони к нему присоединилась Наталья, и, пока Молинье или ван Хейденоорт искали новое жилье, им пришлось устроиться в пансионе. Попасть в пансион было очень сложным делом, потому что Троцкий не мог представиться под своим именем, а полиция не разрешала ему использовать какое-либо вымышленное имя. В конце концов он представился как господин Седов, французский гражданин иностранного происхождения; а чтобы получить полное уединение, заявил, что они с Натальей соблюдают глубокий траур и питаются у себя в номере. Ван Хейденоорт, выдавая себя за племянника, следил за окружающей обстановкой. Это звучит трагикомично, но пансион оказался центром сбора местных роялистов и фашистов, с которыми «лояльный республиканский» агент Сюрте, который продолжал эскортировать Троцкого, ввязывался в язвительные застольные дискуссии. «После каждого приема пищи „племянник“ рассказывал нам об этих сценах из Монтескье; и полчаса веселый, хотя и приглушенный смех (мы, естественно, соблюдали траур) компенсировал нам хотя бы частично неудобство нашего существования. По воскресеньям мы с Натальей отправлялись „на мессу“, а на деле — прогуляться. Это поднимало наш престиж в этом доме». Из этого пансиона они переехали в коттедж в деревне. Но когда местный префект узнал их адрес, он заломил руки: «Вы выбрали самое неподходящее место! Это же очаг клерикализма. Тамошний мэр — мой личный враг». Сняв этот коттедж на несколько месяцев и будучи к этому времени «банкротом», Троцкий отказывался уезжать, пока еще одна неосторожность, допущенная в местной газете, не вынудила его в спешке покинуть и эти места.
После почти трех месяцев таких скитаний он, наконец, в начале июля приехал в Домен возле Гренобля, где они с Натальей остановились у господина Бо, местного учителя. Там они оставались почти одиннадцать месяцев в полной изоляции, без секретарей и телохранителей. В Домен заглянуло лишь два или три гостя, приехавшие специально для этого из-за рубежа. Раз в несколько месяцев из Парижа приезжал секретарь; время от времени к господину Бо заходили несколько учителей из округи, и тогда его двое постояльцев присоединялись к ним, обсуждая дела местной школы. «Наша жизнь здесь мало отличается от заключения, — писал Троцкий. — Мы заперты в нашем доме и дворе и встречаем людей не чаще, чем делали бы это в часы посещений тюрьмы… мы приобрели радио, но такие вещи, возможно, имеются даже в некоторых местах заключения». Даже их ежедневные прогулки напоминали им зарядку в тюремном дворе: они обходили деревню стороной, чтобы не попасться людям на глаза, и не могли уходить далеко, не наткнувшись на какую-нибудь соседнюю деревушку. Почта из Парижа приходила только два раза в месяц. В демократической Франции у них было куда меньше свободы, чем на Принкипо и даже в Алма-Ате.
Троцкий трудился меньше, чем обычно, и менее плодотворно, и его работа над «Лениным» почти не продвигалась. В октябре он под названием «Où va la France?»[87] написал памфлет о французской политике накануне создания Народного фронта. Этот памфлет содержал много блестящих пассажей, но не смог дать ответа или, скорее, давал неверный ответ на вопрос, поставленный в заголовке. Он рассматривал французскую сцену через ту же призму, через которую изучал сцену германскую; и призма, через которую он видел приход Гитлера к власти, явно затуманила его взгляд на французские перспективы. Вновь он поставил диагноз, притом справедливый, о кризисе буржуазной демократии; но вновь он счел, притом ошибочно, что средний класс «обезумел», произведя динамичное фашистское массовое движение и прибегая к жестокости в сражении с рабочим классом. Февральский переворот «Огненного креста», казалось, придал этому мнению некоторую убедительность. Но полковник де ла Рок не станет французским Гитлером, а французская мелкая буржуазия не породит движения подобного национал-социализму, как потому, что Народный фронт предотвратит это, так и потому, что ее мировоззрение и традиции отличались от их аналогов из германской «Kleinbürgertum». Одна из особенностей французской политической истории в 30-х, 40-х и 50-х годах XX века состояла в том, что предпринимались неоднократные попытки зародить массовое фашистское движение, но так же неоднократно они отражались. Когда в 1940 году рухнула Третья республика, это произошло под ударом германского вторжения, но даже тогда не родной фашизм, а склеротическая диктатура Петэна ковыляла над ее руинами. Восемнадцать лет спустя и Четвертая республика приказала долго жить в результате военного переворота. Французская реакция на буржуазную демократию обрела, как это было в XIX столетии, квази- или псевдобонапартистские формы, приведя к «правлению сабли», методы и влияние которого очень отличались от тех, что применялись при тоталитарном фашизме.[88]
Исходя из своих предпосылок, Троцкий истолковывал идеи о стратегии и тактике для французского рабочего движения. Он критиковал Объединенный фронт за то, как Торез и Блюм использовали его, на тех основаниях, что действия фронта ограничивались парламентскими маневрами и предвыборными альянсами, и он не стремился поднять рабочих на внепарламентскую борьбу с фашизмом, борьбу, которая к тому же могла бы открыть перспективы социалистической революции. Он излил свой сарказм на Коминтерн, который осудил его за призывы к немецким социалистам и коммунистам совместно преградить Гитлеру дорогу к власти и который сейчас глазом не моргнув принял Объединенный фронт только для того, чтобы совратить его на тактику уверток, «парламентский кретинизм» и оппортунизм. Как ни странно, именно Торез советовал Блюму пролонгировать свой альянс с радикалами, чтобы «связать мелкую буржуазию с антифашистской борьбой рабочего класса». Народный фронт, возражал Троцкий, не свяжет средний класс с рабочими, но только обнажит пропасть между ними, потому что верхний класс поворачивался спиной к радикалам — его традиционной партии. Он призывал коммунистов и социалистов создать рабочую милицию и готовиться к борьбе с фашизмом с оружием в руках, если понадобится; и повторил эти мысли в другом очерке, «Encore une fois: Où va la France?»,[89] написанном в марте 1935 года.
Конечный провал Народного фронта подтвердил большинство критических замечаний Троцкого. Однако в то время совместные действия социалистов и коммунистов привели к свержению фашистских лиг, которые так и не оправились от этого поражения, а Народный фронт, бесспорно, пробудил рабочий класс на какое-то время и придал огромный импульс его движению. Только потом политика Народного фронта загубит энергию рабочих, отдалит мелкую буржуазию и тем самым ввергнет страну в состояние реакции и прострации, в каком и найдет ее начало Второй мировой войны. Но в 1934–1935 годах, когда опасность фашизма спала, призыв Троцкого к внепарламентским действиям и к рабочей милиции звучал неуместно и не находил отклика. Наблюдая из своего убежища в Альпах за первыми маневрами Народного фронта, он записал в своем дневнике, что «этот порядок безнадежно подорвал сам себя. Он рухнет, издавая зловоние». Лишь несколько лет лежало между триумфами Народного фронта и великим зловонием крушения 1940 года.
Троцкий до конца 1932 года все еще поддерживал контакт со своими сторонниками в Советском Союзе и получал письма и информацию из многих мест ссылки и заключения. Написанные на русском, французском и немецком, чаще всего на грубой оберточной бумаге, иногда на коробках от папирос, и затрагивающие политические и теоретические вопросы или просто передающие личные приветствия, эти письма переправлялись с невероятной изобретательностью: однажды, например, на столе у Троцкого оказался спичечный коробок, внутри которого он обнаружил целый политический трактат, изложенный мельчайшим почерком. Эта корреспонденция, сохранившаяся в его архивах, доносила до Принкипо дыхание сибирских и заполярных ветров, запах тюремных камер, эхо яростной борьбы, крики обреченных и отчаявшихся людей, но также и здравые мысли и неумирающие надежды. До тех пор пока эта почта доходила до него, он чувствовал пульс советской действительности. Однако постепенно поток корреспонденции уменьшился до капли; и еще до отъезда с Принкипо прекратился вообще.
Во Франции он совсем не имел контактов с оппозицией в Советском Союзе. Ее молчание, становившееся еще более глубоким из-за непрекращающихся отречений капитулянтов, было у него в мыслях, когда он заявил, что российское движение утратило мощь революционной инициативы и что лишь новый Интернационал сможет вернуть ее. В феврале 1934 года, когда он все еще находился в Барбизоне, до него дошла весть о капитуляции Раковского. Легко представить, как это на него подействовало. Раковский был для него ближе чем «друг, боец и мыслитель», чем любой другой соратник; несмотря на возраст, он, не сломленный преследованиями, держался в борьбе со Сталиным, когда почти все другие лидеры оппозиции уже сдались; и в тюрьмах, и в местах ссылки его моральный авторитет уступал только Троцкому. Почти в каждом выпуске «Бюллетеня» Троцкий публиковал что-нибудь написанное Раковским или о нем самом: статью, письмо, выдержку из старой речи или протест против его преследований. После каждого поражения оппозиции и после каждой серии капитуляций он указывал на Раковского как на яркий пример и доказательство того, что оппозиция жива. Поэтому дезертирство Раковского наполнило его неизмеримой печалью; оно означало для него конец эпохи. «Раковский, — писал он, — был практически моим последним контактом со старым революционным поколением. После его капитуляции там не осталось никого». Не утомление ли, размышлял Троцкий, одолело старого бойца? Или он, как сам заявил, руководствовался убеждением, что в то время, когда Третий рейх угрожает Советскому Союзу, ему тоже надо «стать на сторону Сталина»? В любом случае, триумф Сталина не мог быть более полным. В следующие несколько месяцев примирение между Сталиным и его многими раскаявшимися оппонентами казалось более искренним, чем когда-либо, хотя партия все еще беспрерывно исключала «нелояльные элементы» из своих рядов.
Потом вдруг перед концом года эта видимость примирения взорвалась. 1 декабря был убит Сергей Киров, девять лет назад заменивший Зиновьева на посту руководителя Ленинградской партийной организации и в Политбюро. В первой официальной версии утверждалось, что за убийцей Николаевым стояла группа белогвардейских заговорщиков и что за ниточки дергал латвийский консул — не было и вопроса об участии какой-нибудь внутрипартийной оппозиции. Однако вторая версия описывала убийцу как сторонника Зиновьева и Каменева и уже не упоминала о белогвардейцах. Николаев и еще четырнадцать молодых людей, все комсомольцы, были казнены. Зиновьев и Каменев в третий раз были исключены из партии; они оказались в тюрьме и ожидали суда трибунала. Печать и радио связывали Троцкого с Зиновьевым и Каменевым и нападали на него как на истинного подстрекателя. Разразился массовый террор против «убийц Кирова», троцкистов, зиновьевцев и раздраженных сталинистов; многие тысячи были отправлены в концентрационные лагеря. Наконец, несколько высокопоставленных офицеров Ленинградского ГПУ были обвинены в «халатности» и приговорены с удивительной мягкостью к двум или трем годам.
В коттедже в Альпах Троцкий не отрывался от своего радиоприемника и слушал передачи из Москвы, следил за раскрытием заговора и делал свои комментарии. В шуме, доносившемся из Москвы, он сразу же различил прелюдию к событиям куда более масштабным и ужасным, чем «дело об убийстве Кирова», — для старых марксистов, каковыми они были, ничего не могло быть более невозможного, чем действия в стиле героев шпионских романов, которые убивают одного из главарей, не меняя системы. У него не было сомнений, что Сталин использует это убийство как предлог для новой атаки на оппозицию. 30 декабря, т. е. за две недели до того, как стали передаваться новости о судебном процессе над руководителями Ленинградского ГПУ, Троцкий, основываясь на доказательствах, содержавшихся в самих официальных сообщениях, заявил, что ГПУ знало о подготовке покушения и по своим собственным соображениям потворствовало этому. Так каковы же были причины покушения? Николаев был одним из тех комсомольцев, что выросли после подавления оппозиции и которые, разочаровавшись, будучи лишенными каких-либо способов самовыражения законным путем и свободными от марксистских традиций, попытались выразить протест с помощью бомбы и револьвера. Не оппозиция, утверждал Троцкий, а правящая группировка ответственна за происшедшее. ГПУ знало о намерениях Николаева и использовало его как свою пешку. Какие цели оно преследовало? Николаев якобы признался, что латвийский консул посоветовал ему войти в контакт с Троцким и написать ему письмо. Этот «консул», отмечает Троцкий, работал на ГПУ, которое планировало «раскрыть» заговор Николаева только после того, как оно сможет представить «доказательства», что Николаев был в переписке с Троцким. Поскольку это «доказательство» не было получено, работники ГПУ предоставили Николаеву свободу и были уверены, что смогут держать его под постоянным наблюдением и контролировать все его действия. Но они просчитались: Николаев нацелил свой револьвер в Кирова до того, как ГПУ достигло своей цели. Отсюда и противоречия между различными официальными версиями; отсюда и секретность, в которой велся процесс над Николаевым; и отсюда и процесс над офицерами ГПУ за «халатность» и мягкость их приговоров.
Троцкий пришел к выводу, что ГПУ, не сумев добыть фальшивые доказательства против него через Николаева, попытается получить их через Зиновьева и Каменева. Тем временем Зиновьев и Каменев получили десять и пять лет тюрьмы соответственно, но им было разрешено публично заявить, что они не имели никаких дел с Николаевым и что они могут нести ответственность лишь косвенно, до такой степени, насколько их критика Сталина в прошедшие годы могла повлиять на террориста. Суд принял это оправдание; а Троцкий пришел к выводу, что за кулисами была заключена сделка между Сталиным и Зиновьевым с Каменевым: Сталин, должно быть, пообещал реабилитировать их, если они согласятся осудить Троцкого как руководителя контрреволюционного заговора. «Насколько я могу судить, — писал Троцкий, — стратегия, которую продемонстрировал Сталин вокруг тела Кирова, не принесла ему лавров»: несоответствия в этом деле дали повод суждениям и слухам, которые вызвали отвращение к Сталину и его окружению. «Именно поэтому Сталин не может ни остановиться, ни отступить. Он должен прикрывать эту смесь новыми фабрикациями, которые надо замышлять во много большем масштабе, в мировом масштабе и более… успешно». Разбирая критически «дело Кирова», Троцкий предсказывал великие судебные процессы, которые действительно будут задуманы «в мировом масштабе» вместе с Гитлером, а не латвийским консулом, которого Сталин окрестил союзником Троцкого.
«Дело Кирова» сразу же повлияло на судьбу семьи Троцкого. Два его зятя, Невельсон и Волков, сосланные еще в 1928 году, были арестованы, и сроки их заключения или ссылки без суда были продлены. Его первая жена — которой сейчас перевалило за шестьдесят — была выслана из Ленинграда вначале в Тобольск, а потом в отдаленное поселение в Омской области. Троим его внукам, находившимся под ее опекой, теперь приходилось мириться с какой-то старой теткой, и они были оставлены на произвол судьбы. «Я получаю письма от малышей, — писала Александра Лёве, — но не имею ясного представления об их жизни. Сестре моей, вероятно, нелегко… хотя она постоянно успокаивает меня. Здоровье мое так себе, здесь врачей нет, так что я должна держаться». На этот раз террор задел и Сергея, самого младшего сына Троцкого, который, как мы помним, был ученым, остерегался политики и избегал контактов со своим отцом. Все эти годы, начиная с 1929-го, он писал только своей матери, ограничиваясь такими темами, как здоровье и собственные успехи в академической работе, и спрашивая о благополучии семьи — в его письмах и открытках никогда не было даже малейшего намека на политику. Всего лишь через несколько дней после убийства Кирова он опять написал матери о своей работе, касаясь разнообразных вопросов, которые он освещал в лекциях в Высшем технологическом институте в Москве, каких усилий это от него требовало и т. д. Только в заключительных строках он намекал, что «назревает что-то неприятное, пока оно приняло форму слухов, но чем все это кончится, я не знаю». Неделю спустя, 12 декабря, он снова написал о своей преподавательской работе и завершил письмо на тревожной ноте: «Моя общая ситуация очень серьезна, серьезней, чем можно было бы представить». Неужели, с тоской думали родители, ГПУ возьмет Сергея в заложники? Много недель они жили в ожидании нового письма от него. Но оно не пришло. Один старый друг семьи, вдова Л. С. Клячко, жившая в Вене, приехала в Москву и стала расспрашивать о Сергее, и в результате ей без каких-либо объяснений было приказано немедленно покинуть страну.
Недели и месяцы, многими бессонными ночами мысли родителей неизменно обращались к Сергею. Их терзала неопределенность. Может быть, у него какие-то личные проблемы, а не политические? Может быть, ГПУ только выслало его из Москвы, но в тюрьму не посадило? Наверняка они должны понимать, что он вообще не расположен к политике. Могли ли посадить его в тюрьму без ведома Сталина? Эти вопросы Наталья задавала, лелея слабую, невысказанную надежду на то, что, может быть, поможет просьба к Сталину. Нет, отвечал Троцкий, его могли бросить в тюрьму только по сталинскому распоряжению — только Сталин мог придумать такую месть. Неужели они постараются вырвать из Сергея признания с обвинениями против собственного отца? Но для чего они нужны Сталину? Разве не будет очевидна их фальшивость? А по какой еще причине могли его схватить? Неужели его пытают? Неужели он сломается?
Дни и ночи подряд его родителей неотступно преследовало видение, в котором их сын находился в руках инквизиторов. Они боялись, что в своей политической невинности он не сможет вынести этих ударов. Им сын виделся сбитым с толку и подавленным; и они обвиняли самих себя в том, что не настояли, чтобы он уехал в ссылку вместе с ними. Но как они могли пытаться оторвать его от академических дел, когда сами не знали, что ждет их впереди? Другое дело Лёва, чьи разум и страсть были полностью связаны с политической борьбой. Они вспоминали Зину, которую не смогли спасти после того, как она присоединилась к ним за границей. Они вспоминали жизнерадостное детство Сергея, его протест против действий отца и старшего брата, его неприязнь к политике, его тревожную, но все равно веселую юность и, наконец, серьезную сосредоточенность и преданность науке. Нет, не могли они, родители, просить его включиться в деятельность отца. Но не думает ли он теперь, что они бросили и позабыли его? Они искали российские газеты в надежде увидеть там хоть какое-то упоминание о нем. В нарастающей лавине брани в адрес «этого отребья зиновьевцев, троцкистов, бывших князей, графов и жандармов» они встречали имена родственников и друзей; но о Сергее царило мертвое молчание. Сталин, говорил Троцкий, «достаточно умен, чтобы понять, что даже сегодня я не смог бы заменить его… Но если не удался реванш на более высоком [морально-политическом] уровне — и ясно, что не удастся, — все еще возможно [для Сталина] вознаградить себя, нанося удары по близким мне людям».
Ощущение, что Сталин наложил лапу на сына, потому что не смог достать отца, порождало в Троцком чувство вины. В своем дневнике между записями о Сергее он рассказывал, внешне без связи с текстом, историю казни царя и царской семьи. В своей тревоге за Сергея, павшего жертвой его конфликта со Сталиным, он, очевидно, думал о тех, других невинных детях, царских, которых покарали за грехи отца. Он записывал в дневнике, что не принимал участия в решении о казни царя — это было, главным образом, решение Ленина — и что был ошеломлен, когда впервые узнал о судьбе царской семьи. Он, однако, вспоминал это не для того, чтобы отмежеваться от Ленина или найти себе оправдание. Через семнадцать лет после этого события он защищал решение Ленина как необходимое и принятое в интересах революции. В разгар Гражданской войны, говорил он, большевики не могли дать белым армиям «живое знамя для сплочения вокруг него сил», а после смерти царя любой из его детей мог бы послужить символом сплочения. Дети царя «пали жертвами принципа, составляющего ось монархии: династического наследования». Достаточно ясно недоговоренное заключение этого отступления от текста: если и дано Сталину право уничтожать соперников — а Троцкий, естественно, был далек от того, чтобы давать такое право, — у Сталина не было и крупицы оправданий за преследование детей своих соперников, а Сергей никоим образом не связан со своим отцом принципом династического наследования. Сразу же после этого отступления Троцкий замечал: «Никаких новостей о Сереже, и, возможно, их долго не будет. Долгое ожидание притупило тревогу первых дней».
И все же эта тревога стала сказываться на Троцком. Он был подавлен. Он опять стал размышлять о надвигающейся старости и смерти. Ему еще не было пятидесяти пяти, но он то и дело вспоминал изречение Ленина или, скорее, Тургенева: «Знаете ли вы, что есть величайший порок? Быть старше пятидесяти пяти лет». С оттенком зависти он замечал: «Но Ленин не дожил до того времени, когда обнаруживается этот порок». «Мое состояние не ободряет. Приступы болезни происходят все чаще, симптомы все более острые, моя сопротивляемость явно ослабевает». «Конечно, кривая может временно взмыть вверх. Но в общем, у меня ощущение, что близится конец». С явным предвидением того, что должно произойти, он наблюдал, что «Сталин теперь отдаст многое, чтобы иметь возможность отменить решение о моей высылке. Он, безусловно, прибегнет к террористическому акту… в двух случаях… если будет угроза войны или если серьезно ухудшится его собственная позиция. Конечно, может быть и третий случай, и четвертый… посмотрим. И если мы не увидим, то увидят другие». Он начал подумывать о самоубийстве и размышлял, что мог бы его совершить, если и когда его физические силы иссякнут и он больше не сможет продолжать борьбу. Возможно, ему пришло в голову, что так он мог бы спасти Сергея? Но мысли эти были мимолетны. Хотя его энергия была подорвана, он все еще будет проявлять удивительную жизнестойкость и решимость в последующие годы, когда еще более непосредственно столкнется лицом к лицу с тяжелыми событиями. Между тем он переживал нечто столь же ординарное и человеческое, как кризис пожилого возраста; он поддавался приступам ипохондрии и утомления от длительной изоляции и пассивности.
Амбициозные планы и оптимистические надежды, с которыми он покидал Турцию, рушились. Его великая кампания против сталинской сдачи Гитлеру не принесла политических дивидендов. Сталинизм даже использовал эту сдачу, чтобы завоевать свежий политический капитал: играя на страхе перед нацизмом, он втерся в доверие к европейским левым. Троцкий чувствовал, хотя и не мог признаться в этом даже самому себе, что 4-й Интернационал получился мертворожденным. Он не мог ни избавиться от этих обстоятельств, ни примириться с ними. И поэтому он нашел некоторое утешение в возвышенных размышлениях о своей «исторической миссии» в основании 4-го Интернационала. Именно в этом контексте он размышлял, что бы было в ходе русской революции без Ленина и его самого, и отсюда делал вывод, что его работа во имя нового Интернационала была «необходима» в еще большей степени, чем его работа во время Октябрьского восстания и Гражданской войны. «В этом заявлении вовсе нет высокомерия, — отмечал он. — Крушение двух Интернационалов породило проблему, которую никто из лидеров этих Интернационалов не был вообще в состоянии решить… Сейчас нет никого, кроме меня, кто бы осуществил миссию по вооружению нового поколения революционным методом через головы лидеров Второго и Третьего Интернационалов. И самый худший порок — это быть старее пятидесяти пяти лет! Мне надо по крайней мере еще пять лет спокойной работы, чтобы обеспечить эту преемственность», т. е. создать Интернационал, способный вести рабочий класс к революции.
В своем кризисе он бросал вызов судьбе, которая подарит ему ровно «еще пять лет», хотя и не позволит «обеспечить преемственность».
Все годы совместной жизни — уже тридцать три — Троцкий с Натальей никогда не были так одиноки, как в эти одиннадцать месяцев в Домене. Одиночество и страдания делали их еще ближе друг к другу. В трагические часы, говорил он, его «всегда восхищали таившиеся в ней духовные запасы». Их любовь пережила и триумф, и поражение; и приятные воспоминания прошлого счастья прорывались даже сквозь сегодняшний мрак. Ее лицо покрывалось морщинами и становилось напряженным от беспокойства и тревоги, и он с болью думал о ее яркой, веселой и дерзкой юности. «Сегодня во время прогулки мы поднялись на холм. Наталья утомилась и неожиданно села, побледнев, на сухую листву… Даже теперь она идет красиво, без устали, а ее походка все еще молода, как и вся ее фигура. Но за последние два месяца ее сердце время от времени барахлит. Она слишком много работает… [она] совершенно неожиданно присела — явно не могла идти дальше — и сконфуженно улыбнулась. Как остро мне стало жаль ее юности…» Она несла свой крест со спокойной силой духа, а ее жизнь была целиком поглощена его жизнью. Каждая проносившаяся над ним буря сотрясала и ее, каждый поток его чувств пропитывал и ее существо, а каждый отсвет его мысли отражался и в ней. Она не была для него политическим товарищем, каким была для Ленина Крупская, потому что бездетная Крупская была политическим сотрудником по праву и сидела в Центральном комитете партии. Наталья не только была менее активна, но и менее политически мысляща. «Хотя она и интересовалась мелкими фактами повседневной политики [это слова Троцкого], она обычно не могла сложить их в единое целое». Любящий муж не мог более ясно выразить сомнения в политической рассудительности жены. Но это было не столь важно: «Когда политика заходила вглубь и требовала полного ответа, Наталья всегда находила в своей внутренней музыке нужную ноту».
К этой ее «внутренней музыке» он часто обращался; и не случайно, когда он описывал ее в своем дневнике, это бывало чаще всего, когда она слушала музыку. Ее независимые интересы, как всегда, были сосредоточены на искусстве; и у нее был не часто встречающийся дар интуиции, наблюдательности и выразительности, которые четко проявляются на страницах ее собственного дневника. Ученики ее мужа иногда в удивлении поднимали брови при ее политических высказываниях, которые вынудили Троцкого заявить, что «чувствительные люди… инстинктивно ощущают глубину ее натуры. О тех, кто обошел ее с безразличием или чопорностью, не заметив скрытых в ней сил, почти всегда можно сказать с уверенностью, что это люди поверхностные и банальные… От нее никогда не могли укрыться мещанство, вульгарность и трусость, даже при том, что она была исключительно снисходительна ко всем маленьким человеческим слабостям». В отношении ее «внутренних сил» действительно не могло быть сомнений. В самые худшие моменты, когда его силы были на грани истощения, именно она вновь ставила его на ноги и возвращала ему силы, чтобы и далее нести это бремя. В Домене он с благодарностью замечал, что она никогда не обвиняла его в несчастье Сергея и скрывала от него собственные страдания. Лишь изредка она позволяла своей боли прорваться наружу в замечаниях вроде такого: «Они не сошлют Сергея… его будут пытать, чтобы что-нибудь вырвать из него, а после этого уничтожат». Она прятала свои страдания в делах, ведении домашнего хозяйства, помощи мужу в его литературной работе и обсуждении французских и русских романов, прочитанных вместе. «Голос ее заставлял меня ощущать внезапную боль… чуть хриплый, [он] исходил из глубины груди, — замечал он. — Когда она страдает, он уходит даже еще больше вглубь, как будто напрямую говорит ее душа. Как хорошо я знаю этот голос нежности и страдания». А в одном случае он заметил, что, бывало, она больше думала о его первой жене, чем о Сергее, заявляя, что с Сергеем, несмотря ни на что, может быть, ничего не случилось, а она боялась, что Александра в ее пожилом возрасте может не выдержать ссылки.
В слабой надежде, что, возможно, обращение к совести мира спасет Сергея, Наталья написала «Открытое письмо» в его защиту и опубликовала его в «Бюллетене оппозиции». Она доказывала полную невиновность Сергея и, жертвуя некоторым образом своей гордостью, рассказывала, как его отвращение к политике было вызвано его реакцией против отца. Изменили ли недавние события отношение Сергея и привлекли ли его на сторону оппозиции? «Я была бы рада за него, если б могла так подумать, потому что в этих условиях Сереже было бы неизмеримо легче перенести этот удар». К несчастью, это предположение было нереальным: ей было известно из различных источников, что «в течение последних лет [он] так же, как и прежде, держался в стороне от политики, но лично мне не требуется даже это доказательство». ГПУ и университетское руководство должны это знать, потому что, несомненно, за ним велась слежка; да и Сталин, «чей сын был частым гостем в комнате наших мальчиков», это тоже знал. Она обратилась к таким знаменитым гуманистам и «друзьям СССР», как Ромен Роллан, Андре Жид, Бернард Шоу и другие, с просьбой высказаться в защиту сына; она предложила, чтобы международная комиссия расследовала массовые репрессии, последовавшие за «делом Кирова». «Советская бюрократия не может стоять выше общественного мнения мирового рабочего класса. Что касается интересов государства рабочих, то они только выиграют от серьезной проверки этих действий. Я… предлагаю всю необходимую информацию и документы, касающиеся моего сына. Если после долгих колебаний я открыто поднимаю вопрос Сергея, то это не только потому, что он мой сын: этой причины было бы достаточно для матери, но недостаточно для… политических действий. Но дело Сергея — совершенно ясный, простой и неоспоримый пример сознательного и преступного злоупотребления властью, и это дело можно очень легко проверить». Это воззвание не нашло отклика.
По любопытному совпадению примерно в то время, когда Наталья делала это воззвание, Троцкий перечитывал автобиографию протопопа Аввакума, знаменитого и яркого русского протоиерея и проповедника старой веры, жившего в XVII веке после Смутного времени. Аввакум защищал «истинную» греческую ортодоксию против патриарха Никона, его жестокого соперника, который по временным причинам изменил церковные обряды и молитвенник; он разоблачал коррупцию духовной иерархии и выступал в защиту угнетенных крестьян. Он был лишен духовного сана, брошен в тюрьму, сослан вначале в Сибирь, а потом на монгольскую границу, подвергся мучениям голодом и пытками, но отказался отречься от убеждений. Вместе с ним страдала и его семья, и он, любящий муж и отец, задумался было, а не отказаться ли от борьбы и тем самым спасти своих ближайших родственников. Его дети умерли от болезней и голода в изгнании. В Сибири он написал свою автобиографию, труд, который составил эпоху в русской литературе. Он продолжал проповедовать с таким эффектом, что его слава «героя и жертвы борьбы за правду» росла в стране. Сосланный, он был даже опасней для своих врагов, чем тогда, когда стоял рядом с троном. Его вернули в Москву и сожгли на костре. Сквозь пропасть веков и идеологий Троцкий с содроганием не мог избавиться от ощущения близости к этому легендарному мятежнику — как много и как мало изменилось в России! И даже дух жены Аввакума стоял перед ним, как будто он воплощался в Наталье:
«Размышляя об ударах, выпавших на нашу долю, я как-то напомнил Наташе о жизни протоиерея Аввакума. Они — мятежный священник и его верная жена — шли вместе, спотыкаясь, в Сибири. Их ноги тонули в снегу, и бедная обессилевшая женщина то и дело падала в сугробы. Аввакум пересказывал: „И подошел я, а она, бедная душа, начала укорять меня, говоря: „Как долго еще будет это страдание, протоиерей?“ И сказал я: „Марковна, до самой нашей смерти!“ И она ответила со вздохом: „Да будет так, Петрович, ино еще побредем““».
И так было суждено и Троцкому с Натальей страдать «до самой нашей смерти».
Отныне они уже не могли больше оставаться в Домене, Любое политическое колебание вправо, выдвигающее на первые позиции фашистские лиги, и любой наклон влево, добавляющий сил Коммунистической партии, угрожали Троцкому потерей его ненадежного убежища. Произошел крен влево. С возникновения «дела Кирова» сталинское подстрекательство против «лидера мировой контрреволюции» стало таким жестоким и ядовитым, что слишком велика была возможность провокации акта насилия.[90]
Он больше не мог чувствовать себя в безопасности даже в этой отдаленной деревушке в Альпах. Он описывал, как однажды в те дни они с Натальей, одни в своем коттедже, слушали в напряженной тишине двоих людей, которые, приближаясь к ним, пели «Интернационал». В прежние времена с этой песней мог прийти только друг; сейчас это мог быть и враг, и какой-нибудь агрессор. Они чувствовали себя теми старыми народниками, которые за два поколения до этого шли в деревню, чтобы просветить и раскрепостить мужиков, и их избивали и выдавали сами же эти мужики.
Правительство уже не могло себе позволить игнорировать шумные протесты сталинистов. В мае 1935 года Лаваль поехал в Москву, чтобы договориться со Сталиным о советско-французском альянсе, и возвратился с поразительным заявлением, согласно которому Сталин дал клятву помочь оборонительной политике Даладье и Лаваля. Французские коммунистические лидеры, которые до настоящего времени противостояли этой политике в принципе, сразу же заняли «патриотическую» линию, и оформился Народный фронт. Троцкий имел все основания верить, что правительство через короткое время приведет в исполнение постановление на высылку, которое ему было вручено год назад; а поскольку ни одна другая страна не желала принять его, он опасался депортации в какую-нибудь удаленную французскую колонию, может быть на Мадагаскар.
Весной 1935 года он обратился в Норвегию с просьбой о предоставлении убежища. Там только что прошли выборы и к власти пришла Лейбористская партия. Это была социал-демократическая партия с одним отличием: она принадлежала Коминтерну и, хотя порвала с ним в 1923 году, во 2-й Интернационал не вступила. Вполне естественным было бы ожидать, что такая партия предоставит Троцкому убежище. Немецкий троцкист Вальтер Гельд, живший эмигрантом в Осло, обратился к Олафу Скёффле — одному из выдающихся партийных руководителей, возглавлявшему ее радикальное крыло и очень преданному Троцкому. Прошло много недель, пока пришел официальный ответ. Троцкий опасался, что норвежцы ужалены одной его статьей, в которой он насмехался над ними за то, что, придя к власти, они позабыли о своих республиканских традициях и заключили мир с своим королем. В начале июня, однако, сообщили, что ему предоставляется убежище. 10 июня он покинул Домен и поехал в Париж, где предстояло получить визу. Но там произошла задержка: высокопоставленные норвежские чиновники, недовольные решением правительства, стремились воткнуть палки в колеса; он не получил визы, и пришлось отменить все приготовления к поездке. Французская полиция, подозревая, что он использует все это как повод, чтобы осесть в Париже, приказала ему немедленно покинуть Францию, в течение двадцати четырех — максимум сорока восьми часов. Он покорился необходимости возвращения в Домен, но ему не было разрешено и этого. Он предполагал дожидаться окончательного ответа из Осло в частной клинике; но полиция, воображая, что он разыгрывает еще один трюк, возразила и против этого. День или два он имел пристанище в доме доктора Розенталя — хорошо известного парижского хирурга. 12 июня он послал обвинительную телеграмму норвежскому премьер-министру, утверждая, что покинул место своего жительства, полагаясь на норвежское обещание, а теперь: «Французское правительство считает, что я его обманул, и требует, чтобы я покинул Францию в двадцать четыре часа. Я болен, и моя жена также больна. Ситуация отчаянная. Я прошу скорейшего принятия благоприятного решения». В довершение ко всем несчастьям, у него не было ни гроша, и он был вынужден занимать деньги на поездку. Норвежцы все еще просили его получить, прежде чем ему будет разрешено въехать в Норвегию, французскую визу на повторный въезд, на что у него не было шансов. Наконец, благодаря усилиям Скёффле, ему дали визу вместе с разрешением на жительство только на шесть месяцев. Он поспешно уехал от своих французских сторонников. «Я видел многих парижских товарищей. Жилище доброго доктора неожиданно превратилось в штаб-квартиру большевистско-ленинской группы. Во всех комнатах шли совещания, звонил телефон, подъезжало все больше и больше друзей». Он описывал эту сцену в манере, возвращающей мысли к моменту его высылки из Москвы в 1928 году. Но это описание слишком стилизовано: его расставание в Москве завершало одну великую эпоху и открывало другую; прощание в Париже ничего не завершало и не открывало.
Он опять написал, как это уже делал перед своей высылкой из Франции в 1916 году, «Открытое письмо» французским рабочим. Он говорил им, что во время своего пребывания в этой стране был обречен на молчание. «Самые „демократические“ министры, как и самые реакционные, видят свою задачу в защите капиталистического рабства. Я принадлежу революционной партии, которая видит свою задачу в свержении капитализма». Он набросился на сталинистов: «Два года назад „Humanité“ ежедневно сообщала, что „фашист Даладье вызвал социал-фашиста Троцкого во Францию, чтобы организовать с его помощью военную интервенцию против Советов“. Сегодня те же самые господа создали… антифашистский „Народный Фронт“ с „фашистом“ Даладье. Прекратились разговоры… о какой-либо французской империалистической интервенции против СССР. Теперь они видят гарантию мира в союзе французского капитала с советской бюрократией и… говорят, что политика Троцкого служит не Эррио и Даладье, а Гитлеру». Он страстно завершал материал словами, что сталинизм — это «гнойный нарыв» на рабочем движении, который надо выжечь «каленым железом», и что рабочие должны вновь сплотиться под знаменем Маркса и Ленина. «Я уезжаю с глубокой любовью к французскому народу и неистребимой верой в будущее рабочего класса. Рано или поздно народ окажет мне гостеприимство, в котором отказала буржуазия». После двух тягостных и потерянных лет он покидал Францию, чтобы никогда уже больше сюда не вернуться.
История пребывания Троцкого в Норвегии читается, как большая вариация на тему Ибсена «Враг народа». Ибсен представляет в ней драму доктора Штокмана, уважаемого своими согражданами за благородство до тех пор, пока он не стал грозить разрушить их процветание путем раскрытия истины о ядовитом источнике их богатства. Тогда его собственный брат, мэр города, и его собственные «радикальные» друзья выступили против него с холодным и убийственным бешенством. И вот мы вновь в стране Ибсена. Не так важно, что на этот раз враг народа — зарубежный беженец; что он говорит не о зараженных водопроводных трубах норвежского курорта, а о революции, которая была извращена. Драма и место действия примерно одни и те же; и такие же семейные черты актеров, особенно сына и внуков ибсеновских псевдорадикалов, — даже их «Народный вестник» — тот же самый, как и старое, легко меняющееся на противоположное, манипулируемое общественное мнение. В толпе легко можно различить одного-двух потомков скромного и мужественного капитана Хорстера, который защищал врага народа. Только времена изменились; задействованы куда более мощные силы, а конфликт — более жесток.
С самого начала предзнаменования были обескураживающими. Норвежцы не только проявили скупость в предоставлении Троцкому убежища; они ввели для него ограничения, не очень отличавшиеся от тех, которые он испытывал, живя во Франции, и оставили за собой право определения для него места жительства на некотором удалении от столицы. Как только он сошел на берег 18 июня, Союз национальных фермеров выразил протест против его доступа в страну; а 2 июня стортинг уже обсуждал этот протест. Немедленных результатов это не повлекло, но было ясно, что оппозиция воспользуется его присутствием для козней против правительства. Консервативная буржуазия была напугана этим «чудовищем»; для него невозможно было найти жилище, ни один домовладелец не осмеливался принять его в качестве временного нанимателя. Власти потребовали от него обещания воздерживаться от политической деятельности. Он сделал это, исходя из понимания, что то, что от него требуется, касается невмешательства во внутренние норвежские дела. Власти потом заявят, что от него требовали воздержаться от какой-либо политической деятельности — требование, которому никакой политический ссыльный обычно либо не подчиняется, либо ни от кого из них и не требуют подчиняться. То обстоятельство, что так с ним обращались люди, все еще считавшие себя отколовшимися от официального коммунизма, подчеркивало низость их поведения.
Тем не менее, по его приезде правительство и Лейбористская партия проявили огромную щедрость. «Рабочий класс этой страны и все объективно мыслящие и непредубежденные люди, — вот как его приветствовала их газета „Arbeiderbladet“ — будут обрадованы этим решением правительства. Право на убежище должно быть не мертвой буквой, а реальностью. Норвежский народ воспринимает за честь присутствие Троцкого в нашей стране». Не вдаваясь в за и против в его споре со Сталиным, по которому у них не было определенного мнения, они не признавали за Сталиным права «преследовать и ссылать человека вроде Троцкого, чье имя будет стоять рядом с именем Ленина в истории Русской революции. Теперь, когда он, несмотря на великие и бессмертные заслуги, был выслан из своей собственной страны, любая демократическая нация предоставление ему убежища должна считать приятным долгом». Мартин Транмаель, основатель и руководитель партии, выступил с личными приветствиями. Различные министры намекали, что условия допуска Троцкого, шестимесячный лимит и ограничения свободы передвижения, требовались лишь формально. Правительство попросило Конрада Кнудсена, социалистического редактора, помочь Троцкому в устройстве; а Кнудсен, видя, что невозможно снять дом, пригласил его и Наталью переехать к себе.
Через некоторое время три партийных руководителя — Транмаель, министр юстиции Трюгве Ли и редактор «Arbeiderbladet» — нанесли официальный визит Троцкому. Встреча получилась весьма неловкой. Норвежцы напомнили Троцкому, что в 1921 году они были в Москве и вели переговоры с ним, Лениным и Зиновьевым по поводу условий их вступления в Коминтерн; но перед тем, как продолжить, Трюгве Ли пожелал убедиться, что Троцкий знает о своей обязанности воздержаться от политической деятельности. Тот ответил, что не имеет ни малейшего намерения вмешиваться в норвежские дела — позднее Трюгве Ли утверждал, что он, Ли, немедленно потребовал, чтобы Троцкий воздержался от всяких действий, «враждебных любому дружественному правительству». Один очевидец вспоминал, что «Троцкий отказался быть втянутым в какую бы то ни было политическую дискуссию с нами и говорил только о погоде». Но посетители, покончив с официальной частью своего визита, охотно перешли на дружеский тон, поговорили о политике и насладились величием человека, которому они предоставили убежище. Они уговаривали его дать «Arbeiderbladet» пространное и исчерпывающее интервью по основным вопросам мировой политики. Согласно тому же самому очевидцу, Троцкий холодно ответил, что министр юстиции только что запретил ему заниматься какой бы то ни было формой политической деятельности. Его собеседники отмели в сторону и отшутились от этого запрещения как притворства, через которое они должны пройти, проформы, для того чтобы умиротворить своих парламентских оппонентов; и министр юстиции заверил Троцкого, что, выражая свое мнение, он ни в коем случае не нарушит условий своего проживания в Норвегии. Сам министр потом превратился в активного газетного интервьюера, а Троцкий отвечал на его вопросы подробно, пользуясь возможностью осудить сталинскую политику и террор, развязанный после убийства Кирова. 26 июля «Arbeiderbladet» опубликовала это интервью со многими редакторскими литературными украшениями, не оставляя у читателя сомнений в том, что министр юстиции сам способствовал тому, чтоб извлечь выгоду из взглядов Троцкого, оказавшихся в его распоряжении. Таким образом, «недоразумение» первых дней вроде бы рассеялось. Партия, находящаяся у власти, относилась к Троцкому скорее как к славному гостю, чем беженцу-страдальцу. Парламентарии и журналисты соперничали друг с другом, оказывая знаки уважения; и какое-то время не было более великого отличия в левых кругах Осло, чем возможности похвастаться тем, что был принят великим изгнанником.
Перед концом июня Троцкий и Наталья устроились в доме Кнудсена в Вексхолле, деревне возле Хоннефосса, что примерно в тридцати милях к северу от Осло. Среди спокойствия и мира этой страны, разделяя домашние хлопоты скромной, участливой и довольно большой семьи, они смогли прийти в себя после недавних притеснений. Кнудсен был умеренным, обходительным социал-демократом, очень далеким от троцкизма — этого человека Октября он пригласил к себе под крышу исключительно из сочувствия и неприятия мещанства. По молчаливому уговору они никогда не касались политических разногласий. Поэтому «его пребывание у нас, — это слова Кнудсена, — ни единого разу не омрачило даже малейшее недоразумение. Троцкий был слишком поглощен своей работой, чтобы тратить время на бесполезные дискуссии. Он очень усердно трудился. Я никогда не встречал кого-то столь же точного, пунктуального и педантичного в своих привычках. Когда он не был болен, он вставал в 5:20 или 5:30 утра, спускался в кухню, что-нибудь съедал и садился за работу. Все это он делал очень тихо, на цыпочках, чтобы никого не побеспокоить. У меня нет слов, чтобы описать его такт и вежливость по отношению ко всем, кто жил в нашем доме. Наталья вела себя точно так же; мы нежно называли ее „маленькой хозяйкой большого дома“. Их потребности были просто невероятно скромны».
Впервые с 1917 года Троцкому не пришлось жить под охраной «дружественного телохранителя», или под полицейским наблюдением, или инкогнито. Ворота во двор были распахнуты днем и ночью, а односельчане заходили, чтобы по-дружески поболтать. Иногда приезжали гости из-за рубежа: немецкие беженцы, жившие в Скандинавии, французы, бельгийцы и американцы. Среди американцев был Гарольд Айзекс, только что вернувшийся из Китая после нескольких лет жизни там. Он стал источником ценнейшей информации о той стране и ее коммунистическом движении. (Он как раз работал над книгой «Трагедия китайской революции», к которой Троцкий написал предисловие.) В Вексхолл также приезжали Шахтман и Мусте, хорошо известный американский социалист, примкнувший к троцкистам. Французы приезжали несколько раз со своими спорами и ссорами, призывая Троцкого быть третейским судьей. Они никак не могли договориться, следует ли им покинуть SFIO и возродиться в качестве независимой партии. Раймонд Молинье основал свою газету «La Commune», выступая за выход. Это сделало ссору достоянием гласности и в конце концов привело Троцкого к разрыву с Молинье. Этот инцидент не стоил бы упоминания, если бы не тот факт, что распря продолжалась годами и чудовищным образом переплелась с судьбой семьи Троцкого. Среди всего этого и поскольку его переписка со сторонниками, которую он не мог нормально вести во Франции, выросла до огромных размеров, Троцкий начал писать новую книгу — «Преданная революция».
Однако к концу лета, 19 сентября, он попал в муниципальный госпиталь Осло по причине непрекращающейся лихорадки и общей слабости. В тишине своей больничной палаты он отдался меланхолии. «Уже прошло почти двадцать лет, — писал он, — с того момента, когда я лежал на нарах в мадридской тюрьме и с изумлением раздумывал, что же привело меня сюда. Помню, на меня напал приступ смеха… и я хохотал до тех пор, пока не уснул. Теперь я опять думаю с удивлением, какой черт занес меня сюда, в какой-то госпиталь в Осло?» Библия на прикроватном столике отправила его мысли блуждать еще глубже в прошлое, в тюремную камеру в Одессе, где тридцать семь лет назад он учил иностранные языки по многоязычному изданию Библии. «К сожалению, не могу обещать, что новая встреча с этой старой и столь знакомой книгой поможет спасти мою душу. Но чтение Евангелия на норвежском может помочь мне выучить язык страны, которая проявила ко мне гостеприимство, и ее литературы, которую я… любил со своих ранних лет». После многих анализов и осмотров он покинул госпиталь, душа его спасена не была, а тело не восстановило прежнее здоровье. Большую часть декабря он провел в постели — это, как он скажет позже, был «наихудший месяц в моей жизни».
Выздоровлению мешали старые и новые тревоги и заботы. Он был подавлен тщетностью своей «организаторской» работы. Его раздражали французские троцкисты, которые не переставали донимать его своими распрями; и он написал Лёве: «Мне абсолютно необходимо получить хотя бы четыре недели „отпуска“, чтобы не досаждали никакими письмами из Секций… В противном случае будет просто невозможно восстановить работоспособность. Эти отвратительные пустяки не только лишают меня возможности заняться более серьезными делами, но и вызывают бессонницу, лихорадку и т. п. Я прошу тебя быть весьма беспощадным в этом отношении. Тогда я, возможно, буду опять в твоем распоряжении, скажем, к 1 февраля». Однако в последующие недели и месяцы он неоднократно укорял Лёву в преследовании его этими проклятыми мелочами и изливал свое «отчаяние» от «глупых интриг» этой «французской клики». Его переписка также ясно свидетельствует, что дела шли не лучшим образом в большинстве других секций предполагаемого Интернационала. И еще были мучения, связанные с происходящим в России, и неопределенность, незнание о том, что случилось с Сергеем. Косвенное наведение справок в Москве выяснило, что есть официальное разъяснение, что Сергей не посажен в тюрьму, а «находится под наблюдением органов» с целью лишить его связи с отцом. Но когда Наталья попробовала переслать небольшой денежный перевод в Москву жене Сергея, он вернулся в банк в Осло с припиской, что адресат неизвестен.
В довершение ко всему Троцкого заботило отсутствие денег. Издательские авансы позволяли ему лишь покрывать расходы на жизнь в Норвегии и выплачивать долги Анри Молинье, что он стремился сделать до того, как порвал с компанией Молинье. В каком ужасном положении он находился, можно видеть из письма Гарольду Айзексу, которое он написал из госпиталя в Осло 29 сентября, взывая к помощи в «финансовой катастрофе»: ему надо было платить 10 крон в день за госпиталь, а у него осталось лишь 100 крон.
Перед самым Рождеством он поехал вместе с Кнудсеном и несколькими молодыми норвежцами в дикую скалистую местность к северу от Хоннефосса, надеясь, что несколько дней физической деятельности на свежем воздухе смогут улучшить его здоровье. Следует обратить внимание на время его поездки — год спустя на процессе Радека и Пятакова Вышинский заявит, что в это время Пятаков приезжал к Троцкому с секретным визитом; а сам Пятаков признается, что летал в Осло самолетом из Берлина и прямо с аэродрома поехал на машине на встречу с Троцким. Эти обвинения были опровергнуты норвежскими властями, которые заявили, что ни один германский самолет не приземлился на аэродроме в Осло ни в конце декабря 1935 года, ни за несколько месяцев до этого, ни после этого; а коллеги Троцкого доказали, что никак нельзя добраться на машине до того места, где они находились в это время с Троцким. «Зима была исключительно суровой, бездорожная местность была полностью завалена сугробами и схвачена арктическим льдом. Мы хорошо это запомнили, потому что однажды во время поездки машина Троцкого застряла в снегу и во льду. Мы были на лыжах, а он на лыжах ходит неважно; а поэтому нам пришлось организовать обычную спасательную операцию, и мы очень переживали».
Вскоре после этого случилась одна из тех резких перемен в его состоянии здоровья, которые озадачивали его докторов, и он восстановился и возобновил написание «Преданной революции». Из-за этого он был занят следующие шесть месяцев, пока не завершил эту книгу.
«Преданная революция» занимает особое место в литературных трудах Троцкого. Это была последняя книга, которую ему удалось завершить, и, в некотором роде, его политическое завещание. В ней он дает свой окончательный анализ советского общества и исследование его истории до середины сталинской эры. Будучи самой сложной, эта книга сочетает в себе все слабые и сильные стороны его мышления. Она содержит много новых и оригинальных мыслей о социализме, о трудностях, с которыми должна бороться пролетарская революция, и о роли бюрократии в рабочем государстве. Он также анализировал международное положение Советского Союза перед Второй мировой войной и пытался проникнуть в будущее смелыми и отчасти ошибочными предсказаниями. Эта книга — глубокий теоретический трактат и научный труд; творческое подтверждение классических марксистских взглядов и манифест «нового троцкизма», призывающий к революции в Советском Союзе. Троцкий в этой книге проявляется во всех своих способностях: как беспристрастный и строго объективный мыслитель, как лидер потерпевшей поражение оппозиции и как страстный памфлетист и полемист. Полемический вклад создает самую эзотерическую часть этого труда и стремится затмить объективную и аналитическую аргументацию. Благодаря обилию идей и художественной силе она стала одной из наиболее плодотворных книг этого столетия, как поучительной, так и сбивающей с толку, и ей было суждено вызвать к дополнительной жизни не одну другую работу из области политического сочинительства. Само ее название станет одним из тайных паролей нашего времени.
«Преданная революция» была критической реакцией Троцкого на решающий момент сталинской эры. Официальная Москва только что провозгласила, что Советский Союз уже достиг социализма, — до сих пор она довольствовалась более скромными претензиями, заявляя, что были заложены лишь «основы социализма». Что дало смелость Сталину провозгласить не менее чем приход социализма, это прогресс в индустриализации, первые поверхностные признаки консолидации колхозов и облегчение, которое ощутил народ оттого, что остались позади голод и резня начала 30-х годов. Новой Конституции, «самой демократической Конституции в мире», суждено было стать кратким изложением новой эпохи: номинально она отменяла дискриминацию в отношении членов бывших классов собственников и вводила всеобщее и равное избирательное право. Этим предполагалось, что диктатура пролетариата уже не нуждается в особых конституционных гарантиях, потому что возникло практически бесклассовое общество. И все же, несмотря на предоставление всем гражданам равных прав на голосование, эта Конституция лишала всех права выбирать, за кого голосовать, и, в отличие от предыдущих советских конституций, официально вводила однопартийную систему. Эта система и монолитная партия, как утверждала пропаганда, создают саму суть социалистической общности людей, которую не разорвет никакой конфликт классовых интересов, в то время как многопартийная система отражает врожденные противоречия буржуазного общества.
Но это было и временем растущего неравенства, когда быстро расширялся разрыв между высокими и низкими заработками, когда «социалистическое соревнование» переродилось в дикую свалку за привилегиями и предметами первой необходимости, когда стахановское движение довело эту свалку до каждого заводского станка и каждого угольного пласта в стране и когда контраст между достатком немногих и нищетой многих принял самые отвратительные формы. Сталин, проводя жестокий курс против сторонников уравниловки, помещал себя во главе нуворишей, разжигал их аппетиты, высмеивал слабые угрызения совести, которые их сдерживали, и превозносил новое неравенство как достижение социализма. Обретала очертания новая бюрократическая организация. Она была тщательно классифицирована по рангам, титулам и резко дифференцированным привилегиям, и каждая маленькая ступенька на всех многочисленных лестницах власти была отмечена с неестественной точностью. Нигде этот поворот от ранних «пролетарских демократических» путей к новой диктатуре не был так отчетливо выражен, как в Вооруженных силах, где вновь были введены звания и знаки отличия царских времен. Среди этих празднований прихода социализма в воздухе витал некий запах Реставрации. Система образования и духовная жизнь нации были глубоко затронуты. Прогрессивные школьные реформы 20-х годов, вызывавшие восхищение у многих зарубежных деятелей просвещения, были заклеймены как ультралевые уклонения, а классные комнаты и аудитории заполнил тяжелый, всевозрастающий националистический традиционализм и старомодная отеческая дисциплина, подавлявшие дух молодого поколения. Бюрократическая опека над наукой, литературой и искусством становилась невыносимо деспотической. В каждой отрасли государство осуществляло абсолютную власть вызывающе и нагло, прославляя себя в качестве высшего гаранта общества. А деспотический носитель власти превозносился как отец народов, источник всей мудрости, благодетель человечества и творец социализма.
Троцкий намеревался опровергнуть сталинские утверждения; и он сделал это, сопоставив реалии сталинизма с классической марксистской концепцией социализма. Он отмечал, что господство общественных форм собственности еще не есть социализм, даже хотя это и является необходимым условием. Социализм предполагает экономику изобилия; его нельзя основать на нехватке и бедности, которые превалируют в Советском Союзе и которые привели к повторному возникновению вопиющего неравенства. Сталин способствовал воплощению в жизнь высказывания Маркса о двух стадиях коммунизма: низшей, где общество вознаграждает своих членов «по труду», и высшей, при которой люди получают «по потребностям», — именно на низшей стадии, как заявил Сталин, основывается Советский Союз. Троцкий отмечал, что Сталин злоупотреблял авторитетом Маркса ради того, чтобы оправдать неравенство, которое он сам насаждает. Хотя Маркс действительно предсказывал, что на ранней стадии социализма неравенство сохранится, но до него не доходило, что оно будет расти и даже развиваться огромными скачками, как это произошло при сталинской диктатуре. Советское общество все еще находилось на полпути между социализмом и капитализмом. Оно могло продвигаться вперед либо отступить; и в той степени, в которой оно сможет преодолеть неравенство, оно будет продвигаться вперед. Рост неравенства означает отступление, регресс.
Оргии сталинского абсолютизма являлись неотъемлемой частью того же ретроградного курса. Ленин вырвал из забвения в своей работе «Государство и революция» Марксово понятие «отмирание государства» и сделал его повседневной идеей большевизма; и Троцкий сейчас защищал эту идею от сталинских манипуляций. Он настаивал на том, что социализм невообразим без отмирания государства. Именно из классового конфликта возникало государство, и оно существовало как инструмент классового господства. Даже на своей низшей стадии социализм означал исчезновение классовых противоречий и политического насилия — при социализме должны сохраниться только чисто административные функции государства при «управлении объектами, а не людьми». Ленин представлял себе диктатуру пролетариата лишь как «полугосударство», смоделированное по Парижской коммуне, чьи чиновники избирались и смещались путем голосования и получали зарплату рабочих для того, чтобы не создали бюрократию, отчужденную от народа. В отсталой и изолированной России эта схема оказалась нерабочей. Тем не менее, продвижение к социализму должно измеряться степенью, до которой уменьшается насильственная мощь государства. Массовые политические преследования и самовосхваление государства отрицают сталинские претензии на достижение социализма. Сталин утверждал, что государство не может отмереть в одной отдельно взятой стране. Но сейчас основанием для роста мощи государства являлось не «капиталистическое окружение», потому что сталинский террор был, прежде всего, нацелен на «внутренних врагов», т. е. на коммунистическую оппозицию.
Для немарксиста эта критика во многом представляется «доктринерской». Для марксиста она очень важна, потому что лишала сталинизм «идеологических» претензий и отмежевывала марксизм от сталинской практики. Троцкий стремился добиться для марксистской школы мысли такой позиции, с которой она сможет отказаться от моральной ответственности за то, что создавал Сталин, и с которой она смогла бы объявить, что ее идеи не более ответственны за сталинское царство террора, чем десять заповедей и Нагорная проповедь — за священную инквизицию. Значение этого аргумента не только моральное и историческое, потому что он все еще имеет глубокое влияние на коммунистическое мышление. Точка зрения, которую истолковывал Хрущев в конце 50-х и начале 60-х, состоявшая в том, что Советский Союз переходит от социализма к коммунизму, основана на сталинском утверждении о достижении социализма в 30-х годах, и оба этих заявления были беспочвенны. С точки зрения Троцкого, советское общество все еще, несмотря на огромные шаги вперед, очень далеко от достижения социализма. Мысли советских идеологов, экономистов, социологов, философов и историков все еще запутаны в каноне о завершении социализма и движутся в круге выдумок, возникших вокруг этого канона, поэтому применение критерия Троцкого к нынешней советской реальности повлекло бы за собой ревизию наследия сталинизма куда более радикальную, чем та, что была проведена в Советском Союзе в первое десятилетие после смерти Сталина.
«Преданная революция» — это классический приговор Троцкого бюрократии. Вновь в «конфликте между рядовой работницей и бюрократом, схватившим ее за горло», он встает «на сторону работницы». Главную движущую силу сталинизма он видел в защите привилегий, которые одни только и придавали некое единство всем несопоставимым аспектам сталинской политики, связывая ее «термидорианский» дух с дипломатией и принижением Коминтерна. Правящая клика выгораживала интересы стяжательского меньшинства против народного недовольства дома и потрясений революционной классовой борьбы за границей. Троцкий проанализировал социальный состав управленческих групп, партийной машины, государственных служащих и офицерского корпуса, которые в совокупности составляли от 12 до 15 процентов населения страны — некий массивный слой, сознающий свой вес, ставший консервативным в силу привилегий и прилагающий всю свою мощь для сохранения национального и международного статус-кво.
Не удовлетворившись осуждением бюрократии, Троцкий вновь размышлял, как и почему она добралась до власти в Советском Союзе, и не свойственно ли социалистической революции ее господство вообще. Он шел дальше своих прежних ответов и делал более контрастными объективные причины рецидива неравенства посреди атмосферы «нехватки и нищеты» в Советском Союзе. Но он также подчеркивал, что некоторые из этих факторов повторяются в каждой социалистической революции, ибо никто не в состоянии отменить неравенство немедленно. Даже Соединенные Штаты, эта самая богатая индустриальная нация, все еще не производит достаточно, чтобы вознаградить труд «по потребностям»; они все еще страдают от относительной нехватки, которая вынудила бы, при коммунистическом правительстве, поддерживать различные размеры заработной платы и других выплат. Следовательно, напряженность и социальные конфликты сохранятся, хотя они будут много мягче, чем в неразвитой стране. И такие «тенденции бюрократизма… будут проявляться везде даже после пролетарской революции». Маркс и Ленин об этом знали. Маркс говорил о «буржуазном законе», сохраняющем неравное распределение благ как «неизбежном в первой фазе коммунистического общества». Ленин описывал Советскую республику как в некоторых отношениях «буржуазное государство без буржуазии», даже если ей правят в духе пролетарской демократии. Но только опыт сталинской эпохи обнаружил полные размеры проблемы и позволил реально увидеть внутренний характер противоречий посткапиталистического общества. Революционному правительству приходится поддерживать неравенство и бороться с ним; и обе эти задачи оно должно решать во имя социализма. Оно обязано предоставить стимулы техническим специалистам, квалифицированным рабочим и администраторам, чтобы обеспечить правильное функционирование и быстрое расширение экономики; и при этом оно должно стремиться к сокращению и конечной отмене привилегий.
В конечном итоге это противоречие может быть разрешено только путем роста общественных благ, превосходящих все, о чем до сих пор мечтало человечество, и достижением такого высокого и всеобщего уровня образования, что пропасть между физическим и умственным трудом исчезнет. А пока эти условия не выполнены, революционное государство обретает «прямо и с самого начала двойственный характер»: оно социалистическое в том, что защищает общественную собственность на средства производства; и оно буржуазно в том, что осуществляет неравное, дифференцированное распределение благ среди членов общества. Четкая формулировка этого противоречия и двойственности как врожденного элемента при переходе к социализму — один важных вкладов Троцкого в марксистскую мысль его времени.
Возвращаясь к анализу советского общества, он признает, что Ленин и он сам не предполагали, что «буржуазное государство без буржуазии» окажется несовместимым с истинной советской демократией и что государство не может «отмереть», пока есть «железная необходимость» в нем, чтобы стимулировать и поддерживать привилегированное меньшинство. Таким образом, уничтожение советской демократии не было вызвано только заговором Сталина, но являлось субъективным аспектом более широкого объективного процесса. Троцкий продолжал утверждать, что сталинское правительство сохраняло «двойственный характер», присущий любой революционной власти, но что этот буржуазный элемент в нем приобрел огромный вес и мощь за счет элемента социалистического. Бюрократия по своей природе — «сеятель и защитник неравенства», она действует как полицейский, который в период острой нехватки товаров «поддерживает порядок», когда толпы стоят в очередях у продовольственных магазинов — когда продовольствия в избытке, очередей нет, и полицейский становится ненужной вещью. И при этом «никто из имеющих доступ к распределению себя не обидит. Так что по общественной необходимости был разработан орган, который далеко перерос свои социально необходимые функции и стал независимым фактором и вслед за этим — источником великой опасности для всего организма… Нищета и культурная отсталость масс опять воплотились в зловещей фигуре правителя с огромной дубинкой в руке».
Обрел ли буржуазный элемент в Советском государстве достаточно сил, чтобы уничтожить социалистический элемент? — задается вопросом Троцкий. И опять он твердо отвергает мнение, что бюрократия — это «новый класс» или что советские массы эксплуатируются «государственным капитализмом». Для марксиста государственный капитализм без класса капиталистов — противоречие в терминах. Что касается бюрократии, у нее отсутствует социальная однородность какого-то класса, который своим местом в обществе обязан собственности и владению средствами производства. Осуществление просто управленческих функций не превратило директоров советской промышленности и государства в такой класс, даже если они и относятся и к государству и к индустрии, как к своим частным вотчинам. Неравенство, которое поддерживает сталинизм, все еще ограничено сферой частного потребления. Привилегированные группы не имеют права присваивать средства производства. В отличие от эксплуатирующих классов они не могут накапливать богатства в той форме, которая дала бы им власть над трудом других и позволила бы присваивать все больше и больше благ. Даже их привилегии и мощь связаны с общественной собственностью на производительные ресурсы; а поэтому они обязаны защищать эту собственность и в связи с этим выполнять функции, которые с социалистической точки зрения необходимы и прогрессивны, хотя они исполняют их за чрезвычайно дорогую для общества цену.
Но общественный баланс сталинского государства, продолжал Троцкий, нестабилен. В долговременной перспективе должен победить либо социалистический, либо буржуазный элемент. Непрерывный рост неравенства — опасный сигнал. Управленческие группы не будут бесконечно долго удовлетворяться потребительскими привилегиями. Рано или поздно они станут стремиться оформиться в новый класс собственников через экспроприацию государства, став акционерными владельцами трестов и концернов. «Можно спорить, что крупного бюрократа мало волнует, каковы господствующие формы собственности при условии, что только они гарантируют ему необходимый доход. Этот аргумент не учитывает не только стабильность прав самого бюрократа, но также и вопрос о его наследниках… Привилегии имеют лишь половину своей цены, если их нельзя передать чьим-то детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, надо еще быть и акционером. Победа бюрократии в этой решающей сфере будет означать ее превращение в класс собственников». Троцкий отмечал, что Сталин не может председательствовать над этой конверсией; его режим основан на общественной собственности и плановой экономике. Превращаясь в новую буржуазию, бюрократия по необходимости вступит в конфликт со сталинизмом; и Сталин, поддерживая ее стяжательство, невольно подрывает не только свою собственную власть, но и все завоевания революции. Эта опасность представлялась Троцкому столь близкой, что он, не колеблясь, заявил, что Конституция 1936 года «создает политические предпосылки для рождения нового класса собственников». Как в 20-х, так и в 30-х годах он считает бюрократию или ее часть потенциальным агентом капиталистической реставрации, но чуть ранее он рассматривал ее как помощницу кулакам и нэпманам, а теперь, после «ликвидации» этих классов, он рассматривает ее уже как независимого агента.
В ретроспективе это мнение оказывается полностью ошибочным. Будучи далекой от того, чтобы наложить лапу и присвоить средства производства, советская бюрократия в последовавшие десятилетия останется на страже общественной собственности. Следует, однако, заметить, что Троцкий вел речь о превращении бюрократии в буржуазию как об одной из нескольких возможностей; он осторожно отметил, что не следует смешивать потенциальность с реальностью. Он имел дело, как он подчеркивал, с беспрецедентным, сложным и загадочным феноменом в то время, когда сталинистский антиэгалитаризм и реакция против раннего большевизма достигли высшей точки. Теоретик не может ничего принимать на веру, он не может исключить возможности, что эти тенденции могут высвободить могучие и независимые силы, совершенно враждебные социализму. Действительно, временами казалось, что Сталин, представляя собой двусмысленное сочетание «ленинской ортодоксальности» с отвращением к революционным принципам, ведет Россию к самой грани Реставрации. Троцкий не имел сомнений, что эту грань он не может преступить. Он боялся, что это смогут другие, даже через труп Сталина.
Однако тот же самый страх мучил и Сталина, и вот почему он свирепствовал со своей собственной бюрократией и под предлогом борьбы с троцкизмом и бухаринизмом косил ее в каждой из идущих друг за другом чисток. Одним из результатов репрессий было то, что они не допустили консолидации управленческих групп в общественный слой. Сталин разжигал их стяжательские инстинкты и отвинчивал им головы. Это было одним из самых смутных, наименее обсуждаемых и тем не менее важных последствий перманентного террора. В то время как, с одной стороны, террор уничтожал старые большевистские кадры и устрашал рабочий класс и крестьянство, с другой стороны, он держал всю бюрократию в состоянии постоянной текучести, непрерывно обновляя ее состав и не позволяя ей вырасти из состояния протоплазмы или амебы. В таких обстоятельствах менеджерские группы не могли стать классом собственников, даже если бы они этого очень хотели, — они не могли начать накопление капитала на свой собственный счет, пока висли в воздухе между своими конторами и концентрационными лагерями. Точно так же, как он «ликвидировал» кулаков, Сталин постоянно «ликвидировал» эмбрионы новой буржуазии, и в этом он опять действовал в своей варварско-деспотической манере, исходя из молчаливо принятых предпосылок, сформулированных Троцким. В любом случае, потенциальная бюрократическая буржуазия была не просто домыслом Троцкого. Он терпеливо преувеличивал ее жизнестойкость и способность к самореализации, точно так же как он преувеличивал мощь класса кулаков. И он опять недооценил хитрость, упорство и беспощадность Сталина. Манера, в которой Сталин и поддерживал, и подавлял буржуазный элемент в этом состоянии, была совершенно чужда и даже непостижима для Троцкого, который, как всегда, считал, что только сознательный и активный рабочий класс сможет дать отпор антисоциалистическим тенденциям государства.
Все же Троцкий тоже понимал, что советские рабочие не желают вновь восставать против бюрократии, ибо, даже если они и были ей враждебны «в своем огромном большинстве», они боялись, что, «выбросив бюрократию, они откроют дорогу для реставрации капитализма…». Рабочие понимали, что на данный момент «бюрократия продолжает выполнять необходимую функцию» «сторожа», охраняющего их завоевания. «Они неизбежно прогонят бесчестного, нахального и ненадежного надзирателя, как только увидят другую возможность». Каков парадокс! Та же самая социальная группа, которая могла превратиться в новый класс собственников и уничтожить революцию, была до некоторой степени и защитником революции. Троцкий понимал, что «доктринеры могут не удовлетвориться» его оценкой ситуации: «Они хотели бы категорических формул: да — да, и нет — нет», и, естественно, социологический анализ был бы прост, «если социальный феномен всегда имел бы законченный характер». Но он отказывается силой заталкивать реалии в какую-то чистую схему и давать «ради логической завершенности» «какое-то законченное определение незавершенному процессу».
Сталкиваясь с совершенно новой и «динамичной общественной формацией», теоретик может произвести только рабочую гипотезу и позволить событиям сделать им проверку.
События опровергли гипотезу о трансформации бюрократии в новый класс собственников уже в 30-х годах, но еще более — во время и после Второй мировой войны. Тогда нужды национальной обороны и уничтожение буржуазного порядка в Восточной Европе и Китае мощнейшим образом укрепили обобществленную структуру советской экономики. Сталинистское государство, поощряя или помогая по собственным причинам революции в Восточной Европе и Азии, создало могучий противовес своим собственным буржуазным тенденциям. Послевоенная индустриализация, непомерное расширение советского рабочего класса, рост массового образования и возрождение уверенности рабочих в себе имели склонность к подавлению буржуазного элемента в государстве, а после смерти Сталина бюрократия была вынуждена делать уступку за уступкой в направлении равенства масс. Конечно, напряженность в отношениях между буржуазным и социалистическим элементами государства продолжала существовать, и, будучи присущей структуре любого посткапиталистического общества, ей было суждено сохраняться в течение еще очень долгого времени. Управляющие, администраторы, технические специалисты и квалифицированные рабочие оставались привилегированными группами. Но разрыв между ними и подавляющей массой трудящихся в середине и в конце 50-х годов, а также в начале 60-х сужался. А поэтому баланс сил между противоречивыми элементами в стране очень отличался от того, что было, когда Троцкий писал «Преданную революцию». Троцкий сам ожидал такого разворота событий:
«Из глубин советского режима прорастают две противоположные тенденции. В некотором роде в противоположность загнивающему капитализму этот режим развивает производительные силы, он подготавливает экономический базис социализма. Можно сказать, что ради блага верхнего слоя он несет все более и более крайние формы буржуазных норм распределения, он готовит реставрацию капитализма. Этот контраст между формами собственности и нормами распределения не может расти бесконечно. На средства производства должны распространиться либо буржуазные нормы в той или иной форме, либо нормы распределения должны быть приведены в соответствие с социалистической системой собственности».
Именно второй курс события изберут через двадцать — двадцать пять лет, когда преемники Сталина начнут нехотя, но не безошибочно приводить нормы распределения в более близкое соответствие с социалистической системой собственности. Гипотеза Троцкого о подъеме нового класса собственников в этом свете представляется без нужды пессимистической, хоть она и отражает ситуацию, в которой соотношение сил сильно и опасно перевешивало в сторону антисоциалистических элементов. И все же, несмотря на пессимизм, анализ динамических противоречий постреволюционного государства, сделанный Троцким, все еще предлагает наилучшую путеводную нить к последующей социальной эволюции.
Именно против «жадной, лживой и циничной касты правителей», против зародышей нового класса собственников Троцкий сформулировал свою программу «политической революции» в СССР. «Мирного исхода не будет, — писал он. — Советская бюрократия не сдаст свои позиции без борьбы… ни один дьявол еще не отрезал добровольно свои когти». «Пролетариат отсталой страны осужден совершить первую социалистическую революцию. За эту историческую привилегию он обязан, как это очевидно, заплатить второй, дополнительной революцией — против бюрократического абсолютизма». Он проповедовал «политическую, не социальную революцию», т. е. революцию, которая свергнет сталинскую систему правления, но не изменит существующих отношений собственности.
Это содержало совершенно новые перспективы: марксисты никогда не воображали, что после социалистической революции им вновь придется призывать рабочих к восстанию, ибо они считали само собой разумеющимся, что государство трудящихся может быть только пролетарской демократией. Сейчас история показала, что это не так и что в точности, как буржуазный порядок развивает различные формы правления, монархическую и республиканскую, конституционную и автократическую, так и государство трудящихся масс может существовать в различных политических формах, меняющихся от бюрократического абсолютизма до правления в форме демократических Советов. И точно как французская буржуазия была вынуждена дополнить социальную революцию 1789–1793 годов политическими революциями 1830-го и 1848 годов, в которых сменились правящие группы и методы правления, но не экономическая структура общества, — так, утверждал Троцкий, рабочий класс также должен «дополнить» Октябрьскую революцию. Буржуазия действовала в соответствии со своими классовыми интересами, когда защищала свои права от абсолютных правителей; и рабочий класс также будет законно действовать, освобождая собственное государство от хватки деспота. Политическая революция такого рода, конечно, не имела ничего общего с террористическим актом: «Индивидуальный террор есть оружие нетерпеливых и отчаявшихся личностей, чаще всего принадлежащих молодому поколению самой бюрократии». Для марксистов было аксиомой то, что они ведут свою революцию только при открытой поддержке большинства рабочих. Поэтому Троцкий выступил не с призывом к немедленному действию, ибо, поскольку рабочие видели в бюрократии «караульного над их завоеваниями», они не могли восстать против него. Троцкий продвигал идею, не лозунг, революции; он предлагал долгосрочную ориентацию на борьбу против сталинизма, а не руководство к прямым действиям.
Вот как он формулировал программу этой революции:
«Вопрос о замене одной существующей клики на другую не стоит, но речь идет о смене самих методов управления экономикой. Бюрократическая диктатура должна уступить место советской демократии. Восстановление права на критику и настоящей свободы выбора — необходимое условие дальнейшего развития страны. Это предполагает возобновление свобод советских партий, начиная с партии большевиков, и возрождение профсоюзов. Внесение демократии в промышленность означает радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся. Свободное обсуждение экономических проблем увеличит накладные расходы на бюрократические ошибки и зигзаги. Расходы на дорогостоящие игрушки — Дворцы Советов, новые театры, впечатляющие линии метро — будут прекращены в пользу жилья для рабочих. „Буржуазные нормы распределения“ будут ограничены в пределах строгой необходимости и по мере роста общественного благосостояния уступят место социалистическому равенству. Немедленно будут отменены все ранги. Мишура наград пойдет в плавильную печь. Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, совершать ошибки и расти. Наука и искусство освободятся от своих цепей. И наконец, международная политика вернется к традициям революционного интернационализма».
Он повторил все эти знакомые пожелания периода, когда он еще стоял за реформы. Только в один пункт он внес изменение — а именно в требование «настоящей свободы выборов». В этом пункте, однако, он столкнулся с дилеммой: отверг принцип однопартийности, но не выступал за абсолютную свободу партий. Возвращаясь к формуле до 1921 года, он говорил о «возрождении свободы советских партий», т. е. партий, «стоявших на платформе Октябрьской революции». Но кто будет определять, которые из них «советские партии», а которые — нет? Например, будет ли разрешено меньшевикам пользоваться благами «возрожденной» свободы? Он оставил эти вопросы нерешенными, несомненно, потому, что считал, что их нельзя решить заранее, в отрыве от обстоятельств. Подобным же образом он проявлял осторожность в вопросе о равенстве при дискуссиях: он не говорил ни о какой «отмене» «буржуазных норм распределения» — их надо было сохранять, но только «в пределах строгой необходимости»; и их надо делить постепенно, «с ростом общественного благосостояния». Политическая революция, таким образом, оставляла некоторые привилегии менеджерам, администраторам, спецам и квалифицированным рабочим. То, что он предлагал, это резкое сокращение, но не уничтожение бюрократических и управленческих привилегий.
Свыше четверти столетия прошло после появления этой формулы, а его программа осталась актуальной. И большинство ее идей вновь появилось в постсталинистском реформаторском движении. Но тут надо задать вопрос: настаивая на необходимости политической революции в СССР, не был ли Троцкий слишком догматичен в своем мнении о перспективе и не против ли своего же совета дал «слишком законченное определение незаконченному процессу». Из содержания «Преданной революции» ясно, что он не видел шанса для какой-либо реформы сверху, и действительно при его жизни и в оставшуюся часть сталинской эры этого шанса не было. Но в то время и в Советском Союзе не было шанса для какой-либо политической революции. Это был период тупика: было невозможно ни связать, ни развязать гордиев узел сталинизма. Любая программа перемен, будь она революционная либо реформистская, была иллюзорна. Но это не могло помешать таким бойцам, как Троцкий, заниматься поиском выхода. Он, однако, искал внутри замкнутого круга, который начали разрывать лишь потрясшие мир события много лет спустя. Когда это случилось, Советский Союз отошел от сталинизма через реформы сверху в первой инстанции. Что породило реформу, это именно те факторы, на которые ставил Троцкий: экономический прогресс, культурный рост масс и конец советской изоляции. Разрыв со сталинизмом мог быть лишь постепенным, потому что в конце сталинской эры не существовало и не могло существовать политической силы, способной и желающей действовать по-революционному. Кроме того, сквозь все первое десятилетие после Сталина «снизу» не возникло ни одного автономного и четкого массового движения даже за реформы. Поскольку сталинизм стал национальным и интернациональным анахронизмом, а разрыв с ним стал для Советского Союза исторической необходимостью, правящая клика сама была вынуждена взять на себя инициативу разрыва. Таким образом, по иронии истории сталинские эпигоны начали ликвидацию сталинизма и тем самым вопреки самим себе выполнили часть политического завещания Троцкого.[91]
Но могут ли они продолжить и завершить этот труд? Или все еще необходима политическая революция? Перед лицом этого шансы на революции все еще были такими же слабыми, какими они были в дни Троцкого, в то время как возможности реформы были куда более реальными. Условия для любой революции, как говорил когда-то Ленин, таковы: а) «верхи» не в состоянии править по-старому, б) «низы» при своей нищете, отчаянии и возмущении отказываются дальше жить по-старому, в) есть революционная партия, нацеленная и способная использовать свой шанс. Эти условия вряд ли материализуются в стране с жизнестойкой и расширяющейся экономикой и с растущим уровнем жизни, когда массы, имея беспрецедентный доступ к образованию, видят перед собой перспективы непрерывного общественного прогресса. В такой нации любой конфликт между народными чаяниями и эгоизмом правящей группы, конфликт, при котором советское общество все еще трудится, скорее даст начало давлению за непрерывные реформы, чем приведет к революционному взрыву. Поэтому история все еще может оправдать того Троцкого, который в течение двенадцати — тринадцати лет боролся за реформы, чем того Троцкого, которые в свои последние пять лет проповедовал революцию.
Однако это может быть лишь предположительным заключением. Проблема бюрократии в рабочем государстве в самом деле нова и сложна, так что оставляет мало места для уверенности или вообще не оставляет. Мы не можем заранее определить, как далеко может зайти бюрократия в отказе от привилегий, какую силу и эффективность может обрести народное движение за реформы при однопартийной системе и может ли «монолитный» режим постепенно раствориться и трансформироваться в такой, который позволяет свободу выражения и собраний на социалистической основе. Насколько социальная напряженность, присущая «примитивному социалистическому накоплению», смягчается или ослабляется, когда это накопление теряет свой примитивный, насильственный и антагонистический характер? До какой степени рост народного благосостояния и образования разрешает противоречия между бюрократией и народом? Только опыт, в котором может оказаться больше сюрпризов, чем снилось любому философу, может дать ответ. В любом случае, нынешний писатель предпочтет оставить окончательное суждение по идеям Троцкого о политической революции историку следующего поколения.
Здесь следует упомянуть о ревизии Троцким своей концепции советского термидора в «Преданной революции». Ранее были описаны страсти и волнения, которые пробудила эта трудная для понимания аналогия в большевистской партии 20-х годов. И надо сказать, это был тот случай, когда le mort saisit le vif.[92] Примерно через десять лет мы находим Троцкого под норвежской деревенской крышей продолжающим борьбу с французским фантомом 1794 года. Мы помним, что, пока он стоял за реформы в Советском Союзе, он отвергал мнение, которого поначалу придерживалась «рабочая оппозиция», что русская революция уже склонилась к фазе термидора или посттермидора. Термидор, возражал он, был опасностью, которой обременена сталинская политика, но это еще неустановившийся факт. Он все еще защищал эту позицию как против друзей, так и против врагов в первые годы своего изгнания. Но, решив, что оппозиция должна стать независимой партией, он опять передумал и заявил, что Советский Союз давным-давно живет в послетермидорианскую эпоху.
Он признавал, что эта историческая аналогия больше затуманила мозги, чем просветила их, и все же продолжал обдумывать эту тему. Они с друзьями, утверждал он, совершили ошибку, считая, что термидор равносилен контрреволюции и реставрации, и, совершив такое определение, они были правы, настаивая на том, что в России не произошло никакого термидора. Но это определение было неверно и неисторично: первоначальный Термидор был не контрреволюцией, а всего лишь «фазой реакции внутри революции». Термидорианцы не уничтожали социальной базы французской революции, новых буржуазных общественных отношений, которые оформились в 1789–1793 годах, но на этой основе они построили свою антинародную власть и подготовили сцену для Директории и империи. Сопоставимое событие произошло в Советском Союзе еще в 1923 году, когда Сталин подавил левую оппозицию и установил свой антипролетарский режим на социальном основании Октябрьской революции. Все время видя перед собой календарь французской революции, Троцкий продолжал утверждать, что сталинское правление обрело бонапартистский характер, что Советский Союз живет под его Директорией. В пределах этой перспективы опасность реставрации представляется слишком реальной — во Франции двадцать лет прошло между Термидором и возвращением Бурбонов; и призыв Троцкого к новой революции и возвращению к советской демократии эхом отвечает на клич, поднятый заговором равных за возвращение к Первой республике.
Таким образом, Троцкий все глубже и глубже ввязывался в это «вызывание духов прошлого», которое Маркс рассматривал как характерную черту буржуазных революций. Английские пуритане вызывали в воображении пророков Ветхого Завета, а якобинцы — героев и добродетели республиканского Рима. Делая это, Маркс говорил, что они — не просто «пародируют прошлое», но «и по-настоящему стремятся вновь отыскать дух революции». Маркс был уверен, что социалистическая революция не имеет нужды одалживать свои костюмы из прошлого, потому что она четко представляет себе собственный характер и цель. И в самом деле, в 1917 году большевики не надевали таких костюмов и не использовали их для пышных зрелищ и символов прежних революций. Однако в последующие годы они извлекли у якобинцев все их кошмары и страхи, кошмары очищений и страхи Термидора, и умножили их своими собственными действиями и в своем собственном воображении. Они делали это не из чистого подражательства, а потому, что сражались с такими же затруднениями и стремились иначе справиться с ними. Они обращались к мрачному опыту прошлого, чтобы избежать его повторения. И хотя это правда, что большевики не избежали ужасов братоубийственной войны в своей среде, они все-таки сумели избежать всего фатального цикла, через который прошло якобинство до своей кончины и через который прошла до своего конца французская революция. Мучивший большевиков страх термидора был отражением их самозащиты и самосохранения. Но этот рефлекс часто срабатывал нелогично. Теперь Троцкий признавал, что более десяти лет оппозиция поднимала тревогу по поводу термидора, ясно не представляя себе смысла предыдущего Термидора. Разве сейчас он выражался об этом более понятно?
Настоящий Термидор был одним из самых захватывающих, многоликих и загадочных событий современной истории. Термидорианцы сбросили Робеспьера после ряда междоусобных якобинских схваток, в ходе которых Робеспьер, возглавлявший центр своей партии, уничтожил ее правое и левое крылья — дантонистов и эбертистов. Конец его правления был отмечен крушением его фракции и якобинской в целом. Вскоре после Термидора Якобинский клуб был распущен и прекратил существовать. Термидорианцы заменили «царство террора» Робеспьера правлением «закона и порядка» и нанесли окончательное поражение парижской бедноте, которая еще раньше перенесла много неудач. Они отменили квазиэгалитарное распределение продовольствия, которое Робеспьер поддерживал, фиксируя «максимальные» цены. С этого времени буржуазия получила свободу прибыльно торговать, копить богатство и усиливать социальное господство, которое сохранится даже при империи. Так что на фоне отлива революционной энергии и разочарования и апатии в массах революционный режим прошел путь от народной к антинародной фазе.
Достаточно кратко обрисовать эти различные аспекты Термидора, чтобы увидеть, где Троцкий был не прав в своем предположении, что Россия прошла через свой термидор в 1923 году. Поражение оппозиции в том году ни в коем случае не было событием, сопоставимым с крушением и роспуском якобинской партии. Оно скорее соответствует поражению левых якобинцев, которое случилось значительно раньше Термидора. Пока Троцкий писал «Преданную революцию», Советский Союз находился на грани великих судебных репрессивных процессов — во Франции épurations[93] были неотъемлемой частью якобинского периода, и только после крушения Робеспьера гильотина была остановлена. Фактически, Термидор был взрывом отчаяния от непрерывных репрессий, и большинство термидорианцев являлись бывшими дантонистами и эбертистами, выжившими в избиении своих фракций. Русской аналогией этого был бы успешный переворот против Сталина, осуществленный после судов 1936–1938 годов остатками бухаринской и троцкистской оппозиций.
Еще важнее другое отличие: Термидор положил конец революционным преобразованиям во французском обществе и потрясениям в сфере собственности. В Советском Союзе это не прекратилось с приходом Сталина к власти. Напротив, самое крупное потрясение — коллективизация сельского хозяйства — было проведено при его правлении. И наверняка не «закон и порядок» даже в самой антинародной форме господствовали как в 1923 году, так и в любое другое время сталинской эпохи. Что начало 20-х годов имело общего с периодом Термидора, так это спад народной революционной энергии и разочарование и апатию масс. И вот на таком фоне Робеспьер стремился удержать у власти охвостье якобинской партии и провалился; а Сталин стремился сохранить диктатуру большевистского охвостья (т. е. свою собственную фракцию) и преуспел.
Предположительно в сталинском антиэгалитаризме имелся сильный термидорианский привкус. Но его не был лишен и ленинский нэп. Забавно, что, когда в 1921 году меньшевики охарактеризовали нэп как советский термидор, ни Ленин, ни Троцкий против этого не возражали. Напротив, они поздравили друг друга с тем, что осуществили нечто вроде Термидора мирно, без раскола своей партии и не утратив власть. «Не они [меньшевики], — писал в 1921 году Троцкий, — а мы сами поставили этот диагноз. И что еще более важно, уступки термидорианскому настрою и мелкобуржуазным тенденциям, необходимые для сохранения власти пролетариата, были сделаны Коммунистической партией без развала системы и не покидая руля управления страной». Сталин также совершил самые далеко идущие «уступки термидорианским настроениям и тенденциям» своей бюрократии и управленческих групп, «не совершая разлома системы и не покидая штурвала». В любом случае, всякая историческая аналогия, которая в 1921 году почти вызывала у Троцкого желание похвастать, что он и Ленин осуществили полутермидор, а потом утверждать, что никакого советского термидора не было, и в конце концов в 1935 году утверждать, что Советский Союз уже двенадцать лет живет при термидоре, а сам Троцкий этого не замечает — такая аналогия действительно больше затуманивала умы, чем просвещала их.
Исторически более оправданно, что Троцкий мог бы направить на Сталина обвинение в том, что тот установил царство террора вроде Робеспьера и что он чудовищно перещеголял Робеспьера. Однако собственное прошлое Троцкого и большевистские традиции не позволяли ему сказать это. Будем помнить, что в 1903–1904 годах, когда Троцкий впервые порвал с большевизмом, он выдвигал обвинения в якобинстве Ленину, а в ответ Ленин гордо назвал себя «пролетарским якобинцем» XX века. Оба они думали о разных Робеспьерах: Ленин — о том, который обеспечил триумф революции против Жиронды, а Троцкий — о том, который посылал собственных товарищей на гильотину. Не только в глазах Ленина, но и в глазах большинства западных марксистов этот Руководитель Репрессий отступил через столетие за спину великого Неподкупного в пантеоне революции. Большевик Троцкий сожалел, что вообще выдвигал против Ленина обвинение в робеспьеризме; и был осторожен, чтобы не бросить такое же обвинение против Сталина. Приняв тем временем большевистское прославление якобинства, он, фактически, отождествил себя с Робеспьером и по этой логике видел своих врагов термидорианцами, которыми те не являлись. Правда, его тревоги во многом пробудили всех большевиков, включая сталинистов, к бдительности. Кроме того, что-то от термидорианского настроя все еще сохраняется в Советском Союзе; и это можно обнаружить (вместе с «буржуазным элементом» и «буржуазными нормами распределения») в любом рабочем государстве. Тем не менее все мы, жившие в 40-х и 50-х годах и видевшие русскую революцию во всей ее Прометеевой мощи, намного превосходящей французскую революцию по масштабам и энергии — можно только удивляться странной quid pro quo,[94] благодаря которой фантом Термидора заблудился на российской сцене и оставался там целую историческую эпоху.
Пессимизм настоящий и внешний, лежащий в основе «Преданной революции», проявляется и на тех страницах, где Троцкий пытался предсказать влияние Второй мировой войны на Советский Союз. Он отмечал, что новая общественная система обеспечила «национальную оборону» преимуществами, о которых старая Россия не могла мечтать, что при плановой экономике сравнительно легко переключиться с гражданского производства на военное и «сфокусироваться на интересах обороны даже в строительстве и оборудовании новых заводов». Он подчеркнул прогресс советских Вооруженных сил во всех видах современного оружия и заявил, что «соотношение между живой силой и техникой Красной армии в общем и целом может считаться на одном уровне с лучшими армиями Запада». В 1936 году такое мнение не превалировало среди западных военных экспертов, и пафос, с которым выражался Троцкий, был, несомненно, рассчитан на то, чтобы произвести впечатление на правительства и генеральные штабы западных держав. Но он видел слабость советской обороны в термидорианском духе ее офицерского корпуса, в жестко иерархическом армейской структуре, которая заменила ее революционно-демократическую организацию, и превыше всего в сталинской международной политике. Он утверждал, что Сталин, пренебрегая поначалу опасностью, исходящей от Третьего рейха, сейчас был обязан отражать ее, полагаясь в основном на альянсы с западными буржуазными державами, на Лигу Наций и на «коллективную безопасность», ради которой он в случае войны воздержится от каких-либо революционных призывов к вооруженным рабочим и крестьянам воюющих наций.
«Можем ли мы, — спрашивал Троцкий, — ожидать, что Советский Союз выйдет из надвигающейся великой войны без поражения? На этот открыто поставленный вопрос мы также ответим открыто: если эта война останется лишь войной, поражение Советского Союза неизбежно. В техническом, экономическом и военном отношениях империализм несравненно сильнее. Если он не будет парализован революцией на Западе, империализм сметет режим, рожденный Октябрьской революцией». Расколотый изнутри Запад в конечном итоге объединится «для того, чтобы блокировать военную победу Советского Союза». Намного раньше мюнхенского кризиса Троцкий заметил, что Франция уже считает свой союз с Советским Союзом не более чем «клочком бумаги», и будет продолжать делать это, невзирая на то, как старается Сталин укрепить альянс через Народный фронт. Если бы Сталин сделал еще больше уступок французскому, британскому и американскому экономическому давлению, тогда этот альянс стал бы реальностью, но и тогда союзники воспользуются трудностями Советского Союза, вызванными войной, и будут стремиться подорвать социалистические основы его экономики и вырвать далеко идущие уступки капитализму. В то же самое время крестьянский индивидуализм, возбужденный войной, будет угрожать крахом коллективному ведению хозяйства. Вот это внешнее и внутреннее давление, подводил итог Троцкий, приблизит к России опасность контрреволюции и реставрации. Ситуация, однако, не настолько безнадежна, потому что война также приблизит революцию к Европе, а поэтому в итоге «Советский режим будет стабильней, чем режимы предполагаемых врагов». «Польская буржуазия» может только «ускорить войну и обрести в ней… несомненную смерть», а «Гитлер имеет значительно меньше шансов, чем было у Вильгельма II, довести войну до победы». Уверенность Троцкого в европейской революции была так же сильна, как и его уныние при мысли о перспективах Советского Союза в отсутствие такой революции:
«Опасность войны и разгрома Советского Союза — реальность, но и революция — реальность. Если революция не предотвратит войну, тогда война поможет революции. Вторые роды часто легче, чем первые. В новой войне будет недостаточно дожидаться целых два с половиной года первого восстания [как это было после 1914 года]. Раз она начнется, революция на этот раз не остановится на полпути. Судьба Советского Союза будет решаться в долгосрочной перспективе не на картах генеральных штабов, а на карте классовой борьбы. Только европейский пролетариат, непримиримый к своей буржуазии… может защитить Советский Союз от уничтожения или от „союзного“ удара ножом в спину. Даже военное поражение Советского Союза будет лишь коротким эпизодом, если в других странах пролетариат одержит победу. И с другой стороны, никакая военная победа не сможет спасти наследие Октябрьской революции, если империализм удержит остальную часть мира… Без Красной Армии Советский Союз будет сокрушен и расчленен, как Китай. Только упорное и героическое сопротивление будущему капиталистическому врагу может создать благоприятные условия для развития классовой борьбы в империалистическом лагере. Красная Армия, таким образом, — фактор огромной важности. Но это не значит, что она — единственный исторический фактор.
Не под знаменем нынешнего статус-кво [который сталинская дипломатия защищала в 30-х годах] могут восстать европейские рабочие и колониальные народы… Задача европейского пролетариата не в увековечивании границ, а, напротив, в их революционной отмене, не [в сохранении] статус-кво, а в Соединенных Штатах Европы».
Исход Второй мировой войны окажется куда менее ясен, чем эта альтернатива, и не будет ничего легче, чем составить по «Преданной революции» список ошибок Троцкого в прогнозах. И тем не менее каждая из этих ошибок содержит важные элементы истины и вытекает из предпосылок, которые сохраняют ценность. И до сих пор можно больше узнать из ошибок, чем из точных банальностей большинства политологов. В этом отношении Троцкий не отличался от Маркса: его мысли «алгебраически» точны, даже когда «арифметические» заключения неверны. Если его прогнозы были ошибочны, они были такими, потому что слишком часто он рассматривал Вторую мировую войну в терминах Первой. Но его общее проникновение внутрь отношений между войной и революцией было глубоким и до сих пор важно для понимания революционных последствий Второй мировой войны.
«Преданная революция» оказывала свое влияние в странной, часто обреченной на провал манере. Она была опубликована в мае 1937 года, как раз в середине избиения старых большевиков, сразу после процесса над Радеком, Пятаковым и Сокольниковым и накануне казни Тухачевского и других генералов. Залпы сталинских расстрельных команд создавали особый резонанс заголовку этой книги: он звучал как отчаянный и пронзительный крик протеста. Фокусируясь целиком на трагическом поношении Троцкого, книга предполагает, что Октябрьская революция потерпела свое последнее и невосполнимое поражение и что Троцкий и его последователи отказались от какой-либо верности Советскому Союзу. Таким образом, «Преданная революция» стала ошеломительным, запоминающимся, но все-таки бессодержательным лозунгом, и долгое время титульная страница книги оказывала более сильное впечатление, нежели сама книга; часто она приближала умы к сложным и утонченным аргументам Троцкого. Его размышления о возможном возникновении нового класса собственников притягивали внимание читателя к исключениям из его квалификационных пунктов и контраргументов. Совсем немногие из его учеников видели реальность там, где он видел всего лишь потенциальность. Сам блеск его полемического стиля помогал произвести этот искажающий ответ, ибо он искушал орды писателей меньшего калибра скопировать обличительную речь мастера, что было сделать много легче, чем войти критически в его мысли. «Преданная революция» стала Библией современных троцкистских сект и ячеек, члены которых бубнили заученное еще долго после смерти Троцкого. Эффект этой книги более широко ощущался в литературе разочарования, созданной западными экс-коммунистами в 40-х и 50-х годах. Некоторые из них существовали просто на крошки, притом не самые лучшие, с богатого стола Троцкого, и они завоевали репутацию оригинальных, подавая их под своим соусом. Джеймс Бернхэм, троцкист 30-х, базировал свою «Менеджерскую революцию» на нескольких отрывках из теории Троцкого, вырванных из контекста. «Преданная революция» отражается в ранних писаниях Игнацио Силоне и Артура Кестлера. На Джорджа Оруэлла она оказала сильное впечатление. Фрагменты «Книги», которые занимают так много страниц в его романе «1984», имели целью перефразировать «Преданную революцию», точно так же как Эммануэль Гольдштейн, загадочный соперник Большого Брата, сделан по образцу Троцкого. И последние, но не малейшие в 40-х и 50-х, интеллектуально амбициозные «советологи» и пропагандисты «холодной войны» извлекали прямо или косвенно свои аргументы и вылавливают фразы из этого источника.[95]
Несмотря на авантюрное свое использование, «Преданная революция» остается классикой марксистской литературы. Но это и самая трудная книга Троцкого, и только непредубежденный читатель, не принимая и не отвергая ее целиком, сможет извлечь из нее пользу. Гёте однажды сказал о Лессинге, что при том, что он был величайшим мыслителем своего поколения, его влияние на современников было слабым и отчасти вредным, потому что только рассудок, равный Лессингу, может целиком усвоить всю сложность его мысли; поэтому он завоевал разум Германии лишь косвенно и посмертно. Это также справедливо и в отношении автора «Преданной революции» и рассказов об извращенном и извращающем влиянии этой книги на Западе. В наше время, тем не менее, ее идеи уже витают в воздухе в СССР, где труды Троцкого все еще запрещены. Советских журдэнов, которые сегодня с невежеством говорят о его прозе, — легион: их можно найти в университетах, на заводах, в литературных клубах, комсомольских ячейках и даже в правящих кругах. Можно дать лишь несколько иллюстраций наугад: приговор Троцкого, что сталинская эра «войдет в историю художественного творчества, прежде всего, как эпоха посредственностей, лауреатов и лизоблюдов», стал общепринятым. Кто сейчас не согласен с ним, что при сталинизме «литературные школы удушались одна за другой» и что «процесс уничтожения происходил во всех идеологических сферах, и происходил решительно, поскольку это был более чем наполовину не осознанный процесс. Нынешний правящий слой считает себя призванным не только контролировать духовное творчество политически, но также и предписывать его пути развития. Метод безапелляционного командования в подобных размерах распространяется и на концентрационные лагеря, сельскохозяйственную науку и на музыку. Центральный орган партии печатает анонимные директивные передовицы, имеющие характер военных приказов, по архитектуре, литературе, театральному искусству, балету, не говоря уже о философии, естественным наукам и истории. Бюрократия суеверно боится всего, что не служит ей напрямую, как и того, чего она не понимает».
Если, к счастью, не все из этого перечня уже является правдой, то многое все еще остается, и как критик наследия сталинизма мертвый Троцкий все еще высказывается более мощно, чем все живущие «десталинисты»:
«Школа и общественная жизнь учащихся перенасыщены формализмом и ханжеством. Дети научились высиживать бесчисленные смертельно нудные собрания с их неизменным почетным президиумом, восхвалениями дорогих руководителей, их заранее подготовленными диспутами, на которых, по образцу старших товарищей, они говорят одно, а думают другое… Более мыслящие учителя и детские писатели, несмотря на показной оптимизм, не могут скрыть своего ужаса от присутствия этого духа подавления, фальши и скуки… Независимый характер, как и независимая мысль, не могут развиваться без критики. Советская молодежь, однако, просто лишена элементарной возможности обмениваться мнениями, совершать ошибки, пробовать и исправлять ошибки как свои собственные, так и ошибки других. Все вопросы… решаются за них. Их дело — лишь выполнить решение и воспевать славу тем, кто его принял… Этим объясняется тот факт, что из миллионов и миллионов молодых коммунистов не появилось ни одной сколько-нибудь значительной фигуры.
Включаясь в инженерию, науку, литературу, спорт или шахматную игру, молодые люди, так сказать, завоевывают себе признание для будущих великих дел. Во всех этих областях они соревнуются с плохо подготовленным старшим поколением и часто равны ему по силам или побеждают его. Но при каждом соприкосновении с политикой они обжигают себе пальцы».
А как все еще жив этот пророческий гнев, вера и видение будущего, которые вдохновили на такие слова:
«Истинная устроенность социалистического общества может и будет достигнута не этими унизительными мерами отсталого капитализма, к которым прибегает советская власть, а методами, более достойными освобожденного человечества, — и прежде всего не под хлыстом бюрократии. Ибо этот самый хлыст — самое отвратительное наследие старого мира. Его надо сломать на кусочки и сжечь на публичном костре до того, как можно будет говорить о социализме без краски стыда».
Месяцы, в течение которых Троцкий писал «Преданную революцию», несмотря на интенсивную работу, были передышкой. Жизнь в Вексхолле протекала без событий и спокойно. Ежедневный распорядок дня изредка прерывался посетителями или выездом за город в голые и скалистые окрестности на севере. Раз в неделю Троцкие и Кнудсены отправлялись в кино в Хоннефосс, чтобы посмотреть какой-нибудь старый выцветший американский фильм. Троцкий в своей работе преуспевал настолько, что, закончив «Преданную революцию», он задумывал сразу же приняться за «Ленина». Похоже, он наконец-то обрел безопасность настоящего убежища. Но время от времени показывалось небольшое облачко. На осень были назначены выборы, и уже летом маленькая пронацистская партия, Национальный замлинг, начала свои нападки на правительство, наносящее ущерб миру и процветанию тем, что приютило Троцкого. Лидером партии был майор Квислинг, который через несколько лет, во время германской оккупации, станет главой марионеточного правительства и чье имя будет синонимом сотрудничества с оккупантами. В это время, однако, количество его сторонников было очень мало, и их считали фанатиками, поэтому на них не обращали большого внимания. Более тревожными были нападки со стороны коммунистической газеты «Arbeideren». Хотя у нее было слишком уж мало читателей, она озвучивала взгляды советского посольства, когда то обвинило Троцкого в использовании Норвегии в качестве «базы для террористической деятельности, направленной против Советского Союза и его руководителей, и прежде всего против величайшего вождя мирового пролетариата нашего времени — Сталина». «Как долго, — вопрошала газета, — будут норвежские рабочие терпеть это? Что может сказать по этому поводу Центральное бюро Норвежской рабочей партии? Что скажет норвежское правительство?» Этим самым впервые утверждалось, что Троцкий использует Норвегию в качестве базы для террористической деятельности — спустя несколько месяцев это обвинение подхватит Вышинский.
Рабочая партия твердо отвергла это обвинение. «Какова цель всей этой кампании? — ответил Скёффле. — Чтобы заставить норвежских рабочих поверить лжи… и вынудить рабочее правительство поместить Троцкого под арест? Нет, господа, ни то ни другое не произойдет. Вам не удастся так просто одурачить ни норвежских рабочих, ни норвежское лейбористское правительство…» Другие представители партии в печати отвечали точно так же.
Тем не менее, норвежская полиция держала Троцкого под наблюдением и регулярно докладывала не только собственные наблюдения, но и перехваты связи, полученные в министерстве юстиции от бельгийской и французской полиции. Какой-то Шерлок Холмс в Брюсселе обнаружил, что Троцкий — настоящий вдохновитель и лидер 4-го Интернационала; и в полицейском управлении Осло осторожные умы запросили, точна ли эта беспокоящая информация. Французская полиция это подтвердила и выразила озабоченность по поводу приездов и отъездов секретарей Троцкого, которые все были агентами 4-го Интернационала. Норвежским министрам оставалось только поражаться этому рекорду слежки — чуть ранее они сами или некоторые из них были даже склонны вступить в эту подрывную организацию. Тем не менее, чтобы успокоить свою полицию, министр юстиции приказал депортировать Яна Френкеля, одного из секретарей Троцкого. Его место скоро занял Эрвин Вольф, беззаботно остававшийся в Вексхолле примерно год; к тому же он и женился на дочери Кнудсена. Во избежание ненужного раздражения Троцкий попросил своих сторонников вычеркнуть его имя из перечня исполнительного комитета их организации; и он публиковал статьи на внутритроцкистские темы анонимно либо под псевдонимом. Он отказался давать интервью в иностранные газеты и так старательно избегал даже мельчайшего вовлечения в норвежскую политику, что, когда Кнудсен, баллотировавшийся в парламент, пригласил его посетить свой предвыборный митинг в качестве зрителя, Троцкий отказался. Он обычно сопровождал Кнудсена и дожидался его снаружи в своей машине, пока не заканчивался митинг. Полиция, исполненная сознания долга, сообщила министру, что поведение Троцкого безупречно во всех отношениях. «Мы, конечно, знали, что Троцкий продолжает писать свои комментарии на международные темы, — говорил потом министр иностранных дел Кот, — но мы считали своим долгом уважать его право делать это согласно демократическим принципам убежища». Власти были так довольны, что дважды автоматически продлевали Троцкому вид на жительство, не задавая никаких вопросов.
Тем не менее, когда Кот летом 1936 года поехал с миссией в Москву и получил там демонстративно радушный прием, Троцкий с недобрыми предчувствиями ожидал его возвращения. «Они торгуются в Кремле по мою голову», — сказал он Кнудсену. «Вы полагаете, — спросил Кнудсен, шокированный недоверием, — что мы, Норвежская рабочая партия, готовы продать вашу голову?» — «Нет, — отвечал Троцкий, щадя чувства своего хозяина, — но я считаю, что Сталин готов ее купить». Как свидетельствовал сам Кот, он ехал в Москву только с визитом вежливости: побывав перед этим в Варшаве гостем польского правительства, он не хотел, чтобы у Москвы создалось впечатление, что он «сговорился» с поляками. Во время этого визита, говорил он, вопрос об убежище Троцкому не поднимался ни разу — лишь однажды в Женеве на сессии Лиги Наций Литвинов мягко коснулся его в частной беседе. Рассказу Кота вполне можно верить: Сталин вряд ли стал бы торговаться из-за головы Троцкого с Котом, этим мягким, добрым и каким-то не от мира сего профессиональным дипломатом — для этого ему требовался много более грубый характер.
Подозрения Троцкого основывались на невероятном росте антитроцкистского террора в Советском Союзе. Недавно он получил рассказы об этом из первых рук от троих сторонников, прибывших прямо из советских тюрем и концентрационных лагерей. Это были А. Таров, русский рабочий и старый большевик, Антон Чилига, бывший член Политбюро Югославской коммунистической партии, и Виктор Серж, о чьем участии в «Русской оппозиции» мы часто упоминали. Серж своей свободой был обязан личному вмешательству Ромена Роллана перед Сталиным. Чилигу освободили по настоянию западноевропейских друзей, а Таров тайно пересек границу. Таров рассказывал, что под впечатлением роста нацизма он был готов заключить мир со сталинизмом и вел переговоры с ГПУ об условиях своей капитуляции. «Согласны ли вы, — задали они ему вопрос, — что Троцкий является главой авангарда буржуазной контрреволюции?» Такова была формула, которую сейчас капитулянтам требовалось принять. Таров ответил, что, по его мнению, «Троцкий — это человек, наиболее преданный делу мирового пролетариата, несгибаемый революционер, которого я считаю своим другом и товарищем по общему делу». Много ночей его допрашивали и требовали, чтобы он осудил Троцкого; но он не мог заставить себя сделать это.
Все трое описывали этот новый, катастрофический разгул террора: по всей территории СССР созданы огромные концентрационные лагеря, беспощадная жестокость, с которой обращаются с заключенными с момента убийства Кирова, и пытки и обман, с помощью которых ГПУ вырывает «признания». При всей суровости своей критики Сталина Троцкий не до конца знал о том, как далеко зашли дела. Как и любой политэмигрант, он был вынужден сохранить до некоторой степени тот образ своей страны, какой он ее знал, когда террор был намного уже по масштабам и мягче. Новые рассказы (кроме того, Андре Жид только что опубликовал «Возвращение из СССР») наполнили его стыдом и гневом и утвердили в намерении осудить все «реформистские иллюзии», а также придать самое острое выражение своему разрыву с Коминтерном.
Эти доклады, следует добавить, едва ли оставляли какой-то луч надежды для оппозиции, ибо пока они делали упор на безнравственности правящей клики, ненависти и презрении, которые ее окружали, они также в самых мрачных тонах описывали полное распыление и беспомощность оппозиции. Для Троцкого должно было быть горьким утешением, как люди вроде Тарова все еще защищали его честь в темницах и тюремных лагерях. Похоже, эти люди были последними из могикан оппозиции. И все равно перед концом 1935 года были объявлены свежие массовые исключения из партии. 30 декабря Хрущев, тогда секретарь Московского комитета партии, заявил, что только в столице было исключено 10 тысяч членов, из Ленинграда Жданов докладывал об исключении 7 тысяч человек. По всей стране были лишены членства, как минимум, 40 тысяч человек, много больше было исключено из комсомола, и большинство было заклеймено как троцкисты и зиновьевцы. Даже если половина или треть этого числа были истинные оппозиционеры, их число все равно было много выше тех 4–6 тысяч, поставивших подписи под «Платформой» объединенной оппозиции в 1927 году. Была ли это новая волна? Троцкий задавался таким вопросом. И, несмотря на пессимистические отчеты Сержа и Чилиги, он излучал оптимизм:
«Под влиянием сталинистской прессы и ее агентов (типа Луи Фишера и ему подобных) не только наши враги, но и многие из наших друзей на Западе, сами того не замечая, стали думать, что если большевики-ленинцы все еще и остались в СССР, то лишь в качестве заключенных трудовых лагерей. Нет, это не так! Невозможно уничтожить марксистскую программу и великие революционные традиции полицейскими методами… Если не как доктрина, так как настрой, традиция и знамя, наше движение имеет сейчас в СССР массовый характер и явно набирает новые и свежие силы. Среди тех от 10 до 20 тысяч „троцкистов“, которых исключили в последние месяцы, наберется не более нескольких десятков, может быть, сотен… людей старшего поколения, оппозиционеров образца 1923–1928 гг. Массу составляют новобранцы… Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на тринадцать лет травли и преследований, непревзойденных по злобе и дикости, несмотря на капитуляции и перебежки, более опасные, чем преследования, Четвертый Интернационал уже обладает своим самым сильным, самым многочисленным и самым закаленным филиалом в СССР».
Казалось, это противоречит более ранним заявлениям Троцкого, что от Советского Союза нельзя ожидать революционной инициативы, даже от его последователей. Как «настрой, традиция и знамя», даже если и не в виде организованной партии, троцкизм все еще жив, как всегда. И Сталин и Троцкий знали, что в благоприятных обстоятельствах «настроение и традиция» могут легко превратиться в партию. Поэтому Сталин готовил свое финальное наступление на троцкизм. Тем временем весной и ранним летом 1936 года все еще царило тревожное затишье.
В Западной Европе это была лучшая пора Народного фронта. Партии Народного фронта одержали ошеломляющую победу на выборах во Франции, и это подбадривало рабочих в выдвижении требований, вступлении в профсоюзы в миллионных количествах, занятии заводов и организации всеобщих забастовок и демонстраций. «Французская революция началась», — провозгласил Троцкий в заголовке статьи, написанной им для американской «Nation». (Консервативная «Le Temps» вела речь о «великих маневрах революции».) Он отмечал крушение французской экономики, обострение классовых противоречий, панику среди классов имущих и их партий, а также импульс, движущую силу массового движения. «Пришел в движение весь рабочий класс. Эту гигантскую массу не остановить словами. Борьба должна завершиться либо полной победой, либо самым страшным из поражений». Лидеры Народного фронта навлекали разгром, они делали все, что в их силах, чтобы уменьшить энергию и уверенность рабочих в своих силах и успокоить буржуазию. «Социалисты и коммунисты все силы отдавали работе правительства, возглавляемого Эррио, в худшем случае — Даладье. И что же массы получили? Им навязали правительство Блюма. Разве это не равносильно прямому голосованию против политики Народного фронта?» На данный момент контрреволюция затаилась, ожидая шторма, чтобы нанести ответный удар и приготовить свое возвращение. «Было бы легкомысленным утверждать, что эти расчеты беспочвенны. С помощью Блюма, Жуо и Кашена контрреволюция еще может достичь своей цели». Годами Коммунистическая партия выдвигала требования «Везде — Советы!», но теперь, когда пришло время перейти от слов к делу, собирать и вооружать рабочих и создавать Советы рабочих, она объявила этот лозунг «несвоевременным». Он также адресует свое предупреждение и своим последователям: «Партия или группа, которая не может найти опору в нынешнем забастовочном движении и установить прочные связи с приведенными в боевую готовность рабочими, недостойна названия революционной организации». Не в первый и не в последний раз его сторонники не смогли отыскать эту «опору».
4 августа сразу после отправки издателям предисловия к «Преданной революции» Троцкий с Кнудсеном поехали отдохнуть, выходные дни они собирались провести на диком и пустынном островке в одном южном фьорде. Они ехали на машине, и в дороге Кнудсен заметил, что за ними следуют несколько человек, в которых он признал сторонников Квислинга. На пароме, однако, ему удалось сбить их со следа; и довольные этим, они вместе с Троцким переплыли фьорд, добрались до островка и устроились на ночь в какой-то рыбацкой хижине.
На следующее утро их разбудило срочное сообщение из Вексхолла. В прошедшую ночь квислинговцы, переодевшись полицейскими, ворвались в дом Кнудсена и, заявив, что имеют ордер на проведение обыска, попытались силой пробиться в комнаты Троцкого. Дочь Кнудсена, подозревая обман, отказалась подчиниться им, а ее брат тем временем поднял на ноги соседей. Незваные гости бежали, захватив лишь несколько листов рукописей со стола. После задержания полицией они заявили, что планировали проникнуть в дом во время отсутствия Троцкого и что, подслушав телефонные разговоры в доме Кнудсена, они заранее знали, когда его и Троцкого не будет дома. Тогда не было и мыслей о посягательстве на жизнь Троцкого. Их целью было заполучить улики, свидетельствующие о политической деятельности Троцкого и его нарушении правил проживания в Норвегии, улики, которые партия Квислинга намеревалась использовать в этих выборах. Взломщики утверждали, что своей цели достигли.
Этот инцидент выглядел смехотворным. Троцкий был уверен, что люди Квислинга не могли получить доказательств нарушения, которого он не совершал. Также они не могли отыскать что-либо значительное в его архивах, которые Кнудсен на всякий случай поместил перед отъездом в банковский сейф. А посему после минутных переживаний они с Кнудсеном продолжили восхождение на скалы и рыбную ловлю. Неделю спустя, то ли 13-го, то ли 14 августа на островке приземлился небольшой самолет, и из него вышел глава норвежской криминальной полиции. Он прибыл по распоряжению Трюгве Ли с заданием допросить Троцкого в связи с предстоящим судом над людьми Квислинга. Вопросы касались документов, которые те захватили в доме Кнудсена, копии частного письма Троцкого его французскому стороннику и его статьи «Французская революция началась», на которую мы только что ссылались. Троцкий ответил на все заданные ему вопросы, и офицеру полиции только осталось сообщить прессе, что он нашел нацистские обвинения в адрес Троцкого абсолютно беспочвенными.
Рано утром следующего дня Кнудсен, как обычно, слушал новости. Радиоприем был нечеткий: на острове отсутствовало электричество, а у него с собой был лишь небольшой портативный радиоприемник. Но того, что Кнудсен услышал, было достаточно, чтобы он, запыхавшись, примчался к Троцкому: Москва только что объявила, что идет суд над Зиновьевым, Каменевым и еще четырнадцатью подсудимыми, которые обвиняются в измене, заговорщицкой деятельности и подготовке покушения на Сталина. Затем был передан по радио длинный текст обвинительного акта, в котором Троцкий клеймился как их главный подстрекатель. Кнудсен не был уверен в деталях, но не сомневался, что Зиновьев и Каменев обвинялись в террористической деятельности, а также в сговоре с гестапо. Троцкий был потрясен. «Терроризм? Терроризм? — то и дело повторял он. — Ладно, я еще могу понять это обвинение. Но гестапо? Они сказали „гестапо“? Вы в этом уверены?» — спрашивал он в изумлении. «Да, именно так и сказали», — подтвердил Кнудсен. Позже в этот же день они узнали, что в обвинительном акте также утверждалось, что именно из Норвегии Троцкий засылал в Советский Союз террористов и убийц. Им показалось, будто скалы этого тихого островка вдруг извергли огонь и лаву. Они ринулись назад в Вексхолл.
В тот же день 15 августа Троцкий отверг эти обвинения, описав их для журналистов как «величайшую фальшивку в мировой политической истории». «Сталин устраивает этот процесс для того, чтобы подавить недовольных и оппозицию. Правящая бюрократия рассматривает любую критику и любую форму оппозиции как заговор». Обвинение в том, что он использует Норвегию в качестве базы для террористической деятельности, говорил он, нацелено на то, чтобы лишить его убежища и возможности защититься. «Категорически заявляю, что за все время своего пребывания в Норвегии я ни разу не имел никакой связи с Советским Союзом. Я не получил оттуда ни одного письма и сам не писал никому, ни напрямую, ни через третьих лиц. Мы с женой не имели возможности обменяться ни строчкой с нашим сыном, который занимался наукой и не имел с нами никакой политической связи». Он предлагал норвежскому правительству расследовать эти обвинения — со своей стороны он был готов представить ему все соответствующие бумаги и материалы. Кроме этого он обратился к рабочим организациям всех стран с призывом создать беспристрастную международную комиссию по расследованию.
Таким образом, наступила кульминация террора, которую он многократно предсказывал. Он оказался еще страшнее, чем все, что он предчувствовал. Он снова прильнул к радиоприемнику — с 19 до 24 августа он слушал отчеты о процессе. Час за часом он впитывал его ужас, пока прокурор, судьи и подсудимые разыгрывали какой-то спектакль, так походивший в своем мазохизме и садизме на плод больного воображения, что казалось, он превосходил человеческую фантазию. С самого начала было ясно, что на кону — головы этих шестнадцати подсудимых, а вместе с ними — и головы Троцкого и Лёвы (в обвинительном акте Лёва фигурировал как главный помощник своего отца). По мере того как разворачивалось судебное разбирательство, становилось ясно, что этот процесс может быть лишь прелюдией к уничтожению целого поколения революционеров. Но хуже всего была манера, в какой подсудимых тащили сквозь грязь и заставляли ползать до самой смерти среди неописуемо тошнотворных обвинений и самообвинений. В сравнении со всем этим кошмары французской революции — эти крытые двуколки, эта гильотина и братоубийственная борьба якобинцев — теперь походили на драму почти здравомыслящего и торжественного достоинства. Робеспьер сажал своих противников на скамью подсудимых вместе с ворами и уголовниками и предъявлял им фантастические обвинения; но он избавлял их от необходимости защиты своей чести, а те погибали, как бойцы. Дантон, по крайней мере, смог свободно воскликнуть: «После меня настанет твоя очередь, Робеспьер!» Сталин же швырял своих сломленных соперников в неизмеримую бездну самоунижения. Он заставлял лидеров и мыслителей большевизма вести себя, подобно несчастным женщинам Средневековья, которым приходилось описывать перед инквизицией каждый акт своего колдовства и каждую деталь их оргии с дьяволом. Вот, например, диалог Вышинского с Каменевым, который услышал весь мир:
Вышинский. Какую оценку следует дать статьям и заявлениям, написанным вами, в которых вы выражали верность партии? Была ли это ложь?
Каменев. Нет, это было хуже чем ложь.
Вышинский. Вероломство?
Каменев. Хуже чем это.
Вышинский. Хуже чем ложь, чем вероломство? Тогда найдите этому определение сами. Было ли это предательством?
Каменев. Вы сами нашли это слово.
Вышинский. Подсудимый Зиновьев, вы подтверждаете это?
Зиновьев. Да.
Вышинский. Предательство? Вероломство? Двурушничество?
Зиновьев. Да.
А вот как Каменев признал свою вину:
«Мне дважды была сохранена жизнь, но есть предел всему, есть предел великодушию пролетариата, и этого предела мы достигли… Мы здесь сидим бок о бок с агентами иностранных секретных служб. У нас было то же самое оружие, наши руки переплелись до того, как наши судьбы скрестились здесь, на этой скамье подсудимых. Мы служили фашизму, мы организовали контрреволюцию против социализма. Таков путь, который мы избрали, и такова западня подлого предательства, в которую мы попали».
Зиновьев продолжал следующим образом:
«Я виновен в том, что был вторым, уступавшим лишь Троцкому, организатором троцкистско-зиновьевского блока, который поставил себе цель убийства Сталина, Ворошилова и других руководителей… Я признаю себя виновным в том, что был главным организатором убийства Кирова. Мы вошли в сговор с Троцким. Мой дефектный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм — это разновидность фашизма, а зиновьевизм — разновидность троцкизма».
Иван Смирнов, разгромивший в Гражданскую войну Колчака и сидевший рядом с Троцким в Революционном военном совете, заявлял:
«Для нашей страны нет иного пути, чем тот, которым она сейчас шагает; и нет и не может быть другого руководства, нежели то, что дано нам историей. Троцкий, который посылает директивы и инструкции по терроризму и считает наше государство фашистским, — это враг. Он находится по ту сторону баррикад».
Мрачковский, еще один из старых товарищей Троцкого и также герой Гражданской войны, сказал:
«Почему я вступил на контрреволюционный путь? К этому привела меня моя связь с Троцким. С того момента, как я связался с ним, я начал обманывать партию, обманывать ее руководителей».
Бакаев, бесстрашный глава Ленинградской ЧК в Гражданскую войну и лидер демонстраций оппозиции в 1927 году, признавался:
«Факты, открывшиеся перед этим судом, показывают всему миру, что организатором этого… контрреволюционного блока, ее движущей силой является Троцкий… Я вновь и вновь закладывал свою голову в интересах Зиновьева и Каменева. Я глубоко угнетен мыслью, что стал послушным орудием в их руках, агентом контрреволюции, и что я поднял свою руку на Сталина».
Часами Вышинский, этот экс-меньшевик, вскочивший в большевистский вагон уже заметно позже окончания Гражданской войны, а сейчас являвшийся главным обвинителем, кипел и бесновался в разыгранном припадке истерии:
«Эти бешеные собаки капитализма пытались отнять у нас плоть от плоти, лучшего из лучших в нашей Советской стране. Они убили одного из самых дорогих для нас деятелей революции, этого замечательного и изумительного человека, яркого и жизнерадостного, потому что улыбка на его губах всегда была яркой и жизнерадостной, потому что наша новая жизнь — яркая и жизнерадостная. Они убили нашего Кирова, они ранили нас почти в самое сердце… Враг коварен, а коварному врагу не должно быть пощады… Весь наш народ трепещет от возмущения; и от имени Государственного Обвинителя я присоединяю свой разгневанный и возмущенный голос к грохочущим голосам миллионов… Я требую, чтобы бешеные собаки были расстреляны, все до одного!»
После пяти дней, полных грубой брани и грязных оскорблений, дней, в течение которых обвинение не представило ни единого кусочка доказательств, суд объявил приговор, осуждающий всех подсудимых на смерть и заканчивающийся словами:
«Лев Давидович Троцкий и его сын Лев Львович Седов… осужденные… как напрямую готовившие и лично участвовавшие в организации в СССР террористических актов… подлежат в случае обнаружения их на территории СССР немедленному аресту и суду Военной Коллегии Верховного Суда СССР».
Сталин для этого процесса выбрал время сразу после похода Гитлера на Рейнланд и вскоре после того, как Народный фронт сформировал свое правительство во Франции. Делая это, он шантажировал рабочее движение и левую интеллигенцию Запада, которые рассчитывали получить в нем своего союзника в войне против Гитлера. В сущности, он грозил, что, если там возникнут какие-либо протесты против его репрессий, он ответным ударом разрушит Народный фронт и оставит Западную Европу лицом к лицу с Третьим рейхом. В этом ему способствовала эта мрачная иррациональность суда, которая приводила в замешательство людей, могущих поднять свой голос протеста против злодеяния, которое они понимали, но совсем не хотели протестовать против этой мрачной и кровавой мистерии, а поэтому и оказаться в ней замешанными.
Какими бы гнетущими ни были процесс и казни, они пробудили в Троцком весь его боевой дух. Он был полон решимости встретить этот вызов с такой же концентрированной энергией и уверенностью, с какими когда-то командовал в первых боях Гражданской войны. На процессе Зиновьева — Каменева главным подсудимым был он; и он знал, что будут еще и другие процессы, на которых на него взвалят еще более тяжелый груз громадных обвинений. Он сражался за свою жизнь и честь, за своих уцелевших детей и за достоинство всех обреченных старых большевиков, которые не могли постоять за себя. Он вскрывал противоречия и абсурдности, которыми изобиловал этот процесс. Он напрягал каждый нерв, чтобы разоблачить фальшь суда и развеять его загадочность. Он знает, что в одиночку противостоит гигантской мощи Сталина и легионов пропагандистов, которые этой мощи служили. Но он, по крайней мере, мог свободно высказываться и организовать свое противодействие; и он стремился воспользоваться этим с максимальной эффективностью. На второй день суда он дал исчерпывающее интервью газете «Arbeiderbladet», которое было опубликовано на следующий же день, 21 августа, на первой странице (под заголовком «Троцкий утверждает, что московские обвинения фальшивы»), и оно не оставило у читателей сомнений в отношении симпатий делу Троцкого. Он подготовил заявления для американских, британских и французских телеграфных агентств и для многих репортеров, которые ринулись в Осло. Он был в самой гуще сражения; а время в нем было самым главным. Ему пришлось опровергать сталинские обвинения, пока не притупилась изумленная и шокированная чувствительность мира. Все, что ему было нужно, это свобода, чтобы защитить самого себя.
И этой свободы он был вдруг неожиданно и коварно лишен; а те, кто украли ее, были теми самыми людьми, которые только что открыто заявляли о своей дружбе с ним, почитали его и гордились тем, что предоставили ему убежище. 26 августа, через день после окончания московского процесса, к нему заехали по распоряжению министра юстиции два старших чиновника полиции, чтобы сообщить, что он нарушил требования предоставленного ему вида на жительство. Его попросили подписать обязательство, что впредь он воздержится от вмешательства «прямого или косвенного, устно или в письменной форме в политические проблемы, существующие в других странах»; и что как автор он «резко ограничит свою работу историческими трудами и общими теоретическими наблюдениями, не относящимися к какой-либо конкретной стране». Это требование звучало как насмешка. Как он мог воздержаться от высказываний по «проблемам, существующим в других странах», сейчас, когда Сталин осудил его как гитлеровского сообщника и главаря банды грабителей и убийц? Как он мог ограничиться «теоретическими наблюдениями, не направленными против какой-либо конкретной страны»? Его молчание только придаст яркость всем этим клеветническим измышлениям против него, которые Сталин вколачивает в уши всему миру. Он решительно отказался подписывать этот документ. На этом основании полиция поместила его под домашний арест, расставила охрану у дверей и запретила ему делать какие-либо заявления для публикации.
Чем же была вызвана такая решительная перемена в поведении норвежского правительства? 29 августа советский посол Якубович доставил в Осло формальную ноту с требованием выслать Троцкого. В ноте утверждалось, что Троцкий использует Норвегию в качестве «базы для своего заговора»; в ней имелась ссылка на приговор московского Верховного суда, и заканчивалась она следующей слегка завуалированной угрозой: «Советское правительство хочет заявить, что продолжение предоставления убежища Троцкому… нанесет ущерб дружеским связям между СССР и Норвегией и нарушит… нормы, которыми руководствуются международные отношения». К этому моменту прошло три дня, как Троцкий был помещен под домашний арест, и это обстоятельство позволило Трюгве Ли утверждать, что меры против Троцкого были приняты не под нажимом советского вмешательства. Тем не менее, советский посол еще за несколько дней до этого в устном демарше запросил высылки Троцкого. «Трудность, — говорил Кот, — установления точной даты, когда советский посол впервые обратился с просьбой, чтобы мы отказали Троцкому в убежище, проистекает из того факта, что сделал он это в телефонном разговоре, о котором, кажется, нет никаких записей. В то время меня в Осло не было, я объезжал свой избирательный участок далеко на севере; а в министерстве иностранных дел Трюгве Ли в это время замещал меня». На самом деле посол встречался с Трюгве Ли вскоре после того, как «Arbeiderbladet» опубликовала свое интервью с Троцким по поводу московского процесса. Было немыслимо, чтобы он не протестовал против публикации этого интервью в газете правящей партии и не потребовал лишения Троцкого права убежища. Осло был взбудоражен слухами о том, что посол также грозил прекратить торговлю с Норвегией и что судоходные компании и рыбная индустрия оказывали давление на правительство, чтобы не подвергать опасности их интересы в период экономического спада и безработицы. «Мои коллеги в правительстве, — говорил Кот, — боялись экономических санкций, хотя русские и не говорили открыто, что применят их. Я не верил, что они прибегнут к какому-нибудь коммерческому бойкоту, и считал, что, в любом случае, наша торговля с Россией — нашим основным экспортным продуктом была сельдь — не так для нас велика, чтобы мы могли чего-то бояться. Поэтому я был против предложения интернировать Троцкого, но мои коллеги в правительстве одержали верх надо мной».
Министры боялись разрыва с Россией и поражения на выборах из-за этой проблемы. А посему, хоть и было известно, что обвинение Троцкого в том, что он использует Норвегию как базу для террористической деятельности, было вздорно, и сами они отрицали это в своей ответной ноте, они уступили давлению. Однако выслать Троцкого было невозможно, так как ни одна страна не соглашалась принять его. И не могла Норвегия передать его советскому правительству, которое не запрашивало об его экстрадиции, хотя Троцкий бросал вызов Сталину, призывая сделать такой запрос. (Дело в том, что такое требование сделало бы необходимым провести слушание дела в норвежском суде; а это дало бы Троцкому возможность отвергнуть эти обвинения.) Поэтому, опасаясь оскорбить Москву разрешением Троцкому осуществить свою защиту публично, министры решили его интернировать. Однако демократическая совесть и министерское самомнение не позволили им признаться, что они уступили угрозам и что в своей собственной стране они не могут дать убежище человеку, в чьей невиновности убеждены и чье величие превозносили. Тогда их стараниями на его невиновности появилось пятно. Они не осмелились поддержать обвинения Вышинского, ибо, хоть у них и не было мужества вступиться за правду, у них недоставало наглости принять на веру столь огромную ложь. Это были мелкие люди, способные лишь на маленькую ложь. Было решено обвинить Троцкого в злоупотреблении их доверием, что подтверждалось его критикой зарубежных правительств и участием в делах 4-го Интернационала, хотя они и признавались, что ни один из этих видов деятельности не являлся незаконным. Они занялись поисками доказательств его дурного поведения. И где же их найдут? А в суде города Осло, где квислинговцы со скамьи подсудимых выставляли напоказ несколько листов бумаги, которые им удалось схватить в доме Кнудсена, — копию статьи Троцкого «Французская революция началась». Разве в ней он не нападал на Народный фронт и правительство Блюма? Разве это не деятельность, направленная против дружественного правительства? Однако в этом не было ничего тайного или незаконного: статья появилась в американской «Nation» и в двух небольших троцкистских периодических изданиях «Verité» и «Unser Wort», и было бы для министров-лейбористов недостойно пользоваться бумагами, украденными квислинговцами из стола Троцкого. В распоряжении министра юстиции были полицейские доклады о контактах Троцкого с 4-м Интернационалом. Но правительство воспринимало эти контакты как само собой разумеющееся и не обращало внимания на эти полицейские отчеты, как это было совсем недавно, в июне, когда Троцкому был продлен его вид на жительство. Куда ни кинься, нигде не найти приличного мотива для отказа ему в убежище.
И все-таки отказать в нем надо, даже если юридическое обоснование будет грубо сработано. По мере того как шли дни, а ярость Москвы выражалась все громче и громче, министры все более опасались, что интересы и репутация их страны Лилипутии окажутся замешаны в соперничество гигантов, и они прокляли тот час, когда позволили этому человеку-горе приехать в их страну. Однако он находился у них в руках, и они были вольны сделать его своим пленником. И они это сделали неуклюже, стыдясь того, что стали сообщниками Сталина. Процитируем одного норвежского писателя: «Виноватая совесть и чувство стыда изредка приводят преступника к покаянию… ему необходимо получить воображаемое оправдание своих проступков. И не так уж редко преступник начинает ненавидеть свою жертву». И amour propre[96] министров была до такой степени преувеличена, когда они выступали в роли хозяев «ближайшего товарища Ленина», что они стали раздражительны и несдержанны, когда пришло время превратиться в его тюремщиков.
28 августа Троцкий под полицейским эскортом появился в суде г. Осло, чтобы во второй раз дать показания по делу квислинговцев. Он почти сразу же очутился в положении скорее подсудимого, чем свидетеля. Люди Квислинга заявляли суду, что разоблачили его «вероломное» поведение в Норвегии, а председательствующий судья подверг его тщательному допросу. Занимался ли он, проживая в Норвегии, перепиской со своими товарищами за рубежом? Предлагал ли он им свое политическое руководство? Критиковал ли он какое-либо зарубежное правительство в своих статьях? На все эти вопросы Троцкий отвечал утвердительно, они не имели юридического отношения к делу суда, который должен был решить вину лиц на скамье подсудимых, выдававших себя за полицейских и вломившихся в дом Кнудсена, в мошенничестве и взломе. Затем судья объявил, что Троцкий, по его собственным показаниям, нарушил условия, на которых ему был разрешен въезд в страну. Троцкий ответил, что никогда не брал на себя обязательств воздерживаться от выражения собственных взглядов и переписки с друзьями и что он готов доказать где угодно, что не занимался никакой незаконной или заговорщицкой деятельностью. В этом месте судья прервал его и приказал ему покинуть трибуну для свидетелей.
Прямо из зала суда полиция доставила его в министерство юстиции, где министр, окруженный чиновниками, безапелляционно попросил его подписать следующее заявление:
«Я, Лев Троцкий, заявляю, что я, моя жена и мои секретари, находясь в Норвегии, не будут заниматься никакой политической деятельностью, направленной против любого дружественного Норвегии государства. Я заявляю, что буду жить в том месте, которое может подобрать или одобрить правительство… что я, моя жена и мои секретари никоим образом не будем вовлечены в политические проблемы, существующие в Норвегии или за рубежом… что моя деятельность как автора будет ограничена историческими трудами, биографиями и мемуарами… что [мои] произведения теоретического характера… не будут направлены против любого правительства любой страны. Далее я соглашаюсь, что вся моя почта, мои телеграммы, телефонные звонки, совершенные или полученные мной, моей женой и моими секретарями, будут подвергаться цензуре».
Даже спустя двадцать лет очевидцы этой сцены вспоминают искры презрения в глазах Троцкого и гром его голоса, когда он заявил о своем отказе подчиниться. Как, спрашивал он, министр осмелился предъявить ему столь позорный документ? Неужели он всерьез рассчитывал, что человек с таким, как у него, Троцкого, прошлым подпишет это? То, что министр просит его сделать, означает полную капитуляцию и отказ от какого-либо права на выражение политического мнения. Если бы он, Троцкий, когда-либо был готов принять такие условия, он бы не находился в изгнании сейчас и не зависел бы от сомнительного гостеприимства Норвегии. Неужели сам Трюгве Ли считает себя настолько могущественным, что сможет получить от него то, что Сталин никогда не мог получить? Допуская его в свою страну, норвежское правительство знало, что он собой представляет, — как же оно осмелилось просить его, чтобы даже его теоретические труды не были направлены против какого-либо правительства? Если б он когда-нибудь позволил себе даже самое пустяковое вмешательство в дела Норвегии — разве есть у них хоть малейшее обвинение на этот счет? Министр признал, что таковых у них нет. И неужели они верят, что он использует Норвегию в качестве базы для террористической деятельности? Нет, правительство определенно отказывается верить этому, ответил Трюгве Ли. Его обвиняют в заговоре или незаконной деятельности против какого-либо иностранного правительства? Нет, опять отвечал министр, нет и вопроса о какой-либо заговорщицкой или незаконной деятельности. Судебное дело правительства против Троцкого состоит в том, что он нарушил свое обещание воздержаться от какой-либо политической деятельности; и его статья «Французская революция началась» и его контакты с 4-м Интернационалом являются доказательством этому. Троцкий отрицал, что вообще давал подобное обещание. Никакой коммунист, никакой социалист не может заставить себя воздержаться от всякой политической деятельности. Каковы же представления министра о социализме и социалистической морали? В каком отношении эта статья о Франции более предосудительна, чем интервью для «Arbeiderbladet», которое он, Троцкий, дал самому Трюгве Ли, когда Ли заверял его, что, выражая свое политическое мнение, он не нарушит условия, сопровождающие вид на жительство? И как осмеливается правительство обосновывать обвинение против него на документе, представленном нацистскими взломщиками? Неужели они позволяют банде гитлеровских марионеток определять свое поведение?
В этом месте Троцкий возвысил голос до такой степени, что тот стал отдаваться эхом в залах и коридорах министерства: «Это ваш первый акт сдачи перед фашизмом в вашей собственной стране. Вы за это заплатите. Вы считаете, что находитесь в безопасности и свободны обращаться с политическим изгнанником так, как вам заблагорассудится. Но близится день — запомните это! — день близится, когда нацисты выбросят вас из вашей страны, всех вас вместе с вашим Pantoffel-Minister-President».[97] Трюгве Ли пожал плечами при этом странном, но точном выражении. Менее чем через четыре года это самое правительство действительно бежало из страны перед лицом нацистского вторжения. И когда министры и их престарелый король Хокон стояли на берегу, спрятавшись в укрытии и тревожно дожидаясь корабля, который должен был доставить их в Англию, они с благоговейным трепетом вспоминали слова Троцкого, пророческое проклятие которого стало действительностью.[98]
После этой встречи Трюгве Ли ужесточил Троцкому условия заключения, выслал двух его секретарей и поставил охрану возле дома Кнудсена, чтобы не допустить связи Троцкого даже с Кнудсеном. Дав все эти распоряжения, он превысил свои полномочия, ибо Конституция Норвегии не позволяла ему лишать свободы любое лицо, не осужденное судом. Многие, включая и консерваторов, были этим шокированы и выражали протесты; и поэтому через три дня после того, как он приказал арестовать Троцкого, Ли получил подпись короля на декрете, дававшем ему экстраконституционные полномочия для этого исключительного случая, и 2 сентября он приказал перевести Троцкого и Наталью из дома Кнудсена в Сундбю, в Хурум, во фьорд в двадцати милях к югу от Осло, где их интернировали в маленьком домике, который министерство арендовало для этой цели. Круглосуточно под охраной, они вынуждены были делить этот дом с двадцатью полицейскими в солдатских ботинках, постоянно топочущими, курящими трубки и играющими в карты. Никому, за исключением норвежских адвокатов, не было дозволено посещать Троцкого — не допускался даже его французский адвокат. Ему было отказано в обычном праве заключенного на физические упражнения или короткую прогулку на свежем воздухе. Чтобы получить какую-нибудь газету, он был должен обращаться за специальным разрешением, и ему приходилось всю свою корреспонденцию предъявлять для цензуры. Цензор был членом квислинговской партии, как и один из офицеров охраны, Йонас Ли, который впоследствии стал начальником полиции при правительстве Квислинга. «Изоляция Троцкого была настолько суровой, — вспоминает Кнудсен, — что Трюгве Ли постоянно отказывал мне в разрешении поехать в Хурум, даже после того, как я стал членом парламента. Только после многих хлопот и задержек мне было разрешено переслать Троцкому радиоприемник — поначалу ему было даже запрещено слушать радио».
Все это делалось, чтобы не дать возможности Троцкому ответить на обвинения Сталина. И все-таки он не сдавался. Он писал статьи, в деталях излагая процесс над Зиновьевым и Каменевым; а в письмах к своим сторонникам и Лёве наставлял их, как вести кампанию против репрессий и как собирать фактические свидетельства, опровергающие каждый пункт обвинений, выдвинутых Вышинским. С протестами он предъявлял цензору эти статьи и письма, а потом неделями в нетерпении ждал ответа. Не пришел ни один. Цензор производил конфискацию всех его письменных отправлений, не ставя самого Троцкого в известность об этом. Тем временем Троцкий и Наталья день за днем слушали московское радио, которое выкрикивало обвинения и слышимые, как эхо, по всему миру, и похожие на апокалипсическую какофонию. Сколько же людей, задумывался Троцкий, к этому времени начало оправляться от первого потрясения и верить невероятному? Не начали ли гигантские клубы ядовитой пыли, поднятой Москвой, оседать на умах людей и затвердевать до состояния коры? Тот факт, что норвежское правительство сочло уместным интернировать его, настроило против него, Троцкого, многих; люди рассуждают, что если бы он был невиновен, то наверняка его друзья, норвежские социалисты, не лишили бы его свободы. Само молчание, похоже, свидетельствует против него; а его враги больше всего пользовались этим. Через какие-то две недели после интернирования Вышинский в «Большевике» отметил, что Троцкому, очевидно, нечего сказать в свою защиту, ибо иначе он бы уже высказался.
Зажатый в ловушке, Троцкий попытался подать в суд за клевету на двух норвежских редакторов: одного нациста и одного сталиниста, — которые в своих газетах («Vrit Volk» и «Arbeideren») поддержали обвинения, выдвинутые Вышинским. 6 октября его норвежский адвокат Пунтервольд возбудил дело. Суд уже разослал повестки — дело подлежало слушанию до конца месяца, — когда правительство приостановило судебные процедуры. Интернировав Троцкого, чтобы лишить его возможности ответить Сталину, власти не могли допустить, чтобы теперь он использовал суд как свою трибуну. И все же по закону невозможно было помешать ему сделать это, ибо даже закоренелые преступники имеют право защищать себя в суде против клеветы и нанесения вреда репутации. Но Трюгве Ли не остановили эти юридические тонкости. Сразу после того, как он обезопасился декретом, который постфактум санкционировал интернирование Троцкого, он 29 октября получил еще один «Временный королевский декрет», гласивший, что «иностранец, интернированный согласно декрету от 31 августа 1936 года [а Троцкий был единственным иностранцем, интернированным в соответствии с этим декретом], не может предстать перед норвежским судом в качестве жалобщика, не имея на то согласия министерства юстиции». Конечно же министерство отказало дать «согласие» и запретило суду слушать ходатайство Троцкого в отношении указанных двух редакторов.
Тогда Троцкий попросил своего французского адвоката подать в суд за диффамацию сталинскими редакторами во Франции, Чехословакии, Швейцарии, Бельгии и Испании, надеясь, что, даже если его не пригласят в качестве свидетеля, он, по крайней мере, сможет изложить свою позицию через легальных представителей. На это, казалось, норвежский суд не имел возражений — у него не было юридических оснований, чтобы помешать ему защитить свою репутацию в иностранных судах. К тому времени, однако, стремление властей умилостивить Сталина не знало границ. «Министерство юстиции, — заявил Трюгве Ли, — после совещания с правительством решило, что будет препятствовать попыткам Леона Троцкого предпринять правовые действия в зарубежных судах, пока он находится в Норвегии». Вдобавок к этому министр запретил Троцкому поддерживать связь с какими-либо зарубежными адвокатами. Теперь, наконец, он полностью заблокировал Троцкого и заткнул ему рот.
«Вчера я получил официальное заявление, запрещающее мне подавать в суд на кого бы то ни было, даже за рубежом», — информировал Троцкий своего французского адвоката Жерара Розенталя 19 ноября. «Я воздерживаюсь от каких-либо комментариев, чтобы убедиться, что это письмо до вас дошло». Лёве он писал: «Ты должен учесть, что министерство юстиции конфисковало важные письма, относящиеся к моей личной защите. Теперь мне противостоят клеветники, взломщики, подлецы… а я совершенно беззащитен. Ты должен действовать по своему разумению, и скажи об этом всем нашим друзьям». В следующем письме он еще больше дает выход отчаянию. Он замечает, что «Arbeiderbladet» как раз сейчас ведет кампанию за освобождение Осецкого, знаменитого писателя-радикала, из нацистского концентрационного лагеря, но ничего не говорит о его собственном интернировании в Норвегии. «На Осецкого, по крайней мере, его тюремщики не клевещут». «Это письмо тоже, естественно, пройдет через руки цензора, но я уже перестал обращать на это внимание. Я пишу эти слова лично и конфиденциально сыну, за которым гоняются в Париже бандиты и чья жизнь может быть в опасности, пока я нахожусь в заключении и связан по рукам и ногам. На карту поставлены вещи, от которых… может зависеть [наше] физическое и моральное существование; и я обязан высказаться».
В этих письмах, возможно, была какая-то военная хитрость. Трюгве Ли утверждает, что Троцкий сообщался со своим сыном незаконными путями, что он писал некоторые письма невидимыми чернилами, что он тайно связывался со своими сторонниками, когда ему разрешалось посетить дантиста в городе, и что его единомышленники тайно переправляли ему письма в пирожных, посылавшихся в Хурум, и т. п. Эти обвинения отчасти представляются основанными на фактах, хотя Наталья, когда ее спрашивали двадцать лет спустя, правдивы ли обвинения Ли, не знала, что на это ответить. Но политические заключенные пользуются такими средствами, чтобы поддерживать тайную связь со своими товарищами; и было бы странно, если бы Троцкий ими не воспользовался, когда сам подвергался такому насилию, мошенничеству и бюрократическим придиркам.
Ввиду вынужденного молчания Троцкого вся тяжесть первой публичной кампании против московских процессов пала на плечи Лёвы. Стеснительный, довольно бесцветный и привыкший держаться в тени своего отца, он вдруг оказался на авансцене этого огромного и ужасного дела. Вышинский описывал его как некий столп «террористической организации» и как заместителя своего отца и начальника штаба, который давал инструкции выдающимся ветеранам-большевикам, как вести свою деятельность внутри СССР; а приговор Верховного суда ссылался на него в тех же терминах, что и на его отца. А теперь он в самом деле был вынужден действовать вместо своего отца. В течение нескольких недель процесса над Зиновьевым — Каменевым он опубликовал свою «Livre Rouge sur le procèss de Moscou»[99] — первое фактическое опровержение сталинистских обвинений и первое детальное разоблачение их несуразностей. Он представил доказательство того, что никогда не был вместе с отцом в Копенгагене и что отеля «Бристоль», в котором он якобы встречался с заговорщиками, в природе не существует. Он тщательно исследовал мистерию признаний, заявив, что «своими самообличительными заявлениями, не базирующимися ни на чем и не имеющими доказательств, своим буквальным повторением утверждений прокурора и своим рвением к клевете на самих себя подсудимые на самом деле говорят миру: „Не верьте нам, разве вы не видите, что это все ложь с начала до конца!“»
Однако он был потрясен до глубины души этой трагедией и самоунижением старых большевиков. Он всех их знал с детства, играл с их сыновьями на площадях и в коридорах Кремля и, став юношей, считал их великими деятелями революции и друзьями своего отца. С этими чувствами, еще живущими в его душе, он таким образом защищал их честь: «внутренняя душевная сила Зиновьева и Каменева значительно больше среднего уровня, хотя и этого оказалось недостаточно в таких совершенно исключительных обстоятельствах. Сотни тысяч… не смогли бы перенести даже сотую долю этого непрерывного и чудовищного давления, которому подвергались Зиновьев, Каменев и другие подсудимые». Но — «Сталин хочет головы Троцкого — вот его главная цель; и, чтобы заполучить ее, он прибегнет к самым крайним и мерзким небылицам… Он ненавидит Троцкого как живое воплощение идей и традиций Октябрьской революции». Не довольствуясь «триумфами» дома, ГПУ, фактически, стремится искоренить троцкизм и за рубежом. Они обвинили испанских троцкистов в развале Народного фронта и в попытке ликвидировать его лидеров; и они заклеймили польских троцкистов как агентов польской политической полиции, а германских — как агентов гестапо. «Сталин намеревается свести все политические разногласия в рабочем движении к этой формуле: ГПУ или гестапо? „Кто не с ГПУ, тот — с гестапо“. Сегодня он пользуется этим методом в основном в борьбе с троцкизмом, завтра он обратит его против других групп в рабочем классе… Горе, если мировое рабочее движение окажется неспособным защититься от этой смертельной отравы».
Троцкий описывает облегчение, с которым он получил в Хуруме первый экземпляр «Livre Rouge»: «Существуют формы паралича, при которых можно видеть, слышать и понимать все, но быть неспособным пошевелить пальцем, чтобы оттолкнуть от себя смертельную опасность. Такому политическому параличу подвергло нас норвежское „социалистическое“ правительство. Каким же неоценимым подарком была для нас в этих условиях книга Лёвы… Я вспоминаю, вступительные страницы показались скучными: они повторяли [знакомые] политические оценки… Но с момента, когда писатель начал свой независимый анализ процесса, я полностью ушел в чтение. Каждая глава казалась лучше предыдущей. „Наш смелый, дорогой Лёва, — говорили мы с женой друг другу. — У нас есть защитник!“ В своей переписке, полной боли, тревоги и нежности, Лёва описывал все, что делал, чтобы запустить кампанию против репрессий; и пересылал своим родителям каждое слово симпатии и поддержки, которое мог услышать от их слишком малочисленных доброжелателей.
И все же этот жуткий спектакль, в который он оказался вовлеченным, превосходил, вероятно, то, что могли вынести чувства Лёвы. Он был вторым после отца по важности объектом ГПУ. Его никогда не покидало ощущение, что за ним следят, что его почту перехватывает чья-то загадочная рука. Он боялся, что его выкрадут. Он был одинок, беззащитен и полностью зависим от дружбы с маленькой группой окружавших его троцкистов. Они находил некоторое утешение в дружбе с Альфредом и Маргаритой Ромер, которые сейчас выступили в защиту его отца, забыв и простив все прошлые недоразумения. Но в этом узком кругу товарищей он больше всего доверял Марку Зборовски, молодому и образованному человеку, который изучал медицину и философию и работал в организации под псевдонимом Этьен, помогая издавать „Бюллетень“ и заседая в небольшом русском комитете, призванном заниматься оппозицией в СССР. Будучи польско-украинского происхождения, Этьен знал русский язык и близко воспринимал советские дела — это позволяло ему оказать Троцкому много мелких услуг и завоевать доверие Лёвы.
Этот высокообразованный и пламенный „друг“, однако, был сталинским агентом-провокатором. Его профессиональное умение в притворстве было таково, что он никогда не вызывал ни малейшего подозрения со стороны Лёвы и Троцкого. И настолько полным было доверие Лёвы к нему, что тот хранил ключ к почтовому ящику Лёвы и вынимал почту для Лёвы. Загадочная рука, „перехватывавшая“ Лёвину корреспонденцию, была рукой Этьена. Он также отвечал за самые конфиденциальные документы архивов Троцкого; он их держал в своем собственном доме».[100]
За несколько месяцев до интернирования Троцкий просил Лёву поместить часть своих архивов в голландском Институте общественной истории. Он делал это отчасти потому, что испытывал денежные затруднения, а институт изъявил желание выплатить за документы, которые Троцкий ему предлагал, скромную сумму в 15 000 (девальвированных) французских франков; но в основном к этому побуждал страх, что ГПУ может попытаться захватить его архивы, и ему хотелось поместить их в надежном месте.
Глава 5 «АДСКИ ЧЕРНАЯ НОЧЬ»
Когда танкер «Ruth» 9 января 1937 года вошел в огромную нефтеналивную гавань Тампико, Троцкий с Натальей были все еще так напуганы тем, что может ожидать их на мексиканском берегу, что отказывались сходить на берег до тех пор, пока их не встретят друзья. Норвежская полиция уже угрожала высадить их с корабля силой, когда подошло небольшое судно, из которого возник какой-то мексиканский генерал в сопровождении чиновников, доставивший приветственное послание президента Мексики Лазаро Карденаса. (Президент прислал свой официальный поезд для того, чтобы доставить Троцкого и Наталью из Тампико.) На причале приветственно махали руками два американских троцкиста — Джордж Новак и Макс Шахтман; и жена Диего Риверы — Фрида Кало ожидала их, чтобы предложить свое гостеприимство. Контраст между теплым приемом в Мексике и ледяными проводами из Норвегии был таким острым, что казался нереальным. Войдя в президентский поезд, Троцкий и Наталья столкнулись с полицейским стражем и отпрянули. «Нас пронзил страх, — писала она, — что, может быть, нас просто переводят в другое место заключения». На маленькой станции возле города Мехико их с бурным энтузиазмом встретил Диего Ривера и повез в пригород столицы Койоакан, в свой Синий дом — следующие два года он будет и их домом. Это место было просто создано для того, чтобы успокоить измученную нервную систему: дом просторный, залитый солнцем, наполненный картинами с изображениями цветов и предметами мексиканского и индейского искусства. На каждом шагу вновь прибывшие сталкивались с приятными признаками заботы, с которой мексиканские и американские друзья приготовили для них это новое обиталище. Они подумали об их личной безопасности, а также обеспечили условия для работы. Таким образом, первые несколько дней в Мексике принесли с собой совершенно неожиданное облегчение — можно сказать, они были окрашены неким налетом идиллии.
Политический климат в стране также был не лишен привлекательности. Мексиканская революция все еще находилась в своей высшей точке. Совсем недавно Карденас подписал декрет, по которому несколько латифундий поделили между бедными крестьянами; и он был близок к тому, чтобы национализировать американские и британские нефтяные и железнодорожные компании. Иностранные инвесторы, местные землевладельцы и католическая церковь отбивались, и отношения между Мексикой и Соединенными Штатами были напряженными. Но за Карденасом стояли его крестьяне и Конфедерация мексиканских рабочих, которая неожиданно превратилась в важную политическую силу.
Впуская в страну Троцкого по просьбе Риверы и подсказкам своего собственного окружения, Карденас действовал из чувства революционной солидарности. Он заявил, что не только предоставил Троцкому убежище, но и пригласил его остаться в Мексике в качестве гостя правительства. С самого начала он делал все, что мог, чтобы уберечь голову своего гостя от собравшихся над ней бурь ненависти, и продолжал делать это до самого конца. Однако его собственная ситуация была весьма деликатной. С одной стороны, политические враги скоро начали намекать, что Троцкий является вдохновителем его революционной политики, и эти инсинуации нашли отклик в американских газетах.[101]
С другой стороны, Конфедерация мексиканских рабочих, от чьей поддержки он зависел, была сталинской цитаделью; ее лидер Ломбардо Толедано и компартия резко протестовали против въезда Троцкого в страну и предупреждали президента, что не успокоятся, пока «главарь авангарда контрреволюции» не будет выслан. Карденас проявлял осторожность, противостоя обвинению, что он по наущению Троцкого экспроприирует британских и американских инвесторов. И еще больше он старался успокоить Конфедерацию мексиканских рабочих. Сам он политически был очень далек от любой формы троцкизма и вообще коммунизма. Сын бедного крестьянина, он руководствовался аграрным радикализмом и эмпирическим опытом своей патриотической борьбы против иностранного господства. Поэтому он остерегался вовлечения в какой-либо из внутрикоммунистических конфликтов. В этих сложных обстоятельствах он с достоинством отверг сталинскую шумиху вокруг прибытия Троцкого, но старался держаться в стороне от своего «гостя» — они никогда не встречались лично. Он попросил Троцкого дать обещание не вмешиваться во внутримексиканские дела. Троцкий сразу же дал это обещание, но, наученный горьким норвежским опытом, был настороже и четко сохранил за собой «моральное право» отвечать публично на любые обвинения или клеветникам. Карденас этим удовлетворился. Ему никогда не приходило в голову попросить Троцкого воздержаться от политической деятельности, а сам он защищал право Троцкого на самозащиту от сталинских нападок. В этом поведении отстраненной, но бдительной доброжелательности он будет стоек. Троцкий часто выражал ему благодарность и, строго соблюдая свое обещание, никогда не осмеливался высказать какое-либо мнение в отношении мексиканской политики даже в частных разговорах, хотя его мнение о политике Карденаса, которая не выходила за рамки «буржуазной стадии» революции, наверняка было до некоторой степени критическим.
В первые годы в Мексике Диего Ривера был самым преданным другом и стражем Троцкого. Мятежник как в политике, так и в искусстве, этот великий художник был одним из основателей Мексиканской Коммунистической партии и членом ее Центрального комитета с 1922 года. В ноябре 1927 года он был очевидцем уличных демонстраций троцкистов в Москве и высылки оппозиции, что серьезно обеспокоило его. Впоследствии он порвал с партией, а также с Давидом Альваро Сикейросом, другим великим мексиканским художником, своим ближайшим другом и политическим товарищем, который стоял на стороне Сталина. Драматический пафос судьбы Троцкого взбудоражил воображение Риверы: вот она, фигура героических масштабов, которой суждено занять центральное место в его эпических фресках, — он действительно поместил Троцкого и Ленина на передний план той знаменитой фрески, прославляющей классовую борьбу и коммунизм, которой он, к ужасу всей респектабельной Америки, украсил стены Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Для Риверы наступил момент редкого величия, когда судьба привела коммунистического лидера и пророка под его крышу в Койоакане.
Троцкий давно восхищался работами Риверы. Возможно, впервые он увидел его картины в Париже во время Первой мировой войны; а ссылки на них встречаются в алма-атинской корреспонденции Троцкого 1928 года. Неустанные поиски Риверой новой формы художественного выражения весьма кстати иллюстрировали собственный взгляд Троцкого, что упадок современной живописи имеет корни в своем отрыве от архитектуры и общественной жизни, отрыве, который присущ буржуазному обществу и который можно преодолеть только социализмом. Тенденция к воссоединению живописи, архитектуры и общественной жизни оживляла искусство Риверы, в котором традиции Ренессанса и влияние Гойи и Эль Греко сливались с индейским и мексиканским народным искусством и кубизмом. Это переплетение традиций и инноваций отвечало вкусу Троцкого; он был покорен дерзким мужеством и парением и страстным воображением, с которым Ривера вносил мотивы русской и мексиканской революций в свои монументальные фрески. И конечно, Троцкий не мог избегнуть очарования и не быть озадачен стихийным темпераментом Риверы, его лунатизмом и «колоссальным размером и аппетитами», которые превращали его в буйное и шумное чудовище, похожее на любую из химерических фигур, появляющихся в его картинах. А контрапунктом Диего была его жена Фрида, сама художница, тонко меланхоличная символистка, к тому же женщина исключительной красоты. Она просто излучала диковинную грацию и мечтательность, когда ходила в своих длинных, ниспадающих, богато орнаментированных и расшитых мексиканских платьях, которые скрывали ее искалеченную ногу. После жутких месяцев интернирования для Троцкого и Натальи было приятно, даже волнующе найти прибежище у таких друзей.
Посторонний наблюдатель с некоторой способностью проникновения в характеры мог бы ломать голову, как могли уживаться Троцкий и Ривера и не суждено ли было произойти между ними схватке. Не довольствуясь художественным величием, Ривера видел себя и политическим лидером. Он в этом не был одинок: художники и политики играли чрезвычайно большую роль в мексиканской политике — большинство членов Политбюро Коммунистической партии были художниками. (Политическая агитация, ведущаяся средствами кисти и резца, может быть более доступна массам безграмотных, но с художественной точки зрения более восприимчивых campesinos,[102] чем какая-либо иная форма агитации.) И все же как политик Ривера был даже менее чем любитель; он часто оказывался жертвой своего неугомонного темперамента. В присутствии Троцкого, по крайней мере поначалу, он держал политические амбиции под контролем и скромно брал на себя роль ученика. Что касается Троцкого, тот всегда относился к политическим выходкам художников с мягким пониманием, даже к художникам меньшего калибра, которым он не был ничем обязан. Тем более в случае с Риверой он был готов сказать, что «гений делает то, что должен».
Так что Троцкий вполне мог бы благословлять свое новое пристанище, если б его почти сразу вновь не увлекло в его жестокую борьбу. Каждый день он становился объектом угроз со стороны сталинистов, местных и из Москвы. Президенту Карденасу пришлось отдать приказ расположить полицейскую охрану вокруг Синего дома. Внутри дежурили американские троцкисты, приехавшие работать секретарями и телохранителями. Американские сторонники Троцкого очень помогали ему в организации охраны и в кампании против московских процессов. Их было немного, и это были небогатые люди, но они помогали ему изо всех сил в восстановлении контактов с друзьями и последователями по всему миру и в возобновлении работы. «Какая же это удача, — писал он Лёве 1 февраля 1937 года, — что нам удалось приехать в Мексику как раз перед началом этого нового процесса в Москве».
Новый процесс открылся меньше чем через полмесяца после их прибытия в Тампико. Свои места на скамье подсудимых заняли Радек, Пятаков, Муралов, Сокольников, Серебряков и еще двенадцать человек; и опять Троцкий был главным обвиняемым заочно. Обвинения нагромождались еще более нелепо и бессмысленно. Теперь Вышинский заговорил об официальном договоре Троцкого с Гитлером и императором Японии: в обмен на их помощь в борьбе со Сталиным Троцкий, как уверял Вышинский, трудился во имя военного разгрома и расчленения Советского Союза, ибо дал обещание, между прочим, уступить Третьему рейху Советскую Украину. А в это же время он организовывал в Советском Союзе промышленный саботаж и руководил им; устраивая аварии на угольных шахтах, на заводах и на железной дороге, массовые отравления советских рабочих и неоднократные покушения на жизнь Сталина и других членов Политбюро. Подсудимые вторили прокурору и уточняли его обвинения. Один из них, Ромм, бывший до этого корреспондентом «Известий» во Франции, признался, что видел Троцкого в Париже в июле 1933 года и получил от него инструкции по террористической деятельности. Пятаков заявил суду, что посетил Троцкого в Осло в декабре 1935 года и получил от него распоряжения.
«Мы слушали радио, открывали почту и московские газеты, — пишет Наталья, — и ощущали, что безумие, абсурд, насилие, обман и кровь окружают нас со всех сторон здесь, в Мексике, как и в Норвегии… С карандашом в руке Лев Давидович, перевозбужденный и перетрудившийся, часто в лихорадке, и все равно неутомимый, составляет список этих фальшивок, число которых так возросло, что становится невозможным их опровергнуть». Процесс длился неделю и завершился казнями — правда, Радек и Пятаков были приговорены к десяти годам тюремного заключения каждый.
Для Троцкого опровержение этих обвинений было действительно подобно схватке и спору с чудовищами в каком-то кошмаре. Эти судебные процессы были все более и более неестественными в своем ужасе и ужасны в своей нереальности. Казалось, они были задуманы для того, чтобы парализовать всякую критическую мысль и сделать всякий аргумент совершенно бессмысленным. И все же еще до того, как Троцкий получал время на то, чтобы выстроить свои факты и аргументы, некоторые из обвинений уже бывали подмочены. Норвежское министерство иностранных дел расследовало заявление, что Пятаков прилетал в Осло из Берлина в декабре 1935 года и виделся с Троцким, и установило, что в том месяце и за многие недели до и после этой даты ни один самолет из Берлина не приземлялся в аэропорту Осло. Администрация аэропорта в связи с этим сделала свое заявление. Тогда Троцкий отправил телеграфом в Москву следующие вопросы: когда точно, в какой день и час приземлился Пятаков? И где, когда, при каких обстоятельствах он, Троцкий, встречал его? Подобные вопросы он задал и в связи со своими якобы имевшими место встречами с Роммом. Прокурор и судьи вопросы эти проигнорировали, отлично зная, что, если подсудимые попробуют на них ответить, они выдадут вопиющие противоречия и дискредитируют весь этот фарс. 29 января, как раз перед концом заседаний, Троцкий вновь бросил вызов Сталину, предложив затребовать его, Троцкого, экстрадицию. В обращении к Лиге Наций он заявил, что готов передать свое дело на рассмотрение Комиссии по политическому терроризму, которую Лига собиралась создать по советской инициативе, — такое обращение он уже делал, находясь в Норвегии. Лига отмолчалась, и Сталин в очередной раз не обратил внимания на требование об экстрадиции. В еще одной попытке схватиться со своими обвинителями Троцкий заявил в своем послании общественному собранию в Нью-Йорке следующее:
«Я готов предстать перед общественной и беспристрастной Комиссией по расследованиям с документами, фактами и показаниями… и раскрыть истину до самого конца. Я заявляю: Если эта Комиссия решит, что я виновен в наималейшей степени в тех преступлениях, которые Сталин мне приписывает, я заранее обещаю добровольно отдаться в руки палачей ГПУ… Я делаю это заявление перед всем миром. Я прошу прессу опубликовать мои слова в самых дальних уголках нашей планеты. Но если эта Комиссия установит — вы слышите меня? вы меня слышите? — что Московские процессы есть сознательная и преднамеренная судебная инсценировка, я не стану просить моих обвинителей добровольно предстать перед расстрельной командой. Нет, для них будет достаточно вечного позора в памяти поколений человечества! Меня слышат обвинители в Кремле? Я бросаю свой вызов им в лицо и жду их ответа!»
Примерно в это же время оба сына Троцкого были окончательно связаны с ним в его суровом испытании — и здесь эта история превращается в современную версию легенды о Лаокооне. Лёва, чувствуя, что по его пятам следует ГПУ, опубликовал в одной французской газете заявление. Оно гласило, что, если он вдруг неожиданно умрет, мир должен знать, что он нашел свою смерть от сталинских рук — никакая иная версия не заслуживает доверия, ибо находится он в добром здравии и не вынашивает никаких мыслей о самоубийстве. Сергея арестовали в Красноярске, в Сибири, как утверждала российская печать, и обвинили в попытке (по приказу отца) массового отравления рабочих на заводах. «Сталин собирается вырвать у моего сына признания против меня, — отмечал Троцкий. — ГПУ без колебаний доведет Сергея до безумия, а потом его расстреляют». Наталья обратилась с еще одним обращением, тщетно адресованным «совести мира». «Были моменты, — вспоминала она впоследствии, — когда Л.Д. чувствовал себя раздавленным» и «мучимым угрызениями совести оттого, что все еще жив. „Может быть, моя смерть могла бы спасти Сергея?“ — сказал он мне однажды». Только она одна знала о таких моментах. В глазах мира Троцкий оставался неукротимым, твердым и обладающим неодолимой энергией. Он никогда не уставал призывать своих сторонников к действию и подбадривать поникших друзей. Вот, например, что он писал Анжелике Балабановой, своей старой союзнице по Циммервальду, когда услышал, что московские процессы погрузили ее в глубокий пессимизм: «Возмущение, гнев, отвращение? Да, даже временная усталость. Все это вполне по-человечески. Но я не поверю, что вы поддались пессимизму… Это было бы подобно тому, чтобы бездеятельно и горестно обидеться на историю. Как это можно делать? Историю надо воспринимать таковой, какая она есть; и, когда она себе позволяет такие экстраординарные и грязные поступки, надо отбиваться от нее кулаками». И он отбивался.
Он решил доказать свое полное алиби, доказать, что ни одно из сталинских обвинений не было и не могло быть правдивым, и пролить свет на политический смысл этой гигантской инсценировки. Это, по мнению многих, была невыполнимая задача. Ему надо было вновь проследить все места своего пребывания и свою деятельность за все годы изгнания; собрать доказательства из своих огромных и частично разбросанных архивов и из газет на многих языках; собрать свидетельские показания и письменные показания под присягой от бывших секретарей и телохранителей, и от сторонников, некоторые из которых превратились в противников; и из министерств, консульств, полицейских участков, бюро путешествий, землевладельцев, домовладельцев, хозяев гостиниц и случайных знакомых в различных странах. И все же в некотором смысле это огромное и дорогостоящее предприятие окажется бесполезным. Те, кто хотел знать правду, свободно могли уловить ее и без этой массы подробных доказательств, а людей безразличных или ограниченных все равно не убедить. Также не похоже, что последующие поколения вообще потребуют такого накопления свидетельств, чтобы суметь сформировать свое мнение. Троцкий, этот великий полемист, мог бы свободно удовлетвориться разоблачением этих процессов, пользуясь лишь их внутренними доказательствами, как призывали его сделать это Лёва и некоторые друзья — Бернард Шоу, в частности. Но для беспощадной педантичности этого человека было характерно, что если уж он решался привести в порядок все материалы, то не упускал ни единой мелочи, не позволял оставить незафиксированным ни один важный случай и ни одно показание из своего досье. Он вел себя так, как будто учитывал возможность, что сталинская фальшивка проживет века; и на века готовил надежное и нерушимое алиби.
Этот действующий на нервы труд отнял у него много месяцев. Он вкладывал в него все силы и беспощадно гонял секретарей и приверженцев, а больше всех — Лёву, который в Париже вел основную часть работы. Троцкий не терпел задержек, противоречий, извинений. При малейшем признаке не оправдавшихся ожиданий он угрожал «разрывом всех отношений» вначале с Шахтманом, а потом с Навилем и обещал «осудить их саботаж или даже хуже», хотя оба старались изо всех сил, чтобы ему помочь. В первом письме Лёве из Мексики он уже дал выход раздражению по той причине, что до сих пор не получил кипы показаний, которые ожидал найти по приезде. Через пару недель или около этого он взрывался от нетерпения, и каждое письмо Лёве было полно горьких упреков. Почему еще не прибыли документы, касающиеся его поездки в Копенгаген? Разве это не «явное преступление»? Почему некоторые показания не были заверены нотариусами? Почему подписи под другими неразборчивы? Почему даты неточны? Почему имена не указаны? Чтобы избежать всякие недоразумения? С каждой неделей его тон становился все более сварливым и грубым. «Сегодня я получил твое письмо… с обычными извинениями… и обычными обещаниями, — писал он Лёве 15 февраля, — но с меня хватит извинений, и уже давно я не верю обещаниям!» «Неаккуратность» Лёвы «граничила с предательством». «После всего этого опыта последних месяцев я должен сказать, что не было еще дня чернее, чем сегодняшний, когда я распечатал твой конверт, уверенный, что найду там свидетельские показания, а вместо этого обнаружил только извинения и заверения». «Трудно сказать, какие удары наихудшие, то ли те, что исходят из Москвы, то ли те, что из Парижа». Он планировал открыть контрпроцесс весной и боялся, что досье не будет готово вовремя. Синий дом в эти дни походил на завод с потогонной системой труда, где секретари, сам Троцкий и Наталья переводили, делали копии и печатали бесконечные документы. В то же самое время он заполнял страницы в американских газетах комментариями, пытался сделать свои взгляды понятными мексиканской прессе и работал над тем, чтобы комиссии по расследованию создавались в различных странах. Одержимый мыслью о важности того, что он делает, с подозрением относясь к каждой задержке, опасаясь вмешательства ГПУ и отчаявшись вообще когда-либо закончить эту работу, он не испытывал никаких комплексов, подталкивая и распекая Лёву, чьи жизнь и честь были точно так же на кону, как и его собственные. Лаокоон и укорял своих сыновей, и понуждал их напрячь каждый нерв в схватке с гигантскими змеями, в чьих удушающих кольцах оказались они все, отец и сыновья.
Лёва был обижен и оскорблен в своей сыновней преданности. Пока Троцкий был интернирован в Норвегии, он храбро закрыл собой брешь. Но демон, с которым он сражался, был сильнее его; и он стал с нетерпением дожидаться дня, когда отца освободят, и тот возьмет это бремя на свои широкие плечи. Он страдал, видя, что отец так взвинчен и раздражен. Он все еще сомневался в ценности всего этого предприятия и писал Наталье, что «Преступления Сталина», та небольшая книга, которую Троцкий писал по пути в Мексику, будет куда более эффективным ответом, чем любой «контрпроцесс» или работа всяких комиссий по расследованию. И все-таки, раз его отец решил создать себе алиби, Лёва всей душой отдался этой работе. И не его вина, что она продвигалась медленно и стали возникать недоразумения. Из Хурума, например, Троцкий дал ему указание готовить контрпроцесс в Швейцарии, но затем было решено провести его в Америке. Лёва, не зная об этом, все еще был занят подготовкой в Швейцарии. Этим он заработал суровый нагоняй от отца, который угрожал прекратить перевод необходимых денег, отобрать у Лёвы всю работу и передать ее Навилю (которому он всегда так мало доверял). Сбор показаний тормозился враждой троцкистских сект между собой: Лёве пришлось добывать многие показания у членов группы Молинье, от которого Троцкий отрекся, и Лёве пришлось использовать такт и дипломатию. Он также был занят кампанией в печати против московских процессов: его статьи время от времени появлялись в «Manchester Guardian». Он продолжал присматривать за издательскими делами отца, собирал гонорары, регулярно пересылал их в Мексику, выплачивал родительские долги в Норвегии и во Франции и выпускал «Бюллетень». Оскорбленный придирчивостью отца, чувствуя, что его заманивает ГПУ в ловушку, глубоко несчастный в семейной жизни, он в возрасте тридцати лет начал страдать от длительной бессонницы. Он все больше уставал и изматывался.
Как обычно, он раскрывал свое сердце матери («Дорогая мамочка, я не сомневаюсь, что ты одна не будешь сердиться на меня за мое молчание или что-нибудь еще»). Но он также встречал отцовские выговоры со встречными обвинениями: «Мне приходится вести часть работы в очень тяжелых условиях, которой в ином случае был бы перегружен ты; и вести ее без необходимого авторитета и помощи, которую имеешь ты; иногда у меня не бывает денег даже на то, чтобы купить почтовых марок. Я думал, что могу рассчитывать на твою поддержку. Вместо этого ты делаешь меня своей мишенью и говоришь всякую всячину о моей „преступной беспечности“… Даже если бы я и нес долю ответственности за задержку с копенгагенскими материалами, это не… оправдывает твоего отношения ко мне». Изнуренный и подавленный, Лёва все чаще доверялся Этьену, которому, казалось, не было равных по изобретательности, усердию и преданности делу.
Поначалу Троцкий надеялся, что контрпроцесс будет проведен в масштабе, соответствующем провокации, что его надо вести так, чтобы растормошить сознание международного рабочего движения. Он стремился к сотрудничеству в этом со 2-м Интернационалом и так называемым амстердамским интернационалом профсоюзов. По его совету Лёва обратился к Фридриху Адлеру, секретарю 2-го Интернационала, с его согласия осудившему московские репрессии как «средневековую охоту на ведьм». Адлер делал то, что мог; все, чего он достиг, это то, что после долгой задержки Исполком Интернационала выпустил заявление, осуждающее репрессии; он отказался принять участие в каком бы то ни было расследовании или контрпроцессе. То же самое сделал и Интернационал тред-юнионов. Обе эти организации, их германские и австрийские секции, разгромленные Гитлером и Дольфусом, находились под пятой Леона Блюма, который, как глава правительства Народного фронта, зависел от поддержки Сталина. Блюм пришел в смущение даже от платонической декларации Интернационала с осуждением репрессий и использовал свое влияние, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия со стороны своей партии и «братских секций». А поэтому западноевропейские социал-демократы, обычно с готовностью защищавшие «свободы и права личности» против коммунизма, на этот раз предпочли соблюсти дипломатическое молчание или даже найти оправдание Сталину. «Интернационал, — как излагал это Троцкий, — бойкотировал своего собственного секретаря». Это заранее уменьшало эффективность любого контрпроцесса: без социалистических партий и тред-юнионов никакая кампания не могла привлечь внимания рабочего класса.
Тогда приверженцы Троцкого попытались заручиться поддержкой выдающихся интеллектуалов левого толка. Это не очень подходило Троцкому, который часто осмеивал «мирные комитеты», «мирные конгрессы» и «антифашистские парады», для которых сталинисты собирали галактики литературных и академических «звезд»; он презирал безвкусный снобизм таких театральных эффектов, особенно когда Коминтерн заменял ими серьезные и объединенные действия рабочего движения. Он упрекал своих американских последователей за провал в вовлечении рабочих в «комитеты защиты Троцкого»; но в этом отношении выбора у него не было.
Пока что реакция интеллигенции была также удручающей, ибо сталинисты, которые во Франции, Испании, Британии и Соединенных Штатах оказывали на нее сильное влияние, применяли все средства морального давления, чтобы не дать ей оказать даже малейшую поддержку любому протесту против репрессий. Из Москвы, где был истреблен цвет русской литературы, слышались голоса Горького, Шолохова и Эренбурга, присоединившихся к хору, который заполнял эфир ревом «Расстрелять бешеных собак!». На Западе литературные знаменитости вроде Теодора Драйзера, Леона Фейхтвангера, Барбюса и Арагона вторили этому реву; а Ромен Роллан, этот почитатель Ганди, враг насилия, «человеколюбивая совесть» своего поколения, употребил свой сладкозвучный евангельский голос, чтобы оправдывать резню в России и восхвалять главного палача, с таким рвением, что Троцкий подумывал о том, чтобы подать в суд на него за диффамацию. Ну а если Горький и Роллан подавали сигнал, стаи более мелких гуманистов и моралистов следовали за ними, испытывая при этом слабые угрызения совести, а то и вообще ничего не испытывая. Странное зрелище представляли их манифесты и воззвания в поддержку Сталина. В Соединенных Штатах, например, они объявили бойкот Комиссии по расследованию, созданной под эгидой Джона Дьюи. Они призывали «всех людей доброй воли» не оказывать помощи этой Комиссии, утверждая, что критики московских процессов вмешиваются во внутренние дела Советского Союза, помогают фашизму и подбадривают его, а также «наносят удар по силам прогресса». Этот манифест был подписан Теодором Драйзером, Грэнвилем Хиксом, Корлисс Ламонт, Максом Лернером, Реймондом Робинсом, Анной Луизой Стронг, Полем Суизи, Натаниэлем Уэстом и многими профессорами и художниками, некоторые из которых окажутся потом в передовых шеренгах антикоммунистических крестовых походов 40-х и 50-х годов. Луиза Фишер и Уолтер Дюранти, эти пользовавшиеся популярностью эксперты по советским делам, ручались за честность Сталина, правдивость Вышинского и гуманные методы ГПУ для получения показаний от Зиновьева, Каменева, Пятакова и Радека. Даже Бертрам Д. Вольфе, член Лавстонитской оппозиции, давным-давно исключенный из компартии, все еще хвалил Сталина за то, что тот спас революцию от троцкистско-зиновьевского заговора.[103]
В еврейско-американской прессе авторы, до сих пор называвшие себя «почитателями Троцкого», обратились против него, когда тот заговорил об антисемитских оттенках московских процессов. Редактор одной такой газеты писал: «Впервые мы, представители еврейской прессы, услышали такое обвинение. Мы привыкли смотреть на Советский Союз как на свое единственное утешение в том, что касается антисемитизма… Непростительно, что Троцкий выдвигает такие беспочвенные обвинения в адрес Сталина».[104]
Лицемерие, нетерпимость и тупой страх, что, критикуя Сталина, помогаешь Гитлеру, не были единственными мотивами. Некоторые из интеллигенции не понимали смысла опровержений Троцкого. Чарльз А. Берд, знаменитый американский историк, заявлял, что «на Троцком не лежит обязанность совершить невозможное, т. е. доказать негативное путем позитивных свидетельств. Это его обвинители должны представить больше чем признания подсудимых, предъявить подтверждение». Бернард Шоу также отвергал идею контрпроцесса и писал: «Я надеюсь, Троцкий не позволит поставить себя перед более узким трибуналом, нежели его читающая публика, где его обвинители находятся в его милости… Его перо — ужасное оружие». Спустя месяц написал уже с меньшей симпатией: «Сила судебного дела Троцкого была в немыслимости обвинений против него… Но Троцкий все испортил, предприняв такого же рода нападки на Сталина. Я уже в течение почти трех часов нахожусь в присутствии Сталина и с острым любопытством наблюдаю за ним, и мне так же трудно поверить как в то, что он — вульгарный гангстер, так и в то, что Троцкий — убийца». Конечно, Шоу увиливал от темы, потому что Троцкий не совершал «точно таких же атак на Сталина». И все-таки, в отличие от Роллана, Шоу не довел своей дружбы со Сталиным до точки оправдания репрессий. Он видел здесь конфликт не между правдой и неправдой, а между правдой и правдой, историческую драму того рода, какую он описал в «Святой Иоанне» (которую он написал примерно во время первой анафемы Троцкому), схватку между революционной борьбой за будущее и установившейся властью, защищающей законные интересы настоящего. Подобным образом Андре Мальро объявил, что «Троцкий обладает огромной моральной силой в мире, но Сталин придал человечеству достоинство; и точно так, как инквизиция не умаляла фундаментального достоинства христианства, так и московские процессы не принижают фундаментальных достоинств [коммунизма]».[105]
Реакция Бертольта Брехта была схожей. Он испытывал к троцкизму некоторую симпатию и был потрясен репрессиями; но не мог заставить себя порвать со сталинизмом. Он сдался этой идеологии с грузом сомнений в своем сознании, как это делали капитулянты в России; и художественными средствами выразил свое и их затруднения в «Галилео Галилее». Именно через призму большевистского опыта он видит Галилея, опускающегося на колени пред инквизицией и делающего это из некоей «исторической необходимости», из-за духовной и политической незрелости людей. Галилей его драмы — это Зиновьев, или Бухарин, или Раковский, переодетые в костюмы исторической эпохи. Его неотступно преследует мысль о «бесполезном» мученичестве Джордано Бруно; этот жуткий пример заставляет его сдаться инквизиции, точно так же как судьба Троцкого вынудила многих коммунистов сдаться Сталину. А знаменитый диалог: «Счастлива страна, рождающая таких героев» и «Несчастлив тот народ, который нуждается в таком герое» — достаточно ярко выражает скорее проблему Троцкого и сталинской России, чем затруднения Галилея в Италии эпохи Возрождения.
Апологетам Сталина и тем, кто умывал руки, Троцкий ответил с гневом, который как бы ни был оправдан, однако придал ему сходство с вошедшим в поговорку animal méchant[106] и дал равнодушным «защитникам истины» оправдание их молчания. Неудивительно, что Сидней и Беатрис Уэбб отказались присоединиться к этому протесту: к этому времени они уже стали поклонниками Сталина. Но даже люди типа Андре Жида и Г. Уэллса, чьим первым порывом было поддержать контрпроцесс, в конце концов решили держаться в стороне от него. Таким образом, сфера действия этой кампании оставалась весьма узкой; а различные комитеты в защиту Троцкого состояли в основном из отъявленных антисталинцев и некоторых антикоммунистов со стажем, а это еще более ограничивало эффект их действий.
В марте 1937 года американский, британский, французский и чехословацкий комитеты образовали совместную комиссию по расследованиям, которой было суждено провести контрпроцесс. Членами ее стали: Альфред Ромер, Отто Рюле, голосовавший в рейхстаге в 1914–1915 годах вместе с Карлом Либкнехтом против войны, также бывший член рейхстага от коммунистов Венделин Томас, хорошо известный анархо-синдикалист Карло Треска, радикальная, решительно антимарксистская американская писательница Сюзанна Ла Фолетт, журналисты Бенджамин Столберг и Джон Р. Чемберлен, профессор Висконсинского университета Эдвард А. Росс, преподаватель университета Карлтон Билс и левацкий латиноамериканский литератор Франциско Заморра. Кроме Ромера, никто никогда не был связан с Троцким — большинство из них были его политическими противниками. Авторитетом комиссия была обязана, главным образом, своему председателю Джону Дьюи — ведущему философу и деятелю просвещения Америки, который также имел репутацию друга Советского Союза. Юридическим консультантом комиссии выступал Джон Ф. Финерти, известный как адвокат защиты на крупнейших американских политических процессах, особенно Тома Муни и Сакко и Ванцетти.
Троцкий поначалу не был уверен, что комиссия справится со своей задачей. Имена большинства ее членов мало что ему говорили или ничего не говорили вообще; и у него были сомнения даже относительно председателя. Он ломал себе голову, не слишком ли стар Дьюи, которому было почти восемьдесят, и не слишком ли он далек от проблем, стоящих перед комиссией. Не заснет ли он во время слушаний? Сможет ли он справиться с огромным объемом документальных доказательств? Не проявится ли у него, «друга Советского Союза», стремление обелить Сталина? Джеймс Бернхэм, активно участвовавший в организации этой комиссии, развеял эти сомнения. «Да, Дьюи стар, — писал он Троцкому, — но его разум по-прежнему остер, а его личная честность вне подозрений. Это он, если припомните, составил самый тщательный анализ по делу Сакко и Ванцетти. Он будет оценивать доказательства, возможно, не как политик… а как ученый и логик. Он не заснет во время слушаний. Конечно, Дьюи не марксист; и вся его личная честность и рассудок не помешают ему во время обмена репликами быть политически пристрастным. В этом смысле мы, очевидно, не можем быть полностью уверены в нем…»
Вступление Дьюи в состав комиссии было актом чуть ли не героическим. С философской точки зрения он был противником Троцкого — они до недавних пор схватывались в публичных дебатах на темы диалектического материализма. При всем своем радикализме он стоял за «американский образ жизни» и парламентскую демократию. Как прагматик, он склонялся в пользу «недоктринера» и «практика» Сталина в сравнении с Троцким, этим «марксистом-догматиком». Взяв в таком возрасте на себя бремя председателя в этом расследовании, он был вынужден разорвать многие старые связи и прекратить дружбу со многими людьми. Сталинисты изо всех сил старались переубедить его. Когда это им не удалось, на него не пожалели ни оскорблений, ни клеветы — самое безобидное из оскорблений было то, что он «попался на удочку Троцкого» по причине старческого слабоумия. На него ополчилась газета «New Republic», основателем которой он был и в редакционной коллегии которой пробыл почти четверть века. И он был вынужден уволиться оттуда. Его ближайший родственник умолял его не омрачать блеска своего имени участием в каком-то подозрительном и жалком деле. Но интриги и притеснения только укрепили его решимость. Тот факт, что было приведено в действие так много источников влияния, чтобы помешать его действиям явно и тайно, стал для него аргументом в их пользу. В течение недель и месяцев он пристально рассматривал отдающие кровью страницы официальных отчетов о московских процессах, объемистые рукописные материалы и переписку Троцкого, а также горы других документов. Он делал заметки, сравнивал факты, даты и утверждения до тех пор, пока не вошел в курс всех аспектов этого дела. Вновь и вновь ему приходилось преодолевать запугивание и угрозы. Ничто не поколебало его самообладания и не ослабило его энергии. Комиссия должна была провести перекрестный допрос Троцкого как главного свидетеля; а поскольку не было никаких шансов на то, что американское правительство разрешит ему приехать в Нью-Йорк, Дьюи решил проводить расследования в Мексике. Его предупредили, что Мексиканская федерация рабочих не позволит, чтобы контрпроцесс состоялся там; что он и его компаньоны столкнутся с враждебными демонстрациями на границе и что на них может напасть толпа. Но старый философ непреклонно продолжал следовать своим курсом. Он придерживался непредвзятого мнения. Хоть он и был убежден, что в Москве вина Троцкого не была доказана, он все еще не был уверен в невиновности Троцкого. Стремясь не только соблюдать строгую беспристрастность, но и сделать эту объективность очевидной для всех, он никогда не встречался с Троцким вне публичных заседаний комиссии, хотя и «хотел бы поговорить с ним в неформальной обстановке, как человек с человеком».
Комиссия приступила к слушаниям 10 апреля. Намечалось проводить их в большом зале в центре Мехико-Сити, но от этой идеи отказались, чтобы избежать общественных беспорядков и сэкономить деньги. Заседания проводились в Синем доме, в кабинете Троцкого. «Атмосфера была напряженной. Снаружи находилась полицейская охрана… посетителей обыскивал на предмет оружия и установления личности секретарь Троцкого, который сам был вооружен». Выходящие на улицу французские окна комнаты были занавешены, а за каждым из них были установлены шестифутовые баррикады из сцементированных кирпичей и мешков с песком… Эти кирпичные баррикады были сооружены всего лишь прошлой ночью. Присутствовало около пятидесяти человек, включая репортеров и фотографов. Слушания велись в соответствии с американской судебной процедурой. Дьюи приглашал советское посольство и компартии Мексики и Соединенных Штатов прислать своих представителей и принять участие в перекрестном допросе, но эти приглашения остались без ответа.
В коротком вступительном заявлении Дьюи объявил, что эта комиссия не является ни судом, ни жюри, а всего лишь ведущим расследование органом. «Наша функция — выслушать, какие показания может представить нам г-н Троцкий, провести его перекрестный допрос и передать результаты нашего расследования полной комиссии, частью которой мы являемся». Название «Американский комитет в защиту Льва Троцкого» не означал, что этот комитет выступал за Троцкого; он действует «в американской традиции», исходя из убежденности, что «ни один человек не должен быть осужден, не получив шанса на свою защиту». Ее целью являлось обеспечение справедливого суда, так как существует подозрение, что обвиняемый был лишен такого суда. Это уголовное дело сравнимо с делами Муни и Сакко и Ванцетти; но последние хотя бы могли сделать заявления перед законно сформированным судом, в то время как Троцкий и его сын были дважды объявлены виновными заочно советским трибуналом высшей инстанции; и его неоднократные требования, чтобы советское правительство запросило его экстрадиции, в результате чего он бы автоматически предстал перед норвежским или мексиканским судом, было проигнорировано. «То, что он был осужден, не получив возможности быть услышанным, — предмет крайнего беспокойства комиссии и всего мира». Объясняя собственные мотивы участия, Дьюи сказал, что, посвятив свою жизнь общественному просвещению, он относится к настоящей работе как к огромной социальной и просветительской задаче — «поступить иначе значит поступить вразрез с трудом моей жизни».
Судебное разбирательство длилось целую неделю и потребовало тринадцати долгих заседаний. Дьюи, Финерти, адвокат Троцкого А. Голдман и другие допрашивали Троцкого о каждой детали обвинений и доказательств. Временами этот перекрестный допрос превращался чуть ли не в политический диспут, когда некоторые из допрашивавших настаивали на моральной ответственности Троцкого и Ленина за сталинизм, и Троцкий отверг это обвинение. Не было ни единого вопроса, в который он отказался бы вникать или от которого он бы уклонился. Несмотря на полемические перерывы, слушания проходили спокойно и гладко; они лишь раз были потревожены так называемым инцидентом Билса.
Член комиссии Карлтон Билс не раз задавал Троцкому вопросы, которые были более или менее неуместны, но показывали отчетливое просталинистское предубеждение и были крайне оскорбительны по форме. Троцкий отвечал сдержанно и по существу. В конце долгого заседания 16 апреля Билс вступил в политический спор и утверждал, что пока Сталин, этот истолкователь социализма в одной стране, представляет зрелое искусство управлять государственными делами при большевизме, Троцкий был чем-то вроде поджигателя, склонного к подстрекательству к мировой революции. Троцкий ответил, что на московских процессах его изображали как поджигателя, но не революции, а контрреволюции, и как сообщника Гитлера. Тогда Билс спросил его, знает ли он Бородина, бывшего сталинского эмиссара в Китае и советника Чан Кайши. Троцкий ответил, что лично его не встречал, хотя, конечно, знал о нем. Но разве, спросил Билс, Троцкий не посылал Бородина в Мексику в 1919-м или 1920 году, чтобы основать там коммунистическую партию? Этот вопрос предполагал, что Троцкий лгал комиссии и, более того, что он пытался разжечь революцию даже в той стране, которая сейчас предоставляет ему убежище. Перепалка становилась все горячей. При еще свежем норвежском опыте Троцкий подозревал, что этот вопрос был нацелен на то, чтобы возбудить против него мексиканское общественное мнение, лишить его убежища и прервать этот контрпроцесс. Он отмечал, что всегда возлагал свои надежды на мировую революцию, но старался продвигать ее политически законными средствами, не устраивая переворотов в зарубежных странах. Утверждение, что он в 1919–1920 годах отправлял Бородина в Мексику, — сущая фантастика. В то время, в разгар Гражданской войны, он почти не покидал своего военного поезда; его глаза были прикованы к картам фронтов, и он почти забыл «мировую географию».
Билс настойчиво повторил свое утверждение и добавил, что сам Бородин заявил, что Троцкий посылал его в Мексику, а также что уже в 1919 году советская Коммунистическая партия была расколота между государственными деятелями и поджигателями революции. «Могу ли я узнать от вас об источнике этой сенсационной информации? — спросил Троцкий. — Она опубликована?» — «Эта информация не опубликована», — ответил Билс. «Я могу только посоветовать комиссару сказать своему информанту, что он — лжец», — резко ответил Троцкий. «Благодарю вас, господин Троцкий. Господин Бородин — тот лжец». — «Вполне возможно», — был лаконичный ответ Троцкого. Перед концом слушания он заявил протест против «тенденциозно сталинистского тона Билса». Этот инцидент виделся ему все более и более зловещим. Дело Бородина не имело ничего общего с московскими процессами и, казалось, было вытащено на свет только для того, чтобы смутить его и мексиканское правительство. И поэтому перед началом следующего заседания он вновь опроверг утверждение Билса и попросил комиссию пролить свет на его источник. Если Билс имеет информацию, пусть скажет, где и когда он ее получил. Если не напрямую, то каким образом, через кого и когда он получил ее? Расследование по этим вопросам раскрыло бы план, нацеленный на крушение контрпроцесса. «Если г-н Билс сам сознательно не замешан и напрямую не вовлечен в эту новую интригу, а я надеюсь, что нет, он должен срочно представить все необходимые объяснения, чтобы позволить комиссии разоблачить истинный источник этой интриги». Поскольку Билс отказался раскрыть этот источник, комиссия вынесла ему порицание на закрытом заседании; и он покинул ряды комиссии. Этот инцидент дальнейших последствий не имел.
Результаты этого перекрестного допроса были подытожены самим Троцким в его последнем заявлении 17 апреля. Проявляя признаки напряжения и усталости, он попросил разрешения зачитать свое заявление сидя. Он начал с того, что отметил, что либо, как утверждают в Москве обвинители, и он, и почти все члены ленинского Политбюро были предателями Советского Союза, либо Сталин и его Политбюро — фальсификаторы. Tertium non datur.[107] Говорилось, что углубляться в эту проблему равносильно вмешательству во внутренние дела Советского Союза, Отечество рабочих всего мира. Это было бы «странное Отечество», чьи дела рабочим обсуждать запрещено. Сам он и его семья были лишены советского гражданства; у них не было иного выбора, как отдаться «под защиту международного общественного мнения». Тем, кто, как Чарльз А. Берд, утверждает, что обязательство представления доказательств лежит на Сталине, а не на нем, и что никак невозможно «опровергнуть негатив с помощью позитивных доказательств», он ответил, что юридическая концепция алиби предполагает возможность такого опровержения и что он в состоянии установить свое алиби и продемонстрировать тот «позитивный факт», что Сталин организовал «величайшую судебную инсценировку в истории».
Юридическое расследование этого дела, однако, «касалось формы этой инсценировки, а не ее сути», которая неотделима от политического фона репрессий, «тоталитарного подавления, которому… подвергаются все обвиняемые, свидетели, судьи, адвокаты и даже само обвинение». При таком давлении судебный процесс перестает быть юридическим процессом и превращается в «спектакль, в котором роли распределены заранее. Подсудимые появляются на сцене только после серии репетиций, которые позволяют директору еще до начала получить полную уверенность в том, что они не перешагнут границы своих ролей». Тут нет места для какого-либо соперничества между обвинением и защитой. Главные актеры исполняют свои роли под дулом пистолета. «Пьеса может быть сыграна хорошо или плохо, но это вопрос инквизиторской техники, а не правосудия».
Оценивая это обвинение, надо учитывать политические биографии подсудимых. Преступление обычно возникает в силу характера преступника либо, по крайней мере, совместимо с ним. Поэтому перекрестный допрос по необходимости был связан с работой его, Троцкого, и других подсудимых в большевистской партии и с их ролью в революции; и в свете этих обстоятельств приписываемые им преступления были совершенно несовместимы с их характерами. Вот почему Сталину пришлось фальсифицировать их биографии. Здесь следует применить классический критерий cui prodest.[108] Принесло или могло ли принести убийство Кирова какую-нибудь выгоду оппозиции? Или это было выгодно Сталину, который в результате получил повод для ликвидации оппозиции? Могла ли оппозиция надеяться на извлечение каких-нибудь выгод из актов саботажа на угольных шахтах, заводах и на железных дорогах? А не пыталось ли правительство, чья настойчивость в сверхпоспешной индустриализации и чье бюрократическое пренебрежение привели ко многим промышленным катастрофам, обелить себя, возлагая на оппозицию вину за эти трагедии? Могла ли оппозиция что-нибудь выиграть от альянса с Гитлером и микадо? А может быть, Сталин сколачивал политический капитал из признаний подсудимых о том, что они были сообщниками Гитлера?
Для оппозиции было бы самоубийственным идиотизмом совершать любое из этих преступлений. Нереальность обвинений вызвана неспособностью обвинения представить хоть какие-то веские доказательства. «Заговор, о котором говорил Вышинский, должен был существовать многие годы и иметь широчайшую сеть в Советском Союзе и за рубежом. Большинство из предполагаемых лидеров и участников все эти годы находились в лапах ГПУ. И все равно ГПУ не смогло добавить какую-либо вещественную информацию или даже единственную достоверную улику об этом гигантском заговоре — только признания, признания и бесконечные признания. Этот „заговор не имел ни плоти, ни крови“. Люди на скамье подсудимых рассказывали не о каких-то конкретных событиях или акциях этого заговора, а только о своих разговорах о нем — судебные заседания были разговором о разговорах. Отсутствие какого-либо правдоподобия и фактического содержания показало, что спектакль разыгрывался на основе специально подготовленного „либретто“. И все же „инсценировки такого колоссального масштаба — это слишком много даже для самой могущественной полиции… слишком много народу и обстоятельств, характеристик и дат, интересов и документов… не стыкуются… в этом скроенном либретто!“. „Если подойти к этому вопросу в художественном аспекте, такая задача — драматическая гармония сотен людей и бесчисленных обстоятельств — была бы непосильной даже для Шекспира. Но в распоряжении у ГПУ нет Шекспира“. Уж если они фабриковали события, якобы имевшие место внутри СССР, они все еще могли сохранять видимость их последовательности. Инквизиторское насилие могло заставить подсудимых и свидетелей быть последовательными в некоторых из своих фантастических историй. Ситуация изменилась, когда нити заговора потребовалось протянуть в зарубежные страны; а ГПУ понадобилось протянуть их туда, чтобы вовлечь и „общественного врага номер один“. За рубежом, однако, факты, даты и обстоятельства можно было проверить; и, когда это было сделано, история о заговоре развалилась на кусочки. Ни одна из нитей, которые якобы вели к Троцкому, не вела к нему. Было установлено, что те немногие подсудимые (Давид, Берман-Юрин, Ромм и Пятаков), которым он якобы давал террористические указания (в присутствии своего сына или иным образом), не видели и не могли видеть его в указанных местах в указанные даты, потому что либо он (и его сын), либо они сами не были и не могли быть там. И как только эти контакты были опровергнуты, все обвинение рухнуло, потому что его мнимые контакты с Радеком (через Ромма) и Пятаковым были решающими для этого „заговора“. Все другие обвинения и показания были основаны или проистекали из признаний Пятакова и Радека о том, что они действовали как главные агенты Троцкого и как спаренные столпы заговора. „Все показания других обвиняемых покоятся на нашем собственном показании“, — сам Радек заявил это в суде; а их собственные показания, сосредоточенные на встречах с Троцким в Париже и Осло, были построены ни на чем. „Вряд ли необходимо разрушать здание кирпич за кирпичиком, если две главные колонны, на которых оно зиждется, повергнуты“, — отмечал Троцкий; но тем не менее он продолжал разрушать это здание по кирпичику.
Он обратился к комиссии с просьбой учесть, что его собственная версия полна той психологической и исторической достоверности, которые так подозрительно отсутствуют в московских версиях; что документация, которую он представил комиссии, с исключительной полнотой отражает его жизнь и работу за многие годы. И что, если бы он совершил любое из этих преступлений, наверняка его печатные труды выдали бы его в том или ином месте. Люди, легко проглатывающие верблюдов, но проявляющие чрезмерную щепетильность при виде москита, говорят, что он мог бы сфальсифицировать все свои архивы и досье переписки, чтобы скрыть свои истинные планы. Но для целей камуфляжа можно перекрасить пять, десять и даже сто документов — но не тысячи писем, адресованных тысячам лиц, не сотни статей и десятки книг. Нет, он не „строил небоскреб, чтобы спрятать дохлую крысу“. Если бы кто-то заявил, например, что Диего Ривера — тайный агент католической церкви, не стало бы жюри, расследуя эти обвинения, проверять фрески Риверы? И осмелился бы кто-либо сказать, что этот пылкий антиклерикализм, явный в этих фресках, является всего лишь маскировкой? Никто не может „изливать кровь своего сердца и свою душу и изнашивать нервы“ в произведениях искусства, истории или революционной политике только для того, чтобы обмануть мир. Как пуста и лжива в сравнении с этой документацией та, что представлена Вышинским: все, что в ней было, — это письма Троцкого: два — Мрачковскому, три — Радеку, одно — Пятакову и одно — Муралову. И все фальшивые!
Но почему же подсудимые делали свои признания? От него вряд ли стоило ожидать точной информации об инквизиторских методах ГПУ. „Мы здесь не можем допросить Ягоду (сейчас его самого допрашивает Ежов) или Ежова, или Вышинского, или Сталина, или… их жертв, большинство из которых уже расстреляны“. Тем не менее, комиссия имела в своем распоряжении письменные показания русских и европейских коммунистов, которые сами подверглись методам ГПУ. Также слишком часто забывают, что те, кто дал признания, были не активными лидерами оппозиции, а капитулянтами, которые годами преклонялись перед Сталиным. Их последние признания были завершением длинной серии сдач, завершением воистину „геометрической прогрессии ложных обвинений“. В течение тринадцати лет Сталин с их помощью воздвигал „Вавилонскую башню“ лжи. Диктатор, использовавший террор без предела и который „мог купить совесть, как мешок с картошкой“, вполне способен на такой подвиг. Но сам Сталин ужаснулся своей Вавилонской башне, потому что знал, что она должна рухнуть после того, как в ней появится первая брешь, — и сделал, чтобы это произошло!
Троцкий закончил апофеозом Октябрьской революции и коммунизма. Даже при Сталине, заявил он, несмотря на все ужасы репрессий, советское общество все еще представляет величайший прогресс в социальной организации, достигнутый до сих пор человечеством. Вина за трагическое перерождение большевизма лежит не на революции, а на провале ее попытки расшириться за пределы России. В данный момент советские рабочие столкнулись с выбором между Гитлером и Сталиным. Они предпочли Сталина, и в этом они правы: „Сталин лучше, чем Гитлер“. Поскольку они не видят альтернативы, рабочие остаются апатичными даже перед лицом чудовищности сталинского правления. Они сбросят апатию в тот самый момент, когда увидят какую-либо перспективу новых побед во имя социализма. „Вот почему я не отчаиваюсь… Я терпелив. Три революции сделали меня терпеливым“.
„Опыт моей жизни, в которой хватало и успехов, и неудач, не только не уничтожил моей веры в ясное, светлое будущее человечества, а, напротив, дал ей неразрушимое самообладание. Эта вера в разум, в истину, в человеческую солидарность, которую я в восемнадцать лет вобрал в себя в рабочих кварталах провинциального российского города Николаева — эту веру я сохранил целиком и полностью. Она стала более зрелой, но не менее пылкой“.
Этими словами и благодарностью комиссии и ее председателю он завершил эту apologia pro vita sua.[109]
Долгое время члены комиссии сидели в молчании, глубоко потрясенные. Дьюи хотел было подвести итоги и закрыть судебное заседание формальным образом; но вместо этого завершил слушание этой единственной фразой: „Все, что я могу сказать, просто будет разрядкой напряжения“.
Отчет о перекрестном допросе тем более примечателен из-за ограничений, которые Троцкий сам наложил на себя. Он часто смягчал свои удары с тем, чтобы без нужды не ставить мексиканские власти в неловкое положение. Он старался разъяснить этим многим людям, вовлеченным в процесс, проблемы, существующие между ним и Сталиным, не в своей привычной марксистской манере, которая могла быть непонятной для его аудитории, а языком прагматично мыслящего либерала — трудность перевода в таком случае может оценить лишь тот, кто когда-нибудь пробовал это делать. Стремясь к личному контакту со слушателями, он вел свою защиту не только на их родном языке или даже на немецком или французском, но и на английском. Словарный запас его был ограничен. Грамматику и идиомы знал он нетвердо. Лишенный великолепия своего могучего красноречия, сознательно отказавшись от преимуществ, которые неинтересный оратор находит в использовании своего родного языка, он отвечал экспромтом на самые разнообразные, сложные и неожиданные вопросы. День за днем и заседание за заседанием он отыскивал выражения и преодолевал сопротивление языка, часто останавливаясь или запинаясь в непроизвольно смешных предложениях, а иногда говоря почти противоположное тому, что имел в виду, или не понимая вопросы, которые ему задавали. Это выглядело так, как если бы перед судом предстал Демосфен, сражавшийся за свою жизнь, но не избавившийся от заикания и со ртом полным гальки. Таким образом он пересказывал события своей долгой карьеры, разъяснял свои убеждения, описывал многие изменения, происшедшие в советском режиме, анализировал проблемы, отделявшие его от Сталина с Бухариным, а также и от Зиновьева с Каменевым, рисовал портреты этих личностей и тщательно исследовал каждую фазу этого ужасного соперничества.
К концу не осталось без ответа ни одного вопроса, не остался туманным ни один важный эпизод, не осталось неосвещенным ни одно серьезное историческое событие. Тринадцать лет спустя Дьюи, который так много в своей жизни провел академических дебатов и все еще был настроен против Weltanschauung Троцкого, с восторженным изумлением припоминал „интеллектуальную мощь, с которой Троцкий собрал и распределил по порядку массу своих доказательств и аргументов и передал нам значение каждого важного факта“. Острота логики Троцкого действовала лучше его громоздких фраз, а ясность его идей светила сквозь все его словесные погрешности. И даже его остроумие при этом не пострадало: часто оно оживляло мрачность предмета обсуждения. И прежде всего, чистота его истории позволяла Троцкому преодолевать все внешние ограничения и давления. Он стоял, подобно самой истине, растрепанный, взъерошенный и неприкрашенный, невооруженный и незащищенный, но, тем не менее, величественный и непобедимый.
Пройдет еще несколько месяцев, пока комиссия Дьюи подготовит свой вердикт. А тем временем Троцкому все еще приходилось дополнять доказательства, которые он представил перед комиссией, а потому все его домочадцы были заняты делами. Перекрестный допрос и связанная с ним работа изнурили его; и он не восстановил свои силы во время краткого пребывания в деревне. Оставшуюся часть весны и лето он страдал от сильной головной боли, головокружений и высокого кровяного давления и опять стал жаловаться на преклонный возраст, который „захватил его врасплох“. Первые отголоски контрпроцесса были совсем слабые. Напряженность в семейных отношениях почти не уменьшилась. „Дорогой папа, — писал Лёва в конце апреля, — ты продолжаешь подвергать меня своему остракизму… уже более месяца, как от тебя нет никаких писем“. Троцкий, все еще недовольный тем, как Лёва ведет дела в „Бюллетене“, вновь предложил перевести его в Нью-Йорк; в ответ Лёва спокойно отметил, что газета должна оставаться в Европе, где находится большинство ее читателей; и снова горько пожаловался матери на грубое обращение отца. В длинном письме и несколько извиняющимся тоном Троцкий потом попытался сгладить трения.[110]
Он объяснил Лёве, что, потеряв так много месяцев в Норвегии перед тем, как смог подготовиться к контрпроцессу, затем он был раздражен дальнейшими задержками и опасался, что не сможет представить свои полные досье перед комиссией Дьюи; и был убежден, что задержки были вызваны нежеланием Лёвы сотрудничать с друзьями. Он советовал ему отдохнуть и привести в порядок нервы: „перед нами обоими великие процессы еще впереди“.
Этот совет пришел в самое время. Лёва тоже мучился от головных болей и приступов лихорадки; но у него не было стойкости отца. „Что еще осталось от моих прежних сил?“ — писал он матери, намекая на то, что в данное время нуждается в „небольшой операции“. Он жил в бедности, но думал о том, как помочь родителям финансами, зарабатывая на жизнь работой на заводе или получая академическую стипендию. Когда Наталья призвала его вместо этого заняться писанием статей в газеты, он ответил с нотой разочарования: „Писание… дается мне с трудом — мне надо читать, изучать, размышлять, а на это нужно время… С тех пор, как я нахожусь в эмиграции, я почти постоянно загружен техническими и другими повседневными обязанностями. Я — вьючное животное, больше ничего. Я не учусь, я не читаю. Я не могу мечтать о какой-то литературной работе: у меня нет легкого прикосновения и таланта, которые могут частично заменить знания“. Это настроение разочарования было наполнено нежностью и преданностью. Когда родители отсылали ему назад чеки, которые он получал у французских издателей и переправлял в Мексику, Лёва себе оставлял лишь немного, а остальное делил между нуждающимися товарищами или вносил в фонды организации. Он волновался, что отец тратит силы слишком беспечно и подрывает свою нервную систему. Почему, спрашивал он Наталью, они не купили в Мексике автомашину и не устраивают поездки на охоту или рыбалку? Почему Л. Д. не играет в крокет, который он так любил прежде? „Моя дорогая, любимая мамочка, — писал он в ответ на весьма грустное письмо от нее, — только подумай, что могло бы случиться, если бы Сталин не совершил „ошибку“, выслав папу? Папа был бы мертв давным-давно… Или если бы мне разрешили вернуться в СССР в 1929, если бы Сергей был активен в политике или если бы папа был сейчас в Норвегии или, хуже того, в Турции? Кемаль бы его повесил… все было бы много, много хуже“. Это, конечно, было грустное утешение; но под рукой не было ничего лучше.
Примерно в это время случился в некотором роде трагикомический инцидент в частной семейной жизни Троцкого. Среди всех этих мрачных событий и тревог Наталья была озабочена семейной ревностью. Неясно, что именно стало ее причиной: она сдержанна даже в своих письмах к мужу, что не оставляет сомнений лишь в одном — сейчас она впервые имела причину для ревности. Возможно, менее уверенная в себе женщина возревновала бы раньше, ибо отношение Троцкого к женщинам в те редкие моменты, когда он мог их замечать, отличалось какой-то отчетливой галантностью, не свободной от мужского тщеславия и восприимчивости к женскому обожанию. В любом случае, женское присутствие иногда поощряло его на энергичную демонстрацию силы обольщения и остроумия. В этих „флиртах“ было старомодное рыцарство и артистическое изящество; и все же это несколько противоречило его исключительной серьезности и почти аскетическому образу жизни. Наталья, тем не менее, была достаточно уверена в его любви, чтобы правильно воспринимать эти проявления. Но в Койоакане она стала остро ревнивой к кому-то, кого в своих письмах обозначала лишь инициалом F. Судя по косвенным доказательствам, это могла быть Фрида Кало. Домочадцы скоро заметили разлад между двумя женщинами и легкое охлаждение между их мужьями. Нам неизвестно, может быть, необычно тонкая красота Фриды и ее артистизм возбуждали в Троцком нечто большее, чем обычная любезность, либо Наталья, которой уже было пятьдесят пять, стала жертвой ревности, которая часто приходит с возрастом. Достаточно того, что кризис возник, и Троцкий и Наталья были в нем несчастны и жалки.
В середине июля он уехал из Койоакана и вместе с телохранителем отправился в горы, чтобы заняться физическими упражнениями, сельскохозяйственными работами в крупном поместье, поездить верхом и поохотиться. Ежедневно, а иногда и дважды в день он писал Наталье. Он обещал ей ничего не говорить в своих письмах о ее расстройстве, но „не мог не нарушить этого обещания“: он умолял ее „прекратить соперничество с женщиной, которая столь мало значит“ для него, в то время как она, Наталья, — для него все. Он был полон „стыда и ненависти к себе“ и подписался под письмом „твой старый верный пес“. „Как я люблю тебя, Ната, моя единственная, моя вечная, моя верная, моя любовь, моя жертва“. „Ах, если б я только мог внести маленькую радость в твою жизнь. Пока я пишу это, после каждых двух-трех строчек я встаю, прохаживаюсь по комнате и лью слезы самобичевания и благодарности к тебе; я плачу над своей старостью, которая застала нас врасплох“. Вновь и вновь прорывается в этих письмах нотка жалости к себе, которую ни один иностранец и ни один из домочадцев никогда не замечал в нем. „Я все еще живу в нашем вчерашнем, с его болями и воспоминаниями и с муками моих страданий“. Потом возвращаются его стойкость и даже радость жизни: „Все будет хорошо, Ната, все будет хорошо — только тебе надо поправиться и стать сильнее“. Однажды он ей пересказывает, как-то поддразнивая, как он „очаровал“ группу мужчин, женщин и детей — „особенно женщин“, — которые посетили его в горах. Его живость растет, и он испытывает сексуальную тягу к Наталье. Он рассказывает ей, что только что перечитал отрывок в мемуарах Толстого, где Толстой описывает, как он в возрасте семидесяти лет возвращался с верховой прогулки, полный желания и страсти к своей жене — он, Троцкий, в пятьдесят восемь возвращался к тому же настроению со своих требующих усилий верховых эскапад. В своей страсти к ней он переходит на сексуальный сленг, а потом „смущается тем, что написал эти слова на бумаге впервые в своей жизни“ и „ведет себя, как молоденький курсант“. И как будто чтобы доказать, что nihil humanum…[111] он пускается в странные семейные обвинения. Он ворошит воспоминания о любовной интрижке, которая будто бы была у Натальи еще в 1918 году; и приводит в свое оправдание факт, что никогда не делал ей ни малейшего упрека и никогда даже не намекал об этом романе, так что ей не следует быть слишком суровой к нему, не дававшему ей никаких оснований для ревности. В ответ она объясняет этот „роман“ 1918 года. Это было как раз после того, как ее назначили директором музейного департамента в Комиссариате просвещения; она не очень представляла себе, как организовать работу; и один из ее помощников, товарищ, которого она якобы „свела с ума“, помогал ей. Она была ему благодарна и с симпатией относилась к нему, однако не давая ответа на его чувства и не позволяя ему никакой интимности. Это мягкое смешное обвинение, свидетельствующее о том, что после тридцати пяти лет совместной жизни муж и жена не находят иных примеров „неверности“, чтобы обвинить друг друга, открывает в совершенно неожиданной манере стойкость их любви.
В своих письмах Наталья выглядит сдержанной, чуть смущенной его излияниями, она старается привести его в себя из его состояния самосозерцания и необузданности. На его нудную волынку о преклонном возрасте у нее один и тот же ответ: „Человек стареет, если не видит впереди себя перспективы“ и когда уже не стремится ни к чему — а это как раз к нему не относится! „Соберись! Вернись к работе. Если ты только это сделаешь, начнется твое излечение“. Скоро она вновь стала хозяйкой его эмоций; и, хотя сама была больна и жила в напряжении, на ней были заботы о болезнях, злоключениях и намерениях каждого члена семьи, и она была спокойней и сильней, чем любой из них. Троцкий знал силу ее духа и полагался на нее. В одном из его писем к ней есть эти впечатляющие слова: „Ты все еще будешь нести меня на своих плечах, Ната, как несла меня всю нашу жизнь“.
А в это время в Советском Союзе почти не было дня без какой-нибудь человеческой гекатомбы.[112] В конце мая ГПУ объявило о раскрытии заговора, во главе которого стоял маршал Тухачевский, заместитель наркома обороны, модернизатор и фактический главнокомандующий Красной армией. В измене были обвинены выдающиеся генералы Якир, Уборевич, Корк, Путна, Примаков и другие, включая Гамарника, главного политического комиссара Вооруженных сил. За исключением Гамарника, покончившего с собой, все были казнены. Из четырех маршалов (Ворошилова, Буденного, Блюхера и Егорова) последних двоих тоже поставили к стенке. Все эти военачальники выросли до своих командных постов в те времена, когда наркомом обороны был Троцкий, но большинство из них никогда не принадлежало оппозиции, и никто из них не имел контактов с Троцким после его высылки из СССР. И тем не менее, всех их обвинили в пособничестве Троцкому и Гитлеру, в стремлении к военному разгрому Советского Союза и его расчленению. Их расстрелы стали прелюдией чистки, которая затронула 25 тысяч офицеров и обезглавила Красную армию накануне Второй мировой войны. Спустя двадцать пять лет, после формальной реабилитации Тухачевского и большинства других генералов, до сих пор никакого света не пролито на подоплеку этой чистки. Согласно различным антисталинским источникам, Тухачевский, встревоженный террором, который подрывал моральный дух и оборону страны, планировал военный переворот, для того чтобы свергнуть Сталина и лишить ГПУ власти; но делал он это без какой-то связи с Троцким, не говоря уже о Гитлере или каких-либо иностранных державах. Троцкий не верил, что существовал какой-либо заговор, но описывал крушение Тухачевского как симптом конфликта между Сталиным и офицерским корпусом, конфликт, который мог бы поставить на повестку дня военный переворот.
К этому времени ГПУ уже репетировало „процесс двадцати одного“, главные роли в котором были отведены Рыкову, Бухарину, Томскому, Раковскому, Крестинскому и Ягоде. (Из всех них один Томский, совершив самоубийство, избежал унижения публичного процесса и признания.) Еще до того, как поднялся занавес этого спектакля, страх поразил и сталинскую фракцию. Рудзутак, Межлаук, Косиор, Чубарь, Постышев, Енукидзе, Окуджава, Элиава, Червяков и другие члены Политбюро, партийные секретари Москвы, Украины, Белоруссии и Грузии, профсоюзные лидеры, руководители Госплана и Высшего совета народного хозяйства, почти все — сталинисты с многолетним стажем… Все эти люди были окрещены предателями и иностранными шпионами и казнены. Орджоникидзе, который более тридцати лет проявлял свою преданность Сталину, но испытывал угрызения совести и начал возражать вождю, умер при загадочных обстоятельствах или, как полагают некоторые, был доведен до самоубийства. Если троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев позорили публично, этих сталинистов уничтожили тайно, не устраивая открытых процессов. Опустошения, которые сталинский гнев произвел в их рядах, покрыты мраком. Террор распространился за пределы большевистской партии и задел многих немецких, польских, венгерских, итальянских и балканских коммунистов, живших в Советском Союзе в качестве беженцев из тюрем и концлагерей в своих собственных странах. Потом „преследование троцкистов“ было проведено и в иностранных государствах. В Испании ГПУ обосновалось в начале Гражданской войны и предприняло атаку на ПОУМ. Лидер ПОУМа Андреc Нин имел разногласия с Троцким, который критиковал его за участие в лоялистском правительстве Каталонии и за принятие „скромной и полуменьшевистской“ позиции в революции. Даже при этом политика Нина для сталинизма периода Народного фронта была слишком радикальной и независимой; а поэтому он и его партия были очернены как „пятая колонна Франко“; в конце концов его выкрали и убили. Всякий, кто осмеливался протестовать, подвергал себя угрозе мести со стороны ГПУ. Охота на ведьм, политические убийства и цинизм, с которыми Сталин использовал испанскую революцию, деморализовали лагерь республиканцев и подготовили почву для их разгрома. И словно в насмешку Сталин послал не кого иного, как Антонова-Овсеенко, бывшего троцкиста и героя 1917 года, чтобы руководить чисткой в Каталонии, этой опоре ПОУМа; потом, после того как Антонов сделал свое дело, Сталин осудил его также как вредителя и шпиона и приказал расстрелять.
Теперь в Москве никто не мог чувствовать себя в безопасности, даже сами инквизиторы и палачи. После ареста Ягоды чистке подверглись ГПУ и все секретные службы. Их агентов в Европе заманивали домой для предъявления обычных обвинений. Как правило, эти агенты знали или догадывались о том, что ожидало их, но, как загипнотизированные, подчинялись вызовам — многие предпочли жертвоприношение убежищу в любой капиталистической стране. Поэтому поразительным явлением стало то, что Игнаций Рейс, руководитель сети советской секретной службы в Европе, подал в отставку со своего поста в знак протеста против репрессий. Когда он решился на это, его даже не вызывали в Москву. Потрясенный этими репрессиями, он обратился к Сневлиету, голландскому парламентарию-троцкисту (а через него к Лёве), чтобы предупредить Троцкого, что Сталин решил „ликвидировать троцкизм“ за пределами Советского Союза теми же самыми средствами, которые он использовал для этого внутри Советского Союза. Рейс описал их как адский садизм и шантаж, долгие и ужасные допросы, в ходе которых ГПУ получало признания в московских процессах. Сюда входят и моральные пытки, и замешательство, в котором старое поколение большевиков встречало свой смертный приговор. Он также вел речь и о молодых коммунистах, которые отказались покориться и все еще заполняли тюремные дворы и места казней криками „Да здравствует Троцкий!“.
18 июля Рейс направил послание из Парижа Центральному комитету в Москву, объявляя о своем разрыве со сталинизмом и „вступлении в Четвертый Интернационал“. „Недалек тот день, — заявлял он, — когда международный социализм вынесет приговор по всем преступлениям, совершенным за последние десять лет. Ничто не будет забыто, ничто не будет прощено… „Гениальному руководителю, Отцу Народов, Солнцу Социализма“ придется дать отчет за все свои дела“. „Я возвращаю вам орден Красного Знамени, которым был награжден в 1928 г. Носить его… было бы ниже моего достоинства“.
Шесть недель спустя, 4 сентября, Рейса нашли мертвым на одной дороге в Швейцарии возле Лозанны. Тело его было изрешечено пулями. ГПУ знало о его решении еще до того, как он вручил свое заявление об увольнении какому-то чиновнику советского посольства в Париже. Зная о раздражении, которое чистки вызвали даже среди его бывших коллег по секретной службе, он надеялся убедить некоторых из них последовать его примеру. С этой целью он организовал встречу в Лозанне с Гертрудой Шильдбах, резидентом советской разведки в Италии, которая была его другом почти двадцать лет. Они встретились; она делала вид, что симпатизирует ему; а после их первой беседы заманила его на другую встречу в пригороде Лозанны. И там ГПУ устроило для него ловушку.
Швейцарская и французская полиция скоро пролили свет на некоторые обстоятельства. Используя ключи, найденные в брошенной, залитой кровью машине и в багаже, оставшемся в гостинице, они установили личности убийц. Они, как выяснилось, были членами Общества репатриации российских эмигрантов в Париже, общества на содержании у советского посольства.
Полиция убедилась, что банда, убившая Рейса, долго следила и за Лёвой. Женщина, на чье имя была арендована залитая кровью автомашина, имела задание шпионить за ним. (Он припоминал, что годом ранее она последовала за ним на юг Франции, куда он уезжал для краткого отдыха, устроилась в пансионате и время от времени со странной настойчивостью приглашала его отправиться с ней на прогулку под парусом.) Дальнейшее расследование выяснило, что та же самая банда устраивала для Лёвы западню в Мюлузе, возле швейцарской границы, в январе 1937 года, когда он собирался поехать туда, чтобы обсудить со швейцарским адвокатом тяжбу с швейцарскими сталинистами. Он избежал ловушки, потому что плохое состояние здоровья не позволило ему отправиться в эту поездку; но группа продолжала следить за ним всю первую половину года, и он чувствовал это. В июле и августе он с недоумением заметил, что слежка за ним почти прекратилась — очевидно, его преследователи были тогда заняты выслеживанием Рейса. Сейчас можно было ожидать, что они вернутся к своей прежней охоте.
Лёва с удивлением узнал из материалов допроса, как быстро и точно агенты ГПУ были, как правило, информированы обо всех его планах и перемещениях. От кого? И кто сообщил им о намерениях Рейса? Некоторые троцкисты уже задумывались, а не находится ли среди ближайших друзей Лёвы агент-провокатор; и подозрение пало на Этьена (который совсем недавно трудился в Обществе репатриации российских эмигрантов). Недоверие Сневлиета к Этьену было так велико, что, после того как Рейс обратился к нему, он поначалу отказался свести его с троцкистским центром в Париже, остерегаясь, что это будет небезопасно. Лёва, однако, отказался поддержать какое-либо подозрение в отношении своего „лучшего и самого надежного товарища“.
С ощущением, что загадочная петля затягивается на его шее, Лёва написал некролог Рейсу для „Бюллетеня“. „Отец Народов“ и его ежовцы знают слишком хорошо, как много потенциальных Рейсов вокруг… Планы Сталина потерпят провал… Никто не сможет остановить историю пистолетом. Сталинизм обречен; он загнивает и распадается на глазах. Близок день, когда его зловонный труп будет выброшен на свалку истории». И все же судьба Рейса отпугнула возможных подражателей. В следующие несколько недель выступили только двое из них: Вальтер Кривицкий, еще один старый разведчик, и Александр Бармин, советский поверенный в делах в Афинах. Они также, порвав со своим правительством, искали контактов с Троцким, чьими приверженцами, однако, никогда не были, потому что, как объяснял это Кривицкий, Троцкий «был окружен ореолом» даже в глазах людей ГПУ, отряженных на борьбу с троцкизмом. Это были странные новообращенные. Кривицкий боялся, что Троцкий и его сторонники ему не поверят и будут презирать как одного из тех, кто провел так много лет на сталинской службе. Поэтому он очень желал оправдать свое прошлое в тот самый момент, когда с ним порывал. Вдова Рейса обвинила его в соучастии в убийстве ее мужа. Он склонил голову и признался, что небезгрешен. Он старался искупить свою вину, раскрыв истину о репрессиях; и все же он при этом стремился сохранить много имевшихся в его распоряжении секретов, имевших отношение к военной безопасности Советов. Лёва вслушивался в эту выпытанную секретную информацию с некоторой неприязнью. Но он считал обязанностью передать сведения отцу, а также помочь, успокоить и, насколько возможно, защитить всякого советского гражданина, который порвал со сталинизмом. Со своей стороны, Троцкий призывал Кривицкого и Бармина, ради их собственной безопасности и ради политической ясности, выступить против сталинизма безоговорочно и на глазах у всех; он чувствовал себя неловко и испытывал раздражение от Лёвиной снисходительности. Это привело к возобновлению перебранок между отцом и сыном.
Тем временем присутствие агента-провокатора в Лёвином окружении вызывало все больше подозрений и замешательства. Кривицкий подтверждал предостережения Рейса о предстоящих убийствах троцкистов и заявлял, что ГПУ имеет глаза и уши в троцкистском центре в Париже. Однако он не мог идентифицировать этого агента и из всего окружения высказывал подозрения в отношении Виктора Сержа. ГПУ, утверждал он, не выпустило бы Сержа и не позволило бы ему покинуть Советский Союз, если бы там не были уверены, что он будет шпионить за троцкистами. Конечно, никто более не подходил на эту роль, чем Серж. Он был одним из ранних приверженцев Троцкого, этот одаренный и щедрый, хотя и политически простодушный литератор. Самое худшее, что можно было сказать о нем, что у него была слабость к хвастливой болтовне, а это было серьезным недостатком для члена организации, которая должна оберегать свои секреты от ГПУ. В любом случае, подозрения начали огульно навешивать на всякого, даже на самого Лёву, а в это время настоящий агент-провокатор продолжал забирать и читать почту Троцкого, быть в курсе всех Лёвиных секретов, и использовал все уловки для сохранения чистоты своей репутации, провоцируя недоверие в отношении других.
Французская полиция, продолжая расследование дела об убийстве Рейса, обнаружила, что один из членов этой банды убийц подавал заявление на мексиканскую визу и запасся детальными планами города Мехико. Лёва сразу же послал предупреждение в Койоакан. Полиция также допускала наличие серьезной опасности для жизни Лёвы и приставила к нему особую охрану. Один из его товарищей — почти наверняка некий Клемент (Адольф) — настолько близко к сердцу воспринял положение Лёвы, что написал Троцкому и Наталье, умоляя их попросить Лёву немедленно покинуть Францию и воссоединиться с ними в Мексике. Лёва, как он говорил им, болен, почти изнурен, подвержен постоянной опасности, однако убежден, что он в Париже «незаменим» и что должен «оставаться на своем посту». Однако это было не так, ибо товарищи могли заменить его; а если он останется в Париже, он будет «совершенно беспомощен против ГПУ». В крайнем случае родителям следует попросить его приехать в Мексику на время, чтобы отдохнуть и набрать там сил. «Он способный, смелый и энергичный человек; и мы должны спасти его».
Эта трогательная забота не имела надлежащего эффекта. Троцкий очень хорошо знал, конечно, что жизнь Лёвы в опасности. Он беспрестанно призывал его к осторожности и просил избегать контактов с людьми, «которые могут находиться в руках ГПУ», особенно с ностальгирующими русскими эмигрантами. Как раз перед делом Рейса он писал: «Если будет совершено покушение на тебя или на меня, вина ляжет на Сталина, но ему уже нечего терять». Но, тем не менее, он не поддержал идею отъезда Лёвы из Франции. Когда Лёва настаивал на том, что он «незаменим в Париже», что для своей защиты он живет под чужим именем (как это делал Троцкий в Барбизоне), Троцкий ответил ему в письме, что Лёва ничего не выиграет, если уедет из Франции: Соединенные Штаты вряд ли разрешат ему въезд, а в Мексике жизнь для него будет еще менее безопасной, чем во Франции. Он не желал, чтобы его сын заперся в этой «полутюрьме» Койоакана; к тому же разногласия между отцом и сыном, возможно, порождали нежелание раздумывать о воссоединении. Последнее письмо Троцкого на эту тему заканчивается сдержанными, таящими возбуждение фразами: «Voila, mon petit.[113] Но… это все… Тебе сейчас надо беречь все, что сможешь получить наличными от издателей. Тебе все это понадобится. Je t'embrasse. Ton Vieux».[114] Было в этом письме (о котором Троцкий несколько месяцев спустя подумает с горьким сожалением) что-то похожее на послание, отправленное бойцу, удерживавшему обреченную передовую позицию, недоступную для какой-либо помощи. И все-таки у Троцкого были некоторые основания считать, что в Мексике Лёва окажется в еще меньшей безопасности, чем во Франции. Совсем недавно в Мексике обосновалось много агентов ГПУ, часто выдававших себя за беженцев из Испании; и шумные требования высылки Троцкого становились все более резкими. В канун Нового года стены домов в Мехико-Сити были заклеены плакатами, обвиняющими его в сговоре с реакционными генералами с целью свергнуть президента Карденаса и установить в Мексике фашистскую диктатуру. Нечего и говорить, куда могла завести такая клевета.
Мрак этих месяцев лишь на короткое время рассеялся в сентябре, когда комиссия Дьюи завершила контрпроцесс и объявила вердикт. В нем многозначительно заявлялось: «На основании всех доказательств… мы выяснили, что [московские] процессы в августе 1936-го и январе 1937 г. были инсценировкой… мы считаем Леона Троцкого и Леона Седова невиновными». Троцкий с радостью воспринял этот вердикт. И все-таки эффект его был незначителен, если вообще не ничтожен. Голос Дьюи привлек некоторое внимание в Соединенных Штатах, но был проигнорирован в Европе, где общественное мнение было приковано к важным событиям года, последнего года перед Мюнхеном, и превратностям французского Народного фронта и испанской Гражданской войны. Троцкий вновь был не в духе; и когда произошла задержка с выходом в свет «Бюллетеня», содержавшим и этот приговор, он был так раздражен, что обругал Лёву за «это преступление» и «политическую слепоту». «Я крайне раздосадован, — писал он ему 21 января 1938 года, — тем, как ведется работа с „Бюллетенем“, и должен поставить вопрос о его переводе в Нью-Йорк».
К этому времени силы Лёвы иссякли. Он жил, как выражался Серж, «адской жизнью». Нужду и личные неудачи он переживал легче, чем удары по его вере и гордости. Снова процитируем Сержа: «Не раз, простаивая до рассвета на улицах Монпарнаса, мы совместно пытались распутать клубок московских процессов. Время от времени, остановившись под уличным фонарем, кто-то из нас восклицал: „Мы же в лабиринте чистого безумия!“» Перерабатывая, без копейки в кармане и тревожась за отца, Лёва постоянно жил в этом лабиринте. Он продолжал вторить аргументам своего отца, его осуждениям и надеждам. Но с каждым из процессов в нем что-то ломалось. Его самые яркие воспоминания детства и отрочества были связаны с людьми, находившимися на скамье подсудимых: Каменев был его дядей, Бухарин — почти лучшим другом детства; Раковский, Смирнов, Муралов и многие другие — старшими друзьями и товарищами, и всеми ими он пылко восторгался за их революционные доблести и мужество. Его тяготила их деградация, и он не мог с этим примириться. Как же было можно сломать каждого из них и заставить их ползти сквозь грязь и кровь? Неужели хотя бы один из них не встанет со своего места на скамье подсудимых, не отречется от своего признания и не разорвет на кусочки все эти фальшивые и ужасные обвинения? Напрасно Лёва ждал, что это произойдет. Он был потрясен, когда сообщили, что вдова Ленина выступила в поддержку судебных процессов. В который уже раз он повторял, что сталинистская бюрократия, мечтая превратиться в класс собственников, окончательно предала революцию. Но даже такое объяснение не может быть причиной всей этой крови и жестокости. Да, это лабиринт истинного безумия — сможет ли дальновидный гений его отца отыскать выход из него?
Болезнь сердца, отчаяние, лихорадка, бессонница. Не желая оставлять свой «пост», он затягивал с операцией аппендицита, несмотря на периодически повторяющиеся острые приступы. Он мало ел, был взвинчен и ходил понурившись, почти падая. И все-таки в первые дни февраля он, наконец, издал «Бюллетень» с вердиктом комиссии Дьюи; он радостно доложил об этом в Койоакан, приложив доказательства, и обрисовал планы дальнейшей работы, не говоря ни слова о состоянии своего здоровья. Это было последнее письмо, которое он написал родителям.
8 февраля он все еще работал, но ничего не ел целый день и много времени провел с Этьеном. Вечером с ним произошел очередной приступ, самый худший из всех. Он не мог уже задерживаться с операцией и написал письмо, которое запечатал и вручил жене, попросив ее вскрыть письмо, только если с ним случится какой-нибудь «инцидент». Он вновь поговорил с Этьеном и не пожелал больше никого видеть. Они договорились, что он не ляжет в какой-нибудь французский госпиталь и не зарегистрируется под своим именем; потому что, если он это сделает, ГПУ легко выяснит его местонахождение. Он поедет в небольшую частную клинику, в которой работают какие-то русские доктора-эмигранты, представится как некий месье Мартен, французский инженер, и будет говорить только по-французски. Однако ни один французский товарищ не должен знать, где он находится, или посещать его. Договорившись обо всем этом, Этьен вызвал карету скорой помощи.
Даже в таком виде план этот был невероятно абсурден. Русские эмигранты были последними, с кем Лёва мог надеяться выдать себя за француза. Он легко мог совершить ошибку, проговориться на своем родном языке в бреду или под анестезией. И все же он сразу согласился поехать, хотя, когда его жена и Этьен привезли его в клинику, он не был ни в бреду, ни без сознания. Очевидно, его способность критически воспринимать происходящее, а также и инстинкт самосохранения притупились.
Его прооперировали в тот же вечер. Следующие несколько дней казалось, что он быстро идет на поправку. Помимо жены, его навещал только Этьен. Эти посещения оживляли его; они говорили о политике и организационных вопросах; и он неизменно упрашивал Этьена возвращаться как можно быстрее. Когда его пожелали увидеть некоторые французские троцкисты, Этьен сказал им с соответствующим загадочным видом, что они этого не могут сделать и что если надо скрыть адрес от ГПУ, то его надо хранить в секрете даже от них. Когда один из французских товарищей был озадачен этим излишком предосторожности, Этьен пообещал обсудить этот вопрос с Лёвой, но к постели больного никого так и не допустили. Прошло четыре дня. И тут вдруг совсем неожиданно пациент вновь почувствовал острое ухудшение своего состояния. Начались приступы, и он потерял сознание. В ночь на 13 февраля видели, как он полуодетым бродил в состоянии безумия по коридорам и палатам, которые в силу каких-то причин были без медицинского персонала и без охраны. Он бредил по-русски. На следующее утро хирург был так удивлен его состоянием, что спросил Жанну, не мог ли ее муж попытаться покончить с собой — не был ли он недавно настроен совершить самоубийство? Жанна это отрицала, залилась слезами и сказала, что, наверное, агенты ГПУ его отравили. Срочно была проведена еще одна операция, но улучшения не последовало. Пациент ужасно мучился, а доктора пытались спасти его путем неоднократных переливаний крови. Все было напрасно. 16 февраля 1938 года он умер в возрасте тридцати двух лет.
Была ли его смерть, как утверждала вдова, делом рук ГПУ? Многое из косвенных доказательств говорит, что это так. В ходе московских процессов его клеймили как самого активного помощника своего отца, фактически, как начальника штаба троцкистско-зиновьевского заговора. «Этот юноша хорошо работает; без него Старику действовать было бы куда труднее» — так часто поговаривали в управлении ГПУ в Москве, как свидетельствуют показания Рейса и Кривицкого. Лишить Троцкого этой помощи было в интересах ГПУ, особенно поскольку это наверняка доставило бы удовольствие мстительной натуре Сталина. У ГПУ был надежный информатор и агент, который довел Лёву до той точки, где тому было суждено встретить свою смерть. У ГПУ были все основания надеяться, что, как только Лёву уберут с дороги, их агент займет его место в русской «секции» троцкистской организации и установит прямой контакт с Троцким. В этой клинике не только доктора и медсестры, но и повара с санитарами были русскими эмигрантами, а некоторые из них — членами Общества за репатриацию. И для ГПУ не было ничего легче, чем найти среди них своего агента, который каким-то образом введет яд этому пациенту. Имея столько убийств на своей совести, разве ГПУ стало бы сомневаться при этом?
Но уверенности здесь нет. Расследование, проведенное по требованию Жанны, не дало никаких доказательств преступления. И полиция и доктора категорически отрицали отравление или какую-либо иную попытку покушения на жизнь Лёвы; они приписывали его смерть послеоперационным осложнениям («непроходимость кишечного тракта»), сердечной недостаточности и низкой сопротивляемости организма. Видный доктор, который к тому же был другом семьи Троцких, присоединился к их мнению. С другой стороны, Троцкий и его невестка задали ряд относящихся к делу вопросов, так и оставшихся невыясненными. Было ли чистой случайностью то, что Лёва очутился в русской клинике? (Троцкий не знал, что, как только Этьен вызвал скорую помощь, он тут же проинформировал об этом ГПУ, в чем сам Этьен потом признался.) Медики, составлявшие персонал клиники, утверждали, что не знали о личности Лёвы и его национальности. Но свидетели заявляли, что слышали, как Лёва бредил и даже спорил на политические темы на русском языке. Почему же хирург, оперировавший Лёву, был склонен приписывать ухудшение его состояния скорее попытке самоубийства, чем какой-нибудь иной естественной причине? Как заявила вдова Лёвы, этот хирург погрузился в жуткое молчание, как только разгорелся скандал, и спрятался за обязанностью хранить профессиональные секреты. Не дали результатов ни старания Жанны обратить внимание ведущего расследование судьи на эти загадочные обстоятельства, ни то, что отметил Троцкий: рутинное дознание не приняло во внимание «усовершенствованную и сложную» технику убийств, осуществляемых ГПУ. Не пыталась ли французская полиция, как подозревал Троцкий, замять это дело, чтобы скрыть свою некомпетентность? Или, может быть, внутри Народного фронта сработали какие-то мощные политические силы с целью помешать тщательному расследованию? Семье ничего не оставалось, кроме как потребовать нового расследования.
Когда эта новость достигла Мексики, Троцкого не было в Койоакане. Несколькими днями ранее Ривера заметил, как какие-то незнакомые люди бродят вокруг Синего дома и шпионят за его обитателями с наблюдательного поста, расположенного поблизости. Он встревожился и устроил отъезд Троцкого и его пребывание в течение некоторого времени в Чапультепек-Парк у Антонио Идальго, старого революционера и друга Риверы. Там 16 февраля Троцкий работал над своим очерком «Мораль их и наша», когда вечерние газеты сообщили о смерти Лёвы. Ривера, прочитав эту новость, позвонил в Париж, надеясь получить опровержение, а потом отправился в Чапультепек-Парк к Троцкому. Троцкий отказался поверить этому, взорвался гневом и показал Ривере на дверь, но потом вернулся вместе с ним в Койоакан, чтобы сообщить эту весть Наталье. «Я как раз… перебирала старые фотографии наших детей, — пишет она. — Зазвонил звонок в дверях, и я с удивлением увидела входящего Льва Давидовича. Я пошла ему навстречу. Он вошел со склоненной головой, каким я его никогда не видела до сих пор, лицо его было пепельно-серым, и весь он сразу внешне постарел. „Что случилось? — спросила я его с тревогой. — Ты болен?“ Он тихо ответил: „Лёва болен. Наш маленький Лёва“».
Много дней они с Натальей оставались запершись в его комнате, окаменев от боли и не в состоянии видеть секретарей, принимать друзей или отвечать на соболезнования. «Никто с ним не заговаривал, потому что было видно, как велика его печаль». Когда он появился через восемь дней, глаза его распухли, выросла борода, и он не мог произнести ни слова. Несколько недель спустя он написал Жанне: «Наталья… еще не в состоянии ответить тебе. Она читает и перечитывает твои письма и плачет, плачет. Когда мне удается освободиться от работы… я плачу вместе с ней». К его печали примешивались угрызения совести за грубые выговоры, от которых он не щадил сына в последний год, и за совет, который он дал Лёве, — остаться в Париже. Вот уже в третий раз он оплакивал свое дитя, и каждый раз угрызения совести в этой скорби были все больше. После смерти Нины в 1928 году он обвинял себя в том, что недостаточно сделал, чтобы успокоить ее, и даже за то, что не писал ей в ее последние недели. Зина от него отдалилась, когда покончила с собой; и вот теперь Лёва встретил свой рок на посту, который он, отец, призывал его удерживать. Ни с кем из своих детей не делил он своей жизни и борьбы до такой степени, как с Лёвой; и никакая иная утрата не делала его столь безутешным.
В эти дни скорби он написал Лёвин некролог, погребальную песнь, уникальную в мире литературы. «Сейчас, когда вместе с матерью Льва Седова я пишу эти строки… мы еще не можем поверить случившемуся. Не только потому, что он был нашим сыном, верным, преданным и любящим… но и потому, что, как никто другой, он вошел в нашу жизнь и врос в нее всеми своими корнями.
Старое поколение, с которым… мы когда-то вступили на путь революции… сметено со сцены. То, что не сделали царская ссылка, тюрьмы и каторга, жизненные лишения в изгнании, гражданская война и болезни, Сталин, эта страшнейшая кара революции, совершил за эти последние несколько лет… Сейчас подвергается уничтожению лучшая часть среднего поколения, те… кого разбудил 1917 год и кто получил свою подготовку в двадцати четырех армиях на революционном фронте. Также растаптывают лучшую часть молодого поколения, современников Лёвы… За эти годы изгнания мы подружились со многими новыми друзьями, некоторые из них стали… близкими, как члены нашей семьи. Но мы впервые встретили их всех… когда сами уже приближались к старости. Лёва один знал нас, когда мы были молоды; он участвовал в нашей жизни с момента, как обрел способность самоанализа. Оставаясь молодым, он стал почти как наш современник».
Незатейливо и с нежностью он вспоминал короткую жизнь Лёвы, описывая его ребенком, как он дрался с тюремщиками своего отца, принося в тюрьму посылки с продуктами и книгами, как подружился с революционными матросами и как прятался под скамейкой в зале заседаний советского правительства, чтобы увидеть, «как Ленин руководит революцией». Он описывал юношу, который во время «великих и голодных лет» Гражданской войны приносил домой в рукавах своей изорванной куртки свежую булку, которую ему дали подмастерья в булочной, среди которых он работал политическим агитатором; и который, презирая бюрократические привилегии, отказался ездить со своим отцом на автомобиле и переехал из родительского дома в Кремле в пролетарское студенческое общежитие и, вступив в добровольные рабочие команды, убирал снег на улицах Москвы, разгружал хлеб и лес на станции, ремонтировал локомотивы и «ликвидировал» неграмотность. Он вспоминал этого молодого человека, оппозиционера, который «без малейших колебаний» оставил свою жену и ребенка, чтобы отправиться со своими родителями в изгнание; который в Алма-Ате, где они жили в окружении агентов ГПУ, обеспечивал связь отца с внешним миром и уходил, иногда в глухую ночь, в дождь или снежный буран, чтобы тайно встретиться с товарищами в лесу за городом, на переполненном базаре, в библиотеке или даже в общественной бане. «Каждый раз он возвращался оживленный и радостный, с воинственным блеском в глазах и с драгоценным трофеем под пальто». «Как хорошо он понимал людей — он знал много больше оппозиционеров, чем я сам… его революционный инстинкт позволял без колебаний отличить настоящее от фальшивого… Глаза его матери — а она знала сына лучше, чем я, — светились гордостью».
Здесь нашли выход чувства отцовского раскаяния. Он упоминает свои суровые требования к Лёве и сконфуженно объясняет их своими «педантичными привычками в работе» и склонностью требовать наивозможного от тех, кто к нему ближе всего, — а кто был ближе, чем Лёва? Может показаться, что «наши отношения были отмечены некоторой строгостью и отчуждением. Но внизу, под этим… жила глубокая, жгучая взаимная привязанность, порожденная чем-то неизмеримо более великим, чем родство крови, — общностью взглядов, совместных симпатий и антипатий, появляющаяся из радостей и страданий, испытанных вместе, и из великих надежд, которые мы оба питали». Некоторые считали Лёву всего лишь «маленьким сыном великого отца». Но эти люди ошибались, как и те, кто долгое время думали так о Карле Либкнехте; только обстоятельства не позволили Лёве подняться в полный рост. Далее следует, возможно, чересчур щедрая признательность за участие Лёвы в литературной работе отца: «По справедливости почти на всех книгах, написанных с 1929 г., рядом с моим именем должно стоять и его». С каким облегчением и радостью его родители, будучи интернированы в Норвегии, получили копию «Livre Rouge», написанной Лёвой, — этого первого сокрушительного ответа клеветникам в Кремле. Как правы были люди ГПУ, говорившие, что «без этого юноши у Старика дела шли бы намного труднее», — и насколько труднее это станет сейчас!
Он опять пересказал мучения, которые этому «очень чувствительному и деликатному существу» пришлось перенести под бесконечным потоком лжи и клеветнических измышлений; длинные серии дезертирств и капитуляций бывших друзей и товарищей; самоубийство Зины и, наконец, эти судебные процессы, которые «глубоко потрясли его духовный организм». Какова бы ни была правда о прямой причине смерти Лёвы, умер ли он от истощения от этих мучений, либо ГПУ отравило его, в любом случае «это они [и их хозяин] виновны в его смерти».
Эта великая похоронная песнь завершается на той же ноте, что и начиналась:
«Мать его, которая была к нему ближе, чем кто-либо в мире, и я, переживая эти ужасные часы, мы вспоминаем его образ черточка за черточкой; мы отказываемся верить, что его больше нет, и мы плачем, потому что невозможно не верить… Он был частью нас, нашей юной частью… Вместе с нашим мальчиком умерло все, что еще оставалось в нас молодо… Мы с твоей матерью никогда не думали, никогда не ожидали, что судьба возложит на нас эту задачу… что нам придется писать твой некролог… Но мы не сумели уберечь тебя».
К этому времени почти наверняка погиб и Сергей, хотя об этом не было никакой официальной информации — и она так и не появилась даже двадцать пять лет спустя. Но у нас, однако, есть следующий рассказ одного политического заключенного, который в начале 1937 года делил с ним камеру в московской Бутырской тюрьме:[115]
«В течение нескольких месяцев 1936 г. ГПУ принуждало Сергея публично осудить своего отца и все, за что тот выступал. Сергей отказался, был приговорен к пяти годам работ в концентрационном лагере и депортирован в Воркуту. Там в конце года собирали троцкистов из многих других лагерей. И вот там, за колючей проволокой Сергей впервые близко познакомился с ними; и хотя он даже сейчас отказывался считать себя троцкистом, но с глубокой благодарностью и уважением высказывался о приверженцах отца, особенно о тех, кто держался без какой-либо капитуляции уже почти десять лет. Он принял участие в голодовке, которую они объявили и которая длилась более трех месяцев; он был почти при смерти».
В начале 1937 года его привезли назад в Москву для какого-то нового допроса (и вот тогда заключенный, от которого мы получили эти сведения, встретился с ним). Он не надеялся на освобождение или какие-то послабления, потому что был убежден, что все сторонники его отца — и он вместе с ними — будут ликвидированы. И все равно он вел себя со стоическим самообладанием, черпая силы из интеллектуальных и духовных резервов. «Обсуждая методы допроса, используемые ГПУ, он выражал мнение, что любой образованный человек… должен быть им равен; он отмечал, что за столетие до этого Бальзак очень точно описывал все эти трюки и методы и что они все еще почти те же самые… Он смотрел в лицо будущему с полным спокойствием и ни при каких обстоятельствах не сделал бы никакого заявления, которое имело бы малейшие последствия для него самого или кого-то еще». Очевидно, он держался до конца, ибо в противном случае — если бы ГПУ удалось вырвать из него какое-то признание — оно бы раструбило об этом на весь мир. Он догадывался, что родители должны опасаться, что у него, их «аполитичного» сына, могут отсутствовать убеждения и мужество, необходимые для того, чтобы вынести свою участь; и «он больше всего сожалел, что никто никогда не сможет передать им, особенно матери, о переменах, которые произошли в нем, ибо он не верил, что кто-нибудь из тех, кого он встречал с момента своего заключения, выживет и перескажет им эту историю». Автор этого рассказа скоро потерял Сергея из виду, но слышал о его казни от других заключенных. Много позже, в 1939 году, в сомнительном послании, дошедшем до Троцкого через одного американского журналиста, утверждалось, что Сергей был все еще жив в конце 1938 года; но после этого о нем больше ничего не было слышно.
Из отпрысков Троцкого только Сева, сын Зины, которому теперь было двенадцать лет, оставался живым за пределами СССР. Ничего не было известно, да и сейчас неведомо, что произошло с другими внуками Троцкого. Севу воспитывали Лёва и Жанна, которая, будучи сама бездетной, стала для него матерью и была страстно и всепоглощающе привязана к нему. В своем первом письме после смерти Лёвы Троцкий пригласил ее приехать с ребенком в Мексику. «Я очень люблю вас, Жанна, — писал он, — а для Натальи вы не только… дочь, любимая нежно и сдержанно, как может любить лишь Наталья, но также и часть Лёвы, того, что осталось от его самой сокровенной жизни». Они оба ничего не желали больше, чтоб только она и Сева жили с ними в Мексике. Но если у Жанны нет такого желания, она могла бы, по крайней мере, хоть навестить их; «и, если вы думаете, что сейчас для вас будет слишком тяжело оторваться от Севы, мы поймем ваши чувства».
Здесь, однако, печальная история затеняется гротеском и оказывается причастной к склокам между троцкистскими сектами в Париже. Лёва и Жанна принадлежали двум различным группам: он — к «ортодоксальным троцкистам», а она — к группировке Молинье. Надо отдать должное его достоинству и такту, что в письме, которое он оставил вместо завещания, он заявил, что, несмотря на это разногласие (и несмотря на, можно добавить, их несчастливую супружескую жизнь), он ее очень уважал и имел к ней неограниченное доверие. И все же ярое соперничество двух противоборствующих сект не пощадило даже мертвого тела Лёвы; оно пало и на маленького сироту, а также втянуло самого Троцкого в эту абсурдную ситуацию. Жанна, безуспешно настаивавшая на проведении нового расследования, разрешила адвокату, являвшемуся членом группировки Молинье, представлять семейные интересы перед французскими следователями и полицией. «Ортодоксальные троцкисты» (и Жерар Розенталь, который был адвокатом Троцкого) отказали Жанне в праве сделать это и утверждали, что родители Лёвы одни имеют право говорить за семью. Противоречащие друг другу претензии с тем большей легкостью позволяли полиции и следствию игнорировать требования нового расследования.
Еще одна ссора вспыхнула по поводу архивов Троцкого. Со времени смерти Лёвы они находились в распоряжении Жанны и, следовательно, косвенно в руках группы Молинье. Троцкий просил вернуть ему архивы через одного из своих «ортодоксальных» сторонников. Жанна отказалась передавать их. Отношения между ней и родителями Лёвы начали резко охладевать и даже становиться враждебными. В конечном итоге Троцкий вернул себе архивы, но лишь после того, как послал своего американского приверженца в Париж, чтобы забрать их. Несмотря на неоднократные призывы, Жанна отказывалась ехать в Мексику или отправлять туда ребенка. Она была неврастеничкой; разум ее уже был весьма расстроен, и она не соглашалась расставаться со своим подопечным даже на время. Соперничающие группировки тоже затеяли свару; и, хотя Троцкий усердно старался успокоить невестку, они сделали невозможным всякое соглашение. То ли потому, что после потери всех своих детей Троцкий более чем жаждал вернуть к себе внука, единственного, кого мог вернуть, то ли потому, что он боялся оставлять сироту, как он выражался, на попечение «un ésprit trés ombrageux et malheureusement déséqui-libré»,[116] то ли по обеим причинам вместе, но он решил обратиться к закону. И последовала некрасивая судебная тяжба, которая длилась год, обеспечивая прибыль любящим сенсации газетам и сектантским листкам. В отчаянии оттого, что теряет ребенка, Жанна старалась лишить законной силы притязания Троцкого, утверждая, что тот никогда не узаконивал ни свой первый, ни второй браки; и Троцкому пришлось доказывать, что это ложь. Даже при этой провокации он выражал (в письме в суд) свое понимание эмоциональных затруднений Жанны; признавал ее моральное, хотя и не законное право на ребенка; и повторил ей свое приглашение, предлагая оплатить стоимость поездки в Мексику. Он даже заявил, что готов обсудить вопрос возвращения Севы к ней, но после того, как сам получит шанс увидеться с ним. Суд дважды отказывал ей в иске в пользу Троцкого и назначал доверенных лиц, чтобы обеспечить возвращение ребенка к дедушке; но Жанна отказалась подчиниться, увезла мальчика из Парижа и спрятала его. Только после длительных поисков и «зимней экспедиции» в Вогезы Маргарита Ромер отыскала следы ребенка и силой вырвала его из рук тетушки. Но и это еще был не конец, потому что друзья Жанны сделали попытку выкрасть ребенка; и только в конце октября 1939 года Ромеры, наконец, привезли его в Койоакан.
В трогательном письме Троцкий пытался объяснить Севе, почему настаивал на его приезде в Мексику. Поскольку он старался избегать уничижительных ремарок в адрес Жанны, он не мог выдать ребенку свою главную причину, и поэтому объяснение получилось неуклюжим и неубедительным:
«Mon petit Seva…[117] дяди Леона больше нет, и мы должны поддерживать прямую связь друг с другом, мой дорогой мальчик. Не знаю, где твой папа и жив ли он еще. В своем последнем письме, написанном более четырех лет назад, он настойчиво спрашивал, не забыл ли ты русский язык. Хотя твой отец очень умный и образованный человек, он не говорит на иностранных языках. Для него было бы ужасным ударом однажды узнать, что он не может общаться с тобой. То же самое происходит и с твоей сестрой. Можешь себе представить, что за воссоединение семьи будет, если ты не сможешь говорить со своей маленькой сестрой на своем родном языке… Ты сейчас уже большой мальчик, и поэтому я хочу поговорить с тобой о чем-то еще, имеющем огромную важность, об идеях, которые были и есть общими для твоих матери и отца, для твоего дяди Леона и для меня с Натальей. Я очень хочу разъяснить тебе лично огромную цену этих идей и целей, во имя которых наша семья… столько перенесла и так страдает сейчас. Я несу ответственность за тебя, мой внук, перед самим собой, перед твоим отцом, если он еще жив, и перед тобой самим».
И он завершает словами, которые до странного суровы и неуместны в письме к ребенку: «Вот почему мое решение о твоей поездке окончательно и бесповоротно».
А тем временем ГПУ продолжало плести свои интриги. Этьен без труда занял место Лёвы в троцкистской организации в Париже: теперь он издавал «Бюллетень», был самым важным корреспондентом Троцкого в Европе и поддерживал связь с новыми беженцами от сталинского террора, искавшими контакты с Троцким. «Русская секция» этой организации имела всего лишь трех-четырех членов в Париже, из которых никто не был так сведущ в советских делах, как Этьен. Троцкий знал, что Лёва считал его своим самым близким и надежным другом; и теперь агент-провокатор делал все для того, чтобы утвердиться в этом мнении. Играя на родительском горе и эмоциональности Троцкого, он старался разжечь недоверие Троцкого к людям, которые стояли на его, Этьена, пути. Примерно через неделю после смерти Лёвы он написал Троцкому со всем подобающим возмущением, что Сневлиет распространяет «клеветнические слухи» о том, что Лёва виноват в смерти Рейса; и как бы случайно напомнил Троцкому о том, что Лёва полностью доверял ему, Этьену, все время имевшему при себе ключи к почтовому ящику Левы и забиравшему всю его почту. Троцкий, у которого были свои политические расхождения во взглядах со Сневлиетом, ответил гневной вспышкой в адрес этого «клеветника». Агент-провокатор конечно же был образцом ортодоксального троцкиста, никогда не возражавшего Старику, но при этом никогда не выглядевшего презренным подхалимом. Стремясь предоставить избыточное, но не чересчур показное доказательство преданности, он с трогательной заботой интересовался здоровьем Старика и делами, правда адресуя такие вопросы не самому Троцкому, а одному из его секретарей. С Троцким напрямую он обсуждал политические проблемы и содержание «Бюллетеня», который сейчас выходил в свет более регулярно, чем долгое время перед этим. Он попросил Троцкого написать памятную статью о Рейсе, которую, как он говорил, очень желал опубликовать в годовщину смерти Рейса. Он заботился о том, чтобы газета также отдала достойную дань Лёве в его первую годовщину. Он известил Троцкого о том, что «Бюллетень» выйдет со статьей, озаглавленной «Жизнь Троцкого в опасности», разоблачающей деятельность агентов ГПУ в Мексике. Он снабжал Троцкого данными и цифрами, извлеченными из подшивок старых русских газет и из других, не так легко доступных публикаций, данными, в которых Троцкий нуждался для своего «Сталина». Одним словом, он сделался необходимым, почти таким же нужным, каким был Лёва. И все это время он ненавязчиво подливал масла в огонь вражды между фракциями и ссоры между Троцким и Жанной до тех пор, пока Троцкий не отказался поддерживать прошение Жанны о новом официальном расследовании обстоятельств смерти Лёвы. Сам Этьен делал что мог для создания помех этому расследованию: появившись во французской полиции в качестве «ближайшего друга Леона Седова», он отверг всякие подозрения в умышленном убийстве, заявив, что смерть Лёвы была вызвана слабой сопротивляемостью его организма.
Агент-провокатор также оказался в центре приготовлений, которые троцкисты вели к «учредительному съезду» 4-го Интернационала. 13 июля 1938 года, в самый разгар подготовки, из своего дома загадочным образом исчез Рудольф Клемент, бывший в свое время секретарем Троцкого в Барбизоне и секретарем предполагаемого Интернационала. Примерно полмесяца спустя Троцкий получил письмо, якобы написанное Клементом, но отправленное из Нью-Йорка, в котором осуждался сговор Троцкого с Гитлером, сотрудничество с гестапо и т. п. Повторив обычные сталинские обвинения, писавший объявил о своем разрыве с Троцким. (Несколько французских троцкистов получили копии этого письма, опущенного на почте в Перпиньяне.) В этом письме было столько нелепостей и промахов, которые Клемент совершить не мог, что Троцкий сразу же пришел к выводу о том, что это явная фальшивка или что Клемент писал это под принуждением, под прицелом пистолета агента ГПУ. «Пусть Клемент, если он еще жив, выйдет и заявит перед судом, полицией или любой беспристрастной комиссией все, что знает. Можно заранее предсказать, что ГПУ ни в коем случае не выпустит его из своих рук». Вскоре после этого воды Сены вынесли на берег ужасно изуродованное тело Клемента. Вероятно, его убила та же банда, которая расправилась и с Рейсом, а один из убийц прикинулся, присвоив себе имя Клемента, «разочаровавшимся сторонником», порывающим с Троцким, — два года спустя убийца Троцкого примет ту же позу, то же обличье.
Почему ГПУ избрало Клемента? Этот человек не выделялся среди троцкистов какими-то особыми качествами; это был всего лишь скромный и бескорыстный работник, внимательно следивший за тем, что происходило в организации. Именно он, как думается, призывал Троцкого и Наталью уговорить Лёву уехать из Франции. Может быть, он незадолго до этого стал обладателем какого-то важного секрета ГПУ? Может быть, он напал на след агента-провокатора и, возможно, вот-вот был готов разоблачить его? Это, как предполагал Троцкий, правдоподобно объясняло бы, почему ГПУ внезапно на него набросилось и почему его убили таким жестоким образом.
К этому времени подозрения Сневлиета в отношении Этьена превратились в уверенность; и он и Серж заговорили об этом в открытую. Агент-провокатор в своей наглости дошел до того, что стал спрашивать у Троцкого, что ему в этом случае делать. Троцкий ответил, чтобы он тут же потребовал от своих обвинителей выложить их аргументы перед компетентной комиссией: «Товарищ Этьен должен сделать этот шаг; и чем скорее, чем решительней и тверже он это сделает, тем лучше». Троцкий не мог дать иного совета: в таких случаях для человека, оказавшегося под подозрением, было обычным и обязательным делом требовать расследования и получения шанса, чтобы избавить свою честь от пятна. Но сам Троцкий этому обвинению не верил.
В дополнение ко всем странностям через месяц еще одно предупреждение дошло до Троцкого. Оно пришло от одного из ведущих офицеров ГПУ, ныне беженца в Соединенных Штатах. Автор этого предупреждения, однако, так боялся ГПУ, что отказался сообщить свое имя, и утверждал, что он — старый американский еврей русского происхождения, передающий это послание от одного своего родственника, офицера ГПУ, бежавшего в Японию. Этот корреспондент умолял Троцкого остерегаться некоего опасного осведомителя в Париже, которого именовали Марк. Он не знал фамилии этого Марка, но дал такое детальное и точное описание личности Этьена, его прошлого и связей с Лёвой, что Троцкий мог не сомневаться, о ком тот ведет речь. Автор поражался доверчивости и беспечности троцкистов в Париже, чье подозрение не вызвал даже тот факт (который, как он уверял, хорошо известен), что Марк работал в печально известном Обществе за репатриацию русских эмигрантов; и он заверял Троцкого, что если бы они стали следить за этим осведомителем, то обнаружили бы, что он все еще тайно встречается с чиновниками из советского посольства. Был ли Марк виновен в гибели Лёвы, корреспондент не знал, но боялся, что «сейчас на повестке дня» убийство Троцкого, которое должно быть осуществлено либо самим Марком, либо каким-то испанцем, выдававшим себя за троцкиста. Это было весомое предупреждение. «Главное, Лев Давидович, — призывал автор послания, — будьте настороже. Не доверяйте ни мужчине, ни женщине, которых может послать или порекомендовать вам этот агент-провокатор».
Нельзя сказать, что Троцкий полностью проигнорировал это предупреждение. Через заметку в одной троцкистской газете он попросил корреспондента войти в контакт с его сторонниками в Нью-Йорке. Автор, боясь раскрыть свою личность этим людям, попытался переговорить с Троцким по телефону из Нью-Йорка, но не смог с ним связаться. Очевидное отсутствие реакции со стороны корреспондента и странная форма этого предостережения заставили Троцкого усомниться в его правдивости. Тем не менее, в Койоакане была создана небольшая комиссия для расследования этого дела; но она не нашла ничего существенного в обвинениях против Этьена. Троцкий ломал голову, а не было ли это открытое обвинение мистификацией ГПУ, нацеленной на то, чтобы дискредитировать человека, который казался самым эффективным и преданным из его помощников, который говорил и писал по-русски, был полностью посвящен в советские дела и редактировал «Бюллетень». Во всяком случае, уж слишком много обвинений ходило в этом маленьком троцкистском кружке в Париже; и если все их воспринимать всерьез, то не было бы конца погоне за агентами-провокаторами. Он слишком хорошо знал, что проклятые осведомители есть в каждой организации; но также знал, что постоянное подозрение и охота на ведьм могут быть еще хуже. Он решил не обращать внимания на любое обвинение до тех пор, пока оно не будет недвусмысленно предъявлено и обосновано. Он предпочитал скорее подвергаться риску и опасности, чем заражать и деморализовать своих приверженцев недоверием и паникой. И поэтому агент-провокатор продолжал действовать в Париже как его доверенное лицо вплоть до начала войны.[118]
Через две недели после кончины Лёвы в Москве на скамье подсудимых появились Бухарин, Рыков, Раковский, Крестинский и Ягода. Могло показаться, что на предыдущих процессах веющее смертью воображение режиссера-постановщика достигло предела. Но нет, в сравнении с этой новой фантасмагорией те процессы выглядели почти как этюды, проба пера в современном реализме. Вновь прокурор и подсудимые осудили Троцкого как главаря заговора, который на этот раз включал в себя бухаринцев, являвшихся его смертельными врагами. Лёва как сообщник отца вырос до более угрожающих размеров, чем в прошлых обвинениях. После слабой попытки опровергнуть обвинения Крестинский признался, что неоднократно тайно сговаривался с Троцким лично и Лёвой в Берлине и различных курортных местах Европы; что свел Лёву с главой рейхсвера генералом фон Сектом и тот выплатил два миллиона марок золотом, т. е. почти два миллиона долларов и различные другие суммы на финансирование этого заговора. Сейчас Троцкий и подсудимые изображались как агенты не только Гитлера и микадо, но также и британской военной разведки и даже польского Второго бюро. К знакомым историям о покушениях на жизнь Сталина, Ворошилова и Кагановича, о железнодорожных катастрофах, взрывах на каменноугольных шахтах и массовых отравлениях рабочих добавились рассказы об убийстве Горького, Менжинского, Куйбышева и даже Свердлова, умершего в 1919 году, — все это было на совести Троцкого. С каждым признанием заговор не только рос в размерах и раздувался за всякие мыслимые пределы; он еще и растягивался во времени, уходя к самым первым неделям советского режима и даже к еще более ранним периодам. Камков и Карелин, когда-то бывшие лидерами левых социал-революционеров, появились в зале суда, чтобы свидетельствовать, что в 1918 году, устраивая свое антибольшевистское восстание, они действовали в тайном сговоре с Бухариным, который всеми силами стремился убить Ленина. Ягода, десять лет возглавлявший преследования троцкистов, отправлявший их в ссылки в массовом порядке, внедривший пытки в тюрьмах и концлагерях и готовивший процесс над Зиновьевым и Каменевым, теперь утверждал, что все это время был просто орудием в руках Троцкого. На скамье подсудимых вместе с бывшими членами Политбюро или ЦК, министрами и послами оказалась и группа известных докторов. Один из них, семидесятилетний доктор Левин, был личным врачом Ленина и Сталина со времен революции; теперь он обвинялся в том, что по приказу Ягоды отравил Горького и Куйбышева. В течение многих часов в ходе нескольких заседаний эти доктора повествовали, как занимались своей профессией отравителей за стенами Кремля, описывая до деталей садистские методы, которые они якобы использовали.
Троцкий сравнивал этот процесс с делом Распутина, потому что этот суд, писал он, попахивает «тем же гниением и разложением абсолютизма». Вероятно, ничто не демонстрирует так наглядно, как это сравнение, что дух замирал при виде этого спектакля. Дело Распутина, конечно, было ничтожным и почти безвредным инцидентом в сравнении с любым из этих процессов; и вряд ли можно утверждать, что сами эти процессы ускорили крушение Сталина, хотя им и было суждено покрыть память о нем позором и бесчестьем. И все же Троцкий не нашел более подходящего или аналогичного прецедента, потому что не существовало такого. Сталин в некотором смысле превзошел весь исторический опыт и воображение: он создал новую шкалу террора и придал ей новое измерение. Когда шли эти процессы, всякая разумная реакция на них становилась все более и более беспомощной. Троцкий продолжал разоблачать нелепости судебного дела, методически уточняя свое алиби и доказывая, что ни он, ни Лёва не могли сговариваться ни с одним из подсудимых, не говоря уже о генерале фон Секте, в указанных местах и в указанные даты.
«В этой преступной деятельности [комментирует он] премьер-министры, министры, генералы, маршалы и послы предстают как неизменно получавшие приказы из одного-единственного места — причем не от своего официального начальника, а от ссыльного. Стоит Троцкому раз моргнуть, и ветераны революции становятся агентами Гитлера и микадо. По „инструкциям“ Троцкого, переданным через первого и лучшего корреспондента ТАСС, командиры индустрии, сельского хозяйства и транспорта уничтожают производственные ресурсы страны и разрушают ее цивилизацию. По приказу „врага народа“, посланному из Норвегии или Мексики, железнодорожники пускают под откос воинские составы на Дальнем Востоке, а высокоуважаемые доктора травят своих пациентов в Кремле. Это просто поразительная картина… нарисованная Вышинским… Но тут возникают трудности. При тоталитарном режиме диктатуру осуществляет аппарат [т. е. партийная и государственная машина]. Если я — мелкая сошка — занимаю все решающие посты в аппарате, то почему тогда Сталин сидит в Кремле, а я нахожусь в изгнании?»
Он касается международной обстановки и последствий этих судебных процессов: войска Гитлера только что триумфальным маршем вошли в Австрию и готовились к дальнейшим завоеваниям.
«Сталин все еще хихикает за кулисами? Неужели у него перехватило дыхание от этого непредвиденного поворота событий? Воистину он отделен от мира стеной невежества и раболепия. Действительно, он привык думать, что мировое мнение — ничто, а ГПУ — все. Но угрожающие и множащиеся симптомы должны быть видны даже ему. Трудящиеся массы мира охвачены острой тревогой… Фашизм одерживает одну победу за другой и находит главную помощь… в сталинизме. Ужасные военные угрозы стучатся во все двери Советского Союза. А Сталин выбрал этот момент, чтобы разгромить армию и растоптать народ… Даже этому тифлисскому жулику… должно быть трудно хихикать. Растет огромная ненависть к нему; жуткое негодование нависает над его головой…
Однако возможно, что режим, который уничтожает… лучшие умы нации, может в конечном итоге вызвать по-настоящему террористическую оппозицию. Более того: это будет вопреки всем законам истории, если [этого не произойдет]… Но этот терроризм отчаяния и мести чужд сторонникам Четвертого Интернационала… Личная месть… для нас слишком мелка. Какое, на самом деле, политическое и моральное удовлетворение может извлечь рабочий класс из убийства Каина-Джугашвили, которого без труда заменит какой-нибудь другой бюрократический „гений“? Если и представляет для нас интерес личная судьба Сталина вообще, так только в том, что мы хотели бы, чтобы он дожил до краха своей собственной системы, а он не очень далек».
Он предсказывал «еще один процесс, настоящий», на котором рабочие вынесут приговор Сталину и его сообщникам. «Тогда в человеческом языке не найдется никаких слов в защиту этого самого зловредного из всех Каинов, которых можно было отыскать в истории… Будут сброшены или перенесены в музеи и установлены в залах тоталитарных ужасов монументы, которые он воздвиг сам себе. А победоносный рабочий класс пересмотрит все эти судебные процессы, как открытые, так и тайные, и на площадях освобожденного Советского Союза воздвигнет памятники несчастным жертвам сталинских злодеяний и подлости».
И вновь это пророчество подтвердилось, но ненадолго. А тем временем репрессии по своим масштабам и силе действовали как огромный природный катаклизм, против которого были бессильны все ответные человеческие действия. Этот террор сокрушал умы, ломал волю и подавлял всякое сопротивление. Невероятная ненависть и возмущение, о которых говорил Троцкий, существовали, но были загнаны вглубь, где им суждено было накапливаться для будущего; в настоящее время и весь остаток сталинской эры они не могли найти выход. Все — а троцкисты в первую очередь, — в ком такие эмоции соединялись с политическим сознанием и кто мог предложить идеи и программы действий, — все такие люди систематически и безжалостно истреблялись.
Более десяти лет Сталин держал троцкистов за решеткой и колючей проволокой и подвергал их нечеловеческим преследованиям, деморализовал многих из них, раскалывал их и почти преуспел в их изоляции от общества. В 1934 году казалось, что троцкизм был практически искоренен. И все же спустя два-три года Сталин его боялся еще больше, чем когда-либо. Как ни парадоксально, великие репрессии и массовые депортации, последовавшие за убийством Кирова, влили в троцкизм свежую струю. Имея вокруг себя десятки и даже сотни тысяч только что сосланных людей, троцкисты уже не были одиноки. К ним присоединилась масса капитулянтов, которые с сожалением размышляли, что дело никогда бы не дошло до сегодняшнего состояния, если б они держались вместе с троцкистами. Оппозиционеры более молодых возрастных групп, комсомольцы, которые первыми встали против Сталина задолго до того, как троцкизм был разгромлен, «уклонисты» самых различных мастей, рядовые рабочие, высланные за мелкие нарушения трудовой дисциплины, и недовольные вместе с ворчунами, которые начали политически мыслить, только оказавшись за колючей проволокой, — все они образовали новую огромную аудиторию для троцкистских ветеранов.[119]
Режим в концентрационных лагерях становится все более жестоким: заключенным приходилось надрываться на тяжелой работе от десяти до двенадцати часов в день; они умирали от голода и среди болезней и неописуемой нищеты. И все-таки опять лагеря стали школами и учебными центрами оппозиции, где троцкисты считались непревзойденными наставниками. Именно они стояли во главе ссыльных почти во всех забастовках и голодовках, вступали в конфликт с администрацией, выдвигая требования улучшить лагерные условия, и своим непокорным, часто героическим поведением воодушевляли других и помогали выстоять. Четко организованные, с высокоразвитым чувством дисциплины и хорошо информированные политически, они были настоящей элитой того огромного сегмента народа, который был брошен за колючую проволоку.
Сталин понимал, что дальнейшими репрессиями ничего не достигнет. Едва ли можно было что-то добавить к мучениям и подавлению, которые лишь еще более окружали троцкистов ореолом мученичества. Пока они были живы, они являлись угрозой для него, а при надвигавшейся войне с ее опасностями эта потенциальная угроза становилась реальной. Мы уже видели, что с момента, как он захватил власть, ему приходилось ее завоевывать вновь и вновь. И вот он решил избавиться от необходимости повторных завоеваний; он вознамерился обезопасить ее раз и навсегда от всех рисков. Этого он мог достигнуть лишь одним путем: поголовным уничтожением своих противников, прежде всего троцкистов. Московские процессы устраивались для того, чтобы оправдать этот план, главная часть которого уже была выполнена, но не на виду в залах суда, а в темницах и в лагерях Востока и Севера.
Один очевидец, бывший заключенный огромного воркутинского лагеря, но не троцкист, так описывает последнюю деятельность троцкистов и их ликвидацию. Только в одном их лагере, говорит он, было около тысячи старых троцкистов, которые называли себя «большевиками-ленинцами». Приблизительно пятьсот из них работало на угольной шахте в Воркуте. Во всех лагерях Печорской области насчитывалось несколько тысяч «ортодоксальных троцкистов», которые «находились в ссылке с 1927 г.» и «оставались верны своим политическим идеям и вождям вплоть до самого конца». Автор, вероятно, в число «ортодоксальных троцкистов» включает и бывших капитулянтов, так как иначе его оценка их количества выглядела бы очень завышенной. «Помимо этих настоящих троцкистов, — продолжает автор, — примерно в то же время в лагерях в Воркуте и в других местах было более ста тысяч заключенных, которые, как члены партии и комсомольцы, вступили в троцкистскую оппозицию и потом, в разное время и по разным причинам… были вынуждены „публично отречься и признать свои ошибки“ и покинуть ряды оппозиции». Многие ссыльные, никогда не бывшие членами партии, также считали себя троцкистами. В число их надо включать оппозиционеров всех оттенков, даже приверженцев Рыкова и Бухарина, и новичков из молодых и самых юных возрастных групп, как отмечает сам наш очевидец.
«Все равно, — замечает он, — собственно троцкисты, сторонники Л. Д. Троцкого, были самой многочисленной группой». Среди их лидеров он упоминает В. В. Косиора, Познанского, Владимира Иванова и других настоящих троцкистов с большим стажем. «Они приехали на шахту летом 1936 г. и были поселены… в два больших барака. Они категорически отказывались работать на шахтах. Они работали только в надшахтных зданиях и не более восьми часов в день, а не десять и не двенадцать, как этого требовали правила и как трудились все остальные заключенные. Они демонстративно и организованно игнорировали лагерные правила. Большинство из них провели в изоляции около десяти лет, поначалу в тюрьмах, потом в лагерях на Соловецких островах и, наконец, в Воркуте. Троцкисты были единственной группой политзаключенных, которые открыто критиковали сталинскую „генеральную линию“ и открыто и организованно сопротивлялись тюремщикам». Они все еще провозглашали, как и Троцкий за границей, что в случае войны будут безусловно защищать Советский Союз, но стремиться к свержению советского правительства; и даже «ультралевые», вроде сторонников Сапронова, хоть и с оговорками, разделяли эту позицию.
Осенью 1936 года, после суда над Зиновьевым и Каменевым, троцкисты организовали лагерные митинги и демонстрации в честь своих казненных товарищей и руководителей. Вскоре после этого, 27 октября, они начали голодовку — в этой голодовке, как утверждается в приводившемся выше рассказе, принимал участие и Сергей, младший сын Троцкого. Объединились троцкисты всех печорских лагерей, и голодовка длилась 132 дня. Голодавшие заключенные протестовали против перевода из прежних мест ссылки и осуждения без суда. Они требовали введения восьмичасового рабочего дня, одинаковой пищи для всех заключенных (независимо от выполнения или невыполнения производственных заданий), разделения политических и уголовных заключенных и перевода инвалидов, женщин и стариков из районов Заполярья в места с более мягким климатом. Решение о голодовке было принято на открытом митинге. От участия в ней освобождались больные и пожилые заключенные; «но последние категорически отказались от этого освобождения». Почти в каждом бараке нетроцкисты ответили на призыв, но только «в бараках троцкистов голодовка была полной».
Администрация, опасаясь, что эта акция может распространиться, перевела троцкистов в какие-то полуразрушенные хибары в двадцати пяти милях от лагеря. Из 1000 участников голодовки несколько человек умерло и только двое сами прекратили голодовку; но эти двое не были троцкистами. В марте 1937 года по приказу из Москвы лагерная администрация уступила по всем пунктам, и забастовка закончилась. В последующие несколько месяцев, перед тем как ежовский террор достиг апогея, троцкисты пользовались завоеванными правами; и это настолько подняло дух всех других ссыльных, что многие из них стали с нетерпением ожидать двадцатой годовщины Октябрьской революции, надеясь, что будет объявлена частичная амнистия. Но к этому времени вернулся террор с новой жестокостью. Рацион питания был сокращен до 400 граммов хлеба в день. ГПУ вооружало уголовников дубинками и подстрекало их к нападениям на оппозиционеров. Стала раздаваться беспорядочная стрельба, и все политзаключенные были изолированы в лагере внутри лагеря, окруженном колючей проволокой и охраняемом день и ночь сотней вооруженных до зубов солдат.
Однажды утром где-то в конце марта вызвали двадцать пять человек, в основном ведущих троцкистов, выдали каждому по килограмму хлеба, приказали взять личные вещи и готовиться к переходу. «После теплого прощания с товарищами они покинули хибары; их пересчитали, и они ушли. Примерно через пятнадцать-двадцать минут в полукилометре от бараков вдруг раздался залп, в стороне крутого берега небольшой реки, называвшейся Верхняя Воркута. Потом послышалось еще несколько беспорядочных выстрелов, и наступила тишина. Вскоре вернулись солдаты сопровождения и прошли мимо бараков, все поняли, что это был за переход, в который отправили эти двадцать пять человек».
На следующий день таким же образом было вызвано не менее сорока человек, им выдали их рацион хлеба и приказали подготовиться. «Некоторые были так изнурены, что не могли идти; было обещано, что их посадят на телеги. Затаив дыхание люди в бараках прислушивались к потрескиванию снега под ногами уходящих. Уже замерли все звуки, но все равно все были в напряжении. Примерно через час над тундрой прогремели выстрелы». Толпа в бараках уже понимала, что ожидает и ее, но после долгой прошлогодней голодовки и многих месяцев замерзания и голода у них уже не осталось сил для сопротивления. «Весь апрель и часть мая продолжались казни в тундре. Ежедневно или через день вызывали тридцать-сорок человек». Через громкоговорители передавались официальные сообщения: «За контрреволюционную агитацию, саботаж, бандитизм, отказ от работы и попытки бегства были расстреляны следующие». «Однажды забрали большую группу примерно в сто человек, в большинстве — троцкистов… Уходя, они пели „Интернационал“, и в этом пении к ним присоединились сотни голосов в бараках». Очевидец описывает казни семей оппозиционеров — жена одного троцкиста к месту расстрела шла на костылях. Детей оставляли в живых, только если им было менее двенадцати лет. Резня шла во всех лагерях Печорской области и длилась до мая. В Воркуте «в живых осталось чуть более ста человек в бараках. Примерно две недели прошло спокойно. Потом уцелевших отправили назад в шахту, где им объявили, что Ежов смещен со своего поста и что руководителем ГПУ стал Берия».
К этому времени кое-кто из настоящих троцкистов оставался в живых. Когда примерно через два года в лагеря прибыли сотни тысяч новых ссыльных поляков, латышей, литовцев и эстонцев, среди старых заключенных они обнаружили много дискредитированных сталинистов и даже нескольких бухаринцев, но уже ни одного троцкиста или зиновьевца. Какой-то старый ссыльный рассказал свою историю шепотом и намеками, потому что не было ничего опаснее для несчастного ссыльного, чем навлечь на себя подозрение в симпатиях или жалости к троцкистам.
Террор ежовского периода был равносилен политическому геноциду: он уничтожал целые виды большевиков-антисталинистов. В последние пятнадцать лет сталинского правления в советском обществе не осталось ни одной группы, даже в тюрьмах и лагерях, способной бросить ему вызов. Не было позволено выжить ни одному центру независимой политической мысли. В народном сознании разверзлась громадная пропасть; его коллективная память была разрушена; была разорвана непрерывность его революционных традиций, а его способность создавать и кристаллизовать неконформистские понятия была уничтожена. Советский Союз фактически остался без какой-либо альтернативы сталинизму не только в практической политике, но даже и в скрытых духовных процессах. (Аморфность общественного мышления была такова, что даже после смерти Сталина снизу, из глубин советского общества не смогло прорасти ни одного антисталинского движения. И реформа наиболее анахронических особенностей сталинского режима могла быть произведена только сверху, бывшими пешками и сообщниками Сталина.)
В то время как судебные процессы в Москве привлекали благоговейное внимание всего мира, великое побоище в концентрационных лагерях проходило почти незамеченным. Оно велось в такой глубокой тайне, что понадобились годы, чтобы обнаружилась истина. Троцкий лучше чем кто-либо другой знал, что через судебные процессы проявляется лишь малая часть террора; он только догадывался, что происходило в глубине. И все же даже он не мог догадываться и отчетливо представить себе всю истину; и, если бы он это сделал, его разум вряд ли смог постигнуть всю ее громадность и все последствия за то короткое время, что у него оставалось. Он все еще допускал, что вперед неизбежно выступят антисталинские силы, четко выражающие свои мысли и эффективные; и в особенности что они смогут свергнуть Сталина в ходе войны и довести войну до победного и революционного конца. Он все еще рассчитывал на регенерацию старого большевизма, чьему широкому и глубокому влиянию сталинские бесконечные репрессии казались невольной данью уважения. Он не ведал о том, что все антисталинские силы уже были сметены с лица земли, что троцкизм, идеология Зиновьева и Бухарина, потонувшие в крови, исчезли, как какая-то Атлантида, со всех политических горизонтов; и что сам он ныне — единственный уцелевший из этой Атлантиды.
Все лето 1938 года Троцкий был занят подготовкой «Проекта Программы» и резолюций для учредительного съезда Интернационала. Фактически это была небольшая конференция троцкистов, проводившаяся 3 сентября 1938 года дома у Альфреда Ромера в Периньи — деревушке под Парижем. На ней присутствовал двадцать один делегат, претендовавшие на право представлять организации из одиннадцати стран. Эта конференция оказалась в тени недавних покушений и похищений людей. Она избрала своими почетными председателями троих молодых мучеников: Лёву, Клемента и Эрвина Вольфа. Вместе с Клементом, секретарем-организатором этой конференции, исчезли отчеты о работе троцкистов в различных странах, проекты устава 4-го Интернационала и другие документы. Чтобы предупредить новый удар со стороны ГПУ, конференция провела только одно пленарное заседание, которое длилось весь день без перерыва, и отказалась допустить наблюдателей из каталонского ПОУМа и французской Parti Socialiste Ouvrier et Paysan.[120] Чтобы обеспечить «глубочайшую секретность», в коммюнике, опубликованном после конференции, шла речь о «съезде, проведенном в Лозанне». Однако на конференции Этьен «представлял» русскую секцию Интернационала. Также присутствовали два «гостя»: одним из них была некая Сильвия Агелоф, троцкистка из Нью-Йорка, трудившаяся в качестве переводчицы. Она приехала из Штатов несколько заранее и в Париже встретила человека, назвавшегося Жаком Морнаром, и стала его любовницей. Он слонялся снаружи зала заседаний, делая вид, что совсем не интересуется этим суперсекретным собранием и лишь дожидается, когда Сильвия выйдет.
Макс Шахтман был председателем этой конференции, которая во время однодневного заседания проголосовала по отчетам комиссий и по резолюциям, большинство которых вышли из-под пера Троцкого. Официальная повестка дня была так насыщена, что обычному съезду хватило бы занятий на неделю. Навиль зачитал «сообщение о состоянии дел», которое должно было оправдать решение организаторов провозгласить создание 4-го Интернационала. Однако невольно он раскрыл секрет, что этот Интернационал почти фикция: ни одно из так называемых исполнительных и международных бюро не были в состоянии работать в течение прошедших нескольких лет. «Секции» Интернационала состояли из нескольких десятков или, в лучшем случае, нескольких сотен членов каждая — это было применимо даже в отношении американской секции, самой многочисленной из всех, заявившей о 2500 официальных членах. Конференция, однако, осталась неколебимой в решимости назвать себя «учредительным съездом», как советовал Троцкий. Лишь два польских делегата выступили против, заявив, что «польская секция целиком против провозглашения Четвертого Интернационала». Они отмечали, что бесполезно создавать новый Интернационал, когда в рабочем движении в целом наблюдается спад, в этот «период интенсивной реакции и политической депрессии», и что все предшествовавшие Интернационалы в определенной мере своим успехом обязаны тому факту, что были сформированы в периоды революционного подъема. «Создание каждого из предшествовавших Интернационалов представляло определенную угрозу буржуазной власти. Иначе обстоит дело с Четвертым Интернационалом. Никакая значительная часть рабочего класса не ответит на наш манифест. Необходимо подождать». Поляки соглашались с Троцким, что 2-й и 3-й Интернационалы были «духовно мертвы»; но они предостерегали конференцию, что будет легкомысленным недооценивать то влияние, которое имели эти Интернационалы на верность рабочего класса во многих странах; и, хотя поляки одобрили «Проект Программы» Троцкого, они вновь и вновь призывали своих товарищей воздержания от «пустых жестов» и «совершения глупостей».[121]
Это были весомые возражения, и они исходили из единственной троцкистской группы вне СССР, имевшей за своими плечами многие годы тайной революционной работы и твердые традиции марксистского мышления, восходящие к Розе Люксембург. Много времени конференция уделила отповеди полякам, но не было принято никаких серьезных попыток опровергнуть их аргументы. Навиль заявил, что сейчас «уникально подходящий» момент для создания нового Интернационала. «Важно положить конец нынешней неопределенной ситуации и получить четкую программу, точно оформленное международное руководство и четко сформированные национальные секции». Шахтман отверг исторические аргументы поляков как «неуместные и ложные», и изобразил их как «меньшевиков в наших рядах», ибо только меньшевики могли проявить столь скверное понимание важности организации и такое маловерие в будущее Интернационала. При голосовании конференция решила большинством в девятнадцать голосов против трех провозгласить, что отныне существует 4-й Интернационал.
После поспешного и почти единогласного принятия всех остальных резолюций делегаты приступили к выборам Исполнительного комитета. В этом месте Этьен, являвшийся главным докладчиком по «русскому вопросу», выразил протест, что русской секции не выделено место. Конференция исправила этот просчет и назначила Троцкого «тайным» и почетным членом Исполкома. Поскольку Троцкий участвовать в работе Исполкома не мог, агенту-провокатору было суждено продолжать представлять русскую секцию.
Троцкий решил «основать» новый Интернационал в то время, когда, как предупреждали его поляки, этот акт мог не произвести никакого эффекта. Его приверженцы в Советском Союзе («сильнейшая секция Четвертого Интернационала») были уничтожены. Число его последователей в Европе и Азии сокращалось. Почти во всех странах к востоку от Рейна и к югу от Альп рабочее движение было подавлено. При власти Гитлера ни одна марксистская организация не могла вести систематическую подпольную деятельность в Германии, Австрии, а с недавнего времени и в Чехословакии. Во Франции Народный фронт рушился в результате обманутых надежд и апатии. В Испании Гражданская война ползла к концу, при этом левые были разгромлены морально еще до того, как их победили в военном плане. Весь европейский континент был в политической прострации, ожидая, когда вооруженная мощь Гитлера проедется по ней. Для того чтобы заставить рабочий класс некоторых стран возвратиться к активной политической деятельности или войти в Сопротивление, понадобились годы нацистской оккупации и невыносимых репрессий и унижений. Но тут рабочие, по крайней мере во Франции и Италии, обратились к сталинистским партиям, которые были связаны с Советским Союзом, величайшей, а с 1941 года — и самой эффективной силой Сопротивления. Как бы ни менялись обстоятельства, влияние троцкизма было обречено оставаться пренебрежимо малым.
Не лучше были перспективы и в Азии, несмотря на то что Азия была полна революционного фермента. Троцкий уделил много времени и внимания социальному и политическому развитию Китая, Японии, Индии и Индонезии. Во всех этих странах он имел влияние на небольшие группы коммунистов-интеллектуалов и рабочих. Но нигде, за особым исключением Цейлона, его сторонники не были способны сформировать действенную политическую партию. Даже в Китае, где от его оппозиции сталинской политике в 1925–1927 годах можно было ожидать огромного впечатления, 4-й Интернационал не имел секции, достойной этого имени. Работавшие тайно, под прессом ужасающей нищеты и преследуемые как гоминьданом, так и сталинистами, троцкистские группы состояли из двух десятков человек в Шанхае, нескольких десятков — в Гонконге и нескольких кружков, разбросанных по центральным и восточным провинциям. Даже после того как Чен Дусю принял троцкизм, им никогда не удавалось вырваться из этой изоляции. Чен Дусю шесть лет провел в тюрьме. После освобождения его сослали в отдаленную деревню в провинции Чункин и запретили заниматься политикой либо издавать свои труды. Он жил в голоде и страхе, подавленный позором своей ответственности за поражение 1927 года, ему не доверяли даже троцкисты, его чернили маоисты, окружали шпионы, а полиция Чан Кайши угрожала убить, и она его в конце концов в 1943 году снова посадила в тюрьму и убила. В 1938-м и 1939 годах Троцкий отчаянно пытался вывезти его из Китая, надеясь, что он «сможет в Четвертом Интернационале сыграть ту же роль, что Катаяма играл в Третьем, но… с большей пользой для дела революции». Но Чен Дусю уже сломался под напряжением и погрузился в чернейший пессимизм. Тем не менее, время от времени он еще анализировал китайскую сцену с огромной проницательностью и отмечал, где и почему троцкизм терпел неудачи. В написанном через два месяца после провозглашения 4-го Интернационала заявлении он разъяснял, почему, например, революционное движение в Китае должно опираться на крестьянство, а не на городских рабочих (как этого ожидал Троцкий, да и он сам). Японцы демонтировали индустрию в наиболее развитых провинциях Китая; отсюда «китайский рабочий класс значительно сократился численно, обнищал материально и духовно и был низведен до условий, существовавших тридцать — сорок лет назад». Поэтому бессмысленно было считать, что революция найдет свои главные центры в городах. «Если мы сейчас не поймем, каковы будут политические условия в будущем и если мы не признаем четко слабости китайского пролетариата и состояние его партии, мы сами себя запрем в своих маленьких норах, даром упустим шансы и будем утешаться, весьма гордые собой». Троцкисты, продолжал он, своей сектантской заносчивостью, чисто негативным отношением к маоизму и безразличием к нуждам войны с Японией оторвались от политических реалий. Он опасался, что провозглашение 4-го Интернационала просто утвердит их в «тщеславии и в иллюзиях» и что это предприятие закончится банкротством. Сам он теперь склонялся к примирению и с гоминьданом, и с маоизмом, но был не способен либо не желал прийти к соглашению ни с теми ни с другими; и вот таким сломленным человеком прожил свои последние трагические годы. Его предостережения и личная судьба подвели итог затруднениям троцкизма в этой части света.[122]
Единственной страной, где троцкизм еще немного шевелился, были Соединенные Штаты. В январе 1938 года после различных расколов и слияний сформировалась Социалистическая рабочая партия и скоро завоевала титул «сильнейшей секции» 4-го Интернационала. К ее чести, она проявляла боевую активность в профсоюзах и промышленности и регулярно выпускала два периодических издания: «The New International» («Новый Интернационал») и «теоретический ежемесячник» «The Militant» («Боец»). Во главе ее была довольно большая, по американским стандартам, команда из опытных и способных лидеров, из которых более всего были известны Джеймс П. Кеннон, Макс Шахтман и Джеймс Бернхэм. Троцкий всегда был к услугам этой партии, стремясь подсказать, покритиковать, похвалить, подтолкнуть и уладить спор и ссоры. Между Нью-Йорком и Мехико разъезжали эмиссары, и контакт был облегчен тем, что почти все секретари и телохранители в Синем доме были американцами. Теперь скорее Нью-Йорк, чем Париж, был центром троцкизма. Но даже при этом американская партия была слабым ростком, посаженным на почву, из которой он мог извлечь слишком мало питательных средств.
Почему же тогда, несмотря на такие неблагоприятные предзнаменования, Троцкий продолжал выступать за провозглашение 4-го Интернационала?
Прошло уже более пяти лет с тех пор, как он решил, что невозможно «сидеть в одном Интернационале вместе со Сталиным, Мануильским и К°». В эти годы ситуация в 3-м Интернационале настолько ухудшилась, а атмосфера стала столь тлетворной, что он со своими сторонниками был вынужден прекратить с этой организацией всякие связи как можно резче и круче. Ленин в порыве своей антипатии к 2-му Интернационалу однажды призывал большевиков выбросить эту старую «грязную рубаху» социал-демократии и называться коммунистами. Троцкий говорил о «сифилисе сталинизма» или «раке, который надо выжигать в рабочем движении каленым железом», и считал, что дает жизнь организации, которая будет играть решающую роль в грядущей борьбе рабочего класса.
Менее ясно, надеялся ли он на успех в ближайшем будущем или работал «для истории», без какой-либо надежды. Его собственные заявления в этом плане противоречивы. «Все великие движения, — писал он как-то, ссылаясь на малочисленность своего лагеря, — начинались как „отколовшиеся группы“ старых движений. Христианство вначале было отколовшейся фракцией иудаизма. Протестантство — это „осколок“ католицизма, то есть дегенерировавшего христианства. Группировка Маркса и Энгельса родилась как „осколок“ левого гегельянства. Коммунистический Интернационал подготавливался во время последней войны „раскольниками“ из Социал-демократического Интернационала. Инициаторы всех этих движений смогли завоевать себе сторонников в массах лишь потому, что не боялись остаться в изоляции». Такого рода пассаж при всем его историческом оптимизме предполагал, что Троцкий не ожидал какого-либо скорого и решающего успеха. С другой стороны, «Проект Программы», который он написал для этого Интернационала, был не столько провозглашением принципов, сколько инструкцией по тактике, составленной для партии, чтобы она не погрузилась по уши в профсоюзную борьбу и повседневную политику и стремилась как можно быстрее захватить практическое руководство. В послании «учредительному съезду» он писал: «С этого момента Четвертый Интернационал сталкивается с задачей массового движения… Отныне это единственная организация, имеющая не просто ясное представление о том, каковы ныне движущие силы этой… эпохи, но также и полный набор повседневных требований, способных объединить массы для революционной борьбы за власть». И он продолжает: «Диспропорция между нашей мощью сегодня и нашими задачами завтра для нас яснее, чем для наших критиков. Но суровая и трагическая диалектика нашей эпохи работает на нас. Массы, которые [война доведет] до крайнего отчаяния и негодования, не найдут другого руководства, чем то, которое может предложить им Четвертый Интернационал». В обращении к своим американским сторонникам он возвеличивает миссию нового Интернационала до почти мистических размеров и выражается еще более уверенно: «В течение следующих десяти лет программа Четвертого Интернационала завоюет миллионы сторонников, и эти революционные миллионы смогут штурмовать небо и землю». В дни мюнхенского кризиса он опять утверждал, что, хотя и 4-й Интернационал может оказаться слабым в начале новой войны, «каждый новый день будет работать в нашу пользу… В самые первые месяцы войны и в трудящихся массах установится штормовая реакция на приступы шовинизма. Ее первыми жертвами окажутся, вместе с фашизмом, партии Второго и Третьего Интернационалов. Их крушение будет необходимым условием для открытого революционного движения… возглавляемого… Четвертым Интернационалом». Посетившему его в 1937 году Кингсли Мартину он заявлял: «Я говорю вам, что через три — пять лет Четвертый Интернационал станет огромной силой в мире».[123]
Ожидания его основывались на двойственной предпосылке о том, что за грядущей мировой войной будут последствия, аналогичные тем, что произошли после Первой мировой войны, но больше по размаху и силе; и что сталинистские партии, как и социал-демократические, используют все свои силы, чтобы сдержать революционный подъем. Более, чем когда-либо, он видел в передовых индустриальных странах Запада главное поле битвы за социализм; от рабочего класса этих стран должна исходить спасительная революционная инициатива, т. к. лишь она одна способна разорвать порочный круг — социализм в единственной стране и бюрократический абсолютизм, — в котором была заперта русская революция. Для него было почти немыслимо, что западный капитализм, уже почти разрушенный спадами и депрессиями 30-х годов, сможет выжить в этом наступающем катаклизме. Он не сомневался, что Гитлер попытается объединить Европу под германским империализмом и потерпит неудачу. Но Европе было необходимо объединиться, и только пролетарская революция могла ее объединить и положить начало Соединенным Штатам Социалистической Европы. Не только Германия с ее марксистским наследием и Франция с Италией с их революционными традициями, но даже Северная Америка будет втянута в социальное переустройство. В своем предисловии к «Живущим мыслям Карла Маркса», написанным в 1939 году, он отверг новую сделку Рузвельта и все попытки омолодить и реформировать капитализм как «реакционное и беспомощное шарлатанство», он отмечал, как актуален «Das Kapital» для проблем американской экономики, и приветствовал рассвет новой эпохи марксизма в Соединенных Штатах. При марксизме и «Америка в несколько прыжков нагонит и перегонит Европу. Прогрессивная технология и прогрессивное общественное устройство подготовят себе дорогу в сфере доктрины. На американской земле появятся наилучшие теоретики марксизма. Маркс станет наставником передового американского рабочего».
Троцкий не упускал из виду огромный революционный потенциал в развивающихся странах, особенно в Китае, — в 30-х годах он полагался на них больше, чем какой-либо иной автор. Но он мысленно видел эти процессы подчиненными перспективам революции на Западе: «Едва начавшись, социалистическая революция будет распространяться от страны к стране с неизмеримо большей силой, чем сейчас распространяется фашизм. По примеру и с помощью развитых наций отсталые народы также будут вовлечены в основное течение социализма». Доведя до крайности логику классического марксизма, которая постулировала «прогрессивную технологию и прогрессивное общественное устройство» в качестве основы для социалистической революции, он невольно выявил противоречие между теорией и фактами. Если бы развитые социалистические страны играли ту роль, которую им отводил марксизм в теории, то не было бы страны, более отвечающей марксизму и социализму, чем Соединенные Штаты. Троцкий не видел и не мог предвидеть, что через несколько десятилетий отсталые нации сформируют «основное течение социализма»; что «передовой Запад» будет стремиться сдержать их и отбросить назад и что Соединенные Штаты в особенности, вместо развития своей собственной сверхсовременной версии марксизма, станут самым великим и самым мощным бастионом в борьбе против него.
Он ожидал, что рабочий класс Запада восстанет, как это он сделал в 1848, 1871, 1905 и 1917–1918 годах. Применяя традиционную марксистскую концепцию даже к Китаю, он с недоверием воспринимал «крестьянские армии» Мао Цзэдуна, опасаясь, что, как многие подобные армии в истории Китая, они могут превратиться в инструмент реакции и вступить в конфликт с рабочими, если те не сумеют перехватить революционную инициативу. Невзирая на предупреждения Чен Дусю, он верил, что китайский рабочий класс вернет себе свой политический напор и утвердится как ведущая сила революции. Для него оставалось аксиомой, что все превосходство в современной классовой борьбе по необходимости принадлежит городам; а идея о том, что повстанческие армии завоюют города извне — из деревни, — была для него и нереальной, и ретроградной. Как на Западе, так и на Востоке, настаивал он, революция будет либо пролетарской в истинном смысле этого слова, либо ее не будет вообще. Меньше всего мог он предвидеть ситуацию, которая возникнет во время и после Второй мировой войны, когда курс классовой борьбы и на Западе и на Востоке будет управляться и до известной степени искажаться вначале альянсом между сталинистской Россией и Западом, а потом их антагонизмом, охватившим весь мир.
В своих предположениях Троцкий не мог не задаться вопросом: кто — какая партия — собирается управлять предстоящей революционной борьбой? 2-й Интернационал, отвечал он, это загнивающие опоры старого порядка. 3-й — инструмент в руках Сталина, орудие, которое Сталин выбросит, когда ему это будет удобно, или использует в качестве конторы для сделок с капиталистическими державами. Сталин и его бюрократия жили в страхе того, что за рубежом разразится революция, которая может поднять на борьбу и рабочий класс Советского Союза и стать угрозой бюрократическому абсолютизму и привилегиям. Таким образом, вступая в новую эпоху социальных потрясений, рабочие не имели во главе себя никакой революционной марксистской партии. Отсутствие руководства стало причиной длинной череды поражений, которые они потерпели в 20-х и 30-х годах; а без революционного руководства они будут и дальше страдать и терпеть еще более катастрофические неудачи. Если марксизм — не ошибка, если рабочий класс — историческое доверенное лицо социализма и если ленинизм прав в том, что настаивает на том, что рабочие не могут победить, пока не будут ведомы «авангардом», то затянувшийся «кризис руководства» можно решить только созданием новой Коммунистической партии и нового Интернационала. В свои предбольшевистские годы Троцкий, как и Роза Люксембург и многие другие марксисты, был склонен полагаться на природную активность рабочего класса и не обращать внимания на управляющие и организаторские функции партии — функции, которые были в центре забот Ленина. Со временем он увидел в этом величайшую единственную ошибку, которую совершил в своей долгой политической карьере; и теперь он не собирался вновь доверять «спонтанному» течению революционного потока. Когда все его умозаключения привели к необходимости заняться этой задачей, он не шарахался при виде трудностей, даже от ее очевидной безнадежности. «Второй и Третий Интернационалы умерли — да здравствует Четвертый!» Его долгом, как он представлял себе, было провозгласить это; что касается остального, пусть об этом позаботится будущее.
В одной среде, среди радикальной американской интеллигенции, особенно в литературных кругах, троцкизм в то время делал успехи. Под влиянием Великой депрессии многих американских интеллектуалов потянуло к Коммунистической партии; но наиболее критически мыслящие избегали оппортунизма Народного фронта, который повелел партии заигрывать с Рузвельтом и приветствовать «новый курс»; и они были шокированы и испытывали отвращение от московских процессов и уклончивых маневров и ненормальных ритуалов сталинизма. Троцкизм им представлялся свежим дуновением, врывающимся в застоявшуюся атмосферу левого движения и открывающим новые горизонты. Литераторы отозвались на драматический пафос борьбы Троцкого, его красноречие и литературный гений. Троцкизм вошел в моду и оставил много следов в американской литературе. Среди писателей, особенно критиков, оказавшихся под его воздействием, были Эдмунд Уилсон, Сидни Хук, Джеймс Т. Фаррел, Дуайт Макдональд, Чарльз Маламуд, Филип Рав, Джеймс Рорти, Гарольд Розенберг, Мэри МакКарти и многие, многие другие.
Центром этого «литературного троцкизма» стала «Partisan Review». Издаваемая Филипом Равом и Уильямом Филипсом, эта газета выходила под эгидой Клуба Джона Рида и, косвенно, Коммунистической партии. Однако раздраженные вмешательством партии в литературу, редакторы, будучи к тому же малосведущими в политических процессах внутри партии, потрясенные московскими процессами, приостановили издание. В конце 1937 года они возобновили выпуск, но изменили ориентацию издания: теперь «Partisan Review» будет выступать за революционный социализм и против сталинизма. Редакторы пригласили Троцкого к сотрудничеству. Тот поначалу отказывался и с подозрением рассматривал это предприятие. «Мое общее впечатление таково, — писал он Дуайту Макдональду, — что редакторы „Partisan Review“ — способные, образованные и умные люди, но им нечего сказать».[124]
Лидерам Социалистической рабочей партии было не по нраву рисковать своим престижем, ставя на это периодическое издание; да и он сам задумывался, насколько серьезна приверженность «Partisan Review» революционному социализму. Большинство из его авторов знали марксизм и большевизм только в искаженном виде, преподносимом через сталинизм: не будут ли они, исходя из своего разочарования сталинизмом, также реагировать отрицательно на марксизм и большевизм? С другой стороны, он обвинял издателей в том, что те слабо протестовали против московских процессов и пытались остаться друзьями с «New Masses», «The Nation» и «The New Republic», которые либо защищали судилища, либо не высказывали о них определенного мнения. «Одни меры, — писал Троцкий, — необходимы для борьбы с ложной теорией, а другие — для борьбы с эпидемией холеры. Сталин несравнимо ближе к холере, чем к лжетеории. Борьба должны быть напряженной, жестокой, беспощадной. Присутствие элемента „фанатизма“… приветствуется». Позже в том же году по мере того, как «Partisan Review» стала более выразительна в своем антисталинизме, лед был сломан. Момент наибольшей близости с Троцким наступил, когда Бретон и Ривера, вдохновляемые Троцким, опубликовали на ее страницах свой «Манифест» с призывом к свободе искусства и призвали Международную федерацию революционных писателей и художников давать отпор деспотическим покушениям на литературу и гуманитарные науки.
Андре Бретон, французский поэт-сюрреалист, приехал в Койоакан в феврале 1937 года. Он давно был одним из пылких поклонников Троцкого; и ничто лучше не характеризует его это — и не только это — чувство по отношению к Троцкому, чем письмо, которое он написал ему после своего визита в Мексику на борту корабля, увозившего его назад во Францию: «Дражайший Лев Давидович! Обращаясь к вам таким образом, я меньше страдаю от отсутствия уверенности, чем это происходит в вашем присутствии. Я так часто испытываю желание обращаться к вам именно так — я говорю вам это, чтобы вы могли представить, жертвой какого тормозящего комплекса являюсь я всякий раз, когда пытаюсь сделать шаг по направлению к вам и пытаюсь совершить это у вас на глазах». Этот комплекс порожден «бесконечным восхищением», это был «комплекс Корделии», который охватывал его всякий раз, когда он оказывался лицом к лицу с Троцким. Он уступал этому комплексу сдерживания только тогда, когда приходилось обращаться к величайшему из людей: «Вы — один из них… единственный живущий… Мне необходим долгий процесс настройки, чтобы убедить себя, что вы не пребываете за досягаемыми для меня пределами». (Не менее характерен был ответ Троцкого на это письмо: «Ваши восторги кажутся мне настолько преувеличенными, что становится немного тревожно за наши будущие отношения».)
Во время своего пребывания в Койоакане Бретон, Троцкий и Ривера отправлялись на долгие прогулки и поездки по стране, споря, иногда возбужденно, о политике и искусстве. Во Франции сюрреалисты и троцкисты (особенно Навиль, сам бывший сюрреалист) были на ножах. Отношение Троцкого к сюрреализму, тем не менее, как к любой художественной инновации, было весьма дружелюбным, хотя и не лишенным критики: он принимал почти фрейдистскую сосредоточенность сюрреалистов на сфере сна и подсознания, но качал головой при какой-то «цепочке мистицизма» в работах Бретона и его товарищей. Хотя эти проблемы были далеки от нынешних забот Троцкого (приезд Бретона совпал со смертью Лёвы и судом над Бухариным), он тем не менее углублялся в детальные споры с Бретоном и Риверой о коммунизме и искусстве, философии марксизма и эстетике. Из этих дискуссий возникла идея «Манифеста» к писателям и художникам, а также Международной федерации. Этот «Манифест», соавтором которого был и Троцкий, появился за подписями Бретона и Риверы в «Partisan Review». Вот как сам Троцкий комментировал это рискованное начинание в письмах Бретону и Ривере, а также в «Partisan Review»:
«От всей души приветствую [писал он Бретону] вашу и Риверы инициативу в создании Международной Федерации истинно революционных и по-настоящему независимых художников — и почему бы не добавить „истинных художников“?.. Наша планета превращается в грязный и зловонный империалистический барак. Герои демократии… делают все, что могут, чтобы походить на героев фашизма… и чем более туп и безграмотен какой-нибудь диктатор, тем более он ощущает свое призвание руководить развитием науки, философии и искусства. Стадный инстинкт интеллигенции и ее раболепие являются еще одним и немаловажным симптомом декаданса современного общества».
Идеи «Манифеста» были, главным образом, теми, что он пятнадцатью годами раньше выражал в «Литературе и революции», когда стремился предвосхитить сталинскую опеку над литературой и искусством. Теперь он нападал на низкопоклонников сталинизма, «этих Арагонов, Эренбургов и других мелких мошенников, этих „джентльменов, которые [как Барбюс] с одинаковым энтузиазмом составляют биографии Иисуса Христа и Сталина“, и Мальро, чья „фальшь“ в его самом последнем описании сцен в Германии и Испании была „тем более отвратительна, что он старался преподнести ее в художественной форме“». Он видел поведение Мальро «типичным для целой категории, почти поколения писателей: столь многие из них говорят ложь, исходя якобы из чувства „дружбы“ к Октябрьской революции, как будто эта революция нуждается во лжи». Поэтому борьба за художественную правду и за несгибаемую верность художника самому себе стала необходимой частью борьбы за идеи революции.
«В искусстве человек выражает… свою нужду в гармонии и полноценном существовании… которого он лишен при классовом обществе. [Эта выдержка взята из письма Троцкого в „Partisan Review“.] Вот почему в любом истинно художественном творении всегда подразумевается сознательный либо непроизвольный, активный либо пассивный, оптимистический или пессимистический протест против реальности… Загнивающий капитализм не способен гарантировать даже минимум условий, необходимых для их развития до тех течений искусства, которые до некоторой степени отвечают потребностям нашей эпохи. Он суеверно ужасается при каждом новом слове. Угнетенные массы живут своей собственной жизнью. Среда артистической богемы замкнута в собственной узости… Художественные школы последних десятилетий — кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм — давили друг друга, и ни одна из них не дала каких-либо плодов… Невозможно найти выход из этого тупика одними лишь художественными средствами. Это кризис целой цивилизации… Если современное искусство не перестроится, искусство неизбежно погибнет, как погибло греческое искусство под руинами рабской цивилизации… Отсюда функция искусства в наше время определяется его отношением к революции.
Но именно здесь история устроила гигантскую ловушку для искусства. Целое поколение „левой“ интеллигенции… обратило свои взоры на восток и… связало свои судьбы не столько с революционным рабочим классом, сколько с победоносной революцией, что не есть одно и то же. В той победоносной революции есть не только революция, но и новый привилегированный слой… [который] удавил художественную фантазию рукой тирана… Даже при абсолютной монархии придворное искусство было основано на идеализации, а не на фальсификации, в то время как в Советском Союзе официальное искусство — а никакое другое там не существует — разделяет судьбу официального правосудия; его цель — прославление „Вождя“ и официальная фабрикация героического мифа…
Стиль официального советского изобразительного искусства описывается как „социалистический реализм“, — этот ярлык мог изобрести только какой-нибудь бюрократ во главе какого-нибудь управления искусств. Этот реализм состоит в имитации провинциальных фотографий-дагерротипов третьей четверти прошлого столетия; „социалистический“ стиль состоит в применении трюков неестественной фотографии, чтобы представить события, которые никогда не происходили. Нельзя без отвращения и ужаса читать поэмы и романы или рассматривать картины и скульптуры, в которых чиновники, вооруженные пером, кистью или резцом и находящиеся под надзором чиновников, вооруженных револьверами, прославляют „великих гениальных руководителей“, в которых нет ни искры ни гения, ни величия. Искусство сталинской эпохи останется самым поразительным выражением глубочайшего упадка пролетарской революции».
Эта проблема, отмечал он, не ограничивается лишь СССР:
«Под предлогом запоздалого признания Октябрьской революции „левая“ интеллигенция Запада пала на колени перед советской бюрократией… Новая эра открылась со всевозможными центрами и кружками… с неизбежными приветственными посланиями от Ромена Роллана и с субсидируемыми изданиями, банкетами и съездами (где трудно провести какую-то черту между искусством и ГПУ). И все же, несмотря на огромный охват, это военизированное движение не породило ни одного художественного произведения, способного пережить своего автора и его кремлевских вдохновителей.
Искусство, культура и политика нуждаются в новой перспективе. Без этого человечество не будет двигаться вперед… Но по-настоящему революционная партия не может и не захочет „управлять“ искусством, не говоря уже о командовании им… Только невежественная и наглая бюрократия, обезумевшая от своей деспотической власти, может заразиться такими амбициями… Искусство может быть великим союзником революции только тогда, когда оно остается верным себе».
Невзирая на эти горячие призывы, Международная федерация писателей и художников так и не обрела реальные черты. В Европе ее призыв к защите свободы творчества скоро потонул в громыханье надвигающейся войны; а в Америке расцвет «литературного троцкизма» оказался кратковременным. Как и опасался Троцкий, антипатия интеллигенции к сталинизму обратилась в реакцию против марксизма в целом и большевизма.
Уже в который раз мы можем проследить здесь этот странный цикл, через который проносились эмоции, вызываемые Троцким в его интеллектуальных последователях. Большинство из них обращались к нему с возвышенным почтением, и в большинстве он вызывал «комплекс Корделии», о котором говорил Бретон. Но постепенно они обнаруживали, что его образ жизни и мышления требует невыносимого духовного напряжения; они замечали, что он действительно находится «вне пределов досягаемости». Их король Лир, как выяснялось, все еще оставался самым твердым из революционеров. Он не стремился собрать вокруг себя свиту лирических обожателей — он старался сплотить бойцов на самое невозможное дело. Он хотел настроить своих сторонников, как был настроен и сам, против всякой власти в мире: против фашизма, буржуазной демократии и сталинизма; против любой разновидности империализма, социал-патриотизма, реформизма и прагматизма. Он требовал от своих приверженцев «безусловно защищать Советский Союз», невзирая на Сталина, и атаковать сталинизм со страстностью, соразмерной его собственной. Сам никогда не уступавший в принципах ни пяди, он не терпел уступчивости в других. Он требовал от своих сторонников неколебимой убежденности, абсолютного безразличия к общественному мнению, неослабевающей готовности к самопожертвованию, жгучей веры в пролетарскую революцию, чье дыхание он постоянно ощущал (но они — нет). Одним словом, он ожидал, что они окажутся сделаны из того же материала, что и он сам.
Они сопротивлялись, а их возвышенное почтение к нему уступало место поначалу тревоге и сомнениям или усталости, которые все еще были смешаны с благоговением, а потом — оппозиционности и в конечном итоге — завуалированной либо открытой враждебности. Один за другим интеллектуальные троцкисты начинали отрекаться, поначалу робко, а потом возмущенно от своего былого энтузиазма и акцентировать внимание на ошибках Троцкого. Поскольку ничто так не подрывает веру, как неудача, они преувеличивали его ошибки и фиаско как реальные, так и вымышленные, за которые только могли ухватиться, пока не начинали обвинять его в фанатизме и в том, что он — находящийся во власти догм фантазер, или пока не решали, что между ним и Сталиным нет большой разницы.
За устойчивой системой этих разочарований и разорванных дружеских связей было растущее недовольство радикальной интеллигенции Запада марксизмом и русской революцией во всех ее аспектах. Это был один из тех периодически повторяющихся процессов политической конверсии, в соответствии с которой радикалы и революционеры одной эпохи превращаются в центристов или консерваторов либо реакционеров эпохи следующей — среди литературных троцкистов 30-х нашлось очень немного тех, кто в конце 40-х и в 50-х годах не оказались вдруг во главе пропагандистских крестоносцев-антикоммунистов. Конечно, многие бывшие сталинисты, никогда до этого не подпадавшие под какое-либо троцкистское влияние, также окажутся замешаны в этих антикоммунистических крестовых походах, но чаще в роли вульгарных информаторов, чем идеологических вдохновителей.
Начало этого превращения спрятано в путанице нескольких мелких противоречий. Зимой 1937/38 года Истмен, Серж, Суварин, Килига и другие подняли вопрос об ответственности Троцкого за подавление Кронштадтского восстания в 1921 году. Контекст, в котором они подняли этот вопрос, заключался в попытке выяснить, откуда и когда точно произрос этот фатальный порок в большевизме, из которого взял свое начало сталинизм. И они отвечали, что изъян этот проявился в Кронштадте, в подавлении восстания 1921 года. Именно здесь произошел решающий поворот, первородный грех, так сказать, который привел к падению большевизма! Но разве не Троцкий отвечал за подавление Кронштадтского восстания? Разве в этом событии он не предстал как настоящий предтеча сталинского террора? Критикам тем более легко было его осудить, что у них было чрезмерно идеализированное представление о Кронштадтском мятеже, и они прославляли его как первый истинно пролетарский протест против «предательства революции». Троцкий отвечал, что их видение Кронштадта нереально и что, если бы большевики не подавили этот мятеж, они бы открыли шлюзы для контрреволюции. Он брал на себя полную политическую ответственность за решение Политбюро по этому вопросу, решение, которое он поддержал, и лишь отрицал утверждение, что сам лично командовал штурмом Кронштадта.[125]
Эта полемика была полна странной и необоснованной страсти. Не надо было принимать версию Троцкого, чтобы увидеть, что его критики чрезмерно раздули важность Кронштадтского мятежа, вырвав его, так сказать, из исторического потока и многих встречных течений событий. Кронштадт как прелюдия к сталинизму заслонил в их глазах те фундаментальные факторы, что благоприятствовали сталинизму: поражение коммунизма на Западе, бедность и изоляция Советского Союза, усталость трудящихся масс, конфликты между городом и деревней, «логика» однопартийной системы и т. д. И такова временами была озлобленность дискуссии по относительно давнему и неопределенному эпизоду, что Троцкий замечал: «Можно было подумать, что Кронштадтский мятеж произошел не семнадцать лет назад, а только вчера». Что его возмущало, так это то, что предполагаемые доброжелатели выбрали время, чтобы забрасывать его вопросами о Кронштадте, как раз в середине его кампании против московских процессов. Кроме того, в то время как он осуждает нынешние казни жен и детей антисталинцев, Серж и Суварин критикуют его за расстрел заложников в Гражданскую войну. Разве эта какофония не на пользу Сталину? И разве они не видят морального и политического различия между его использованием силы в Гражданскую войну и нынешним сталинским террором? Или они отрицают право большевистского правительства в 1918–1921 гг. на самозащиту и введение дисциплины?
«Я не знаю… были ли какие-нибудь невинные жертвы [в Кронштадте]… Я не могу взять на себя ответственность и решить сейчас, через столь долгое время после события, кого следует наказать и как… особенно потому, что у меня под рукой нет никаких данных. Я готов согласиться, что гражданская война — это не школа для обучения человечности. Идеалисты и пацифисты всегда бранили революцию за „эксцессы“. Основная проблема в том, что „излишки“ проистекают из самой природы революции, которая сама по себе — „эксцесс“ истории. Пусть те, кто хочет этого, отвергают (в своих мелких журналистских статьях) на этом основании революцию. Я ее не отвергаю».
Критики обвинили его в «иезуитской» или «ленинской аморальности», т. е. в приверженности идее, что цель оправдывает средства. Он ответил на это своим очерком «Их мораль и наша», решительным и красноречивым заявлением по этике коммунизма. Этот очерк начинается со вспышки брани в адрес тех демократов и анархистов «левого» крыла, которые в то время, когда реакция празднует триумф, «испускает в два раза больше моральных миазмов, чем обычно, точно так же, как иные люди от страха в два раза больше потеют»; но при этом проповедуют моральные принципы в отношении могущественных преследователей, а не преследуемых революционеров. Он действительно не принимал никаких абсолютных принципов морали. Такие абсолюты вне пределов религии не имеют значения. Духовенство, по крайней мере, выводило их из божественных откровений; но каким образом его критики, эти «мелкие атеистические священники», извлекали их вечные моральные истины? Из «человеческой совести», «духовной природы» и подобных концепций, которые суть всего лишь метафизические иносказания для божественных откровений.
Моральные принципы запечатлены в истории и классовой борьбе и не имеют постоянной сути. Они отражают общественный опыт и потребности; а посему всегда должны соотносить средства с целью. Во впечатляющем пассаже он «защищает» иезуитов от их моралистических критиков. «Орден иезуитов… никогда не проповедовал… что любые средства, пусть и преступные… позволительны, если только они ведут к „цели“… Такая… доктрина была умышленно приписана иезуитам протестантскими и частично католическими противниками, которые не колебались в выборе средств для достижения своих целей». Иезуитские теологи толковали трюизм, что использование любых средств, которые сами по себе могут быть морально плохими, должно быть оправдано либо осуждено в соответствии с характером цели, которой они служат. Выстрелить — морально плохо; застрелить собаку, угрожающую ребенку, — доброе дело; стрелять с целью убийства — преступление. «В своих практических моральных принципах иезуиты вовсе не были хуже других священников и монахов… напротив, они были выше их, во всяком случае, более последовательными, мужественными и проницательными. Они представляли собой воинствующую, закрытую, строго централизованную и агрессивную организацию, опасную не только для врагов, но и для друзей». Точно так же, как и большевики, они пережили свою героическую эру и периоды упадка, когда из воинов церкви они превращались в бюрократов и, «как и все добрые бюрократы, были весьма неплохими мошенниками». В этот героический период, однако, иезуит отличается от рядового священника, как солдат церкви отличается от того, кто в ней торгует. «У нас нет причины идеализировать кого-либо из них. Но совершенно недостойно смотреть на фанатичного воина глазами тупого и ленивого торгаша».
Идея, в которой цель оправдывает средства, возражал Троцкий, скрыта в любой концепции морали, не в меньшей степени, чем в англосаксонском утилитаризме, который является источником многих нападок на иезуитскую и большевистскую «аморальность». До тех пор пока идеал «максимально возможного счастья для максимально наибольшего количества людей» подразумевает, что морально то, что делается для достижения этой цели, этот идеал совпадает с «иезуитским» понятием цели и средства. А все правительства, даже самые «гуманитарные», которые во время войны провозглашают уничтожение максимально большого числа врагов обязанностью своих армий, разве они не принимают принципа «цель оправдывает средства»? К тому же цель также требует своего оправдания; и цель, и средства могут меняться местами, ибо то, что сейчас видится как цель, позже может стать средством для достижения новой цели. Для марксиста великая цель увеличения власти человека над природой и уничтожения власти человека над человеком оправдана; и также оправдано средство для этого — социализм; и также оправдано средство для социализма — революционная классовая борьба. Марксистско-ленинские моральные принципы действительно руководствуются потребностями революции. Означает ли это, что могут быть использованы все средства — даже ложь, предательство и убийство, — если они продвигают интересы революции? «Все средства позволительны, — отвечает Троцкий, — которые действительно ведут к освобождению человечества»; но такова диалектика целей и средств, что некоторые средства не могут вести к этой цели. «Позволительны и обязательны те и только те средства, которые придают революционным рабочим чувства солидарности и единства, которые наполняют их непримиримой враждой к угнетению… которые насыщают их сознанием их исторической задачи и повышают их мужество и дух самопожертвования… Следовательно, не все средства позволительны». Он, говоривший, что цель оправдывает средства, также говорит, что цель «отвергает» некоторые средства как несовместимые с самими собой. «Чтобы вырастить пшеницу, надо посеять ее зерно». Нельзя содействовать продвижению социализма с помощью мошенничества, лжи или почитания лидеров, которые унижают массы; также невозможно силой навязать социализм рабочим против их воли. Как говорил Лассаль:
Покажи не только цель; покажи и путь к ней. Цель и дорога настолько переплелись, Что всегда сменяют друг друга; Новый путь рождает новую цель.Для революционной морали важны правдивость и честность в отношениях с трудящимися массами, потому что любая иная дорога неизбежно ведет к другой цели, а не к социализму. В свой героический период большевики были «самой честной политической партией за всю историю». Естественно, они обманывали врагов, особенно в Гражданскую войну; но были правдивы с рабочими людьми, чье доверие завоевали до такой степени, до какой ни одна другая партия не сумела этого сделать. Ленин, отвергавший всякие этические абсолюты, всю свою жизнь отдававший делу угнетенных, был исключительно добросовестен в идеях и бесстрашен в действиях и никогда не выказывал ни малейших признаков превосходства над простым рабочим, беззащитной женщиной, ребенком. Что касается его собственной, Троцкого, аморальности, состоявшей в том, что он приказал взять заложниками семьи офицеров Белой гвардии, он взял на себя полную ответственность за эту меру, которая была продиктована необходимостью Гражданской войны, хотя, насколько ему известно, ни один из этих заложников не был казнен. «Были бы спасены сотни тысяч жизней, если бы революция с самого начала проявляла поменьше великодушия». Он верил, что последующие поколения будут судить его поведение так же, как они судили о беспощадности Линкольна и американской Гражданской войне: «Для жестокости северян и южан история имеет различные аршины. Рабовладелец, который использует коварство и насилие, чтобы заковать раба в кандалы, и раб, который использует хитрость и силу, чтобы сломать оковы, — ведь лишь презренный евнух скажет нам, что перед судом морали они равны!»
Осуждать Октябрьскую революцию и «большевистскую порочность» за зверства сталинизма значит извращать истину. Сталинизм есть не продукт революции или большевизма, а то, что сохранилось от старого общества, — это является причиной безжалостной сталинской борьбы против старых большевиков, борьбы, через которую первобытное варварство России мстило прогрессивным силам и надеждам, которые вышли на поверхность в 1917 году. Более того, сталинизм стал изображением в миниатюре всех «обманов, жестокости и низости», которые составляли механику любого классового господства и государства в целом. Поэтому апологеты классового общества и государства, включая защитников буржуазной демократии, вряд ли имеют право ощущать моральное превосходство: сталинизм — это их собственное зеркало, даже если оно и частично искаженное.
Из многих ответов на «Их мораль и наша» заслуживает упоминания реакция Джона Дьюи: Дьюи соглашается со взглядом Троцкого на отношения между средствами и целью и на относительный исторический характер моральных суждений. Он также согласен в том, что «средство может быть оправдано только его целью… а цель оправдана, если она ведет к увеличению власти человека над природой и уничтожению власти человека над человеком». Но расходится с Троцким в том, что не видит, почему эту цель необходимо преследовать главным образом и исключительно посредством классовой борьбы — по его мнению, Троцкий, как и все марксисты, рассматривает классовую борьбу как самоцель. Он заметил в Троцком «философское противоречие», когда Троцкий, с одной стороны, провозглашает, что суть цели (т. е. социализм) определяет характер средств, и, с другой стороны, выводит средства из «исторических законов классовой борьбы» или оправдывает их ссылкой на такие «законы». Для Дьюи предположение о неизменных законах, якобы управляющих развитием общества, неуместно. «Вера в то, что закон истории определяет особенность пути, по которому должна идти эта борьба, явно имеет тенденцию к фанатической и даже мистической преданности использованию определенных путей ведения классовой борьбы, к исключению всех других способов… Ортодоксальный марксизм вместе с ортодоксальной религией и… традиционным идеализмом разделяет веру в то, что гуманные цели вплетены в сам характер и структуру существования — концепция, которая унаследована, по-видимому, от его гегельянских предков».
Заключение Дьюи стало основной идеей почти всех нападок на Троцкого, которые до недавнего времени исходили от его бывших учеников и друзей — все целились в «гегельянское наследие марксизма», диалектический материализм и этот «религиозный фанатизм» большевизма. Вот как Макс Истмен, например, говорил о финальном крушении «мечты о социализме»: «Я выступаю за то, чтобы мы отказались от этих утопистских и абсолютных идеалов». В его глазах теперь не только марксизм являлся какой-то «античной религией» или «немецкой романтичной верой», но это был и предтеча как фашизма, так и сталинизма. «Не забывайте, что Сталин был социалистом. Муссолини был социалистом. Сотни тысяч последователей Гитлера были социалистами либо коммунистами». Подобным образом Сидни Хук осудил идею диктатуры пролетариата и окончательно порвал с марксизмом в пользу прагматического либерализма. Так же поступили и Эдмунд Уилсон, Бенджамин Стольберг, Джеймс Рорти и другие.
Имея позади себя сорок лет «идеологических споров», Троцкий находил в этих аргументах не много нового или оригинального. Они, должно быть, напомнили ему книгу Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», это почти классическое заявление об отречении старого народника, который оставил революционное движение, чтобы смириться с установленным порядком. С тех пор в каждом поколении, в каждом десятилетии уставшие и разочаровавшиеся, выходя из драки или переходя на другую сторону, пытались ответить на этот вопрос. Что было на этот раз нового, так это сила разочарования: она соперничала с ударами, которые Сталин наносил по вере и иллюзиям. Никогда еще люди не уходили от революционной борьбы с такими глубокими эмоциями и истинным возмущением; и никогда еще никакое дело не выглядело столь безнадежным, когда Троцкий стал рассчитывать на профессоров, писателей и литературных критиков, которые его покидали. Они чувствовали, что, выбирая троцкизм, без всякой на то нужды ввязывались в огромное, далекое, непонятное и опасное дело русской революции; и что это вмешательство приводило их к конфликту с образом жизни и идеалами, которые доминировали в их университетах, редакциях и литературных кружках. Одно дело — одолжить свое имя какому-то Комитету в защиту Троцкого и протестовать против репрессий, но совсем другое — подписаться под Манифестом 4-го Интернационала и повторять призыв Троцкого к превращению грядущей мировой войны в глобальную гражданскую войну. Более всего неприятно было Троцкому видеть, что даже такие старые друзья и соратники, как Истмен и Серж, повернулись к нему спиной. Он опустошил на них и им подобных запасы своего презрения и, как иной великий полемист, не очень привередливый в выборе жертв, сохранил в своей прозе — как кто-то хранит насекомых в янтаре — имена совсем немногих щелкоперов, которых иначе давным-давно позабыли бы. Вот образчик его полемики — с Сувариным в качестве объекта:
«Экс-пацифист, экс-коммунист, экс-троцкист, экс-демократо-коммунист, экс-марксист… почти экс-Суварин чем более нагл в своих нападках на пролетарскую революцию… тем менее он знает, чего хочет. Этот человек любит… собирать и хранить… документы, выдержки, кавычки и запятые; и у него острое перо. Когда-то он воображал, что этого оборудования хватит ему на всю жизнь. Потом ему пришлось узнать, что еще надо знать, как думать… В своей книге о Сталине, несмотря на изобилие интересных цитат и фактов, он сам представил справку о своей личной интеллектуальной нищете. Он не разбирается ни в революции, ни в контрреволюции. К историческому процессу он применяет критерий недалекого болтуна… Диспропорция между критическими наклонностями и творческой импотенцией его ума разъедает его, как кислота. Отсюда он постоянно находится в состоянии дикого раздражения, и у него отсутствуют элементарные угрызения совести при оценке идей, людей и событий; и все это он покрывает сухим морализированием. Его, как и всех мизантропов и циников, тянет к реакции. Но рвал ли он когда-нибудь открыто с марксизмом? Мы никогда об этом не слышали. Он предпочитает двусмысленность; это его природная составляющая. В своем обзоре моего памфлета [ „Их мораль и наша“] он пишет: „Троцкий вновь взбирается на свою любимую лошадку классовой борьбы“. Для марксиста вчерашнего дня классовая борьба уже „любимая лошадка Троцкого“. Он, Суварин, предпочитает сидеть верхом на дохлой собаке вечной нравственности».
В таких полемических экспедициях Троцкого с готовностью сопровождали двое из его учеников: Джеймс Бернхэм и Макс Шахтман, которые яростно кидались на «Интеллектуалов в пристанище», разрывая их на кусочки за их «сталинофобию» и «предательство рабочего класса и марксизма». Скоро и эти ученики покинули хозяина и вступили в ряды «Интеллектуалов в пристанище».
После двухлетней дружбы Троцкий и Ривера разошлись. Ссора вспыхнула весьма неожиданно, сразу после того, как манифест о свободе искусств появился в «Partisan Review». Летом Троцкий, надеясь, что Ривера посетит «учредительный съезд» 4-го Интернационала, написал в Париж организаторам: «Вам следует пригласить его… лично… и подчеркнуть, что Четвертый Интернационал гордится тем, что имеет его в своих рядах, его, величайшего художника нашей эпохи и пламенного революционера. Нам надо быть внимательными к Диего Ривере, по крайней мере, так же, как Маркс был по отношению к Фрейлиграту, а Ленин — к Горькому. Как мастер своего дела он далеко превосходит и Фрейлиграта, и Горького, и он… настоящий революционер, тогда как Фрейлиграт был всего лишь мелкобуржуазным сочувствующим, а Горький — до некоторой степени уклончивый попутчик». Поэтому для Троцкого явилось сильнейшим потрясением то, что в конце года Ривера стал яростно нападать на президента Карденаса, клеймя его как «сообщника сталинистов», а в президентских выборах поддержал соперника Карденаса — Альмазара, генерала, кандидата от правых, пообещавшего заставить повиноваться профсоюзы и обуздать левых. Ривера тоже подхватил этот «вирус сталинофобии» (но такова была причудливость его политического поведения, что через несколько лет он с раскаянием вернется в «отчий дом»). Троцкий не желал оказаться замешанным в мексиканскую политику; к тому же он в любом случае не имел ничего общего с тем родом антисталинизма, за который теперь стоял Ривера, и с его кампанией против Карденаса. Он попытался разубедить Риверу, но потерпел неудачу. Поскольку в глазах общества он был исключительно тесно связан с художником, уже ничто, кроме открытого разрыва, не могло освободить Троцкого от ответственности за политические выходки Риверы. В специальном заявлении Троцкий осудил позицию Риверы в президентских выборах и объявил, что отныне он не может чувствовать никакой «моральной солидарности» с ним и даже пользоваться его гостеприимством. Однако, когда сталинисты стали нападать на Риверу как на «продавшегося реакции», Троцкий защищал его от обвинений в продажности и выразил все то же восхищение «гением, чьи политические просчеты не могут заслонить ни его искусства, ни его личной честности».
Разрыв с Риверой и решение покинуть Синий дом поставили Троцкого в трудное финансовое положение. Его доходы тем самым значительно уменьшились, поскольку раньше ему не надо было платить за крышу над головой. Теперь он был вынужден делать все для того, чтобы побольше зарабатывать; и ему пришлось одалживать денег у друзей, чтобы содержать домашнее хозяйство.[126]
Он принялся за написание биографии Сталина; но работа часто прерывалась и продвигалась медленно. Его издатели, разочарованные в том, что «Ленин» все не появляется, осторожничали с выплатой авансов.[127]
Он подумывал написать короткую и популярную книгу, которая могла бы стать бестселлером и освободить его от журналистской рутины; но не смог заставить себя приняться за работу. Он вел переговоры с Публичной библиотекой Нью-Йорка и университетами Гарварда и Стэнфорда на предмет продажи своих архивов. Стремясь поместить свои бумаги в безопасное место, он запросил за это почти смехотворно низкую цену; но потенциальные покупатели не торопились, и переговоры тянулись свыше года.[128]
Даже в журналистике его капитал резко сократился; а литературные агенты зачастую сталкивались с трудностями при размещении его статей, хотя он писал на самые актуальные и горячие темы: Мюнхенское соглашение, состояние советских Вооруженных сил, американская дипломатия, роль Японии в предстоящей войне и т. д.
Финансовые трудности привели его к странной ссоре с журналом «Life». В конце сентября 1939 года по инициативе Бернхэма один из редакторов «Life» приезжал в Койоакан и заказал Троцкому сделать литературный набросок о Сталине, а также статью о смерти Ленина. (Троцкий только что завершил главу в «Сталине», в которой высказал предположение, что Сталин отравил Ленина, и ему надо было представить эту версию в «Life».) Его первая статья появилась в журнале 2 октября. Хотя она содержала относительно безобидные воспоминания, эта статья вызвала раздражение просталинских «либералов», наводнивших «Life» бранными письмами. К досаде автора, «Life» напечатал некоторые из них, хотя Троцкий утверждал, что эти протесты вышли из «гэпэушной фабрики» в Нью-Йорке и дискредитируют его. Тем не менее, он послал свою вторую статью — ту, что о смерти Ленина; но «Life» отказался ее печатать. По иронии судьбы, возражения редакторов были достаточно справедливыми: они нашли неубедительным предположение Троцкого о том, что Сталин отравил Ленина, и потребовали от него «менее гипотетичных и более очевидных фактов». Он стал угрожать «Life» судом за нарушение контракта и в припадке гнева отправил эту статью в «Saturday Evening Post» и «Collier's», откуда тоже пришел отказ, пока, наконец, его не опубликовал «Liberty». Грустно видеть, как много времени в его последний год отняла эта раздраженная и бесполезная переписка. Этот и немногие другие заработки, как он смог написать своим друзьям, «обеспечили» его финансово на «несколько месяцев» и позволили чуть дольше продолжать продажу архивов.
В феврале или марте 1939 года он снял дом на авенида Виена в отдаленном предместье Койоакана, где длинная улица пустела, уступала место камням и пыли, а по обеим ее сторонам было разбросано лишь несколько бедняцких лачуг. Дом был старым и грубо сколоченным, но весьма прочным и просторным; к тому же он стоял на собственном участке, отделенный толстыми стенами от дороги и соседей. Не успел Троцкий вселиться в него, как разошелся слух, что «ГПУ вот-вот купит эту собственность». Чтобы предвосхитить это, Троцкий сам купил дом, хотя ему пришлось занять денег для этой своей «первой сделки с недвижимостью». Ввиду непрекращающихся сталинских угроз физической расправы было необходимо, или так казалось, укрепить дом. Вскоре над входными воротами была воздвигнута сторожевая башня; немедленно были зарешечены двери, у стен уложены мешки с песком, а также установлены сигналы тревоги. Снаружи на улице днем и ночью несли службу пять полицейских и от восьми до десяти троцкистов охраняли дом изнутри. Эти троцкисты жили здесь же в доме: после смены дежурства у ворот они работали секретарями и участвовали в домашней деятельности, особенно в регулярных дебатах, проходивших по вечерам, если только приезд гостей не превращал во время дискуссий и день.
Эти посетители иногда были беженцами из Европы, но чаще всего американцами, радикальными педагогами-теоретиками, либеральными профессорами, журналистами, историками, иногда немногими конгрессменами или сенаторами и, конечно, троцкистами. Дискуссии охватывали диапазон от диалектики и сюрреализма до условий жизни американских негров, от военной стратегии до индийского земледелия или общественных проблем Бразилии и Перу. Каждый посетитель был свежим источником знаний для Троцкого, который слушал, расспрашивал, делал заметки, спорил и вновь расспрашивал, — казалось, его любопытству и способности впитывать факты не было предела. Люди из числа его телохранителей испытывали неловкость при виде того, как он принимал чужаков, но ничего с этим не могли поделать. Лишь когда его любопытство обратилось на ближайшие окрестности и он стал заглядывать в лачуги через дорогу, чтобы выяснить, как там живут люди и «что они думают о земельной реформе», охрана остановила его. Они сочли, что для него будет безопасней ездить в дальние поездки по стране в их сопровождении, чем ускользать через ворота и бродить вне дома.
Поездки по стране приходилось осуществлять неожиданно и в большой тайне. Обычно он ездил на автомашине в сопровождении Натальи, какого-нибудь друга, а также телохранителя. Проезжая через Мехико, ему приходилось пригибаться на своем сиденье и прикрывать лицо — иначе толпа на тротуаре узнала бы его и стала бы либо приветствовать, либо освистывать. Точно так же, как и в Алма-Ате, эти поездки являлись «военными экспедициями», включая в себя много ходьбы, лазанья по горам и тяжелого труда. Поскольку здесь было меньше возможностей для рыбной ловли и охоты, у него появилось новое хобби — сбор редких огромных кактусов на каменистых пирамидальных скалах. Когда он не болел, то все еще сохранял чудовищную физическую силу, хотя седая голова и лицо с глубокими морщинами иногда придавали ему вид человека, преждевременно состарившегося. К тому же он сохранил свою армейскую выправку; и самому сильному из его телохранителей было нелегко держаться с ним рядом, когда он взбирался по крутому склону с грузом тяжелых, с острыми как штык шипами кактусов на спине. «Однажды, — вспоминает один секретарь, — мы сопровождали некоторых друзей до Тамазунчале (это примерно в 380 километрах от Койоакана), надеясь отыскать какую-то особую разновидность кактусов. Поездка оказалась безуспешной, но на обратном пути возле Мехико Л. Д. заметил какие-то viznagaz (сорт кактусов. — Ред.). Он решил, невзирая на то что мы добрались до места, когда уже давно стемнело, остановиться и набрать их целую машину. Стояла душистая ночь. Л.Д. был в веселом настроении; он оживленно ходил вокруг небольшой группы, выкапывая кактусы при свете фар автомашин». Чаще его компаньонам приходилось следовать за ним в жару, под пылающим солнцем, когда он взбирался вверх среди валунов, и его фигура в синей французской крестьянской куртке четко выделялась на фоне скал, а белая шевелюра развевалась по ветру. Наталья, поддразнивая, называла эти выезды «днями каторжного труда». «Его охватывало неистовство, — вспоминает она, — он всегда первым приступал к работе и последним уходил… как под гипнозом ведомый побуждением завершить имевшуюся у него работу».
Со временем и с ростом суровости сталинских угроз даже эти загородные прогулки казались все более и более рискованными; и теперь все существование Троцкого оказалось втиснуто в пространство меж стен его полудвора-полутюрьмы. Это проявлялось даже в его манере делать зарядку и в увлечениях. Он принялся сажать наиболее экзотические из своих кактусов в саду и выращивать цыплят и кроликов во дворе. Даже в этих «меланхолических, рутинных обязанностях» он оставался строго методичен: каждое утро долгое время проводил во дворе, кормя кроликов и цыплят (в соответствии со «строго научными» рецептами), ухаживая за ними и вычищая их клетки. «Когда состояние его здоровья ухудшалось, — говорит Наталья, — кормление кроликов становилось для него большой нагрузкой; но он не мог отказаться от этого занятия, потому что жалел этих маленьких животных».
Каким далеким, каким бесконечно далеким было сейчас его бурное, сотрясавшее мир прошлое и каким мучительным было его и Натальи одиночество. Очень редко возвращались какое-нибудь лицо или голос из того прошлого, но лишь для того, чтобы напомнить ему, что ничто из ушедшего нельзя ни вернуть, ни оживить. В октябре 1939 года наконец-то приехали в Койоакан Альфред и Маргарита Ромер. Они остались единственными уцелевшими друзьями Троцкого со времен Первой мировой войны. Они прожили у Троцкого на авенида Виена около восьми месяцев, до конца мая 1940 года, и в течение этого периода они провели много часов за задушевными беседами и воспоминаниями. Вместе Троцкий и Ромер просматривали архивы, разбирая их и изучая старые документы. Иногда к ним присоединялся Отто Рюле, еще один ветеран, который в качестве ссыльного также жил в Мексике. Рюле, как мы знаем, в начале Первой мировой войны отличился, являясь одним из двух социалистов в рейхстаге — вторым был Карл Либкнехт, — проголосовавших против войны. Он был одним из основателей Германской коммунистической партии и одним из первых дезертиров, порвавших с ней. В эмиграции он посвятил себя изучению Маркса и держался в стороне от политической деятельности, хотя и согласился участвовать в работе комиссии по расследованию, возглавлявшейся Дьюи. Со времени контрпроцесса он стал частым гостем в Синем доме, а потом и на авенида Виена; и Троцкий, уважавший его эрудицию, питал к нему теплые дружеские отношения и помогал всем, чем мог, — вместе они выпустили «Живущие мысли Карла Маркса».[129]
В первые дни войны мысли этих троих, вполне естественно, вернулись к тем дням, когда все они были заняты делами в одной и той же революционной оппозиции войне, к дням циммервальдского движения. Троцкий (автор Циммервальдского манифеста) предложил вместе обратиться с новым манифестом, чтобы провозгласить и символизировать непрерывность революционного отношения к обеим мировым войнам. Ромер был целиком за это; однако у Рюле имелись разногласия с ними, и он не мог себе позволить быть вовлеченным в политическую акцию, и поэтому от идеи «нового Циммервальдского манифеста» отказались. Прошлое было слишком далеко, чтобы ответить даже в виде эхо.
С Ромерами в Койоакан приехал и Сева; и Троцкий с Натальей сжали в объятиях возвращенного внука. Прошло почти семь лет, как они отправили его с Принкипо. Ребенок жил эти годы в Германии, Австрии и Франции, менял опекунов, школы и языки и почти позабыл, как говорить по-русски. Гигантская драма его деда как будто отразилась в маленьком пространстве его детства. Едва он успел покинуть колыбель, как от него оторвали отца; и не успел он присоединиться к своей матери в Берлине, как она покончила с собой. Потом ставший для него отцом Лёва неожиданно и загадочно умирает; и ребенок становится объектом семейной ссоры, его крадут, прячут и вновь возвращают, пока не привозят к дедушке, которого он с трудом помнит, но перед которым обучен преклоняться. И теперь смущенный сирота неотрывно смотрит на странную и переполненную людьми крепость, в которую его привезли, на дом, уже отмеченный смертью.
Позади самых желанных гостей, Ромеров, медленно появляется зловещая тень — тень Рамона Меркадера — «Джексона». Это был «друг» Сильвии Агелоф, американской троцкистки, которая участвовала в учредительном съезде 4-го Интернационала в доме Ромеров. Кое-кто утверждает, что именно тогда или вскоре после этого «Джексона» представили Ромерам; и что с тех пор он ненавязчиво искал их компании и оказывал им с внешним безразличием много мелких услуг и любезностей. Ромер категорически это отрицает и уверяет, что встретил его лишь в Мексике; и версия Ромера подтверждается самим «Джексоном». «Джексон» выдавал себя достаточно правдоподобно за аполитичного бизнесмена, спортсмена и кутилу; когда он приехал в Мексику в то же время, когда туда приехали Ромеры, он был якобы агентом какой-то нефтяной компании. Держался он, однако, на заднем плане и в течение многих месяцев не стремился получить доступ в укрепленный дом на авенида Виена. Он лишь готовился к своему чудовищному заданию.
«Сталин» стал единственной полномасштабной книгой, последней, над которой Троцкий работал в эти годы. В посмертном издании этот том соединен из семи завершенных глав и массы различных фрагментов, расположенных, дополненных и связанных каким-то редактором не всегда в соответствии с ходом мыслей Троцкого. Неудивительно, что этой книге недостает зрелости и сбалансированности других произведений Троцкого. Но возможно, даже если бы он и был жив и сумел придать ей окончательную форму, исключить много приблизительных формулировок и преувеличений в ранних черновиках, все равно «Сталин» остался бы слабейшей из его работ.
Троцкий вообще не представлял, что так или иначе принижает себя, взяв на себя роль портретиста своего соперника и врага. Он никогда не считал никакую литературную или журналистскую работу недостойной, при условии, что сможет ее выполнить добросовестно. Говорят, что его издатели настояли, чтоб он взялся за биографию Сталина, и что финансовая нужда заставила его уступить. Но это утверждение недостаточно подкреплено доказательствами. Издатели были не менее, если не более, заинтересованы в «Жизни Ленина», которую он пообещал завершить. Если бы нужда в деньгах сыграла свою роль, заставив его отдать приоритет Сталину, все равно он был бы движим литературно-художественными мотивами. Ему страстно хотелось подвергнуть переоценке характер Сталина в новом и режущем глаз свете репрессий; и привлекательность этой задачи для него была сильнее, чем любая гордость или тщеславие, которые могли помешать ему стать биографом Сталина. Его главный герой, Сверх-Каин, до некоторой степени был незнаком даже ему самому. Он заново тщательно исследовал сталинские характерные черты, глубоко закопался в архивы и прочесывал свои собственные воспоминания в поисках тех сцен, инцидентов и впечатлений, которые сейчас, казалось, обретали новое значение и новые аспекты. Он с неослабным подозрением рылся в потаенных закоулках сталинской карьеры и везде открывал или снова находил одного и того же злодея. Да, делал он вывод, этот Каин великих репрессий все время существовал, прячась то в члене Политбюро, то в большевике до 1917 года, в агитаторе 1905 года, даже в студенте Тифлисской семинарии и мальчике Coco. Он обнаружил страшную, зловещую, почти обезьяноподобную фигуру, скрытно пробирающуюся к высочайшему месту власти. Эта картина, грубая, кривобокая, иногда нереальная, извлекала художественное качество из силы страсти, которая эту картину оживляет. Она представляла портрет ужасного монстра.
Несомненно, даже здесь Троцкий обращается с фактами, датами и цитатами с обычной своей исторической добросовестностью. Он проводит четкую разделительную черту между установленными фактами, заключениями, предположениями и слухами, чтобы читатель мог просеять огромный биографический материал и сформировать собственное мнение. Педантичность Троцкого в данном случае такова, что его метод расследования и изображения крайне скучен, многословен и утомителен. Вооруженный гигантским набором цитат и документов, он долго полемизирует с ордами сталинских подхалимов и придворных, не понимая, какую абсурдную честь оказывает им, поступая таким образом. Тем не менее, составляя этот портрет, он в избытке и слишком часто использовал данные предположений, догадок и слухов. Он хватался за любой слух и любую сплетню, если они выявляли какую-нибудь новую черточку жестокости или предполагали предательство юного Джугашвили. Он доверял одноклассникам Сталина, а впоследствии — его врагам, которые в воспоминаниях о своем детстве, написанных в изгнании через тридцать и более лет после событий, заявляли, что мальчик Coco «лишь саркастически усмехался при виде радостей и печалей своих приятелей», что «ему было чуждо сочувствие к людям или животным» или что еще «с юности для него самой главной целью было осуществление заговоров с целью мщения». Он цитировал противников Сталина, которые описывали подростка и зрелого мужчину чуть ли не как агента-провокатора; и, хотя Троцкий не был согласен с этим обвинением, он придавал ему «значение», как бы показывая, что бывшие товарищи считали Сталина способным на это!
Нет необходимости углубляться во многие примеры такого подхода. Самым, конечно, поразительным является упоминавшееся выше предположение Троцкого о том, что Сталин отравил Ленина. Он рассказывал, что в феврале 1923 года Ленин, парализованный и утративший речь, хотел покончить с собой и попросил у Сталина яду — сам Сталин сообщил об этом по секрету Троцкому и Зиновьеву с Каменевым. Он припоминал странное выражение лица Сталина в тот момент и строил свое обвинение на том основании, что смерть Ленина — год спустя — наступила «неожиданно» и что как раз тогда Сталин был в таком суровом конфликте с Лениным, что «должен был прийти к мысли и намерению» ускорить смерть Ленина. «Я не знаю, посылал ли Сталин яд Ленину с намеком, что врачи не имеют надежды на выздоровление, либо он прибегнул к более прямым средствам. Но я твердо убежден, что Сталин не мог пассивно дожидаться, когда судьба его висела на волоске и решение зависело от небольшого, очень малого движения руки Ленина». И тут Троцкий ошеломляюще по-новому трактует историю, которую до этого рассказывал много раз, о том, как Сталин маневрировал, стремясь удержать его, Троцкого, подальше от Москвы во время похорон: «Должно быть, он боялся, что я свяжу смерть Ленина с прошлогодним разговором о яде; спрошу у врачей, не было ли отравления, и потребую аутопсии». Он вспоминал, что по возвращении в Москву после похорон обнаружил, что врачи «в затруднении и не могут составить заключение» о смерти Ленина и что два или три года назад Зиновьев и Каменев избегали всяких разговоров об этом и на вопросы Троцкого отвечали «односложно и старались не смотреть мне в глаза». Но он так и не говорил, зародилось ли у него подозрение или убеждение о виновности Сталина уже в 1924 году, или оно сформировалось только в годы репрессий, после того как Ягоду и кремлевских врачей обвинили в использовании яда в их смертоносных интригах. Если бы он имел это убеждение или подозрение в 1924 году, почему он никогда не озвучивал его до 1939 года? Почему даже после смерти Ленина он не кому иному, как Максу Истмену, описывал Сталина как «мужественного и искреннего революционера»? Даже в этой обличительной биографии Троцкий все еще выражал мнение, что, если бы Сталин предвидел, какими кровавыми конвульсиями закончится эта внутрипартийная борьба, он бы никогда ее не начал. Таким образом, он все еще относится к Сталину 1924 года как к по существу честному, хотя и недальновидному человеку, который вряд ли был способен отравить Ленина. Такое несоответствие предполагает, что, обвиняя Сталина в этом конкретном преступлении, Троцкий проектировал опыт великих репрессий назад в 1923–1924 годы, делал вывод, что Сталин, этот палач всех учеников Ленина, наверняка был способен убить и Ленина, и действительно его убил. Трудно не задуматься, не является ли «загадка» смерти Ленина, подозрение в нечестной игре, в трюках, использованных Сталиным, чтобы избежать вскрытия трупа, порождением личных переживаний Троцкого в связи со смертью.
Надо сказать, фигура Сталина перед любым биографом выдвигает эту же проблему. Несомненно, его характер играл важнейшую роль в репрессиях; и задачей биографа является проследить формирование этого характера и показать, как рано, на каких стадиях и до какой степени проявились эти пристрастия и наклонности. Однако задача эта не отличается от той, которую должен решить юрист, анализирующий ход жизни преступника. Вероятность криминального поступка может достаточно рано присутствовать в данном характере, но ее нельзя представлять как действительность до того, как она превратилась в этот поступок. Наверняка глубокая подозрительность, скрытность и болезненная тяга к власти проявлялись в Сталине задолго до его возвышения; и все-таки многие годы это были лишь его второстепенные особенности. Биограф обязан обращаться с ними, не теряя чувства меры и не упуская из виду динамику личности и крайне важное взаимодействие обстоятельств и характера. Сталин Троцкого невозможен в той степени, в которой он представляет этот характер, как будто остающимся в основном одинаковым как в 1936–1938-м, так и в 1924 году, и даже в 1904-м. Это чудовище не формируется, не растет и не возникает — оно выглядит уже почти сложившимся с самого начала. Всякие положительные качества, как то: честолюбие и симпатия к угнетенным, без чего ни один молодой человек никогда не вступил бы в преследуемую революционную партию, здесь почти полностью отсутствуют. Возвышение Сталина внутри партии происходит не благодаря каким-то заслугам или достижениям, и посему карьера его становится практически необъяснимой. Его избрание в ленинское Политбюро, присутствие в большевистском внутреннем кабинете и назначение на пост Генерального секретаря выглядят совершенно случайными. Сам Троцкий суммирует свой подход в единственной фразе: «Процесс возвышения [Сталина] происходил где-то за непроницаемым политическим занавесом. В определенный момент его фигура в полном торжественном облачении вдруг шагнула из Кремлевской стены». И даже из разоблачений, сделанных Троцким, очевидно, что Сталин вовсе не таким образом выдвинулся в первые ряды: он был после Ленина и Троцкого самым влиятельным человеком в совете внутри партии, по крайней мере, еще с 1918 года; и не просто так Ленин в своем завещании опишет Сталина как одного из «двух самых способных людей в Центральном Комитете».
Как биограф Троцкий не менее, чем лидер оппозиции, недооценивает Сталина и силы и обстоятельства, ему благоприятствовавшие. «Нынешнее официальное сравнение Сталина с Лениным просто недостойно, — справедливо замечает он. — Если за основу сравнения взят размах личности, то нельзя ставить Сталина рядом даже с Муссолини или Гитлером. Какими бы скудными ни были идеи фашизма, оба победоносных лидера реакции, итальянской и германской, с начала своих соответствующих движений проявляли инициативу, побуждали массы к действию, прокладывали новые пути через политические джунгли. О Сталине ничего подобного сказать нельзя». Эти слова были написаны, когда СССР вступал во второе десятилетие плановой экономики; и даже тогда они звучали неестественно. Они звучали совершенно фантастически и несколько лет спустя, когда роль Сталина можно было рассмотреть на фоне Второй мировой войны и ее последствий. «Пытаясь найти Сталину историческую параллель, — продолжал Троцкий, — мы должны отстранить не только Кромвеля, Робеспьера, Наполеона и Ленина, но даже Муссолини и Гитлера. [Мы подойдем] ближе к пониманию Сталина, [когда будем мыслить в масштабах] Мустафы Кемаля Ататюрка или, возможно, Порфирио Диаса». Тут уж отсутствие исторического масштаба и перспективы просто поразительно и тревожно.
Что водило пером Троцкого в пассажах, подобных этим, так это, конечно, его священный гнев и возмущение чудовищностью культа личности Сталина. Он низводил Сталина до мелкорослого тирана, раздувшегося до сверхъестественных размеров, до деспота, превратившего себя в божество. Поступая таким образом, Троцкий прокладывает путь, так сказать, тем, кто много лет спустя сбросит монументы Сталину, выкинет его тело из Мавзолея на Красной площади, сотрет его имя с площадей и улиц и даже переименуют Сталинград в Волгоград. С ясным предчувствием всего этого Троцкий вспоминал, что Нерона тоже обожествляли, но «после того, как он скончался, его статуи были разбиты на куски, а имя его соскоблили отовсюду. Месть истории сильнее, чем месть самого могущественного Генерального секретаря. Я осмеливаюсь думать, что это утешает». Незадолго до того, как он был поражен окончательным ударом сталинского вероломства, Троцкий уже смаковал грядущее возмездие истории и свою собственную победу за пределами могилы. Он готовил это воздаяние в словах достаточно весомых, чтобы служить в качестве текста для приговора будущих поколений. Он обращался со Сталиным, как с символом гигантского вакуума, продуктом эпохи, в котором растворились моральные принципы старого порядка, а новые еще не сформировались.
«L'état c'est moi[130] — почти либеральная формула для сравнения реальностей сталинского тоталитарного режима. Людовик XIV отождествлял себя и с государством, и с церковью — но лишь в эпоху скоротечной, бренной власти. Тоталитарное государство выходит далеко за пределы монархии-папства… Сталин может справедливо заявить, в отличие от Короля-Солнца — La société c'est moi».[131]
А вот как Троцкий передавал в одной-единственной эпиграмме все трагическое напряжение между Сталиным и старыми большевиками:
«Из двенадцати апостолов Христа лишь Иуда оказался предателем. Но если бы он пришел к власти, он бы представил остальных одиннадцать апостолов предателями, а с ними и тех более мелких учеников, которых Лука насчитал семьдесят».
Комментарии Троцкого к событиям, ведущим к войне, и к перспективам войны и революции могли бы стать предметом отдельной монографии. В этих работах кое-что поражает сильнее, чем даже контраст между ясным и почти безошибочным анализом стратегически-дипломатических элементов и искаженным видением перспектив революции. Он видел во Второй мировой войне в основном продолжение Первой, продолжение борьбы великих империалистических держав за передел мира. Во время мюнхенского кризиса он видел «силу Гитлера (и слабость) в… его готовности использовать… шантаж, и блеф, и риск войны», тогда как старые колониальные державы, которые ничего не выигрывали, но много теряли, опасались вооруженного конфликта. «Чемберлен отдал бы все демократии мира — а их осталось немного — за одну десятую часть Индии». По мнению Троцкого, Мюнхенское соглашение ускорило развязывание войны; к тому же привели и успехи Франко в Испании, поскольку они освободили буржуазные правительства от страха революции в Европе. Политика Сталина имела тот же эффект: продавая рабочее движение, «как будто это была нефть или марганцевая руда», он тоже помогал капитализму вернуть уверенность в себе.[132]
Но здесь решающим было поведение Соединенных Штатов, ибо и Чемберлен, и Сталин боялись ввязываться в драку с Гитлером, пока Соединенные Штаты остаются в стороне. И все же Соединенные Штаты, эта ведущая мировая империалистическая держава, унаследовавшая место Британии, не могли придерживаться изоляционистской позиции; они были жизненно заинтересованы в том, чтобы остановить экспансию германского и японского империализма; и они вступали во Вторую мировую войну «значительно раньше, чем вошли в Первую». Соединенным Штатам также было суждено играть куда более важную роль в заключении мира, ибо «если мир не заключится на базе социализма, тогда победоносные Соединенные Штаты будут диктовать условия мира».
Легко можно представить себе громогласное осуждение, с которым Троцкий встретил германо-советский пакт августа 1939 года: теперь мастер великих репрессий разоблачил себя как сообщник Гитлера. Еще с 1933 года Троцкий повторял, что ничто Сталину не подойдет лучше, чем замирение с Гитлером. И вот после того, как обезглавлена Красная армия, страх собственной слабости привел Сталина в объятия Гитлера. «Пока Гитлер ведет свои военные операции, Сталин действует как его интендант, — замечает Троцкий в первые дни войны. — Но цель Сталина, — добавляет он, — не в том, чтобы помогать Третьему рейху одерживать победы, а в том, чтобы как можно дольше держать Советский Союз подальше от войны и тем временем развязать руки балтийским и балканским странам». Когда Сталин и Гитлер под аплодисменты Коминтерна приступили к разделу Польши, Троцкий дал такой комментарий: «Польша возродится, но Коминтерн — никогда». Но даже в своих самых неистовых нападках на сталинскую беспринципность и цинизм он не возлагал на Сталина всю вину. Он повторял, что «ключ к кремлевской политике находится в Вашингтоне» и что для того, чтобы Сталин изменил свой курс, Соединенные Штаты должны бросить весь свой вес на борьбу против Гитлера. Ту же самую мысль он повторял во время «странной войны» зимой 1939/40 г., говоря, что Франция и Британия, избегая настоящего столкновения с Германией, проводит нечто вроде «военной забастовки» против Соединенных Штатов. К завоеванию Европы Гитлера подстрекали как с Востока, так и с Запада. Польское и чешское правительства уже бежали во Францию. «Кто знает, — писал Троцкий 4 декабря 1939 года, за много месяцев до крушения Франции, — не придется ли бельгийскому, голландскому, польскому и чехословацкому правительствам искать убежища в Великобритании?» Он «даже ни на момент» не допускал возможности нацистской победы; «но перед тем, как пробьет час разгрома Гитлера, многие, очень многие в Европе будут истреблены. Сталин не желает оказаться среди них, а поэтому ведет себя осторожно, чтобы не отделиться от Гитлера раньше времени».
Когда Франция капитулировала и почти вся Европа покорилась гитлеровской военной мощи, Троцкий клеймил позором Сталина и Коминтерн за их роль в ускорении катастрофы. «Второй и Третий Интернационалы… обманывали и деморализовывали рабочий класс. После пяти лет пропаганды за союз демократий и коллективную безопасность и после неожиданного перехода Сталина в гитлеровский лагерь французский рабочий класс оказался застигнут врасплох. Эта война спровоцировала ужасную потерю ориентации, настроение пассивного пораженчества». Теперь СССР был «на краю пропасти». «Все территориальные завоевания Сталина в Восточной Европе мало значили в сравнении с ресурсами и мощностями, которые захватил Гитлер и которые он будет использовать против Советского Союза».
Заявив все это, Троцкий с исключительной твердостью настаивал на том, что Советский Союз остается государством трудящихся, имеющим право на безусловную защиту против всех своих капиталистических врагов, фашистских и демократических. Он даже не отрицал права Сталина на сделку с Гитлером, хотя сам считал, что советско-германский пакт не дал Советскому Союзу никакого ощутимого преимущества; он предпочел бы советскую коалицию с Западом. Но он утверждал, что вопрос, к кому должен присоединиться Советский Союз, надлежит решать единственно на основании выгоды и что в этот выбор не вовлечены никакие политические либо моральные принципы, потому что западные державы не менее, чем Третий рейх, борются лишь за свои империалистические интересы. Что Троцкий осуждал в сталинской политике, так это не столько его выбор союзника или партнера, сколько то, что тот превозносил сделанный выбор и провозглашал идеологическую солидарность с тем, кому случалось в этот момент оказаться его партнером. Теперь Сталин и Молотов восхваляли германо-советскую дружбу, «сцементированную кровью»; их сателлиты, потворствующие гитлеровским жестокостям, объявили, что Польша никогда не возникнет вновь; а их пропагандисты вроде Ульбрихта обратили все свое «антиимпериалистическое» рвение исключительно против западных держав. Вот как, делает вывод Троцкий, «сталинизм использует свое контрреволюционное влияние на международной арене»; и это было еще одной причиной, почему советские трудящиеся должны его свергнуть силой. Но он снова заявлял, что даже при сталинской власти государство трудящихся масс остается реальностью, которую необходимо защищать против всякого врага и сражаться до последнего.
Он прекрасно понимал, что его мысли многим покажутся парадоксальными — но разве реальность сама по себе не парадоксальна? Аннексировав по сговору с Гитлером восточные болота Польши, Сталин приступил там к экспроприации крупных землевладельцев, к разделу их поместий между крестьянами и к национализации индустрии и банков: стремясь обеспечить военный контроль над присоединенными территориями, своими новыми «оборонительными брустверами», он подстроил их политический и социальный режим под тот, что существовал в Советском Союзе. Акт революции произошел в результате сталинского сотрудничества и соперничества с самой контрреволюционной державой в мире. Одним ударом Сталин восполнил главный недостаток, который всегда фигурировал в каждой программе польских и украинских социалистов и коммунистов и который сами они были не в состоянии осуществить. Социальные потрясения в аннексированных землях, конечно, были работой советских оккупационных войск, а не польских и украинских трудящихся — это была первая из длинной серии революций сверху, которые Сталину суждено было навязать Восточной Европе. И пока он экспроприировал собственников экономически, он экспроприировал рабочих и крестьян политически, лишая их свободы выражения и собраний.
Троцкий, пренебрежительно относившийся к сталинским «бюрократическим методам» и махинациям с Гитлером, признавал «в основном прогрессивный» характер социальных перемен в восточных районах Польши. Он утверждал, что Сталин сверг старый порядок здесь только потому, что в Советском Союзе действительно находится государство трудящихся — только это остановило его от сделок с польскими помещиками и капиталистами. Иными словами, заявляя это, Троцкий сам себе противоречил. Разве он не утверждал, что сталинизм продолжает играть «двойственную», прогрессивную и реакционную роль только внутри Советского Союза, но что эта роль «на международной арене» «исключительно контрреволюционна», то есть направлена на сохранение капиталистического порядка? Разве это не было главным аргументом Троцкого в пользу создания 4-го Интернационала? Он все еще придерживался мнения, что в более широком масштабе международное влияние сталинизма остается контрреволюционным и что социальные потрясения в области восточных польских границ — лишь местный феномен. Он отмечал, как мало значит экспроприация помещиков и капиталистов в Западной Украине (или позднее в Прибалтийских государствах) по сравнению с деморализацией сталинизмом французских рабочих, его предательством испанской революции и услугами, которые он оказал Гитлеру. Вновь и вновь возвращался он к несоответствию двух сторон сталинизма, внутренней и зарубежной, и старался объяснить это тем фактом, что внутри СССР элементы государства трудящихся (государственная собственность, планирование и революционные традиции) преломляются даже сквозь сталинский бюрократический деспотизм и ограниченную сталинскую свободу движения; тогда как на «международной арене» сталинизм действует без каких-либо подобных запретов, преследуя лишь свои узкие интересы и свободно следуя своим оппортунистическим наклонностям.
Этот аргумент хотя и содержал некоторую долю истины, не мог разрешить или даже маскировал теоретические и политические трудности, которые теперь возникли перед троцкизмом, трудности, которые так колоссально выросли вместе с событиями наступающего десятилетия. Как реально, в самом деле, различие, которое Троцкий провел между внутренними (частично все еще прогрессивными) и международными (целиком контрреволюционными) функциями сталинизма? Может ли какое-нибудь правительство или правящая группа на любой отрезок времени обладать одним характером дома и совершенно другим — за рубежом? Если советская внутренняя политика сохранила качество государства трудящихся; то как это может не оказать влияния на ее отношения с внешним миром? Как может правительство страны рабочих постоянно оставаться фактором контрреволюции?
Троцкий со своими учениками мог разобраться с этой проблемой лишь одним из двух способов: либо они обязаны объявить, что Советский Союз прекратил существовать как государство трудящихся, что это происходит из-за антиреволюционного направления сталинской политики как дома, так и за рубежом и что, следовательно, марксисты не имеют каких бы то ни было причин, чтобы продолжать «защищать Советский Союз». Либо им надо признать, что сталинизм продолжает играть двойственную или непоследовательную роль как за рубежом, так и дома, что это отвечает противоречивому характеру режима в СССР при выживании государства трудящихся внутри бюрократического деспотизма и что марксизм может справиться с этой сложной ситуацией только путем отрицания сталинизма, но при этом защиты Советского Союза.
Весьма немногие из учеников Троцкого пытались найти выход из этого затруднительного положения, заявляя, что Советский Союз больше не является государством трудящихся масс, потому что его бюрократия сформировала новый класс, эксплуатирующий и угнетающий рабочих и крестьян. Как мы знаем, эта идея витала в воздухе с 1921 года, когда ее впервые озвучила «рабочая оппозиция» в Москве; и, хотя Троцкий всегда отвергал это, идея никогда не переставала находить отзвук в душе некоторых из его сторонников. В 1929 году Раковский озадачил их, когда написал, что Советский Союз уже превратился из пролетарского государства, которое было бюрократически деформировано, в бюрократическое государство, сохранившее лишь остаточный пролетарский элемент. Троцкий одобрительно процитировал эту притчу (которая подпирает некоторые из его умозаключений в «Преданной революции»); но выводов из этого он не делал. Теперь некоторые из его учеников ломали голову, что могло остаться от того «остаточного пролетарского элемента» через десять лет — и каких лет! Не будет ли нелепостью продолжать вести речь о государстве трудящихся? Они находили поддержку такому выводу в некоторых из умозрительных построений Троцкого, намеках и случайных замечаниях. В «Преданной революции» он утверждал, что советские группы управленцев готовят денационализацию индустрии и хотят стать ее хозяевами через обладание контрольными пакетами акций — иными словами, что сталинская бюрократия выращивает новый капиталистический класс. Прошли годы, а нет и признаков такого явления. Разве не был тогда Троцкий ошибочен в своей концепции советского общества? Он считал, что сталинская бюрократия насиживает новый буржуазный класс и новый капитализм; но не была ли сама эта бюрократия тем новым классом, высиженным Октябрьской революцией, а теперь полностью оперившимся?
Как раз перед самым началом войны один итальянский бывший троцкист Бруно Рицци утвердительно ответил на этот вопрос в мало кем замеченной, но важной книге «La Bureaucratisation du Monde»,[133] изданной в Париже. Рицци был первоначальным автором идеи «управленческой революции», которую позднее Бернхэм, Шахтман, Джилас и многие другие будут истолковывать в значительно более грубых версиях. Он остановился на роли аргумента Троцкого, изложенного в «Преданной революции», чтобы отвергнуть сам аргумент в целом. Русская революция, заявлял он, вознамерившись, как и французская революция, уничтожить неравенство, просто-напросто заменила один вид экономической эксплуатации и политического угнетения другим. Троцкий, мучимый призраком реставрации капитализма в СССР, не увидел, что там установился «бюрократический коллективизм как новая форма классового господства». Он отказывается рассматривать эту бюрократию как «новый класс», потому что она не владеет средствами производства и не накапливает прибыли. Но эта бюрократия, отмечал Рицци, владеет средствами производства и накапливает прибыли, только реализует это коллективно, а не индивидуально, как это делали старые классы собственников. «В Советском Союзе эксплуататоры не отчуждают прибавочной стоимости напрямую, как это делает капиталист, когда кладет в карман дивиденды от своего предприятия; они делают это косвенным путем, через государство, которое обменивает на деньги сумму общей национальной прибавочной стоимости, а затем распределяет ее среди своих чиновников». Де-факто владение средствами производства, владение через государство и владение государством заняло место буржуазной собственности де-юре. Новое состояние дел не было, как предполагал Троцкий, бюрократическим интервалом или переходной фазой реакции, а новой стадией в развитии общества, даже исторически необходимой фазой. Точно так же, как за феодализмом последовали не Равенство, Свобода, Братство, а капитализм, поэтому за капитализмом последует не социализм, а бюрократический коллективизм. Большевики просто «объективно» были так же не способны достичь своих идеалов, как и якобинцы — реализации своих. Социализм все еще является утопией. Вдохновленные им рабочие опять обмануты, лишены плодов своей революции.
Коль скоро, продолжает Рицци, бюрократический коллективизм организовал общество и его экономику эффективней, чем это делал или мог делать капитализм, его триумф знаменует собой исторический прогресс. И поэтому он обязан занять место капитализма. Государственный контроль и планирование были доминировавшими не только при сталинском режиме, но и при Гитлере, Муссолини и даже при Рузвельте. В различной степени сталинисты, нацисты и адепты «нового курса» сознательно или невольно являлись агентами новой системы эксплуатации, которой было предрешено овладеть всем миром. Поскольку бюрократический коллективизм стимулирует общественную производительность труда, подводит итог Рицци, он будет неуязвим. Рабочие могут только делать то, что делали в эпоху раннего капитализма, — бороться за улучшение своей судьбы и отвоевывать уступки и реформы у своих новых эксплуататоров. Только после того, как новая система станет загнивать и тормозить и сковывать общественный рост, они смогут возобновить, и с успехом, борьбу за социализм. Это — отдаленная перспектива, но не такая уж нереальная: бюрократический коллективизм — последняя форма угнетения человека человеком — так близок к бесклассовому обществу, что бюрократия, этот последний эксплуатирующий класс, отказывается признаться в том, что является классом собственников.
Троцкий, зная, что Рицци выражал смысл идей, распространенных среди троцкистов, высказал свои соображения в очерке «СССР в войне», написанном в середине сентября 1939 года. «Было бы чудовищной глупостью, — начинал он, — порвать с товарищами, которые расходятся с нами во взглядах на социальную природу СССР, поскольку мы согласны с ними в отношении наших политических задач». Спор, является ли СССР государством трудящихся или нет, часто лишь уловка — Рицци, по крайней мере, прав в том, что «поднял этот вопрос на высоту исторического обобщения». Он классифицировал бюрократический коллективизм как новый строй общества, главным образом, один и тот же за различными фасадами сталинизма, нацизма, фашизма и «нового курса». То, что он приравнял сталинизм к нацизму (отвечал Троцкий), могло бы звучать достаточно правдоподобно в дни пакта между Гитлером и Сталиным. Этот пакт, как замечали многие, просто показал родство двух режимов, родство, столь очевидное в их методах управления; по мнению Рицци, это лишь вопрос времени, когда нацистское и фашистское (а также и рузвельтовское) государства доведут контроль над экономикой до логического заключения и национализируют всю индустрию. Против этого Троцкий возражал, что, каково бы ни было сходство между гитлеровскими и сталинскими методами правления, экономические и социальные различия являются качественными, а не просто количественными — в этом отношении существовала пропасть между их режимами. Ни Гитлер, ни Рузвельт не выходили и не могли выйти за рамки «частичной национализации» — каждый из них лишь налагал государственное вмешательство на преимущественно капиталистический строй. Сталин сам осуществлял контроль над истинно посткапиталистической экономикой. Естественно, рост бюрократии был очевиден в различных странах и при различных режимах. Но бюрократический коллективизм, как отличительный социальный порядок, если он вообще существует, был ограничен одной-единственной страной, и там он покоился на фундаменте, созданном социалистической революцией.
И поэтому было бы опрометчиво, как отмечал Троцкий, говорить о какой-то «универсальности», посредством которой бюрократический коллективизм является реальным наследником капитализма. Если бы это было так, тогда любая социалистическая революция, даже в самой передовой индустриальной стране (или в нескольких таких странах), неизбежно возвестила бы что-то вроде сталинского режима. Таково было действительно мнение Рицци. Возражая на это, Троцкий ссылался на эмпирическое свидетельство, показывающее, насколько заметно отсталость, бедность и изоляция России способствовали приходу Сталина к власти. Под тяжестью обстоятельств русская революция деградировала, но не было причины предполагать, что любая социалистическая революция должна, независимо от обстоятельств, также деградировать. Сталинизм был не нормой нового общества, как считал Рицци, а исторической аномалией, не финальным исходом революции, а отклонением от революционного курса. Советская бюрократия являлась паразитическим наростом на теле рабочего класса, таким же опасным, каким может быть любой нарост. Но она не была независимым органом. В противоположность взглядам Рицци бюрократический коллективизм не представлял какого-то исторического проrpecca — прогресс, которого добивался Советский Союз, достигался благодаря коллективизму, но не бюрократии. Сталинизм мог выживать лишь до тех пор, пока Советский Союз просто одалживает, копирует и усваивает более передовые западные технологии. Как только этот этап будет пройден, потребности общественной жизни значительно усложнятся, и общественной инициативе придется вновь заявить о себе. Поэтому впереди маячит серьезный конфликт между бюрократией и социальной инициативой, конфликт этот будет тем глубже, потому что, в отличие от французской буржуазии, после революции эта бюрократия — «не носитель новой экономической системы», которая без него не может функционировать. Напротив, для того чтобы нормально функционировать, новой системе придется освободиться от хватки бюрократии.
Идея, лежавшая в основе всех этих теорий о бюрократическом коллективизме, состояла в том, что рабочий класс проявил свою неспособность осуществить социалистическую революцию, выполнения которой ожидал от него марксизм. И все-таки капитализм тоже показал свою неспособность функционировать и выживать. Поэтому его должна была заменить какая-то форма коллективистской экономики. Но так как рабочий класс не смог справиться с этой задачей, ее решала бюрократия; и старый порядок был заменен не социалистическим, а бюрократическим коллективизмом. Троцкий соглашался, что в этом была основная проблема противоречия. Вопрос, был ли Советский Союз государством рабочих или был ли его режим бюрократическим коллективизмом, являлся вторичным. Все, что он сам намеревался сказать, когда говорил о «государстве трудящихся», — то, что его потенциальные возможности и элементы сохранились в общественной структуре Советского Союза, — ему не пришло на ум предположить, что сталинский режим являлся государством трудящихся в обычном и политическом смысле. С другой стороны, можно вести речь о «советском» бюрократическом коллективизме и все еще утверждать, что это понятие включает в себя потенциальные возможности государства трудящихся. Еще более важно было, действительно ли бюрократическому коллективизму суждено остаться, потому что рабочий класс по природе своей не способен достигнуть социализма.
Неоспоримо то, что биография рабочего движения осложнена провалами и разочарованиями. Рабочие не сумели преградить Муссолини, Гитлеру и Франко дорогу к власти; они позволили довести себя до поражения Народных фронтов и не предотвратили две мировых войны. Но какой же диагноз поставить этим неудачам? Промахи руководства, которые можно было бы исправить? Или же это историческое банкротство рабочего класса и очевидная его неспособность править и преобразовывать общество? Если вина на руководстве, то выход состоит в создании нового руководства в новых марксистских партиях и нового Интернационала. Но если виновен рабочий класс, тогда надо признать, что марксистский взгляд на капиталистическое общество и социализм неверен, ибо марксизм провозглашал, что социализм будет либо продуктом пролетариата, либо его не будет вообще. Был ли в таком случае марксизм всего лишь еще одной «идеологией» или другой формой ложного сознания, которое заставляет угнетенные классы и их партии верить, что они борются за свои собственные цели, когда в действительности они только продвигают интересы нового или даже старого класса? Если смотреть под этим углом, поражение чистого большевизма находилось бы в том же ряду, что и разгром якобинцев — как результат столкновения между Утопией и новым общественным строем — и сталинская победа представилась бы триумфом реальности над иллюзией и необходимым актом исторического прогресса.
Так что на закате дней Троцкий задавал себе вопрос о значении и смысле всей своей жизни и борьбы, а также фактически всех сражений нескольких поколений борцов, коммунистов и социалистов. Неужели целое столетие революционных устремлений рассыпалось в пыль? Вновь и вновь возвращался он к факту, что рабочие не свергли капитализм нигде, кроме России. Вновь и вновь он изучал долгую и унылую цепь поражений, которые революция потерпела в промежутке между двумя мировыми войнами. И он сам пришел к заключению, что если необходимо приплюсовать крупные новые провалы к этому списку, тогда вся историческая перспектива, начертанная марксизмом, в самом деле окажется под вопросом. В этом месте он позволил себе сделать одно из этих сверхэкспрессивных и гиперболических заявлений, которые время от времени приходят в голову любому великому полемисту и человеку действия, но которые, понятые буквально, ведут к бесконечному конфузу. Он заявил, что окончательное испытание для рабочего класса, для социализма и марксизма неминуемо: оно свершится во Вторую мировую войну. Если война не приведет к пролетарской революции на Западе, тогда место загнивающего капитализма должен занять не социализм, а новая бюрократическая и тоталитарная система эксплуатации. А если рабочий класс Запада захватит власть, но затем окажется неспособным удержать ее и отдаст ее привилегированной бюрократии, как это сделали русские рабочие, тогда в самом деле надо будет признать, что надежды, которые Маркс возлагал на пролетариат, были необоснованны. В таком случае в новом свете будет выглядеть подъем сталинизма в России: «Мы вынуждены признать, что… [корни сталинизма] не в отсталости страны и не в империалистическом окружении, а во врожденной неспособности пролетариата стать правящим классом. Затем надо установить в ретроспективе, что… нынешний СССР был предтечей новой и универсальной системы эксплуатации… Какой же затруднительной… может быть перспектива, если мировой пролетариат действительно окажется неспособным выполнить свою миссию… Ничего другого не останется, кроме как открыто признать, что социалистическая программа, основанная на внутренних противоречиях капиталистического общества, улетучилась, как Утопия».
Вероятно, лишь марксисты в состоянии до конца прочувствовать трагическую торжественность, которую эти слова обрели в устах Троцкого. Правда, он произнес их ради аргумента; но даже ради аргумента он никогда еще так близко не рассматривал возможность крушения социализма; он настаивал, что окончательный «тест» — дело нескольких следующих лет; и обрисовал условия этого теста с мучительной точностью. Он продолжал утверждать: «Само по себе очевидно, что [если марксистская программа окажется неприменимой] потребуется новая программа-минимум — чтобы защитить интересы рабов тоталитарной бюрократической системы». Такой пассаж характерен для этого человека: если бюрократическое рабство — это все, что будущее припасло для человечества, тогда ему и его ученикам следует быть на стороне рабов, а не новых эксплуататоров, какой бы «исторической необходимостью» ни оказалась эта новая эксплуатация. Прожив всю свою жизнь с убеждением, что приход социализма — научно обоснованная достоверность и что история на стороне тех, кто боролся за освобождение эксплуатируемых и угнетенных, он сейчас упрашивал своих учеников оставаться на стороне эксплуатируемых и угнетенных, даже если история и все научные факты против них. Он, в любом случае, будет со Спартаком, а не с Помпеем и Цезарем.
Исследовав эту мрачную перспективу, он, однако, не отрекся от нее. Достаточно ли, спрашивал он, доказательств для мнения, что рабочий класс не способен свергнуть капитализм и преобразовать общество? Те, кто придерживались такого взгляда, включая и некоторых из его учеников, никогда не видели рабочий класс в революционном действии. Они наблюдали лишь триумф фашизма, нацизма и сталинизма; либо они знали только буржуазную демократию в процессе загнивания. Весь их политический опыт действительно был осложнен поражениями и разочарованиями; неудивительно, что они засомневались в политических возможностях пролетариата. Но как мог сомневаться он сам, который видел и возглавлял русских рабочих в 1917-м? «В эти годы всемирной реакции мы должны исходить из тех возможностей, которые открыл русский пролетариат в 1917 г.». Проявленные тогда революционный интеллект и энергия русских рабочих показали, что они наверняка скрыты и в германских, французских, британских, да и в американских рабочих. Поэтому Октябрьская революция все еще была «колоссальным активом» и «бесценным залогом на будущее». Последующий перечень поражений надо возлагать не на рабочих, а на их «консервативных и исключительно буржуазных лидеров». Такова была «диалектика исторического процесса, что пролетариат России, самой отсталой страны… породил самое дальновидное и мужественное руководство, в то время как в Великобритании, стране старейшей капиталистической цивилизации, пролетариат даже сегодня имеет самых недалеких и раболепных лидеров». Но лидеры приходят и уходят, а общественные классы остаются. Марксисты все еще должны работать над обновлением руководства и должны ставить все на «органический, глубинный, безудержный порыв трудящихся масс с целью освободиться от кровопролитного хаоса капитализма».
Он вновь подтвердил свою марксистскую убежденность не с пламенным оптимизмом ранних лет, а с испытанной и живучей верностью:
«…основная задача нашей эпохи не изменилась по той простой причине, что она не была решена… Марксисты не имеют ни малейшего права (если не считать разочарование и усталость „правами“) делать вывод, что пролетариат лишился своих революционных возможностей и должен отказаться от всех устремлений… Двадцать пять лет в масштабах истории, когда стоит вопрос самых глубоких изменений в экономической и культурной системах, весят меньше, чем один час в человеческой жизни. Какой толк из человека, который из-за неудач, пережитых за один час или день, отвергает цель, которую поставил перед собой на основе всего опыта… своей жизни?
Если эта война вызовет, а мы твердо верим, что она начнется, пролетарскую революцию, это должно неизбежно привести к свержению бюрократии в СССР и к перерождению советской демократии на экономической и культурной основе, значительно более высокой, чем та, что была в 1918 г. В этом случае будет решен вопрос, является ли сталинская бюрократия „новым классом“ или зловредным наростом на теле государства трудящихся… Каждому станет ясно, что во всемирном процессе революции советская бюрократия была лишь эпизодическим рецидивом».
Было бы непростительно поставить крест на Советском Союзе из-за этого «эпизодического рецидива» и тем самым утратить всю историческую перспективу. Советский Союз — и на данный момент один лишь Советский Союз — содержал в себе социально-экономический каркас для возрождения социалистической демократии; и его необходимо защищать. «Что мы защищаем в Советском Союзе? Не те черты, в которых он схож с капиталистическими странами, а именно те, в которых он от них отличается», не привилегии и угнетение, а элементы социализма. Это отношение «совсем не означает какого-то сближения с кремлевской бюрократией, соглашения с ее политикой или примирения с политикой сталинских союзников… Мы не правящая партия; мы — партия непримиримой оппозиции… Мы реализуем свои задачи… исключительно через просвещение рабочих… объясняя им, что они должны защищать, а что должны свергнуть».
Вновь обратившись к сталинским действиям в Восточной Польше, Троцкий отмечает, что если бы Сталин оставил там нетронутой частную собственность, тогда пришлось бы переоценить природу Советского государства. Но Сталин действовал, как Наполеон, когда, усмирив революцию дома, он принес ее за границу на штыках. (Тут Троцкий молчаливо ревизует понятие о «всецело контрреволюционном» характере сталинской зарубежной политики.) Конечно, это был не марксистский метод революции: «Мы были и остаемся против захвата Кремлем новых территорий. Мы за независимость Советской Украины и… Советской Белоруссии. В то же самое время в польских провинциях, оккупированных Красной Армией, сторонники Четвертого Интернационала должны проявлять активность в экспроприации помещиков и капиталистов, в дележе земли между крестьянами, в создании рабочих советов и т. д. Делая это, они должны сохранять свою политическую независимость: они должны на выборах бороться за полную независимость советов и заводских комитетов от бюрократии и вести свою революционную пропаганду в духе недоверия Кремлю и его местным органам».
Троцкий не мог дать своим польским и украинским сторонникам какой-либо иной совет и остался верен себе, хотя у них и не было шанса действовать по его совету. Они были слабы: они занимали утраченные позиции, а ГПУ сразу раздавило их. Они так же, как и он сам, были застигнуты между необходимостью и невозможностью действия.
Этот спор будет тянуться до конца мая 1940 года, т. е. до вооруженного налета на дом Троцкого. Джеймс Бернхэм, Макс Шахтман и другие американские троцкисты, члены SWP, придерживались сходных с Рицци взглядов, хотя они были менее четко выражены. С началом войны и пактом между Сталиным и Гитлером эти взгляды быстро выкристаллизовались. В начале сентября 1939 года Бернхэм направил в Национальный комитет SWP заявление, в котором утверждалось, что «невозможно считать Советский Союз государством трудящихся в любом смысле слова». В конце месяца Шахтман вынес на обсуждение предложение, именующее советскую оккупацию Западной Украины и Белоруссии «империалистической», отрицая то, что, как говорил Троцкий, эта оккупация будет иметь какие-то прогрессивные последствия, и призывая партию дезавуировать свое обещание защищать Советский Союз. Бернхэм, как профессор философии при университете Нью-Йорка, и Шахтман, популярный выразитель мнения партии, оказывали на троцкистскую интеллигенцию сильное влияние. До сих пор они противостояли войне в духе революционного пораженчества, если войну развязывало буржуазное правительство, пусть даже и демократическое; и выступали за необходимость защищать Советский Союз независимо от того, с каким империалистическим лагерем он связан. Для людей типа Бернхэма и Шахтмана было легко объяснять эту точку зрения до тех пор, пока не разразилась война. Тогда было общепризнано, что Советский Союз станет союзником западных демократий. Но с пактом Сталин — Гитлер и началом военных действий многое изменилось. Настрой народных масс даже в годы американского нейтралитета был чем-то вроде осторожной симпатии к Британии и Франции и яростного негодования против германо-советского пакта. Даже троцкистам было трудно устоять перед таким настроением. Бернхэм и Шахтман не могли не чувствовать, что если они будут продолжать защищать Советский Союз, то навлекут на себя невыносимый позор. И все же, чтобы отказаться от «защиты», им надо было, по марксистским правилам, объявить, что Советский Союз уже не государство трудящихся масс, а просто еще одна контрреволюционная держава, борющаяся за империалистические приобретения. Если Рицци все еще упорствовал, что бюрократический коллективизм был «исторически необходим» и до некоторой степени прогрессивен, то Бернхэм и Шахтман не видели за ним вообще никаких заслуг. Логика этого спора завела их еще дальше в отрицании чего-либо прогрессивного в советской экономике. Явно или неявно они нападали на общенародную собственность в промышленности и государственное планирование, заявляя, что все это служит фундаментом для бюрократического коллективизма и тоталитарного рабства. Постепенно каждый пункт марксистско-ленинской программы, включая диалектику и мораль, оказался объектом дебатов. Бернхэм, Шахтман и те, кто за ними последовали, пришли к отрицанию этой программы пункт за пунктом. Фактически, это было продолжением того самого «Отхода интеллектуалов», который они сами только что описывали, когда нападали на Истмена, Хука и других на страницах «The New International» — только сейчас нападавшие присоединились к отступавшим.
В своей критике Рицци Троцкий сказал все, что ему надо было сказать в этом споре. Полемика с Бернхэмом и Шахтманом велась на куда более низком уровне политической мысли и стиля. Спор был прежде всего примечателен как вспышка разочарования и пессимизма, сдерживаемая среди сторонников Троцкого, и как последнее сопротивление Троцкого, которое он им оказал, — завершение всех его дебатов.
Все вопросы этой полемики дошли до решающей стадии перед концом 1939 года, когда Сталин приказал своим армиям атаковать Финляндию. Троцкий в своих комментариях подверг осуждению «глупое и некомпетентное» ведение Сталиным Финской войны, которая возмутила мир и подвергла Красную армию оскорбительным поражениям. Тем не менее, он настаивал на том, что то, что Сталин старается сделать в Финляндии, — это обезопасить обнаженный фланг Советского Союза от возможного нападения Гитлера. Это было законное действие, и советское правительство, действуя в тех обстоятельствах, в которых оказался Сталин (однако эти обстоятельства были отчасти созданы самим Сталиным), вполне могло быть вынуждено защитить свои границы за счет Финляндии. Стратегические интересы рабочего государства должны иметь приоритет перед правом Финляндии на самоопределение. Поскольку сталинское вторжение в Финляндию было встречено союзными странами кампанией за «переключение войны» и за вооруженную интервенцию на стороне Финляндии, Троцкий еще более пламенно призвал к «защите Советского Союза». Это вызвало шумный протест среди его былых учеников: «Не стал ли Троцкий апологетом Сталина?! Неужели он хочет, чтобы мы стали сталинскими марионетками?» — «Нет, товарищ Троцкий, — ответил Бернхэм, — мы не будем воевать на стороне ГПУ ради спасения контрреволюции в Кремле».
Такого рода слова отражали язык, который Троцкий сам использовал в связи с великими репрессиями, когда призывал «каждого честного человека» разоблачать смертоносные заговоры ГПУ и «выжигать каленым железом раковую опухоль сталинизма» и когда он яростно нападал на тех «друзей Советского Союза», которые во имя священных интересов государства трудящихся одобряли сталинские преступления. Правда, даже в разгар самой ожесточенной полемики он всегда повторял, что, несмотря ни на что, он и его сторонники будут безусловно защищать СССР от всех иностранных врагов. Его приверженцы рассматривали эти заявления как façon de parler;[134] к своему смятению, они обнаружили, что он имел в виду именно то, что говорил. Они обвинили его в непостоянстве, двуличности и даже в предательстве. Они выискивали слабые места в его умозаключениях и аргументах и из этих слабых нитей плели свои новые теории. Разве Троцкий не говорил, что в «международном отношении» сталинизм — только фактор реакции и контрреволюции? Как теперь он мог говорить о «прогрессивных и революционных последствиях» сталинской экспансии в Восточной Европе? Когда они говорили о «новом классе» Советского Союза и бюрократическом коллективизме, он обвинял их в отступничестве от марксизма и заявлял, что абсурдно говорить о каком-то новом виде эксплуатации в стране, где средства производства были национализированы. И все-таки сам он разве не декларировал, что, если в течение ближайших нескольких лет социализм не будет иметь успеха на Западе, бюрократический коллективизм заменит капитализм как новая и универсальная система эксплуатации? Если бюрократический капитализм вероятен в этом качестве, так почему же немыслим как национальная система в СССР? Заявив, что, если рабочий класс Запада не свергнет капитализм к концу Второй мировой войны, марксизм и социализм будут считаться банкротами — он оглушил своих приверженцев. Они столько раз были свидетелями того, как сбывались его пророчества, что сейчас не могли воспринимать это предсказание пренебрежительно. Наиболее верные и наивные из его учеников провели следующие несколько лет в поисках признаков революции на Западе. Скептики и циники пришли к выводу (кто сразу, а кто потом), что в авторском изображении Троцким марксизм и социализм уже банкроты и что уже установилась эпоха бюрократического коллективизма. Бернхэм первым поставил точки над «i». Он был «хорошим большевиком-ленинцем», даже «ярым врагом американского империализма», пока ощущал, что движется по течению истории. Но, убедившись, при невольном содействии Троцкого, в том, что историю вершит класс менеджеров, он поспешно избавился от идеологического балласта марксизма и провозгласил наступление менеджерской революции. Шахтман согласился с прогнозом Бернхэма; но, будучи сильнее привязан к марксизму, он смотрел на перспективу скорее с печалью, чем с воодушевлением, и попытался приноровить ее под обломки своих ранних убеждений.
В смысле нового троцкизма, который они отсортировали из «Преданной революции», Бернхэм и Шахтман пользовались весьма сильными аргументами; и оба сейчас заявляли, что защищают троцкизм от самого Троцкого. «Тогда я не троцкист», — ответил мастер, перефразируя Маркса. Но чтобы отразить их аргументы, ему пришлось дезавуировать, по крайней мере неявным образом, свои собственные полемические преувеличения и излишки. «Товарищей очень возмущает пакт между Сталиным и Гитлером, — сказал он в письме. — Это понятно. Они хотят отмстить Сталину. Очень хорошо. Но сегодня мы слабы и не можем немедленно свергнуть Кремль. Некоторые товарищи тогда пробуют отыскать чисто буквоедское удовлетворение: они отбирают у СССР титул государства трудящихся, как Сталин лишает опального функционера ордена Ленина. Я считаю это, мой дорогой друг, немного ребячеством. Марксистская социология и истерия абсолютно непримиримы». После всего, что он выстрадал в лапах Сталина, ничто больше его не огорчало, чем зрелище того, как разум его учеников затуманен сталинофобией; и до последнего дыхания он умолял их покончить с истерией и перейти к «объективному марксистскому мышлению».
Американские троцкисты раскололись на «большинство», которое во главе с Джеймсом П. Кенноном придерживалось взглядов Троцкого, и «меньшинство», которое следовало за Бернхэмом и Шахтманом. Троцкий призывал их всех проявлять такт и терпимость; и, пока он подбадривал «кеннонитов» решительно вести спор с Бернхэмом и Шахтманом, он также предупреждал их, что сталинские агенты в их рядах стремятся обострить эту перебранку, и советовал позволить меньшинству выражаться свободно и даже действовать как организованная фракция внутри SWP. «Если кто-нибудь предложит… исключить товарища Бернхэма, — предупреждает он, — я буду энергично возражать против этого». Даже после того, как меньшинство созвало свой Национальный конвент, Троцкий все еще рекомендовал большинству не смотреть на это как на повод для исключений из партии.
Меньшинство, однако, по своему собственному усмотрению оформилось как новая партия и присвоило «теоретический ежемесячный журнал» SWP «The New International». Почти тотчас же новая партия вновь раскололась, ибо Бернхэм порвал с ней, заявив, что «из самых важных убеждений, которые связываются с марксистским движением, будь то в реформистском, ленинском, сталинском и троцкистском вариантах, нет практически ничего, что я мог бы принять в его традиционной форме. Я рассматриваю эти убеждения либо как ложные, либо как устаревшие, либо как бессмысленные». Это было ошеломительное признание, исходившее от того, кто эти последние годы был ведущим троцкистом. Лишь несколькими неделями ранее Бернхэм и его друзья чувствовали себя оскорбленными замечаниями Троцкого о его «немарксистском» образе мышления. «На основании убеждений и интересов, — теперь заявлял Бернхэм, — я в течение нескольких лет не имел настоящего места в марксистской партии». Правда это или нет, действительно ли будущий автор «The Managerial Revolution» просто пытался сделать, чтобы его идеологический прыжок выглядел не так неприлично неожиданным, либо он на самом деле все эти годы только выдавал себя за ревностного марксиста и ленинца, ничто из того, что Троцкий высказывал против него, не было даже отдаленно настолько поразительным, как нынешний автопортрет самого Бернхэма. После этого события Троцкий вовсе не сожалел, что потерял такого сомнительного «ученика», которого в частных письмах он характеризовал эпитетами, из которых «интеллектуальный сноб» был наиболее мягким. Он ожидал, что по стопам Бернхэма пойдут и другие: «Дуайт Макдональд — не сноб, но немного туповат… [Он] бросит партию так же, как это сделал Бернхэм, но, возможно, оттого, что он немного ленивей, это произойдет попозже». Он, однако, был всерьез огорчен разрывом с Шахтманом, к которому питал слабость, хотя часто бывал даже раздражен его «клоунством», «верхоглядством» и т. д. Их взаимоотношения датируются еще приездом Шахтмана на Принкипо в 1929-м; они стали близкими благодаря многим последующим встречам, письмам и доказательствам преданности Шахтмана. В нынешней борьбе фракций Троцкий, естественно, поддерживал Кеннона, но в личном плане ощущал себя много ближе к Шахтману. «Если б я мог, — писал он ему в разгар полемики, — я бы немедленно сел на самолет в Нью-Йорк, чтобы подискутировать с вами сорок восемь или семьдесят два часа подряд. Очень сожалею, что вы не ощущаете… необходимости приехать сюда, чтобы обговорить эти вопросы со мной. А может быть, приедете? Я был бы счастлив».
Этот раскол, можно сказать, разрушил 4-й Интернационал, если такая призрачная организация вообще может быть разрушена. Троцкий верил, что после ухода «мелкобуржуазных и карьеристских элементов» SWP пустит более глубокие корни в американском рабочем классе. Но этого не случилось: SWP так и осталась маленькой ячейкой, члены которой были пылко преданы «букве» учения Троцкого, а потом и его памяти, но которые никогда не были в состоянии обрести какой-то политический вес; в то время как его соперник, группа Шахтмана, лишенная даже тех добродетелей, которыми может обладать самая слабая из сект, существовавших десятилетия назад, все более и более осуждала свой «троцкизм» и, наконец, рассыпалась и исчезла. Этим процессом были задеты и троцкистские группы в других странах, ибо везде, особенно во Франции, совсем немногие члены восприняли взгляды Бернхэма и Шахтмана.
Таким образом, на своем закате Троцкий в последний раз наблюдал, как камень, который он катил вверх по склону своей безотрадной горы, вновь скатился вниз.
27 февраля 1940 года Троцкий написал завещание. Ранее он составлял несколько черновых вариантов, но делал это лишь в юридических целях, чтобы гарантировать, что Наталья и/или Лёва унаследуют авторские права на его книги. Нынешний документ был его настоящей последней волей и завещанием; каждая строчка пропитана его ощущением приближающегося конца. Готовя завещание, он, однако, полагал, что может умереть естественной смертью или совершить самоубийство — он не думал о том, что может умереть от руки убийцы. «Мое высокое (и все еще растущее) кровяное давление обманывает тех, кто находится рядом со мной, о реальном положении дел. Я активен и способен трудиться. Но конец явно близок». И все же течение тех шести месяцев, которые все еще лежали перед ним, несмотря на взлеты и падения, было не столь плохим, чтобы оправдывать его мрачные предчувствия. В постскриптуме, датированном 3 марта, он повторяет: «в настоящее время я чувствую… всплеск духовной энергии из-за высокого давления; но это долго не протянется». Он подозревал, что находится в развитой стадии атеросклероза и что доктора скрывают от него истину. Очевидно, на ум ему часто приходили последняя болезнь Ленина и затянувшийся паралич; и он объявил, что чем страдать от такой агонии, он покончит с собой, или, точнее говоря, «укоротит… слишком медленный процесс умирания». И все же он надеялся, что смерть придет к нему внезапно, через кровоизлияние в мозг, ибо «это было бы наилучшим возможным концом, какого я мог бы желать».
Невольно он до некоторой степени смоделировал свое завещание по ленинскому образцу. Оба документа содержали основной текст и постскриптумы, добавленные несколько дней спустя. По содержанию, однако, они представляли собой разительный контраст характеров и обстоятельств. Ленинское завещание было абсолютно безличным. Он придал ему форму письма предстоящему партийному съезду и не говорил и даже не намекал, что пишет это, держа в уме мысль о надвигающейся смерти. Хоть он тоже был мучим серьезнейшими дилеммами, но не испытывал нужды в том, чтобы сделать свое завещание символом веры, слишком хорошо зная, что его принципы и убеждения будут считаться сами собой разумеющимися. Мысль его была занята исключительно кризисом в большевизме (который, он знал, его смерть только ускорит) и поисками мер и путей предупреждения этого кризиса. Он говорил партии, что думал о достоинствах и недостатках каждого из ее высших лидеров; он направил ей свою схему реорганизации Центрального комитета и советовал комитету удалить Сталина с поста Генерального секретаря. До последнего дыхания всем своим существом он оставался руководителем гигантского движения.
Завещание Троцкого, с другой стороны, глубоко лично. Он кратко заявляет, что для него нет необходимости опровергать «тупую и злобную клевету» Сталина, потому что на его революционной чести нет «ни единого пятнышка», и что новое «революционное поколение восстановит политическую честь» его самого и тысяч других жертв. В единственном предложении он благодарит друзей и сторонников, которые были честны с ним в самые трудные часы, но не дает им советов — завещание не содержит ни одного упоминания о 4-м Интернационале. Примерно половина текста посвящена Наталье:
«В дополнение к счастью быть борцом за дело социализма судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неиссякаемым источником любви, благородства и нежности. Она испытала огромные страдания… но я нахожу некоторое утешение в том, что она также знала и дни счастья».
Он прерывает эту дань уважения к ней заверением в преданности своей вере:
«Сорок три года сознательной жизни я был революционером; и сорок два года я боролся под знаменем марксизма. Если бы мне было суждено начать все снова, я бы… постарался избежать тех или иных ошибок, но главный курс моей жизни оставался бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сегодня не менее пылкая, а стала еще тверже, чем это было в дни моей юности».
Написав эти строки, он выглянул в окно, увидел, как к дому подходит Наталья, и ее вид побудил его завершить текст этим поэтическим пассажем:
«Только что к окну со двора подошла Наташа и открыла его пошире, чтобы ко мне в комнату поступало больше свежего воздуха. Мне видна яркая полоска зелени в низу стены и ясное синее небо над стеной, и все залито солнцем. Жизнь прекрасна. Пусть будущее поколение очистит ее от всякого зла, угнетения и насилия и сполна наслаждается ею».
В дополнении к документу он завещал Наталье свои литературные права и начал еще один параграф словами: «В случае, если умрем мы оба…», но не закончил фразу, и оставил чистое место. В постскриптуме от 3 марта он снова углубился в суть своей болезни и записал, что они с Натальей не раз соглашались, что лучше покончить с собой, чем позволить старости превращать себя в физическую развалину. «Я оставляю за собой право определить для себя время своей смерти… Но каковы бы ни были обстоятельства… я умру с неколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека и в его будущее дает мне даже сейчас такую силу сопротивления, которую не может дать никакая религия».
К тому времени Сталин решил, что больше нельзя позволять Троцкому жить. Это может показаться странным. Чего, может возникнуть вопрос, ему еще было бояться? Разве он не истребил всех поборников Троцкого и даже их семьи, чтобы не появился какой-нибудь мститель? И что мог один Троцкий с другого конца планеты предпринять против него? Несколькими годами раньше Сталин мог опасаться, что Троцкий может занять место во главе нового зарубежного коммунистического движения, но разве он [Сталин] не понимал, что 4-й Интернационал превратился в ничто?
Остается факт, что Сталин не чувствовал себя в безопасности. Он не мог заставить себя поверить, что его насилие и террор привели к осуществлению всего, что он хотел, что старые большевики-атланты действительно исчезли. Он пристально вглядывался в лица тех толп людей, которые громко ему аплодировали, и догадывался, какая ужасная ненависть может скрываться за их лестью. При таком множестве уничтоженных и поломанных жизней и при таком огромном недовольстве и отчаянии, окружавшем его, кто мог сказать, какие непредвиденные потрясения может принести война? Разве не могут каким-то образом атланты опять возникнуть в новых гражданах, но со старым сопротивлением? И даже если 4-й Интернационал сейчас совершенно бессилен, кто мог сказать, как катаклизмы войны могут изменить политический ландшафт, какие горы они не сровняют и какие холмы они не превратят в могучие пики? Все перспективы, столь реальные для Троцкого в его надеждах, были в равной степени реальны для Сталина в его страхах; и живой Троцкий был их высшим и неутомимым представителем. Он оставался рупором Атлантиды, все еще выражающим ее бессмертные страсти и боевые кличи. При каждом критическом повороте, когда подходила к концу бесславная Финская кампания, когда Гитлер оккупировал Норвегию и Данию и когда пала Франция, голос его поднимался из-за океана, громогласно обрушиваясь на последствия этих катастроф, на сталинские просчеты, которые их вызвали, и на смертельную опасность, угрожающую Советскому Союзу. Правда, эти приговоры, осуждения и предупреждения до советского народа не доходили; но они появлялись в американских, британских и других газетах; а когда война распространится на восток, они могут в сумятице и замешательстве военных поражений и отступлений проникнуть и туда.
В конце апреля 1940 года Троцкий обратился к «советским рабочим, крестьянам, солдатам и матросам» с посланием, озаглавленным «Вас обманывают». Говорят, что листовку с этим посланием тайно переправили симпатизирующие моряки; но сомнительно, чтобы это обращение достигло своего назначения.[135]
Все еще можно каждую фразу в нем сравнить с динамитом. «Ваши газеты, — говорит он советским рабочим и солдатам, — вещают ложь в интересах Каина-Сталина и его развращенных комиссаров, секретарей и гэпэушников». «Ваша бюрократия кровожадна и беспощадна дома, но труслива наедине с империалистическими державами». Скандальная репутация и бесчестье Сталина лишают Советский Союз симпатий за рубежом, изолируют его и укрепляют его врагов; эти подлые поступки — «основной источник опасности для Советского Союза». Он призывал рабочих и солдат «никогда не сдавать мировой буржуазии народную индустрию и коллективизированную экономику, потому что на этом фундаменте еще можно построить новое и более счастливое общество». «Долг революционеров — защищать не на жизнь, а на смерть каждую позицию, завоеванную рабочим классом… демократические права, заработную плату и такое колоссальное достижение, как обобществленные средства производства и плановую экономику». Но эти «завоевания» Октябрьской революции принесут народу благо лишь тогда, когда народ докажет свою способность разобраться со сталинской бюрократией, как он однажды разобрался с царской бюрократией. Нет, Сталин не мог допустить, чтобы голос Троцкого продолжать призывать к восстанию.
Впоследствии несколько офицеров ГПУ и зарубежных коммунистов рассказали, как шла подготовка к решающему нападению на Троцкого. В конце Гражданской войны в Испании агенты ГПУ, специализировавшиеся на «ликвидации троцкизма», были переброшены в Мексику. Мексиканские сталинисты старались, как могли, чтобы разжечь массовую истерию против «предателя, укрывшегося в Койоакане». Изо дня в день они обвиняли его не только в заговоре против Сталина, но и в тайных замыслах против Карденаса в интересах американских нефтяных магнатов, а также в подготовке всеобщей забастовки и фашистского переворота в Мексике. И даже при этом в начале 1940 г. Москва обвиняла лидеров Мексиканской коммунистической партии в том, что они избрали линию «примиренческого поведения в отношении троцкизма»; и эти лидеры были понижены в должностях. Антитроцкистская кампания достигла высокой ноты; и незначительная ошибка, совершенная самим Троцким, принесла пользу его врагам. Перед самым концом 1939 года он согласился отправиться в Соединенные Штаты, чтобы предстать в качестве свидетеля перед так называемой сенатской комиссией Дайса — органом, занимавшимся «расследованием антиамериканской деятельности» (который к тому же вел это в манере, предвосхищавшей будущую охоту на ведьм, которую в 50-х годах будет вести сенатор Маккарти). Председатель комиссии сенатор Дайс потребовал запрета Американской компартии на основании того, что она является органом иностранной державы. Троцкий намеревался воспользоваться этой комиссией как форумом, на котором он разоблачит смертоносную деятельность ГПУ, направленную против него самого и его последователей. Но он заранее дал знать, что выступит против подавления компартии и обратится к рабочим мира с призывом превратить мировую войну во всемирную революцию. Из этого плана ничего не вышло частью по вине собственных сторонников Троцкого, особенно Бернхэма, который резко выступил против этой идеи, и частью потому, что комиссия Дайса, заранее предупрежденная о том, какого рода показания Троцкий собирается представить, не пожелала его слушать; и американское правительство отказало ему во въездной визе. Но каковы бы ни были условия, на которых он намеревался предстать перед этой комиссией, сам факт, что он собирался это сделать, облегчил задачу сталинистам, обвинившим его в «интригах с Дайсом и нефтяными магнатами против мексиканского народа». 1 мая 1940 года двадцать тысяч коммунистов, одетых в униформу, прошли маршем через Мехико с лозунгом «Долой Троцкого!» на своих знаменах. Он ответил опровержениями, опубликовал свою переписку, касающуюся отношений с комиссией Дайса, и потребовал от мексиканских властей проведения расследования по этому вопросу. Президент Карденас не обратил внимания на обвинения сталинистов, но все-таки они произвели кое-какое впечатление, и Троцкий вместе со своими доброжелателями стал подумывать о том, не лишат ли его убежища, особенно если Карденас проиграет предстоящие выборы.
А в это время убийца уже стоял у ворот дома на авенида Виена. Это был человек, который летом 1938 года представился американской троцкистке Сильвии Агелоф, которая участвовала в учредительном съезде 4-го Интернационала, как Жак Морнар, сын бельгийского дипломата. Каково было его настоящее имя, официально установлено тогда еще не было: это был Рамон Меркадер, сын Каридад Меркадер, испанской коммунистки, хорошо известной в своей стране в годы Гражданской войны, между прочим, за свои связи с ГПУ. Встреча Морнара с Сильвией Агелоф в Париже была не случайной; она была тщательно подготовлена заранее. В течение некоторого времени агенты вели наблюдение за Сильвией и ее сестрой: обе были троцкистками; а сестра Сильвии время от времени ездила курьером в Койоакан и вела секретарскую работу для Троцкого. Что касается Сильвии, она изучала философию у Сидни Хука и психологию в Колумбийском университете; она знала русский, французский и испанский языки и могла быть особенно полезна для Старика, который часто жаловался, что «парализован за работой» из-за отсутствия русского секретаря. Одинокая незамужняя женщина весьма непривлекательной наружности, она вдруг стала объектом усердных ухаживаний симпатичного и элегантного Морнара. Она отдалась ему и провела с ним во Франции несколько беззаботных и похожих на сон месяцев. Время от времени его поведение озадачивало ее. Он демонстрировал столь полное отсутствие какого-либо интереса к политике, что это, казалось, граничит с леностью ума, что совершенно удивительно было видеть в этом образованном «сыне дипломата». У него были непроницаемо смутные связи в коммерции и журналистике; даже прошлое его семьи выглядело загадочно. Истории, которые он ей рассказывал о самом себе, были странными и даже бессвязными; а на банкеты и развлечения он тратился щедро.
В феврале 1939 года Сильвия Агелоф вернулась в Штаты. В сентябре он встретился с ней в Нью-Йорке. Снова ее несколько встревожило его поведение. Он известил ее, что приедет в Штаты в качестве американского корреспондента одной бельгийской газеты, а вместо этого прибыл с фальшивым канадским паспортом на имя Фрэнка Джексона и заявил, что сделал это, чтобы уклониться от военной службы в Бельгии. Он утверждал, что никогда не бывал в Нью-Йорке, однако ходил по городу, как человек, знакомый с этим местом. Но на любой вопрос у него был правдоподобный ответ; а поскольку он не прекращал играть свою роль плейбоя и бонвивана, то не вызывал ни капли политического подозрения. Самое худшее, в чем она могла обвинить его, была фривольность и склонность к бахвальству. Она пробовала переделать его и заинтересовать в троцкизме, но эти попытки он неизменно встречал со скучным лицом. И поэтому, когда вскоре после приезда в Нью-Йорк он сообщил ей, что собирается в Мексику в качестве торгового агента либо менеджера какой-то экспортно-импортной фирмы, она не нашла в этом ничего странного; а когда он пригласил ее приехать к нему в Мексику, она с готовностью согласилась.
В Мексику он прибыл перед серединой октября, она приехала в январе. Она тут же отправилась поклониться святыне на авенида Виена — наверняка привезла с собой и послания от американских троцкистов. Скоро она вернулась, чтобы помочь в секретарской работе. «Джексон» обычно привозил ее на авенида Виена на своей дорогой машине; а когда работа заканчивалась, ждал ее у ворот. Охранники привыкли и часто болтали с ним. И все же несколько месяцев он ни разу не отваживался войти внутрь. (Он все еще снисходительно улыбался при виде политической активности Сильвии; но, чтобы доставить ей удовольствие, начал проявлять чуть больше любопытства к ее делам.) У ворот он столкнулся с Альфредом и Маргаритой Ромер, которые к этому времени познакомились с ним как с «услужливым молодым человеком», «мужем Сильвии». Он приглашал их пообедать в Мехико и брал с собой на экскурсии по стране.
В те часы, когда ему полагалось работать торговым агентом, он поддерживал связь с людьми ГПУ, от которых получал приказы, и, похоже, со своей матерью, которая, как свидетельствуют несколько источников, была тогда в Мексике. Об этих контактах Сильвия не имела ни малейшего представления; он никогда не сводил вместе «жену» и мать. Лишь изредка он допускал неосторожности, которые настораживали даже Сильвию. Он дал ей адрес своей конторы, и адрес оказался фиктивным. Он извинился за «ошибку» и дал ей другой адрес. Сильвия, помня, что подобную «ошибку» он когда-то сделал и в Париже, была так встревожена, что попросила Маргариту Ромер, сообразительную и наблюдательную личность, проверить, что происходит. Однако оказалось, что новый адрес был настоящим. Ромеры были уверены, что если в делах Морнара-«Джексона» слегка и припахивало louche,[136] то это не имело ничего общего с политикой, посему никто не попытался выведать, что там у него за контора. (Лишь много позже выяснилось, что та же самая «контора» использовалась различными местными важными сталинистскими персонами.) Сильвия была достаточно осторожна и никогда не приводила «Джексона» в дом к Троцкому — она даже рассказала Троцкому, что, поскольку ее муж приехал в Мексику по подложному паспорту, его посещение могло без всякой на то нужды стеснить Троцкого. И когда в марте она уехала в Нью-Йорк, то взяла с «Джексона» строгое обещание, что он никогда в ее отсутствие не войдет в дом на авенида Виена.
Однако вскоре после этого он вошел. Ромер заболел, и «Джексона» попросили отвезти его во французский госпиталь в Мехико, а потом привезти назад, купить лекарств и т. д. Поскольку удача сократила ему путь, он проявил достаточную осторожность, чтобы написать Сильвии и извиняющимся тоном объяснить, почему он «нарушил свое обещание». И хотя теперь он становился все более и более знаком с домашним хозяйством Троцкого, прошло еще три месяца, прежде чем он встретил самого Троцкого.
Похоже, что к тому времени «Джексону» еще не была поручена работа убийцы. Скорее всего, его задачей была разведка дома, его плана и состояния обороны, ежедневный распорядок Троцкого и любая иная информация, которая могла оказаться полезной для группового вооруженного налета, который проведут другие.
За это нападение ответственным был Давид Альваро Сикейрос, бывший друг Риверы, знаменитый живописец, коммунист и руководитель мексиканских шахтеров. Год назад он вернулся из Испании, где во время Гражданской войны командовал несколькими бригадами, — он вышел из боя во главе двух или трех десятков уцелевших бойцов. То, что такой выдающийся и даже героический художник согласился или добровольно вызвался стать убийцей Троцкого, многое говорит о морали сталинистов в те годы; но, конечно, в Мексике это была народная привычка — улаживать политические счеты с оружием в руках. В Сикейросе искусство, революция и гангстеризм были неразделимы — в нем самом было много от латиноамериканского пирата. В Испании он вступил в тесную связь с ГПУ и, как говорили некоторые, с семьей Меркадер. И все-таки, несмотря на оказанные им услуги, компартия недавно вынесла ему порицание за нарушения в использовании партийных фондов. Он был обижен и стремился вернуть расположение к себе каким-нибудь бросающимся в глаза и опасным актом преданности партии. Он разработал план вооруженного налета на дом Троцкого и для исполнения набрал людей, которые под его началом воевали в Испании, и мексиканских горняков.
На авенида Виена каждый жил ожиданием такого налета. Читая местные сталинистские газеты, бранившие его, Троцкий заметил: «Люди пишут подобные вещи лишь тогда, когда готовы сменить перо на пулемет». Правда, по настоянию его американских сторонников дом был укреплен: на пути потенциальных налетчиков были зарешеченные двери, провода под напряжением, автоматическая тревожная сигнализация и пулеметы. Была количественно увеличена охрана. Снаружи и вокруг дома дежурили десять мексиканских полицейских. Внутри день и ночь стражники следили за воротами, а четыре-пять человек находились в готовности в казармах охраны. Без сомнения, некоторые из охранников, американские мальчики из семей среднего класса и только что из колледжа, мало подходили для своих обязанностей; но тут ничего нельзя было поделать: немногие рабочие — члены троцкистских организаций редко могли себе позволить бросить работу, оставить семьи и приехать в Койоакан. Люди приезжали и уезжали — после нескольких месяцев монотонной рутины охранник быстро изматывался, утрачивал понятие о дисциплине, и его приходилось заменять. Поэтому неизбежно время от времени у входной двери оказывался какой-нибудь неопытный рекрут. Роберт Шелдон Харте, дежуривший в ночь налета Сикейроса, приехал из Нью-Йорка 7 апреля. За его шесть недель в Койоакане он показался товарищам и самому Троцкому добросердечным и преданным человеком, но при этом доверчивым и беспомощным созданием.[137]
Много позже его товарищи вспомнят, что он быстро подружился с Морнаром-«Джексоном» и что их часто видели прогуливающимися вместе. Понятно, что теперь безопасность Троцкого зависела от совсем немногих случайностей. Однако даже эти случайности не были совсем случайными, потому что отражали общую ситуацию, огромное превосходство сил над ним и крайнюю малочисленность числа его сторонников.
23 мая Троцкий весь день усердно трудился, потом поздно лег спать и не смог заснуть, пока не принял снотворное. Около 4 часов утра его разбудил шум, похожий на пулеметную очередь. Он устал и находился во власти апатии, и на момент ему подумалось, что это мексиканцы снаружи празднуют с фейерверком один из своих шумных религиозных или национальных праздников. Но «разрывы были слишком близко, прямо здесь в комнате, рядом со мной и над головой. Запах пороха становился все более резким, все более пронизывающим… На нас напали». Наталья уже выскочила из постели и закрыла его своим телом. Мгновение спустя под градом пуль она толкнула его на пол, в угол между кроватью и стеной; и, увлекаемая им, сама бросилась на пол, снова прикрыв его своим телом. Молча и неподвижно они лежали в темноте, пока невидимые налетчики держали комнату под непрерывным перекрестным огнем, стреляя в окна и сквозь дверь. Было сделано примерно 200 выстрелов; сотня попала в кровать и рядом с ней — позднее насчитали более семидесяти отверстий в стенах и дверях. Наталья чуть приподнялась, он потянул ее вниз, и опять они лежали не шелохнувшись, вдыхая пороховой дым и ломая голову, что же случилось с охраной и полицией снаружи здания.
Вдруг из-за стены или двери раздался звонкий крик «Дедушка!». Нападавшие ворвались в спальню Севы. «Голос ребенка, — потом говорил Троцкий, — остается самым трагическим воспоминанием той ночи». «Этот крик, — вспоминает Наталья, — пронзил нас до мозга костей». Затем наступила тишина. «Они его выкрали», — прошептал Троцкий. Как во сне Наталья увидела силуэт мужчины, освещенный пламенем зажигательной бомбы, взорвавшейся в детской комнате, — «очертания фуражки, блестящие пуговицы, продолговатое лицо». Человек остановился на пороге между спальней Троцкого и детской, как будто чтобы проверить, есть ли там какие-нибудь признаки жизни, и, хотя казалось, что там никого не было, он пустил еще одну очередь по постелям и исчез. Теперь стрельба грохотала во дворе, а детская спальня была охвачена огнем. Севы там не было — среди пламени можно было различить тонкий кровавый след, ведущий во внутренний двор. «Потом наступила тишина… невыносимая тишина, — вспоминала Наталья. — Где я могу спрятать тебя в безопасности? Я теряла силы от напряжения и безнадежности. В любой момент они могли вернуться, чтобы покончить с ним». Где же все домочадцы, Ромеры, секретари, охранники, полиция? Неужели всех убили? «…Мы ощущали безмолвие ночи, похожее на безмолвие могилы, самой смерти… И вдруг раздался тот же самый голос, голос нашего внука; но на этот раз он раздавался из патио и звучал совсем по-другому, звеня как пассаж стаккато, бравурно, радостно: „Альфред! Маргарита!“ Это вернуло нас к жизни!» Сева спасся сам, тоже спрятавшись под кровать; и даже до того, как стрельба прекратилась, думая, что его дедушка и бабушка мертвы, он выбрался с раной в пальце ноги, чтобы отыскать Ромеров.
Через несколько минут все домочадцы собрались в патио. Никого не убили и серьезно не ранили. Охранники все еще были так ошеломлены, что до сих пор не проверили, что случилось с полицейскими снаружи дома. Троцкий бросился на улицу и увидел разоруженных и связанных часовых. Вот краткий, быстрый и взволнованный отчет о происшедшем: незадолго до 4 часов утра более двадцати человек в полицейской и армейской униформе захватили часовых врасплох и одолели их, не произведя ни единого выстрела. Потом нападавшие, возглавляемые каким-то «майором», подошли к воротам, и один из них заговорил со стоявшим на посту Робертом Шелдоном Харте. Последний тут же отворил ворота. Налетчики ринулись во двор, захватив врасплох и напугав других охранников, установили под деревьями в различных точках пулеметы напротив спальни Троцкого, заняли другие позиции и открыли огонь. Очевидно, они всеми силами стремились убить Троцкого и его семью — они не произвели ни единого выстрела в кого-либо еще. Налет длился двадцать минут. Убежденные, что ни Троцкий, ни его жена, ни внук не могли уцелеть, бандиты ушли, бросив в дом зажигательные гранаты и мощную бомбу (которая не взорвалась) — в патио. Некоторые уехали на двух автомашинах, принадлежавших Троцкому и обычно стоявших во дворе, готовые отъехать в любую минуту, с ключами зажигания в замках. Вместе с налетчиками исчез Шелдон. Видевшие его полицейские утверждали, что он не оказал сопротивления, но его вывели два или три налетчика, крепко держа за руки.
Первыми эмоциями были облегчение и радость от «чудесного спасения»; и у Троцкого проснулось чувство юмора. Ему было забавно видеть, что такой мощный, тщательно подготовленный налет так позорно провалился — только потому, что он, Наталья и ребенок в своей крайней беспомощности сделали лишь то, что могли, и бросились под кровати! Теперь Сталин и его агенты были разоблачены и выставлены на посмешище! Не было сомнений, ради кого, по чьему подстрекательству и по чьему приказу был осуществлен этот налет. Но к восторгу и торжествующей иронии примешивалась какая-то тревога. Удивительно, как были знакомы налетчики с планировкой и обороной этой маленькой крепости — им даже было известно, что они смогут уехать на автомашинах жертвы! Как мог Шелдон впустить их, причем, похоже, без колебаний? Да, он был беспомощен и доверчив; но наверняка перед тем, как открыть ворота, к нему кто-то подошел, кому он доверял и чей голос ему был знаком? Кто это был? Забирались ли налетчики во двор через высокие стены и проволоку под напряжением? Тогда почему они насильно увели Шелдона (которого, несомненно, собирались убить)?
Через полчаса на место прибыл начальник мексиканской тайной полиции полковник Салазар, и вот как он описал эту сцену: «Я попросил пригласить Троцкого, который скоро пришел в сопровождении жены… [он] был в пижаме, поверх которой набросил пальто. Они меня по-дружески приветствовали… но сохраняли удивительное спокойствие. Можно было подумать, что ничего не произошло… Троцкий улыбался, за стеклами очков в черепаховой оправе видны были его яркие и ясные глаза — их взгляд, всегда острый и пронизывающий, имел шутливый, саркастический, слегка мефистофелевский вид. Волосы его… почти белые… выглядели немного взъерошенными, откинутыми назад со лба, по бокам падали беспорядочные пряди». Между Троцким и Натальей был «разительный контраст»: «Он, энергичный и властный… его черты лица все еще моложавы, тверды; она милая, спокойная и почти безропотная». Но оба вели себя со спокойствием и «идеальным самообладанием», которое начальнику полиции показалось совершенно неестественным. Немедленно его мозг пронзило подозрение: «А действительно ли было покушение на их жизни, или это была инсценировка?» Слушая Троцкого, дававшего в своем кабинете «без малейших эмоций» полный и точный отчет о том, что он только что пережил, Салазар вновь подумал: «Так много нападавших, так много огнестрельного оружия, даже бомбы — и с ними ничего не произошло! Все это очень странно!» Они вернулись в сад, который с его кактусами, за которыми так любовно ухаживали, выглядел таким же мирным, как всегда; и офицер спросил Троцкого, подозревает ли он кого-нибудь как «автора этого покушения».
«Совершенно определенно „да“! — ответил он очень решительным тоном. Пройдемте…»
Он положил правую руку на мое плечо и медленно повел меня к клеткам с кроликами… Он остановился, огляделся вокруг, [как будто] пытаясь убедиться, что мы одни, и, положив правую руку возле своего рта, как будто желая сделать конфиденциальность еще более секретной, сказал негромко и с глубоким убеждением:
«Инициатор нападения — Иосиф Сталин, через посредство ГПУ».
Тут уж офицер был уверен, что Троцкий морочит ему голову. «Я в оцепенении смотрел на него… Мое первое подозрение превратилось в уверенность. И опять я сказал себе: „Это инсценировка! В этом нет ни малейшего сомнения“». И когда Троцкий посоветовал ему допросить некоторых из «самых подозрительных» местных сталинистов, от кого можно многое узнать об этом налете, Салазар сделал заключение, что этот «старый революционер пытается отвлечь мое внимание от истинного пути». Он приказал арестовать троих домашних слуг, повара, горничную и разнорабочего, а потом двух секретарей Троцкого — Отто Шюсслера и Чарльза Корнелла. Поворот, который совершило следствие, стал пищей для многих сенсационных слухов. Кое-кто говорил, что нападение организовал Диего Ривера и что налетчики ворвались в дом с криком «Да здравствует Альмазар!» (Альмазар — имя реакционного генерала, чью кандидатуру в президенты против Карденаса поддерживал Ривера.) Другие утверждали, что Троцкий или его сторонники устроили этот налет, чтобы навести подозрения на сталинистов и дискредитировать их.
Интересно, что начальник тайной полиции не испытывал по отношению к Троцкому враждебности и не преследовал корыстные цели. Но для мышления профессионального солдата и полицейского, незнакомого с проблемами, личностями и атмосферой ужасной борьбы, которой этот налет должен был положить конец, все это дело поистине выглядело крайне загадочно. Он только что насчитал в стене над кроватью семьдесят три пулевых отверстия, и это «чудесное спасение» казалось тем более загадочным. Он наблюдал за самообладанием Троцкого и Натальи и размышлял, что он, ветеран многих мексиканских гражданских войн, никогда не видел, чтобы кто-то вел себя столь спокойно, побывав в такой опасности. Точность формулировок и наличие юмора в речи Троцкого казались ему совершенно неуместными и еще более подозрительными. (Только спустя несколько месяцев, в течение которых долг службы часто приводил его к Троцкому, он поймет, что «неестественное» спокойствие, мужество и чувство юмора были натурой этого человека.) С другой стороны, этот налет был таким скандалом даже по мексиканским стандартам, что Салазару было трудно поверить, что за ним стояли сталинисты, сторонники Карденаса (в числе друзей которого он не был). Поведение охраны Троцкого также вызывало его недоверие: почему же охранники были столь странно пассивны? Почему ни в кого из них не стреляли? Салазар был убежден, что Шелдон был в сговоре с налетчиками и ушел вместе с ними по собственной воле. Троцкий энергично утверждал, что Шелдон был их жертвой, а не сообщником, но он не мог представить для этого доказательств. И в умозаключениях Салазара было следующее зерно истины: налет не мог быть совершен без сотрудничества кого-то из окружения Троцкого или, по крайней мере, кого-то, находящегося в близком контакте с его домочадцами. Кто это? Этот вопрос отныне привлек все их внимание и пробудил всю их настороженность.
Через неделю после налета Троцкий, возмущенный подозрениями в адрес свой и Риверы, выразил протест президенту Карденасу против ареста двух своих секретарей. Ссылаясь на то, что было ему известно (между прочим, от Рейса и Кривицкого) о деятельности ГПУ во многих странах, он потребовал, чтобы следователь или полиция допросили нынешнего и прежнего генеральных секретарей Мексиканской коммунистической партии, а также Сикейроса и Ломбардо Толедано. Президент распорядился немедленно освободить секретарей Троцкого. Но еще некоторое время следствие шло по ложному следу, а Троцкий был занят опровержением инсинуаций, защищая своих сотрудников и заявляя о невиновности Роберта Шелдона Харте. «Если бы Харте, — заявил он, — был агентом ГПУ, он мог тайно заколоть меня, без всего этого шума массированного и сенсационного налета». Тем временем полиция задержала нескольких из налетчиков, которые подтвердили, что их командиром был Сикейрос; а сам Сикейрос ударился в бега.[138]
Наконец 25 июня люди Салазара обнаружили труп Шелдона на территории небольшой фермы за пределами Мехико — это хозяйство было арендовано двумя хорошо известными художниками, оба — сталинисты.
В 4 часа утра, в момент, когда прошел месяц и один день со времени налета, Салазар с этой новостью приехал в дом Троцкого. Охрана отказалась будить Троцкого; и тогда он вернулся на ферму с одним из охранников, чтобы идентифицировать труп.
«Мы приехали к подножию горы на рассвете. Из-за промокшей земли было чрезвычайно трудно подниматься вверх по склону. Тело лежало на носилках там, где я его оставил; возле дома… Отто… немедленно признал своего товарища.
Был уже день, когда мы приехали в Сан-Анхель. Тело положили во дворе. Вскоре подъехал генерал Нуньес и дал распоряжение помыть труп. Затем он усилил охрану, потому что по городу разошлась эта новость, и начали скапливаться толпы любопытных. Формальности завершены, и судья полицейского суда уехал.
Вдруг вся толпа зашевелилась.
„Троцкий! Троцкий!“
Это в самом деле был он. Пробило десять часов. Старый русский ссыльный подошел к телу. Он был печален и подавлен. Долго он стоял, глядя на своего бывшего секретаря: глаза его были полны слез. Этот человек руководил великой революцией, пережил кровавые битвы, видел, как один за другим исчезают его друзья и семья, но остался не сломлен этим нападением, которое чуть не стоило жизни не только ему, но и его жене и внуку, — и теперь он плакал в молчании».
Загадка, какую роль играл Харте, так и не была решена. Салазар все еще утверждал, что Харте был агентом ГПУ, но люди ГПУ убили его, потому что боялись, что он попадет в руки мексиканской полиции и слишком много расскажет. Это предположение было частично подтверждено очевидцами, сообщившими, что видели, что Харте свободно ходил по ферме и выходил на прогулки без какой-либо охраны или эскорта. Против этого Троцкий заявлял, что это уже восьмой его погибший секретарь и что все, что он и его американские товарищи знали о Харте, противоречит версии Салазара.[139]
Он отправил трогательное послание соболезнования родителям жертвы и установил мемориальную доску в память «Боба» — напротив этой доски скоро появится собственная надгробная плита Троцкого.
После 24 мая туман обреченности все еще висел и давил на «маленькую крепость» на авенида Виена. С недели на неделю и со дня на день ожидалось новое нападение. Для Троцкого было капризом фортуны то, что он все еще оставался жив. Он вставал по утрам и говорил Наталье: «Видишь, этой ночью нас еще не убили; а ты все недовольна». Раз или два он меланхолично добавлял: «Да, Наташа, нам дали отсрочку». Он оставался таким же активным и энергичным, как всегда, вмешивался в каждый этап полицейского расследования, появлялся в суде, отвечал на бесконечные клеветнические измышления, комментировал такие события, как капитуляция Франции и заявление Молотова в поддержку Третьего рейха, и продолжал обсуждать положение негров в США, тактику революционного пораженчества и так далее. Посетившая его перед серединой июня группа американских товарищей умоляла его «уйти в подполье», скрыться под чужим именем и разрешить, чтобы его тайно переправили в Соединенные Штаты, где, как они были уверены, можно найти для него безопасное тайное убежище. Он отказался даже слушать эти просьбы. Он не мог, как он сам заявлял, прятаться, чтобы сохранить жизнь, и украдкой вести работу; он должен открыто встречать своего врага или друга — его непокрытая голова обязана вытерпеть «адски черную ночь» до конца. Он неохотно уступил друзьям и мексиканским властям, которые требовали, чтобы защитные сооружения его дома были усилены более высокой бетонной стеной, новыми сторожевыми башнями, бронированными дверьми и стальными ставнями на окнах. Он тщательно инспектировал «фортификационные работы», предлагал изменения и улучшения, но затем с недовольством пожал плечами. «Это напоминает мне первую тюрьму, в которой я сидел, — заметил он своему секретарю Джозефу Хансену. — Двери производят такой же звук… Это не дом; это средневековая тюрьма». «Однажды [говорит Хансен] он застал меня уставившимся на новые башни. Глаза его сощурились в теплой, дружеской улыбке… „Высокоразвитая цивилизация — и мы все еще обязаны строить такие сооружения“». Он в самом деле походил на человека, ожидающего фатального дня в камере для осужденных, — только он был намерен разумно использовать каждый час, и ирония и юмор его не покинули.
Он продолжал свои последние поездки по стране по грязным, усеянным булыжниками дорогам; а мысли его возвращались к российским дорогам в годы Гражданской войны. В своем последнем путешествии он спал много больше, чем обычно, как будто был изнурен, и тут выпала первая за долгое время возможность отдохнуть. Он… спал почти от Чернавача до Амеккамекка, где вулканы Попокатепетль и Икстакуатль, Спящая Женщина, собирали над своими белыми вершинами огромные курчавые облака… мы остановились подле старой асиенды с высокими, укрепленными контрфорсами стенами. Старик с интересом разглядывал эти стены: «Прекрасная стена, но средневековая. Как и наша тюрьма». В этой характеристике «средневековая», которая часто срывалась с его уст, он выражал не только антипатию к собственному заключению, но и ощущение, что этот мир вновь впадает из того, что могло бы стать веком прогресса и триумфа человечества, в дикую жестокость Средних веков и что даже он сам, окружив себя башнями, стенами и крепостными валами, каким-то образом вовлечен в это общее сползание назад. После налета друзья подарили ему пуленепробиваемый жилет; и, хоть он и поблагодарил их, тем не менее не мог скрыть своего неудовольствия; он отложил жилет в сторону и предложил, чтобы его носил часовой, который стоял на посту в наблюдательной башне. Секретари не раз предлагали ему учредить обыск посетителей на предмет наличия оружия и возражали, когда он в одиночку принимал незнакомых людей в своем кабинете. «Он не выносил, когда его друзей подвергали обыску, — говорит Хансен. — Несомненно, он чувствовал, что в любом случае это будет бесполезно и может породить у нас ложное ощущение безопасности… какой-нибудь агент ГПУ… найдет возможность обесценить наш обыск». Он хмурился, когда кто-то из его телохранителей пытался присутствовать при его разговорах с посетителями, у части которых «были личные проблемы, и они не могли свободно говорить в присутствии охранника».
28 мая, через несколько дней после налета, убийца впервые столкнется с Троцким лицом к лицу. Эта встреча не могла быть более случайной по характеру. Ромеры должны были вот-вот уехать из Мехико и подняться на борт корабля в Вера-Крус; и «Джексон» предложил отвезти их туда на своей машине, делая вид, что ему все равно нужно в Вера-Крус, куда он регулярно ездит по делам. Он приехал за ними рано утром, и его попросили подождать во дворе, пока люди подготовятся к отъезду. Войдя во двор, он наткнулся на Троцкого, который все еще находился у клеток, давая корм кроликам. Не прерывая своего занятия, Троцкий пожал руку посетителю. «Джексон» вел себя с примерной непринужденностью и по-дружески: он не пялил глаза на великого человека, не пытался завязать разговор или слоняться поблизости; вместо этого он пошел в комнату Севы, вручил ребенку игрушечный планер и объяснил, как он работает. По намеку Троцкого Наталья попросила его затем присоединиться к семье и Ромерам за завтраком.
После возвращения из Вера-Крус «Джексон» две недели не показывался на авенида Виена. Когда он вновь появился 12 июня, то заглянул лишь на несколько минут, чтобы сообщить, что уезжает в Нью-Йорк и оставляет свою машину охранникам, чтобы они могли ею пользоваться в его отсутствие. Он вернулся в Мексику месяц спустя, но три недели не заходил на авенида Виена, пока Троцкие не пригласили его и Сильвию на чай у себя 29 июля. Это был его самый длинный визит — он длился чуть более часа. Согласно детальным записям, которые вели охранники, между 28 мая и 20 августа он прошел через ворота только десять раз и видел Троцкого дважды или трижды. Этого было достаточно, чтобы он изучил сцену, оценил жертву и сделал последние наброски к своему плану. Он не мог вести себя более ненавязчиво, услужливо, безобидно: приходил со скромным букетом цветов либо с коробкой конфет для Натальи — «подарками от Сильвии». Он предлагал, как опытный альпинист, свои услуги сопровождения Троцкому в прогулках по горам; но не настаивал на своем предложении и вопроса не поднимал. Болтая с охранниками, он с фамильярностью произносил имена известных троцкистов различных национальностей, чтобы создать впечатление, что участвует в движении и принадлежит ему; мимоходом упомянул о собственных пожертвованиях в партийную кассу. Однако в присутствии Троцкого и Натальи он вел себя почти застенчиво, как приличествовало какому-то постороннему, которого только что обратили в «сочувствующего». Это происходило в период раскола между американскими троцкистами. Сильвия была на стороне Бернхэма и Шахтмана; но ей были, как всегда, рады на авенида Виена — только когда она и «Джексон» были приглашены на чай, за столом разгорелся оживленный спор. «Джексон» в нем не участвовал, но давал понять, что поддерживает Троцкого, что согласен с тем, что Советский Союз — государство трудящихся и что его надо «безусловно» защищать. С секретарями он был менее сдержан и говорил им о горячих спорах, которые по этому поводу вспыхивают между ним и Сильвией. И все-таки он старался не показаться чересчур ревностным — разве не предупреждал Троцкий своих сторонников, что агент-провокатор в их рядах может оказаться слишком усердным и будет стремиться разжечь ссору? Да, «Джексон» ничего подобного не делал; он лишь благоразумно старался развернуть Сильвию в сторону правильной точки зрения.
Все же этот мастер обмана (который в течение двадцати лет заключения разрушил планы всех следователей, судей, докторов и психиатров, пытавшихся выведать его настоящее имя и связи) начал терять выдержку по мере приближения его предельного срока. Он вернулся из Нью-Йорка, где, возможно, получил финальные наставления по своему заданию, в состоянии задумчивости. Обычно крепкий и веселый, он стал нервным и мрачным, зеленовато-бледным; лицо подрагивалось, руки тряслись. Большую часть времени он проводил в постели, храня молчание, уйдя в себя, отказываясь разговаривать с Сильвией. Потом на него стали нападать приступы веселья и словоохотливости, приводившие в недоумение секретарей Троцкого. Он хвастался своими альпинистскими подвигами и физической силой, которая позволяла ему «одним ударом ледоруба расколоть огромную глыбу льда». За едой он демонстрировал «хирургическую точность» своих рук, разрезая цыпленка с необычной ловкостью. (Месяцы спустя те, кто видели эту «демонстрацию», вспоминали, что он также говорил, что хорошо знал Клемента, Клемента, чье мертвое тело было найдено расчлененным с таким же «хирургическим искусством».) Он рассказывал о «финансовом гении» своего коммерческого «босса» и предлагал провести с ним кое-какие операции на бирже, чтобы помочь деньгами 4-му Интернационалу. Однажды, наблюдая вместе с Троцким и Хансеном за «фортификационными работами» на авенида Виена, он заметил, что все это бесполезно, потому что «в следующем налете ГПУ будет использовать совершенно другой метод»; а на вопрос, что же это будет за метод, он пожал плечами.
Домочадцы припомнят этот и другие подобные случаи всего лишь через три-четыре месяца, когда поймут, насколько зловещими они были. В тот момент они не видели в этих событиях ничего худшего, чем проявления неровного характера «Джексона». Один Троцкий, который мало знал его, стал испытывать тревогу. Правда, даже он весьма вяло защищал «Джексона», когда кто-нибудь с возмущением говорил, что во время своей поездки в Нью-Йорк «Джексон» даже не заглянул там в штаб-квартиру троцкистов. Ладно, ладно, отвечал на это Троцкий, муж Сильвии, конечно, легкомысленный парень, от которого не будет много пользы как от товарища, но, может быть, он исправится — партию составляют всякого сорта люди. Но разговоры «Джексона» о его «боссе», «финансовом гении», и спекуляциях на бирже, которыми он мог бы заняться на благо движения, злили Троцкого. «Эти короткие разговоры, — говорит Наталья, — мне были не по душе; Лев Давидович был тоже поражен ими. „Кто этот богатый „босс“? — говорил он мне. — Надо это выяснить. В конце концов, это может оказаться какой-нибудь спекулянт фашистского типа — для нас будет лучше не принимать больше у себя мужа Сильвии“. Он порвал с Молинье, у которого тоже были „финансовые планы“; но у него никогда не было ни малейшего сомнения по поводу политической честности Молинье; и даже сейчас Троцкому хотелось простить ему все прегрешения. Но в „Джексоне“ он ощущал что-то зловещее — может, он связан с фашистами? И все-таки, несмотря на эту смутную интуицию, он не стал обижать его безосновательным недоверием.
17 августа „Джексон“ вернулся, сказав, что написал какую-то статью против Бернхэма и Шахтмана (с некоторыми ссылками на ситуацию в оккупированной Германией Франции) — не мог бы Троцкий просмотреть черновик и внести поправки? Он искусно затронул чувствительную струну своей жертвы — стремление инструктировать и воспитывать товарищей и последователей. Неохотно, но покорно Троцкий пригласил „Джексона“ пройти с ним в свой кабинет. Там они остались одни и занялись обсуждением статьи. Всего лишь через десять минут Троцкий вышел взволнованный и обеспокоенный. Его подозрение вдруг усилилось; он сказал Наталье, что больше не желает видеть „Джексона“. Его вывело из себя не то, что написал этот человек, — несколько неуклюжих и путаных шаблонных фраз, — а его поведение. Пока они были у письменного стола, а Троцкий просматривал статью, „Джексон“ уселся на стол и там, оказавшись над головой хозяина, оставался до конца беседы! И все это время он был в шляпе и прижимал к себе свое пальто! Троцкий был не только раздражен невежливостью гостя; он опять почувствовал подвох. У него появилось ощущение, что перед ним самозванец. Он сказал Наталье, что в своем поведении „Джексон“ „совсем не похож на француза“ — а ведь он выдавал себя за бельгийца, выросшего во Франции. Кто это на самом деле? Надо выяснить. Наталья была ошеломлена; ей казалось, что Троцкий „почувствовал в „Джексоне“ что-то новое, но не пришел или, скорее, не спешил прийти к какому-то выводу“. И все же последствия того, что он сказал, были тревожны: если „Джексон“ обманывает их в отношении своей национальности, то почему он это делает? И не обманывал ли он их и в других вещах? Каких? Эти вопросы должны были волновать Троцкого, ибо два дня спустя он повторил свои наблюдения Хансену, чтобы уяснить, не осенили ли кого-нибудь еще подобные дурные предчувствия. Однако убийца действовал быстрее, чем интуиция жертвы и инстинкт самосохранения: Троцкий поделился своими смутными подозрениями с Хансеном всего лишь за день до покушения на свою жизнь.
Интервью 17 августа было для „Джексона“ репетицией. Он заманил Троцкого в кабинет, чтоб оказаться tête-à-tête,[140] заставил заняться чтением рукописи и устроился над его головой. На эту репетицию он пришел с ледорубом, кинжалом и пистолетом, спрятанными в пальто, которое он цепко держал в руках. В кармане у него уже могло быть письмо, имевшее целью объяснить его мотивы, — текст был напечатан заблаговременно. В день покушения ему надо было лишь вставить дату и подписать его. В том письме он представил себя „преданным сторонником“ Троцкого, готовым отдать за него „последнюю каплю крови“, который приехал в Мексику за инструкциями для 4-го Интернационала и для кого встреча с Троцким была „исполнением мечты“. Но в Мексике его ожидали „огромные разочарования“: человек, которого он воображал лидером рабочего класса, разоблачил себя как преступный контрреволюционер и призвал его „отправиться в Россию, чтобы организовать там серии покушений на высокопоставленные личности, и прежде всего на Сталина“. Он увидел, что Троцкий сговаривается „с некоторыми лидерами капиталистических стран“ — „консул одной великой иностранной державы наносил ему частые визиты“ — и плетет заговор как против Советского Союза, так и против Мексики. Цель этого письма — сделать так, чтобы даже смерть Троцкого подтверждала все сталинские обвинения, и кроме этого ввиду пакта между Сталиным и Гитлером обвинение в том, что Троцкий был сообщником Гитлера, было заменено намеком на то, что он находится на службе у американского империализма. Даже этот трюк, которым „разочаровавшийся сторонник“ должен был подтвердить сталинские обвинения, не был нов: рука, убившая Клемента, писала те же самые „разоблачения“ „разочаровавшегося троцкиста“ от имени Клемента. Чтобы сделать эту стряпню еще более низкой, „Джексон“ добавил, что Троцкий призывал его „бросить жену“, потому что она вступила в группу Шахтмана; но он, „Джексон“, не может жить или уезжать в Россию без Сильвии. Подделка была грубой, но не слишком грубой для легковерного; и к тому же у кого найдется время и терпение все это тщательно сейчас проверять, в перерыве между капитуляцией Франции и битвой за Британию, когда рушилось само существование столь многих людей в столь многих странах?
И вот настал последний день, вторник, 20 августа. Все, кто потом вспоминали его, говорят об исключительном спокойствии и безмятежности, царивших в доме вплоть до этого фатального часа. Солнце ярко светило. Старик излучал спокойствие, уверенность и энергию. Встав в 7 часов утра, он обратился к жене не с угрюмой улыбкой и ставшей уже привычной шуткой: „Вот видишь, нас этой ночью не убили“, а со словами: „Давно я не чувствовал себя так хорошо“. Он добавил, что на него хороший эффект оказали таблетки снотворного, которые он принял на ночь. „Ты себя лучше чувствуешь не из-за таблеток, — возразила она, — а из-за нормального сна и полного отдыха“. — „Да, конечно“, — согласился он, довольный. Он предвкушал „по-настоящему хорошо поработать днем“, быстро оделся и „энергично вышел во двор, чтобы покормить кроликов“. Он в какой-то степени запустил это дело, потому что по предписанию врачей воскресенье провел в постели; поэтому сегодня он прилежно ухаживал за ними целых два часа. За завтраком опять заверил Наталью в своем великолепном состоянии здоровья и настроении. Ему не терпелось вернуться к работе над „моей бедной книгой“, „Сталиным“, которую он отложил в сторону после майского налета, чтобы выкроить время для полицейских расследований и текущей полемики. Но сейчас он уже сообщил все, что был должен, об этом налете; расследование продвигалось в правильном направлении, и он надеялся, что его больше не будут беспокоить. Перед тем как вернуться к „Сталину“, ему все еще хотелось написать какую-нибудь „важную статью“, но не для крупной буржуазной прессы, а для маленьких троцкистских периодических изданий, и, с некоторым волнением говоря об этой статье, он пошел в кабинет.
Утренняя почта принесла ему удовлетворение. Наконец-то он поместил свои архивы в безопасное место. Гарвардский университет только что телеграммой подтвердил их получение. С архивами были связаны некоторые тревоги из-за промежуточных препятствий, устраивавшихся либо ГПУ, либо ФБР, а пару дней назад Троцкий поручил своему американскому адвокату и другу Альберту Гольдману принять меры, если ФБР попытается сунуть нос в его бумаги. „Мне лично прятать нечего, — писал он, — но в моих письмах упоминаются многие третьи лица“. Он поместил архивы в Гарварде на условии, что часть из них останется закрытой до 1980 года. Помехи на пути архивов, очевидно, были не очень серьезными, и вопрос удачно разрешился. На своем характерном английском он написал короткие дружеские и радостные письма американским троцкистам. Он поинтересовался о здоровье того, кто после работы секретарем в Койоакане вернулся домой; поблагодарил товарища и его жену за словарь американского сленга, который они прислали, и обещал усердно изучить его, чтобы быть в состоянии понимать разговоры своих телохранителей, которые те ведут за едой. Он послал поздравления двум товарищам, которые сидели в тюрьме за забастовочную деятельность и скоро должны были выйти на свободу. Затем он приступил к записи своей последней статьи на диктофон.
Бесформенный текст этой статьи подтверждает, что его ум был в возбуждении и он пытался модифицировать свою старую идею или выработать новую. До совсем недавнего времени он истолковывал „революционное пораженчество“, как это делал Ленин во время Первой мировой войны, разъясняя рабочим, что их задача — не защищать свое империалистическое отечество, будь оно демократическим или фашистским, а превратить войну в революцию. Но сейчас, после того как нацисты захватили практически всю Европу и когда рабочий класс Британии и Америки отвечал на это воинственным антифашизмом, он знал, что простое повторение старой формулы пользы не принесет. „Нынешняя война, как мы уже не один раз заявляли, есть продолжение войны предыдущей. Но продолжение — это не повторение, [а] развитие, углубление, обострение“. Подобным же образом продолжение ленинской политики 1914–1917 годов должно быть не простым повторением, а „развитием, углублением“. Ленинское революционное пораженчество привило большевистской партии иммунитет против фетишей буржуазного патриотизма; но — в противоположность широко распространенному убеждению — „оно не могло завоевать массы, которые не хотят иностранных захватчиков“. Большевики завоевали народную поддержку не столько из-за своего отказа „защищать буржуазное отечество“, а благодаря позитивным аспектам своей революционной агитации и действий. В этой войне марксисты и ленинцы должны понять это, заканчивает он свою мысль; и выступает против группы Шахтмана и пацифистов среди троцкистов, которые были против воинской повинности в Соединенных Штатах. В написанном несколькими днями ранее письме он комментировал опрос общественного мнения, который показал, что 70 % американских рабочих поддерживают воинскую повинность. „Мы ставим себя на ту же почву, что и 70 % этих рабочих. [Мы утверждаем]: вы, рабочие, желаете защищать… демократию. Мы… хотим идти дальше. Однако мы готовы защищать демократию вместе с вами, но только при условии, что это будет настоящая защита, а не предательство на манер Петэна“. В этой статье его память витает между Францией, униженной и оседланной „предательским старческим бонапартизмом“, и значительно отличающейся от нее американской сценой действий. Но у него не было времени, чтобы развить эти зарождающиеся мысли; голос в диктофоне остался единственным следом его последнего, незавершенного движения на ощупь в новом направлении.
В час дня пришел Риго, его мексиканский адвокат, чтобы обсудить с ним ответ на нападки в газете „El Popular“, рупоре Толедано, которая обвинила его в клевете на мексиканские профсоюзы. Троцкий опасался, что это опять втянет его в скучную полемику с местными сталинистами, но согласился, что должен сразу же ответить „El Popular“, и отложил в сторону „на несколько дней“ статью о революционном пораженчестве. „Я перейду в наступление и обвиню их в наглой лжи“, — сказал он Наталье. Он не собирался уступать, но в то же время был жизнерадостен. И вновь он заверил ее, что находится в прекрасной форме. После короткого полуденного отдыха он уже опять сидел за столом, делая заметки по „El Popular“. „Он хорошо выглядел, — говорит Наталья, — и все время был в ровном настроении“. Несколько раньше она заметила, как он стоял в патио с непокрытой головой под палящим солнцем, и она поспешно протянула ему белую панаму, чтобы защитить голову. Время от времени она слегка приоткрывала дверь в кабинет „так, чтобы не беспокоить его“, и видела его в обычном положении, склонившимся над столом с пером в руках. На цыпочках из-за двери современная Ниоба бросала свои последние взгляды на единственного оставшегося у нее любимого человека.
Вскоре после 5 часов пополудни он опять был у клеток, кормя кроликов. Наталья, выйдя на балкон, заметила рядом с ним „незнакомую фигуру“. Эта фигура подошла поближе, сняла шляпу, и она признала „Джексона“. „Опять он пришел“, — промелькнуло у нее в голове. „Что он стал так часто приходить?“ — спросила я себя». Его вид укрепил недобрые предчувствия. Лицо его было серо-зеленого цвета, движения нервны и резки, и он конвульсивно прижимал к себе пальто. Она вдруг вспомнила, что он как-то хвастался, что никогда не надевает шляпу и пальто даже зимой; и она спросила, почему же он в шляпе и в пальто в такой солнечный день. «Должен пойти дождь», — ответил он и, сказав, что его «страшно мучает жажда», попросил стакан воды. Она предложила ему чай. «Нет, нет, я слишком поздно обедал и сыт вот так». — Он показал на свое горло. Его мысли блуждали где-то, казалось, он не удавливал смысла того, что ему говорили. Она спросила, отредактировал ли он свою статью, и он, вцепившись в пальто одной рукой, другой показал ей несколько машинописных листов. Довольная тем, что мужу не придется напрягать глаза, читая неразборчивую рукопись, она пошла с «Джексоном» к клеткам. Когда они подошли, Троцкий обернулся и сказал по-русски, что «Джексон» рассчитывает, что подойдет Сильвия, и, поскольку они оба уезжают на следующий день в Нью-Йорк, Наталье, вероятно, надо пригласить их на прощальный обед. Она ответила, что «Джексон» только что отказался от чая и неважно себя чувствует. «Лев Давидович внимательно посмотрел на него и с легким укором произнес: „Вы плохо выглядите, у вас опять неважно со здоровьем. Это нехорошо“. Наступил момент неловкого молчания. Этот странный человек стоял с машинописными страницами в руке, а Троцкий, посоветовав ему ранее переписать статью, чувствовал себя обязанным взглянуть на результаты новых усилий автора.
„Льву Давидовичу не хотелось уходить от кроликов, и его вовсе не интересовала эта статья, — рассказывает Наталья. — Но, контролируя себя, он сказал: „Ладно, как вы говорите, пройдемся по вашей статье?“ Не торопясь он запер клетки и снял рабочие перчатки… Он сбросил свою синюю куртку и медленно молча пошел вместе со мной и „Джексоном“ по направлению к дому. Я проводила их до дверей кабинета Л.Д.; дверь закрылась, и я пошла в соседнюю комнату“. Когда они вошли в кабинет, в мозгу Троцкого пронеслась мысль: „Этот человек может убить меня“ — так, по крайней мере, рассказывал он Наталье несколько минут спустя, когда, истекая кровью, лежал на полу. Однако подобные мысли, должно быть, не раз приходили ему в голову — и он их прогонял, — когда незнакомцы посещали его в одиночку или группами. Он решил не позволять им стеснять свое существование страхом и человеконенавистничеством; а потому и теперь подавил этот последний слабый рефлекс инстинкта самосохранения. Он пошел к письменному столу, сел и наклонил голову над машинописью.
Едва он успел пробежать первую страницу, как ужасный удар обрушился на его голову. „Я положил пальто… на какую-то мебель, — давал показания „Джексон“, — взял ледоруб и, закрыв глаза, изо всех сил ударил им по его голове“. Он полагал, что после такого мощного удара жертва умрет, не произнеся ни звука; и тогда он выйдет и исчезнет до того, как это деяние будет обнаружено. Но вместо этого жертва издала „ужасный, пронзительный крик“. „Я буду всю свою жизнь слышать этот крик“, — говорит убийца. С размозженным черепом, с пронзенным лицом Троцкий вскочил, стал бросать в убийцу все, что попадало под руку: книги, чернильницы, даже диктофон, а потом сам ринулся на него. Все заняло три-четыре минуты. От пронзительного, мучительного крика вскочила на ноги Наталья, а вместе с ней охрана; но им понадобилось несколько мгновений, чтобы определить, откуда раздался крик, и броситься в этом направлении. А в эти самые моменты в кабинете продолжалась последняя схватка Троцкого. Он сражался, как тигр. Он боролся с убийцей, укусил его руку и вырвал из его рук ледоруб. Убийца был так ошеломлен, что не нанес второго удара и не воспользовался пистолетом или кинжалом. И тут Троцкий, уже не в состоянии стоять на ногах, собрав всю волю, чтобы не рухнуть у ног своего врага, медленно отошел, шатаясь. Когда Наталья ворвалась в комнату, она застала его стоящим в оконном проеме, прислонившимся к косяку. Лицо его было залито кровью, и сквозь кровь, без очков, сверкали его синие глаза, блестели еще сильнее, чем когда-либо; руки безвольно висели. „Что случилось?“ — спросила я. „Что случилось?“ Я обхватила его руками… он не сразу ответил. На секунду мне подумалось, не упало ли что-нибудь на него с потолка — в кабинете производился ремонт, — и почему он стоит на этом месте? Спокойно, без гнева, злобы или печали он произнес: „Джексон“. Он сказал это так, как будто хотел произнести: „И вот это произошло“. Мы сделали несколько шагов, и медленно, с моей помощью, он опустился на коврик на полу».
«„Наташа, я люблю тебя“. Он произнес эти слова настолько неожиданно, так серьезно, почти сурово, что, ослабев от внутреннего потрясения, я качнулась к нему». «Никого, никого, — прошептала она ему, — никого нельзя допускать к тебе без обыска». Потом она осторожно положила под его разбитую голову диванную подушку и кусок льда на рану и вытерла кровь на его лбу и щеках. «Севу надо держать от всего этого подальше», — сказал он. Он говорил с трудом, слова становились неразборчивыми, но он, казалось, не замечал этого. «Знаешь, там, — он перевел взгляд на дверь кабинета, — я чувствовал… я понимал, что он хочет сделать… он хотел… меня… еще раз… но я не дал ему». Он произнес это «спокойно, тихо прерывающимся голосом»; и как будто с нотой удовлетворения повторил: «Но я ему не дал». По обе стороны от него присели на корточках Наталья и Хансен, друг напротив друга; и он повернулся к Хансену и заговорил с ним по-английски, пока она «сосредоточила все свое внимание, чтобы уловить смысл его слов, но не смогла».
«Это конец», — сказал он своему секретарю по-английски; и хотел выяснить в точности, что произошло. Он был убежден, что «Джексон» выстрелил в него, и не поверил, когда Хансен сказал, что его ударили ледорубом и что рана поверхностная. «Нет, нет, нет, — возразил он, показывая на свое сердце, — я чувствую здесь, что на этот раз они преуспели». Когда его снова заверили, что рана не очень опасна, он слабо улыбнулся глазами, как будто ему было забавно видеть, как кто-то стремится успокоить его и скрыть истину от него. Большую часть времени он прижимал руки Натальи к своим губам. «Позаботься о Наталье, — продолжал он на английском, — она была со мной много, много лет». — «Мы позаботимся», — пообещал Хансен. «Старик конвульсивно сжимал наши руки, вдруг в его глазах появились слезы. Наталья судорожно плакала, склонившись над ним, целуя его рану».
Тем временем в кабинете охрана обрушилась на убийцу, избила его рукоятками револьверов, и его вой и стоны были слышны снаружи. «Скажите ребятам не убивать его, — произнес Троцкий, с трудом выговаривая отчетливо слова. — Нет, нет, его нельзя убивать — его надо заставить заговорить». Охранники рассказывали, что под ударами «Джексон» кричал: «У них есть что-то против меня; они посадили в тюрьму мою мать… Сильвия не имеет к этому никакого отношения». А когда попытались вырвать из него, кто посадил в тюрьму его мать, он отрицал, что это было ГПУ, и сказал, что «не имеет ничего общего с ГПУ».
Когда прибыл доктор, левая рука и нога Троцкого уже были парализованы. Когда принесли носилки — одновременно с ними вошли и полицейские, — Наталья их отвергла: она подумала о смерти Лёвы в госпитале и не хотела, чтобы увозили ее мужа. Он тоже не хотел, чтобы его увозили. Только когда Хансен пообещал, что с ним поедут охранники, он ответил: «Тогда сами решайте», как будто знал, что для него «все дни принятия решений уже прошли». Когда его укладывали на носилки, он опять прошептал: «Я хочу, чтобы все, что у меня есть, отошло к Наталье… Позаботьтесь о ней».
В воротах охранники с запоздалой бдительностью остановили санитаров; опасаясь нового нападения, они не разрешили увозить Троцкого, пока начальник полиции генерал Нуньес не приедет и не возглавит эскорт. «Я обратил внимание [рассказывает один работник „Скорой помощи“], что жена раненого накрыла мужа белой шалью. Сеньора плакала и держала обеими руками его кровоточащую голову. Сеньор Троцкий не говорил и не стонал. Мы думали, что он мертв, но… он все еще дышал». Его несли до кареты «Скорой помощи» меж двух рядов полицейских; и, когда машина уже трогалась, прибыла другая карета, чтобы забрать убийцу.
«Сквозь ревущий город, сквозь его суету и грохот, среди ослепительных вечерних огней мчалась карета „Скорой помощи“, пробивая себе дорогу сквозь поток машин и обгоняя их; непрерывно ревели сирены и пронзительно свистел полицейский кордон на мотоциклах. С невыносимой мукой в сердцах и все растущей с каждой минутой тревогой мы везли раненого. Он был в сознании». Его правая рука описывала круги в воздухе, как будто не могла найти место для успокоения; потом она стала блуждать по покрывалу, коснулась емкости с водой над головой и, наконец, нашла Наталью. Она, склонившись над ним, спросила, как он себя чувствует. «Сейчас лучше». Потом он знаком подозвал Хансена к себе и шепотом проинструктировал его, как вести следствие. «Это политический убийца… сотрудник ГПУ… или фашист. Скорее всего, ГПУ… но может быть, ему помогало гестапо». (Почти одновременно в другой карете «Скорой помощи» убийца вручал своему эскорту письмо, содержавшее его «мотивы» и где говорилось, что гестапо не имеет отношения, по крайней мере, к этому преступлению.)
Возле госпиталя, когда туда доставили Троцкого в карете, уже собралась большая толпа. «Среди них могут быть и враги, — беспокоилась Наталья. — Где же наши друзья? Это они должны окружать носилки». Несколькими минутами позже он лежал на узкой больничной кровати, и доктора осматривали его рану. Медсестра стала стричь его волосы, а он, улыбаясь Наталье, стоявшей в изголовье койки, вспомнил, что всего лишь день назад они хотели послать за парикмахером, чтобы постричь его. «Вот видишь, — подмигнул он, — парикмахер появился». Потом с почти закрытыми глазами он повернулся к Хансену с вопросом, с которым обращался к нему так много раз: «Джо, у тебя… есть… тетрадь?» Он вспомнил, что Хансен не знает русского, и совершил огромное усилие, чтобы продиктовать текст на английском. Голос его был чуть различим, слова неразборчивы. Вот что, как уверяет Хансен, он записал: «Я близок к смерти от удара, который политический убийца… нанес мне в моей комнате. Я боролся с ним… мы… начали… беседовать о французской статистике… он ударил меня… пожалуйста, передайте нашим друзьям… я уверен… в победе… Четвертого Интернационала… идите вперед». Начиная диктовать, он, очевидно, надеялся, что сможет передать рассказ о покушении на свою жизнь, а также политическое послание. Но вдруг он почувствовал, что жизнь его покидает; и он сократил рассказ и поспешил передать своим сторонникам свои последние слова ободрения.
Медсестры начали раздевать его, готовя к операции, разрезая ножницами его жилет, рубашку и куртку, расстегнули часы на запястье. Когда они стали удалять нижнее белье, он сказал Наталье «отчетливо, но очень грустно и серьезно»: «Я не хочу, чтобы они раздевали меня… Хочу, чтобы ты меня раздела». Это были последние слова, которые она от него услышала. Закончив раздевать его, она склонилась над ним и прижалась губами к его губам. «Он ответил на поцелуй. Еще. И еще раз ответил. И еще один раз. Это было наше последнее прощание».
Примерно в 7:30 вечера он впал в кому. Пять хирургов провели трепанацию черепа. Рана была глубиной почти семь сантиметров. Была разрушена правая теменная кость, ее осколки врезались в мозг; менинги были повреждены, а часть вещества мозга была разорвана и уничтожена. Он «перенес операцию с исключительной выдержкой», но в сознание не пришел; и он боролся со смертью более двадцати двух часов. Наталья с «сухими глазами, сцепленными руками» была подле него день и ночь, ожидая, когда он пробудится. Вот какая последняя картина осталась в ее памяти:
«Его подняли. Голова упала на плечо. Руки упали точно как в Тициановом „Снятии с креста“. Вместо тернового венца на умершем была марлевая повязка. Черты лица сохранили свою чистоту и гордость. Казалось, что в любую минуту он сможет выпрямиться и вновь овладеть собой».
Смерть наступила 21 августа 1940 года в 19 часов 25 минут. Вскрытие выявило мозг «экстраординарных размеров», весящий примерно 1260 граммов, и «сердце тоже было очень больших размеров».
22 августа согласно мексиканским обычаям большая похоронная процессия медленно прошла за гробом с телом Троцкого по главным улицам города, а также через рабочие пригороды, где тротуары заполнили толпы босых, молчаливых людей в поношенной одежде. Американские троцкисты намеревались перевезти тело в Соединенные Штаты, но Государственный департамент отказал в визе даже мертвому Троцкому. Пять дней тело лежало и было открыто для доступа, и мимо него прошло около 300 тысяч мужчин и женщин, а на улицах звучала «Gran Corrido de Leon Trotsky» — народная баллада, сочиненная неизвестным автором.
27 августа тело было кремировано, и пепел захоронен на территории «маленькой крепости» в Койоакане. Над могилой установлена белая прямоугольная плита, а над ней развевался красный флаг.
Наталье пришлось прожить в этом доме еще двадцать лет, и каждое утро, просыпаясь, она обращала взгляд к этой белой плите во дворе.
Эпилог ПОСТСКРИПТУМ. ПОБЕДА В ПОРАЖЕНИИ
Во всей истории русской революции и в истории рабочего движения и марксизма не было периода более трудного и мрачного, чем годы последнего изгнания Троцкого. Это было время, когда, если перефразировать Маркса, «идея стремилась к реальности», но реальность не тяготела к идее, и между ними установилась пропасть, и эта пропасть была уже и глубже, чем когда-либо. Мир был наполнен исключительными противоречиями. Никогда капитализм не был так близок к катастрофе, как во время спадов и депрессий 30-х годов; и никогда он не демонстрировал так много дикой устойчивости. Никогда еще классовая борьба не вела так яростно к революционной кульминации, и никогда еще она не была так не способна подняться до нее. Никогда еще столь широкие народные массы не были воодушевлены социализмом; и никогда они не были так беспомощны и инертны. Во всем опыте современного человека не было ничего столь возвышенного и столь отвратительного, как первое государство трудящихся и первая проверка в «строительстве социализма». И возможно, никто еще никогда не жил в таком близком общении со страданиями и устремлениями угнетенного человечества и в таком крайнем одиночестве, в каком жил Троцкий.
Каково же значение его труда и какова мораль его поражения?
Любой ответ должен быть приблизительным, ибо у нас все еще отсутствует длительная историческая перспектива; а наша оценка Троцкого вытекает, прежде всего, из суждения о русской революции. Если принять мнение, что все, к чему стремились большевики — социализм, — было не более чем фата моргана, что революция просто заменила один вид эксплуатации и угнетения другим, и не могла иначе, тогда Троцкий возникнет как глашатай Бога, который просто обязан был рухнуть, как слуга Утопии, смертельно запутавшийся в своих мечтах и иллюзиях. Но даже тут он вызовет уважение и симпатию, положенные великим утопистам и прорицателям, — он встанет среди них как один из величайших. Если бы и вправду человеку суждено было двигаться, шатаясь от боли и крови, от поражения к поражению и сбрасывать одно иго только для того, чтобы подставить шею для другого, — даже тогда стремление человека к иной судьбе все еще будет, подобно факелу, облегчать мрак и уныние бесконечной пустыни, через которую он бредет, не имея за ней земли обетованной. И никто в нашем веке не выражал эти стремления столь ярко и самоотверженно, как Троцкий.
Но была ли русская революция способна лишь дать народу одно ярмо вместо другого? В этом ли ее финальный результат? Такое мнение кажется правдоподобным людям, которые пристально всматриваются в сталинизм в последние годы жизни Троцкого и позднее. Против них Троцкий отстаивал свое убеждение, что в будущем, после того как советское общество продвинется к социализму, сталинизм будет видеться просто как «эпизодический рецидив». Его оптимизм кажется необоснованным даже его сторонникам. Однако спустя почти двадцать пять лет его прогноз может все еще звучать смело, но едва ли беспочвенно. Ясно, что даже при сталинизме советское общество достигло огромного прогресса во многих областях и что этот прогресс, неотделимый от его национализированной и плановой экономики, разрушал и размывал сталинизм изнутри. Во времена Троцкого было еще рано подводить итог этому развитию — его попытки совершить это были не безошибочными; и баланс еще не совсем ясен даже четверть века спустя. Но очевидно, что советское общество стремится, и не без успеха, избавиться от тяжелых долгов и развивать огромные преимущества, которые оно унаследовало от сталинской эры. В Советском Союзе в начале 60-х годов куда меньше бедности, куда меньше неравенства и угнетения, чем в начале 30-х. Контраст настолько разителен, что было бы анахронизмом говорить о «новом тоталитарном рабстве, установленном бюрократическим коллективизмом». Вопросы, по которым Троцкий спорил со своими учениками в своем последнем споре, все еще дебатируются, и не внутри мелких сект, а перед всемирной аудиторией. Предметом спора все еще является тема: советская бюрократия — это «новый класс» или необходима реформа или революция, чтобы положить конец ее деспотическому правлению; бесспорно, что реформы первого постсталинского десятилетия, как бы неадекватны и противоречивы они ни были, очень сократили и ограничили бюрократический деспотизм и что свежие течения народных чаяний работают на перестройку советского общества.
Но даже в этом случае вера Троцкого в то, что однажды все ужасы сталинизма покажутся просто «эпизодическим рецидивом», все еще может возмущать современную чувствительность. Он применял великий исторический масштаб к событиям и своей собственной судьбе: «Когда встает вопрос глубочайших перемен в экономической и культурной системах, двадцать пять лет для истории весят меньше, чем один час в человеческой жизни». (Его склонность рассматривать вещи в долгой исторической перспективе не притупляла его восприимчивость к несправедливостям и жестокостям его времени — напротив, она заостряла это восприятие. Он так страстно осуждал сталинские извращения социализма, потому что сам никогда не терял из виду перспективу истинно гуманного социалистического будущего.) Измеряемый его историческим масштабом прогресс, который советское общество проделало со дня своего возникновения, — всего лишь скромное, даже слишком скромное начало. И все же даже это начало оправдывает революцию и его фундаментальный оптимизм в ее отношении и снимает плотную завесу разочарования и отчаяния.
Гигантская жизнь Троцкого и работа — важнейший элемент в опыте русской революции и, фактически, в структуре современной цивилизации. Уникальность его судьбы и экстраординарные моральные и эстетические качества его усилий говорят сами за себя и свидетельствуют о его значимости. Не может быть так, это противоречит всякому историческому смыслу, что такая высокая интеллектуальная энергия, такая поразительная активность и такая благородная жертвенность не оставили следа. Это материал, на котором строятся самые возвышенные и воодушевляющие легенды — только легенда о Троцком соткана из зарегистрированных фактов и устанавливаемой истины. Тут никакие мифы не парят над реальностью; сама реальность возвышается на высоту мифа.
Настолько богатой и прекрасной была карьера Троцкого, что любой ее части или доли было бы достаточно, чтобы заполнить жизнь какой-нибудь выдающейся исторической личности. Если бы он умер в возрасте тридцати — тридцати пяти лет, где-нибудь до 1917 года, он бы занял место в одном ряду с такими русскими мыслителями и революционерами, как Белинский, Герцен и Бакунин, как их марксистский потомок и равный им. Если бы его жизнь подошла к концу в 1921 году или позже, примерно когда умер Ленин, его бы помнили как руководителя Октября, как основателя Красной армии и ее военачальника в Гражданскую войну, как члена Коммунистического интернационала, который обращался к рабочим мира с мощью и блеском Маркса и в тонах, которые не были слышны со времен «Коммунистического манифеста». (Понадобятся десятилетия сталинских фальсификаций и лжи, чтобы очернить и стереть этот его образ из памяти двух поколений.) Идеи, которые он проповедовал, и работа, которую он вел как руководитель оппозиции между 1923-м и 1929 годами, составляют основу самой важной и драматической главы в анналах большевизма и коммунизма. Он выступил как главное действующее лицо в величайшем идеологическом споре столетия, как интеллектуальный инициатор индустриализации и плановой экономики и, наконец, как рупор всех тех членов большевистской партии, кто сопротивлялся приходу сталинизма. Даже если б он не прожил далее 1927 года, он бы оставил после себя наследие в виде идей, которые нельзя уничтожить или осудить на долгое забвение, наследие, ради которого многие из его сторонников вставали перед расстрельными командами с его именем на устах, наследие, которому время добавляет значимость и вес и к которому новое советское поколение на ощупь находит свой путь.
Поверх всего этого располагаются его идеи, литературные труды, сражения и блуждания, о которых рассказано в этом томе. Мы критически рассмотрели его фиаско, заблуждения и просчеты: его провал с 4-м Интернационалом, его ошибки в отношении перспектив революции на Западе, его невнятности в вопросе о реформе и революции в СССР и противоречия «нового троцкизма» его последних лет. Мы также изучили те его кампании, которые сейчас полностью и необратимо подтверждены: его изумительно дальновидные, хотя и тщетные усилия разбудить германских рабочих, международное левое движение и Советский Союз перед лицом смертельной опасности прихода Гитлера к власти; его непрерывная критика сталинских злоупотреблений властью, не менее чем ведения экономических процессов, особенно коллективизации; и его финальная титаническая борьба против великих репрессий. Даже эпигоны сталинизма, которые все еще делают все, что могут, чтобы держать призрак Троцкого под контролем, косвенно признают, что по всем этим гигантским проблемам он был прав — все, что они смогли сделать после многих лет, это повторить в несравнимо меньшем масштабе протесты Троцкого, обвинения и критику Сталина.
Надо опять подчеркнуть, что до самого конца сила и слабость Троцкого в равной мере коренились в классическом марксизме. Его поражения подчеркивали затруднения, которыми был окружен классический марксизм как доктрина и движение, — расхождение и разрыв между марксистским видением революционного развития и действительным курсом классовой борьбы и революции.
Социалистическая революция совершила свои первые огромные завоевания не на передовом Западе, а на отсталом Востоке, в странах, где преобладали не промышленные рабочие, а крестьяне. Ее непосредственной задачей было не установить социализм, а положить начало «первичному социалистическому накоплению». В схеме классического марксизма революция должна произойти тогда, когда производительные силы старого общества так переросли отношения собственности, что вырываются из старых общественных рамок; революция должна создать новые отношения собственности и новые рамки для целиком созревших, передовых и динамичных прогрессивных производительных сил. На самом деле революция создала самые развитые формы общественной организации для самых отсталых экономик; она сформировала рамки общественной собственности и планирования вокруг недоразвитых и архаичных производительных сил и частично вокруг вакуума. Теоретическая марксистская концепция революции была тем самым перевернута с ног на голову. «Новые производственные отношения», находясь над существующими производительными силами, были также и выше понимания для большинства народа; и поэтому революционное правительство защищало и развивало их против воли большинства. Советскую демократию заменил бюрократический деспотизм. Государство, далекое от вымирания, приняло беспрецедентную, беспощадную власть. Конфликт между марксистскими нормами и реальностью революции стал пронизывать всю мысль и деятельность правящей партии. Сталинизм стремился преодолеть этот конфликт путем извращения или отказа от норм. Троцкизм пытался сохранить эти нормы или добиться временного баланса между нормой и реалией, пока революция на Западе не разрешит этот конфликт и не восстановит гармонию между теорией и практикой. Провалы революций на Западе были подтверждены в поражении Троцкого.
Сколь определенным и окончательным было это поражение? Мы видели, что, пока Троцкий был жив, Сталин никогда не считал, что тот окончательно побежден. Сталинский страх не был лишь паранойей. Другие ведущие актеры на политической сцене разделяли этот страх. Французский посол при Третьем рейхе Робер Кулондр дает поразительное свидетельство в описании своего последнего интервью с Гитлером как раз перед тем, как разразилась Вторая мировая война. Гитлер хвастался теми выгодами, которые получил от только что заключенного пакта со Сталиным, и рисовал грандиозные перспективы своего будущего военного триумфа. В ответ французский посол взывал к его «разуму» и говорил о социальных потрясениях и революциях, которые могли последовать за долгой и ужасной войной и охватить все воюющие правительства. «Вы думаете о себе как о победителе, — сказал посол, — но задумывались ли вы о другой возможности — что победителем может оказаться Троцкий?» При этих словах Гитлер подскочил (как будто его «ударили под дых») и заорал, что эта вероятность, эта угроза победы Троцкого есть одна из причин, почему Франции и Британии не следует воевать с Третьим рейхом. Таким образом, хозяин Третьего рейха и посланник Третьей республики в своих последних маневрах в последние часы мира стремятся запугать друг друга и соответствующие правительства и вызывают духов, имя одинокого изгнанника, заблокированного и замурованного в дальнем конце мира. «Их преследует призрак революции, и они присваивают ей человеческое имя», — заметил Троцкий, читая этот диалог.
Ошибались ли Гитлер и посол, давая фантому имя Троцкого? Можно спорить, что хотя их страх был хорошо обоснован, им следовало это привидение назвать именем Сталина, а не Троцкого — по крайней мере, именно Сталин одержит победу над Гитлером. Сталинская победа над Троцким скрывала в себе серьезный элемент поражения, в то время как поражение Троцкого содержало в своем чреве победу.
Центральным «идеологическим» предметом спора между ними был социализм в одной стране — вопрос, построит ли и сможет ли построить Советский Союз социализм в изоляции, на базе национального самообеспечения, или социализм мыслим только как международный порядок общества. Ответ, который дали события, значительно менее отчетлив и нагляден, чем предполагали теоретические аргументы, но он значительно ближе к взглядам Троцкого, чем Сталина. Задолго до того, как Советский Союз хоть как-то приблизился к социализму, революция распространилась на другие страны. История, можно сказать, не оставляла Советский Союз достаточно долго в одиночестве, чтобы позволить довести лабораторный эксперимент с социализмом в одной стране до какой-то продвинутой стадии, не говоря о том, чтобы завершить. Когда в борьбе между троцкизмом и сталинизмом революционный интернационализм столкнулся с большевистским изоляционизмом, определенно не сталинизм вышел из нее с развевающимися флагами: большевистский изоляционизм был давным-давно мертв. С другой стороны, выносливость Советского Союза, даже в изоляции, оказалась значительно больше, чем когда-то предполагал Троцкий; и вопреки его ожиданиям, русскую революцию вывел из изоляции не пролетариат Запада. По иронии истории сталинизм сам, malgré lui-même[141] расколол свою национальную скорлупу.
В своем последнем споре Троцкий поставил все будущее марксизма и социализма в зависимость от результата Второй мировой войны. Убежденный, что война должна привести к революции — классической марксистской революции, — он полагал, что, если этого не произойдет, марксизм докажет свою несостоятельность, социализм проиграет раз и навсегда и установится эпоха бюрократического коллективизма. В любом случае, мнение это было поспешным, догматическим и отчаянным из-за безнадежности; историческая реальность вновь окажется неизмеримо сложнее, чем теоретическая схема. Война действительно привела в движение новую серию революций; и все же снова процесс этот не соответствовал классическим моделям. Западный пролетариат опять не стал штурмовать и захватывать бастионы старого порядка; а в Восточной Европе старый порядок в основном был сломан под воздействием вооруженной мощи России, победоносно продвинувшейся к Эльбе. Раскол между теорией и практикой — или между нормой и фактом — стал еще глубже.
И это не было случайностью. В этом проявилось продолжение тенденции, которая впервые обозначилась в 1920–1921 годах, когда Красная армия шла маршем на Варшаву и когда она оккупировала Грузию. Этими военными актами революционный цикл, который привела в действие Первая мировая война, подошел к концу. В начале этого цикла большевизм поднимался до пика настоящей революции; к концу большевики начали распространять революцию путем завоеваний. Затем наступил длинный интервал из двух десятилетий, в течение которого большевизм не распространялся. Когда Вторая мировая война привела в движение следующий цикл революции, он начался там, где закончился первый цикл, — с революции через завоевания. В военной истории, как правило, есть непрерывность между финальной фазой одной войны и начальной фазой следующей: оружие и идеи ведения войны, изобретенные и сформированные к концу одного вооруженного конфликта, доминируют на первой стадии следующего конфликта. Подобная неразрывность также существует и между циклами революции. В 1920–1921 годах большевизм, напрягая силы для разрыва изоляции, пытался весьма успешно перенести революцию за границу на штыках винтовок. Два-три десятилетия спустя сталинизм, извлеченный войной из своей скорлупы, навязал революцию всей Восточной Европе.
Троцкий ожидал, что второй революционный цикл начнется в той форме, в какой начинался первый, с классовой борьбы и пролетарскими восстаниями, результаты которых в основном будут зависеть от баланса общественных сил в каждой крупной нации и качества народного революционного руководства. И все же новый цикл начался не там, где начинался предыдущий, а там, где он закончился, не с революции снизу, а с революции сверху, с революции путем завоевания. Поскольку это могло сработать только тогда, когда какая-нибудь великая держава оказывала свое давление, в первую очередь, на своей периферии, этот цикл проходил на окраинах Советского Союза. Главными агентами революции были не рабочие стран, о которых идет речь, и их партии, а Красная армия. Успех или неудача зависели не от баланса общественных сил внутри каждого народа, а преимущественно от международного соотношения сил, от дипломатических договоров, альянсов и военных кампаний. Соперничество и сотрудничество великих держав накладывались на классовую борьбу, изменяя и искажая ее. Все критерии, которыми марксисты были приучены судить о «зрелости» или «незрелости» нации для революции, полетели за борт. Сталинский пакт с Гитлером и раздел между ними сфер влияния обеспечил стартовую точку для социальных потрясений в Восточной Польше и в государствах Балтии. Революции в самой Польше, в Балканских странах и в Восточной Германии произошли на основе раздела сфер, который Сталин, Рузвельт и Черчилль проделали в Тегеране и Ялте. Посредством этого раздела западные державы использовали свое влияние и мощь для подавления с молчаливого одобрения Сталина революции в Западной Европе (и Греции), несмотря на местный баланс социальных сил. Возможно, что, если бы не было тегеранской и ялтинской сделок, скорее Западная, нежели Восточная Европа стала бы театром революции — особенно Франция и Италия, где власть старых правящих классов была в руинах, рабочий класс был охвачен восстанием, а коммунистические партии возглавляли основную массу вооруженного Сопротивления. Сталин, действуя согласно своим дипломатическим обязательствам, уговорил французских и итальянских коммунистов покориться реставрации капитализма в их странах и даже сотрудничать в этой реставрации. В то же самое время Черчилль и Рузвельт заставили буржуазные правящие группировки Восточной Европы уступить перед превосходством России и, следовательно, подчиниться революции. По обе стороны этого огромного водораздела международный баланс сил затопил классовую борьбу. Как и в наполеоновскую эпоху, и революция и контрреволюция стали побочными продуктами оружия и дипломатии.
Троцкий видел лишь начало этой великой цепи событий. Он не понимал, что они предвещают. Весь его склад мышления затруднял ему, если не лишал целиком возможности вообразить, что целую эпоху армии и дипломатия трех держав смогут навязывать свою волю всем общественным классам старой Европы и что отсюда классовая борьба, подавленная на том уровне, на котором она традиционно велась, будет вестись на другом уровне и в других формах, таких как соперничество между блоками держав и как «холодная война».
Исходя из теоретического убеждения и политического инстинкта, Троцкий не испытывал ничего, кроме отвращения, к революции путем завоеваний. Он возражал против вторжения в Польшу и Грузию в 1920–1921 годах, когда Ленин выступал в поддержку этих рискованных начинаний. Как народный комиссар по военным и морским делам, он категорически не признавал Тухачевского, этого раннего истолкователя наполеоновских методов переноса революций в другие страны. За двадцать лет до Второй мировой войны он подверг осуждению этого вооруженного миссионера большевизма, заявив, что «он бы лучше повесил себе на шею придорожный камень и бросился в море». Его отношение в 1940 году было таким же, что и в 1920-м. Он все еще видел в экспорте революции самое опасное отклонение от революционного пути. Он все еще был уверен, что рабочие Запада своими собственными обстоятельствами будут вынуждены бороться за власть и за социализм и что со стороны советского правительства будет столь же преступно стараться делать для них революцию, как и действовать против их революционных интересов. Он все еще видел мир, чреватый социализмом; все еще верил, что эта чреватость не может длиться долго; и он боялся, что вмешательство в нее может привести к «аборту». Он не так уж был не прав: сталинское вооруженное вмешательство в революцию привело к рождению многих мертвых плодов — и многих живых чудовищ.
И вот, столкнувшись лицом к лицу с революцией, переносимой на штыках, Троцкий вновь оказался в серьезном затруднении. Он был за революцию и против завоеваний; но, когда революция вела к завоеванию или когда завоевание способствовало революции, он не мог в своем сопротивлении ей переступить грань открытого и бесповоротного разрыва. Он не доходил до этой точки по поводу Грузии и Польши в 1920–1921-м и также не сделал этого в связи с Польшей и Финляндией в 1939–1940 годах. Если бы он дожил и увидел последствия Второй мировой войны, он бы заметил, что эта дилемма осложнилась, стала гигантской и нерешаемой. Несомненно, что он осудил бы Сталина за жертву интересами коммунизма на Западе и что логика его поведения вынудила бы его принять реалии революции в Восточной Европе и, несмотря на все отвращение к сталинским методам, признать «народные демократии» государствами трудящихся масс. Такое отношение, каковы бы ни были его заслуги и чистота, не могли дать путеводной нити для практических политических действий; а поэтому Троцкий, человек практического действия, вряд ли нашел бы для себя какую-то полезную роль в послевоенной драме. В этом цикле революции не было места для классического марксизма.
Однако этот цикл, как и предыдущий, закончится не так, как начинался. Его кульминацией станет китайская революция, которая не была навязана сверху и не была принесена на кончиках иностранных штыков. Мао Цзэдун и его партия боролись за власть, невзирая на Сталина (который в 1945–1948-м, как и в 1925–1926 годах, стремился к сделке с гоминьданом и Чан Кайши); и, захватив власть, они не остановились на «буржуазно-демократических» стадиях восстания, а, подчиняясь логике «перманентной революции», довели ее до антибуржуазного конца. Этот «китайский Октябрь» стал, в некотором роде, еще одним из посмертных триумфов Троцкого.
И вот опять «теория суха, а древо жизни — вечно зеленеет». Промышленный пролетариат не был ведущей силой китайского восстания. Крестьянские армии Мао сами «заменили» городских рабочих и несли революцию из села в город. Троцкий был убежден, что, если бы эти армии надолго ограничились сельскими районами, они бы так ассимилировались с крестьянством в отношении отстаивания их личностных интересов против городских рабочих и против социализма, что стали бы главной поддержкой новой реакции. (Разве мятежные крестьянские армии в прошлом не восставали и не свергали упрочившиеся династии лишь для того, чтобы заменить их новыми династиями?) Этот анализ был справедлив в терминах классического марксизма, который предполагает, что партия социалистической революции нуждается не только в «представительстве» городских рабочих, но обязательно должна жить с ними и действовать через них — в противном случае она станет социально смещенной и будет выражать интересы чуждого класса. И действительно, может случиться так, что, если бы эта революция зависела исключительно от социальной расстановки сил в Китае, партизаны Мао стали бы в Юнаньский период так близко связаны с крестьянством, что, несмотря на их коммунистическое происхождение, не смогли бы навести мосты между «жакерией» и пролетарской революцией. Но результат этой борьбы даже в Китае определился как международными, так и национальными факторами. В разгар «холодной войны» перед лицом враждебной американской интервенции партия Мао гарантировала свое правление, присоединившись к Советскому Союзу и, соответственно, трансформировав общественную структуру Китая. Таким образом, революционная гегемония Советского Союза достигла (несмотря на первоначальную обструкцию Сталиным) того, что в противном случае могли достичь только китайские рабочие, — она подтолкнула китайскую революцию в антибуржуазном и социалистическом направлении. При китайском пролетариате, почти рассеянном и отсутствующем на политической сцене, гравитационное притяжение Советского Союза превратило крестьянские армии Мао в проводников коллективизма.
При этом волна революции переместилась дальше на Восток, дальше от «передового» Запада, и оказалась воплощенной в примитивное и беспомощное доиндустриальное общество. Более, чем когда-либо, классический марксизм выглядел практически неуместным в решении проблем как Востока, так и Запада. И такова была диалектика ситуации, что в то же самое время работали процессы, которые неожиданным образом наполнили ее новым смыслом. Благодаря интенсивной индустриализации, отсталый Восток становится все менее и менее отсталым. Советский Союз стал второй в мире по мощи индустриальной державой, его общественная структура радикально трансформировалась, его огромный рабочий класс тяготеет к современному образу жизни, а уровень жизни и массовое образование быстро растут, хотя и неравномерно. Сами предпосылки социализма, который марксизм видел существующим только в высокоразвитых индустриальных странах Запада, были созданы и собраны внутри советского общества. В соответствии с новыми потребностями этого общества сталинизм с его сплавом марксизма и варварства был анахронизмом. Его методы первоначального накопления были слишком примитивны, его антиуравниловка была слишком шокирующей, его деспотизм — нелепым. Традиции марксизма и Октябрьской революции, выжившие, так сказать, в зимней спячке, начали просыпаться в умах миллионов и воевать против бюрократических привилегий, бездеятельности сталинизма и бремени монолитной догмы. Через насильственную модернизацию структуры общества сталинизм шел к своей собственной гибели и готовил почву для возвращения классического марксизма.
Это возвращение оказалось слишком медленным и сопровождалось замешательством и бесконечными трудностями. Первое десятилетие после Сталина заполнил конфликт между сталинизмом или тем, что от него осталось, и возрождающимся социалистическим сознанием. Если бы троцкистская, зиновьевская и бухаринская оппозиция дожили до 50-х годов XX столетия, на них бы выпала задача десталинизации, и они выполнили бы ее с честью, искренне и последовательно. Но поскольку все они ушли вместе со старыми большевистскими атлантами, а десталинизация была неизбежной необходимостью, за эту работу пришлось взяться сталинским прислужникам и сообщникам; и они смогли с ней справиться лишь нерешительно, с дрожащими руками и разумом, никогда не забывая о своей доле в сталинских преступлениях и всегда стараясь остановить шокирующие разоблачения и тормозя реформы, которые им самим пришлось начать. Из всех призраков прошлого ни один не тревожил их так насмешливо и угрожающе, как призрак Троцкого, их заклятого врага, которому каждое из их разоблачений и реформ было невольной данью уважения. Ничто, в самом деле, так не тревожило Хрущева, как страх, что молодежь, не отягощенная ответственностью за ужасы сталинской эры, может потерять терпение от его уверток и ухищрений и приступить к открытой реабилитации Троцкого.
Открытая реабилитация обязательно должна произойти, хотя, не исключено, лишь после того, как стареющие в зимней спячке подражатели сойдут со сцены. Когда это произойдет, это станет более чем запоздалым актом справедливости по отношению к памяти великого человека. Этим актом государство трудящихся объявит, что наконец-то достигло зрелости, сломало свои бюрократические оковы и вновь избрало классический марксизм, который был изгнан вместе с Троцким.
Как все это может повлиять на остальную часть мира — слишком обширный вопрос, чтобы обсуждать его в постскриптуме биографического анализа. Достаточно сказать, что если историческое развитие уже сводит на нет поражение Троцкого, аннулируя старый антитезис между отсталой Россией и передовым Западом, антитезис, в котором коренилось его поражение, то регенерация русской революции может помочь аннулировать этот тезис до конца. Запад, у которого марксизм, девальвированный матушкой-Россией в сталинизм, вызывал отвращение и страх, наверняка ответит совсем другим образом на марксизм, очищенный от варварских наносов; в этом марксизме он наконец признает собственное творение и свое видение человеческой судьбы. История может совершить полный оборот,
пока Надежда творит Из своих обломков ту вещь, которую и собиралась.Троцкий иногда сравнивал человеческий прогресс с шествием босоногих пилигримов, которые движутся вперед к своей святыне, делая за один раз всего лишь несколько шагов, а потом отступают или отпрыгивают в сторону, чтобы продвинуться вперед и уклониться или вновь отступить; совершая, таким образом, зигзаги, они утомительно приближаются к месту своего назначения. Он видел свою роль в подталкивании этих «пилигримов» вперед. Однако человечество, когда после некоторого прогресса начинает отступать, позволяет оскорблять, чернить и затаптывать до смерти тех, кто призывает его идти вперед. Только возобновив движение вперед, оно отдает скорбную дань уважения жертвам, лелеет их память и ханжески собирает их останки; благодарит их за каждую каплю крови, которую они отдали, — ибо знает, что этой кровью они вскармливали семена будущего.
Примечания
1
«Наш великий друг» (фр.).
(обратно)2
Год чудес (лат.).
(обратно)3
Копии заявлений, телеграмм и писем находятся в закрытой секции архивов. В письме Беатрис Уэбб, написанном по-французски «с помощью Ромера», говорится, между прочим: «Я с удовольствием вспоминаю ваш визит. Он стал для меня приятным сюрпризом, и, несмотря на то что наши точки зрения бывают непримиримы, что мы знаем лучше, чем другие, беседа с Уэббами показала мне, что те, кто сейчас изучают классическую историю тред-юнионизма, могут извлечь пользу от беседы с ее авторами». Говоря о привлекательности для него Британии, Троцкий упомянул «мою старую симпатию к Британскому музею».
(обратно)4
«Сэр Остин Чемберлен [секретарь по иностранным делам], — писал Троцкий, — как утверждают газеты… выразил мнение, что регулярные связи [между Британией и Советским Союзом]… будут в полной мере возможны на следующий день после того, как Троцкого посадят в тюрьму. Эта лапидарная формула не делает чести темпераменту министра-тори… но… я взял бы на себя смелость посоветовать ему… не настаивать на этом условии. Сталин и так уже достаточно показал, насколько он готов встретить мистера Чемберлена, выслав меня из Советского Союза. Если он не пошел дальше, то не из-за отсутствия доброй воли. Было бы слишком безрассудно из-за этого наказывать советскую экономику и британскую индустрию» (Троцкий Л. Сочинения. Т. I. С. 27).
(обратно)5
«Великие современники» (англ.).
(обратно)6
9 февраля 1929 г. Более респектабельная «Hamburger Nachrichten» писала 25 января 1929 г.: «Сталин пожинает плоды своего промаха, что не отправил Троцкого и его окружение в загробный мир…»
(обратно)7
Александра Рамм, русского происхождения, была женой Франца Пфемферта, редактора радикального еженедельника «Aktion». Пфемферт был исключен из коммунистической партии как «ультрарадикал» после конгресса Коминтерна, когда влияние Троцкого было в зените, но он и его жена, несмотря на политические разногласия, сохраняли до конца теплые дружеские отношения с Троцким.
(обратно)8
М. Парижанин ярко описывает рыболовную эскападу с Троцким далеко в водах Малой Азии. «…Он нагнулся, чтобы снять пойманный трофей… чувствовалась его скрытая радость… он владеет стихией». С наступлением ночи их застал сильный шторм. Лодка чуть не перевернулась; сопровождавший их турецкий жандарм закричал от страха; а Троцкий взял весла и принялся энергично бороться с волнами. Таковым было его спокойствие, забота о компаньонах и чувство юмора, что Парижанину пришла в голову мысль: «Не бойся… с тобой Цезарь, и его счастливая судьба с тобой». Они нашли убежище в заброшенной хижине на пустынном маленьком островке. На следующее утро, оставшись без пищи, они подстрелили двух зайцев. Парижанин, лишь ранив своего зайца, добил его. «Так охотники не поступают, — сказал Троцкий, — раненое животное не следует убивать». А тем временем турецкие власти начали поиски; и на помощь подоспели несколько крестьян. Троцкий принял помощь с усмешкой над самим собой, припомнив рассказ Щедрина о том, как два генерала потерялись в неведомой стране и не были в состоянии удовлетворить самые примитивные потребности. «Ах, — вздыхал один из них, — если бы мы нашли здесь мужика!» И вот мужик тут же появился и в момент сделал все, что надо.
(обратно)9
Переписка Пфемферта с Троцким, апрель 1930 г. Ольберг был членом немецкой оппозиции. Он возбудил подозрения своими настойчивыми расспросами о связях Троцкого с его сторонниками в Советском Союзе. Был ли он агентом-провокатором или стал им позднее, как это было с Соболевичусом, четко не установлено. После прихода нацистов к власти в 1933–1934 гг. Ольберг, говорят, жил в жуткой бедности как политический эмигрант в Чехословакии. Конечно, он мог действовать в роли сталинского осведомителя по «идеологическим» причинам, не получая никакого вознаграждения. Он был подсудимым и одним из главных свидетелей на процессе над Зиновьевым в 1936 г. и был приговорен к смертной казни.
(обратно)10
В письме к Соболевичусу и Уэллу от 4 ноября 1929 г. Троцкий утверждал, что германский Ленинбунд ведет свою деятельность на деньги, которые его лидеры получали от Пятакова до его капитуляции. Масштаб этой деятельности был настолько скромен, что им хватило бы совсем небольшой суммы.
(обратно)11
Шоу многократно и с необычайным пылом выражал свое восхищение Троцким. В одном из писем Молли Томпкин, например, он пишет: «Вчера… у меня была кипа отчетов о речах наших великих партийных лидеров и книжка Троцкого за полкроны… В плане чистой, грубой, дикой кровожадности трудно превзойти речи Биркенхеда, Ллойд Джорджа и Черчилля. В плане здравого смысла, прямоты и откровенности, умственных способностей я всегда предпочитаю Троцкого. Переключиться с президентской кампании в вашей стране и всеобщих выборов у нас на его исследования положения — равнозначно перелету на другую планету». Именно Шоу первым сравнил Троцкого-писателя с Лессингом.
(обратно)12
«Безоружный пророк». В 1926 г. Пятаков, работавший тогда в советском посольстве в Париже, стремился объединить различные антисталинские элементы, исключенные из Французской коммунистической партии. В Москве Троцкий и Зиновьев создали объединенную оппозицию, а задачей Пятакова было сформировать для нее французского двойника. Он провел совещания с Ромером, А. Дюнуа, Лорио, Сувариным, Монатом, Пазом и другими и положил начало изданию «Contre le Courant» [ «Против течения» (фр.)]. Но Ромер и Монат, враждебно настроенные по отношению к идее «блока» между троцкистами и зиновьевцами, отказались сотрудничать; и тогда «Contre le Courant» стал выходить как французский орган объединенной оппозиции под редакцией Пазов и Лорио. Ромер и Монат продолжали независимо проводить свою антисталинскую работу.
(обратно)13
«Бюллетень оппозиции». 1930. № 17–18, а также письмо Ромера Троцкому от 10 апреля 1930 г. в архивах, закрытая секция. Примерно в то время три члена итальянского Политбюро — Раваццоли, Леонетти и Треско — перешли в троцкистскую оппозицию. Они были друзьями и сторонниками Грамши; и один из них информировал Ромера о письме Грамши к Тольятти и его сокрытии. В 1961 г. я публично попросил Тольятти через итальянскую прессу разъяснить суть вопроса. Он ответил через своего друга, что Грамши действительно призывал его в 1926 г. не вмешивать итальянский коммунизм в российскую внутрипартийную борьбу. (Тольятти поддерживал Бухарина и Сталина в их борьбе с Троцким.) Тольятти утверждает, что письмо Грамши пришло в Москву в период внутрипартийного перемирия; и поэтому, посоветовавшись с Бухариным, он решил, что это письмо неуместно в данной ситуации. Когда борьба между Сталиным и Троцким возобновилась, Коминтерн и Итальянская компартия тем не менее оставались в неведении в отношении позиции Грамши. Эта позиция явилась причиной забвения, которому подверглась память о Грамши в эпоху Сталина. Только после смерти Сталина заслуги Грамши были «снова обнаружены», а Тольятти положил начало своего рода посмертному культу Грамши в Итальянской компартии.
(обратно)14
Интерес Троцкого к Китаю был стойким, а его контакты с китайскими последователями были в тех обстоятельствах тесными. Летом или осенью 1929 г. Лин Цзе (?), оппозиционер, направлявшийся из Москвы в Китай, посетил его на Принкипо, а потом до 1940 г. Троцкий вел довольно регулярную переписку с несколькими группами в Китае, представляющими различные оттенки оппозиции. Еще в 1929–1931 гг. его китайские последователи сообщали ему о соперничестве между Ли Лисаном, тогдашним официальным лидером партии, Чжу Дэ и Мао Цзэдуном, объявляя первых двух «оппортунистами» и возлагая большие надежды на Мао. Некоторые из сторонников Троцкого вовсе не были в восторге от «обращения в троцкизм» Чен Дусю; они считали его «ликвидатором» и заявляли, что он уже сыграл свою роль. Троцкий, для которого имя Мао не могло говорить много, придавал большое значение Чен Дусю, «великому старейшине» китайского марксизма, и пытался примирить с ним китайских троцкистов. Сам Чен Дусю в письме Троцкому от 1 декабря 1930 г. объяснял, что впервые ознакомился со взглядами Троцкого на китайскую революцию летом 1929 г. и сразу убедился в их правильности.
(обратно)15
Троцкий проследил родословную идеи социализма в одной стране до Г. Фольмара, хорошо известного немецкого реформиста, который за двадцать лет до «ревизионистской» кампании Бернштейна детально растолковал идею «изолированного социалистического государства». (Это, можно добавить, была социалистическая вариация на главную тему экономики Листа.) Концепция Фольмара, отмечал Троцкий, была утонченней, чем у Сталина и Бухарина, потому что его изолированное социалистическое государство должно было походить на Германию, переживающую технический подъем, а не на недоразвитую крестьянскую страну. Фольмар видел в технологическом превосходстве этого отдельного социалистического государства над его капиталистическими соседями гарантию его безопасности и успехов, в то время как Бухарин и Сталин были удовлетворены тем, что такое государство могло процветать даже при индустриальной отсталости. Фольмар также предполагал, что социалистическая Германия, пользуясь преимуществами более развитой технологии и плановой экономики, победит своих капиталистических соседей в мирном экономическом соревновании и тем самым сделает революцию в других странах ненужной. С этой идеей Фольмар предвосхитил не только и не столько сталинско-бухаринскую концепцию 1920-х гг., сколько хрущевские тезисы «экономического соревнования» и «мирного перехода к социализму», принятые XX съездом Коммунистической партии Советского Союза в феврале 1956 г.
(обратно)16
«Пролетарская революция» (фр.).
(обратно)17
Это не боевой коммунист. Это бизнесмен и безграмотный человек (фр.).
(обратно)18
«Энергия, присущая Молинье» (фр.).
(обратно)19
«Знамя коммунизма» (нем.).
(обратно)20
Излишек рвения (фр.).
(обратно)21
Навыворот (фр.).
(обратно)22
В 1935 г. Сталин, озабоченный в связи с надвигающейся войной отражением японского нападения на СССР, продал Китайско-Восточную железную дорогу правительству Маньчжоу-Го, бывшего марионеткой в руках Японии. В 1945 г. Советский Союз вернул себе контроль над железной дорогой; и только в сентябре 1952 г. Сталин после некоторых колебаний передал ее в собственность правительства Мао Цзэдуна. Это был один из последних важных политических актов Сталина. До того времени он придерживался курса экономического проникновения в Китай, и эта уступка стала предзнаменованием окончательного отказа от этого курса со стороны его преемников. В этом, как и во многих других действиях, Сталин и его преемники оказались неохотными и нерешительными исполнителями политики, которую Троцкий наметил примерно за четверть века до них.
(обратно)23
Международное бюро, сформированное на конференции троцкистов из нескольких стран в апреле 1930 г., состояло из Ромера (с Навилем в качестве заместителя), американца Шахтмана, немца Ландау, испанца Нина и русского Маркина. Под псевдонимом Маркин российскую оппозицию представлял Л. Седов (Лёва). (Он, однако, в конференции не участвовал.) Бюро не могло функционировать, потому что Шахтман возвратился в Штаты, Нина вскоре посадили в тюрьму в Испании, а Маркин не мог выехать с Принкипо. Тогда в Париже был создан Международный секретариат, главной опорой которого стал Навиль, а членами итальянец Суцо и американец Милл. Некоторое время спустя Милл был разоблачен как сталинец; и секретариат оказался не более эффективным, чем бюро. Троцкий тогда намеревался перестроить его с помощью Сенина-Соболевичуса и Уэлла.
(обратно)24
9 термидора (по революционному календарю), или 27/28 июля, 1794 г. во Франции произошел переворот, положивший конец якобинской диктатуре.
(обратно)25
Крупномасштабное капиталистическое земледелие сформировало на селе предпосылки для индустриализации-Британии и Соединенных Штатов; юнкерские поместья и Gross-bauerwirtschaft [крупные крестьянские хозяйства (нем.)) доминировали в сельском хозяйстве Германии во время ее промышленного подъема. Во всех этих странах крупное земледелие в момент начала индустриализации уже существовало, в то время как в России в 20-х годах XX века его не было. Концентрация земледелия любыми обычными методами капиталистической конкуренции требовала много времени и много Laisser faire [свобода (фр.)].
(обратно)26
Троцкому часто приходилось защищаться от этого обвинения, которое впервые было выдвинуто даже его французскими последователями, о чем Ромер информировал его в письме от 24 февраля 1929 г. И Ромер и Троцкий отвечали, что Марксу тоже приходилось зарабатывать на жизнь сотрудничеством с буржуазной прессой. В специальном примечании к первому выпуску «Бюллетеня оппозиции» Троцкий разъяснил свою позицию советским читателям и подчеркнул, что даже в буржуазной прессе он выступает как большевик и ленинец, защищая революцию.
(обратно)27
Текст послания (недатированный) находится в закрытой секции архивов. Я не смог установить точную дату визита Блюмкина. По внутренним признакам он, похоже, происходил либо в июле, либо в августе 1929 г. Послание Троцкого, кроме того, содержит следующие организационные инструкции: он просит своих сторонников не поддерживать с ним связь через Урбанса, лидера германского Ленинбунда, с которым у него были политические разногласия, и предупреждает, что надо опасаться некоего Харина, чиновника советского посольства в Париже, которого он объявляет сталинским провокатором. (Похоже, что частично через Харина Троцкий сразу после высылки поддерживал связь с Россией.) Эти «инструкции» также не имеют в себе ничего заговорщицкого или даже секретного. В любом движении такого рода предупреждениям о провокаторе обычно придается широчайшая гласность, чтобы насторожить как можно больше людей.
(обратно)28
Судебное убийство (нем.).
(обратно)29
По оценке газеты «Правда» от 15 января 1930 г., для полной коллективизации советского сельского хозяйства требовалось 1 500 000 тракторов. Этот уровень механизации был достигнут лишь в 1956 г., когда тракторный парк (в пересчете на 15 л. с.) перешел отметку 1 500 000 — фактически в 30-сильных единицах он составлял 870 000 машин.
Ежегодное производство тракторов (в 15-сильном исчислении) в 1929 г. было чуть больше 3000 и 50 000 — в 1932 г. Количество имевшихся других сельскохозяйственных машин было совершенно незначительно. В начале первой пятилетки, в 1928 г., на деревне было менее 1000 грузовиков, и в 1932 г. их было только 14 000.
(обратно)30
«Коллективизация сохи… это мошенничество», — писал Троцкий. Его аргумент был отвергнут некоторыми экономистами-троцкистами и, конечно, сталинистами, которые заявляли, что колхоз, даже технически примитивный, будет более производителен, чем старые мелкие хозяйства. Критики Троцкого исходили из аналогии с британской мануфактурой, которая даже перед промышленной революцией (когда это все еще была мануфактура в строгом смысле слова) была более производительной, чем кустарное производство, потому что, как отмечал Маркс в «Das Kapital», она использовала преимущества, во-первых, «простой кооперации», а во-вторых — разделения ручного труда. В строгой теории критики Троцкого были правы: коллективизация даже без предшествовавшего наличия соответствующей ей технической базы приводит к более высокой производительности, как это было одно время в Китае в середине 50-х гг. Однако на практике и в том, что касается коллективизации 1929–1932 гг., Троцкий был прав: любые преимущества, которые колхоз может извлечь из кооперации и разделения ручного труда, будут уничтожены негативным отношением крестьян к труду и к первоначальному уничтожению поголовья скота.
(обратно)31
Городское население СССР выросло в течение 30-х гг. с 30 млн до почти 60 млн человек, и наиболее интенсивный рост происходил в первой половине десятилетия. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции упал со 124 в 1928 г. (1913 г. — за 100 %) до 101 в 1933 г. и составлял лишь 109 в 1936 г., в то время как животноводство сократилось со 137 в 1928 г. до 65 в 1933 г., а затем медленно выросло до 96 в 1936 г. В 30-х гг. производство зерна не превышало уровень 1913 г. или было ниже его. В 1928 г., тем не менее, рыночный избыток сельхозпродукции составил лишь половину дореволюционного объема, и только реквизиции 1929–1932 гг. удвоили (примерно) запасы зерна, необходимые для нужд города. Поставки сахара, мяса и жиров резко упали за годы первой пятилетки. Производство одежды из хлопка сократилось или было стабильно между 1928-м и 1935 гг. То же самое относится и к обуви, нехватка которой усугубилась исчезновением отечественного производства. Для всего десятилетия характерна нехватка рабочей силы и материалов, которые были нужны тяжелой промышленности в первую очередь. Перенаселенность городов была бедственной. Новые жилые здания в среднем предоставляли городскому жителю не более четырех квадратных метров на человека.
(обратно)32
В резолюции Центрального комитета от 10 января 1933 г. утверждается, что «средний» рост доходов рабочих и крестьян за первую пятилетку составил 85 %. В тот же период общий объем розничной торговли государственных и кооперативных магазинов вырос с почти 12 миллиардов до свыше 40 миллиардов рублей. Поскольку, кроме хлеба, который выдавался по фиксированной цене, и, возможно, картофеля, масса проданных товаров либо была неизменной, либо немного выросла за эти годы, получается, что покупательная способность рубля, даже если ее оценивать только в фиксированных ценах, упала по сравнению с 1928 г. на одну треть — одну четверть.
(обратно)33
«Троцкий призывает нас стать более зависимыми от капиталистического мира», — говорил Каганович, которому Троцкий возразил, что «автаркия — это идеал Гитлера, а не Маркса и не Ленина». За 1930–1935 гг. объем советского экспорта в стоимостном выражении сократился на одну треть, а импорта на одну четверть. Часть этого падения была вызвана неблагоприятными торговыми условиями.
(обратно)34
«Уже было за полночь, — пишет Черчилль. — Скажите, — спросил я, — было ли напряжение этой войны для вас лично таким же тяжелым, как и то, что вы пережили, проводя политику коллективизации?» Эта тема тут же возбудила генералиссимуса. «О нет, — сказал он, — проведение коллективизации было ужасной борьбой. <…> Десять миллионов [крестьян], — сказал он, воздевая руки. — Это было ужасно. И длилось четыре года. Для России это было абсолютно необходимо».
(обратно)35
Санкюлоты наоборот (фр.).
(обратно)36
Антипапа — контркандидат на папский престол, избрание которого объявлялось впоследствии недействительным.
(обратно)37
Заседание Исполкома Коминтерна состоялось в апреле 1931 г., докладчиком о международном положении был Мануильский. Он излагал стратегию Третьего периода просто с неудержным рвением, что только подчеркивало ее абсурдность.
(обратно)38
Весь 1931 г. (и в первой половине 1932 г.) эти глубокие диагнозы и прогнозы почти ежедневно фигурировали в «Rote Fahne», и их авторитетно поддерживали «Internationale Presse Korrespondenz» и «Kommunistische Internationale». He только Молотов, Мануильский, Пятницкий и другие русские лидеры, но и такие выразители мнения европейского коммунизма, как Тольятти (Эрколи), Торез, Кашен, Ленский, Куусинен, и другие исполненные сознания долга люди уверяли себя и своих сторонников, что единственный путь к спасению — тот, которым Тельман ведет Германскую коммунистическую партию.
(обратно)39
Отто Вельс, лидер социал-демократов в рейхстаге, использовал одну из своих последних возможностей выступить с парламентской трибуны, чтобы провозгласить готовность своей партии поддержать правительство Гитлера в области международной политики. Этой ценой он надеялся спасти свою партию от уничтожения нацистами; но Гитлер не принял это предложение.
(обратно)40
Антология полемики германских сталинистов с Троцким представляет собой полезное, хотя и невыносимо монотонное чтиво. Даже Мюнценберг писал: «Троцкий предлагает… блок между коммунистической и социал-демократической партиями. Ничто не может быть столь же разрушительно для рабочего класса Германии и коммунизма, и ничто так не продвинет фашизм, как осуществление этого преступного предложения… Тот, кто предлагает подобный блок… лишь содействует лидерам социал-фашизма. Его роль, фактически, откровенно фашистская» (Rote Aufbau. 1932. 15 февраля). Мюнценберг завершил эту полемическую кампанию, покончив с собой в изгнании.
(обратно)41
Тетради Лёвы по математике, плотно и аккуратно заполненные, с датированными записями и отметками его академических преподавателей, позднее послужили доказательством его алиби на мексиканском контрпроцессе 1937 г. Эти тетради сохранены в архивах. В недатированном письме д-ру Соблену (Уэллу) Лёва объясняет причины, которые вынудили его переехать в Берлин. (Ему понадобилось семь или восемь месяцев, чтобы получить германскую визу.)
(обратно)42
Правительство земли (нем.).
(обратно)43
Третьего не дано (лат.).
(обратно)44
Государственный обвинитель утверждал, что подсудимые получали приказы от Р. Абрамовича, меньшевистского лидера в эмиграции, и что тот тайно приезжал в Россию для инспекции организаций заговорщиков. Абрамович сумел доказать, что в то время, когда, по утверждению прокурора, ездил в Россию, он находился на сессии Исполкома 2-го Интернационала в Брюсселе и выступал с общественной трибуны вместе с Леоном Блюмом, Вандервельде и другими лидерами социал-демократов.
(обратно)45
Первоначальное мнение Троцкого о процессе над меньшевиками содержится в «Бюллетене оппозиции» (1931. № 21–22). Тридцать лет спустя, в июле — сентябре 1961 г., «Меньшевистский социалистический вестник» опубликовал воспоминания Н. Ясного о Громане, в которых утверждалось, что роль Громана в борьбе между большевистскими фракциями была именно такой, какой ее описывал Троцкий, хотя он, конечно, не был виновен в приписывавшихся ему преступлениях.
(обратно)46
Е. Волленберг, бывший редактор «Rote Fahne» и лидер Rotfrontbund, пишет в книге «The Red Army», с. 278: «В начале 1933 г. Зиновьев сказал мне: „Помимо немецких социал-демократов, Сталин несет основную ответственность перед историей за победу Гитлера“».
(обратно)47
Первый среди равных (лат.).
(обратно)48
Троцкий защищает Рязанова в «Бюллетене оппозиции» (1931. № 21–22). Как директор Института Маркса — Энгельса Рязанов сделал больше чем кто-либо другой для того, чтобы собрать воедино документы Маркса и Энгельса. Среди других документов он получил ряд писем Маркса Каутскому, которые Каутский уступил на условии, что некоторые из них, содержащие строгую критику в его адрес, не будут опубликованы при его жизни. Рязанов, связанный данным словом, воздерживался от их публикации; и никто его в этом не обвинял до тех пор, пока Сталину не понадобился повод, чтобы выгнать его из Института и дискредитировать.
(обратно)49
Попов Н. Краткая история ВКП(б). Т. II; КПСС в резолюциях. Т. II. Дела всех этих «уклонистов» стали темой различных «признаний» на московских процессах 1937–1938 гг.
(обратно)50
За все свои годы на Принкипо Троцкий только раз или два выезжал в Константинополь, чтобы побывать в храме Святой Софии и посетить дантиста.
(обратно)51
Между прочим, группа студентов в Эдинбурге просила его разрешения выдвинуть его кандидатуру на выборах ректора их университета — он вежливо отказался от этой чести.
(обратно)52
Политика не знает ни личной злобы, ни духа мести. В политике имеют значение только деловые качества (фр.).
(обратно)53
Британским участником, которому я обязан его впечатлениями, был м-р Гарри Викc. Ему было суждено стараться переправить работы Троцкого в СССР через русских моряков, заходивших в порты Британии; Троцкий дал ему письмо с разрешением вести эту работу.
(обратно)54
См. переписку Троцкого с братьями Сениными-Соболевичусами от 15, 16, 18 и 22 декабря 1932 г. Атака Троцкого на Сталина («Обеими руками»), против которой они возражали, появилась в «Бюллетене оппозиции» № 32 в том же месяце. В нем Троцкий обвинял Сталина в беспринципном сватанье за американский капитализм — он основывал свои обвинения на интервью, которое Сталин дал некоему Томасу Кемпбеллу, американскому техническому специалисту и автору книги о России. Кемпбелл цитировал Сталина, заявившего, что главной причиной разрыва между ним и Троцким была готовность Троцкого распространить революцию на другие страны и желание его, Сталина, «ограничить все свои усилия рамками своей страны». Позднее Сталин отрицал, что сделал такое заявление, но это отрицание выглядело весьма неубедительным. Братья Соболевичусы считали, что нападки Троцкого были несправедливыми и ультралевацкими.
(обратно)55
Уолтон Айзек (1776–1847) — английский писатель, известный своей книгой «Идеальный рыболов» и др.
(обратно)56
«Свободна улица для марша батальонов» (нем.).
(обратно)57
Троцкий писал Францу Пфемферту 5 февраля 1933 г. Как уверяет Пьер Франк, который в то время был в Буйюк-Ада, Троцкий заперся на несколько дней в своей комнате; Наталья была с ним; и только она время от времени выходила из этой комнаты. Когда он наконец появился, его секретари заметили, как поседели за эти дни его волосы.
(обратно)58
Непременное условие (лат.).
(обратно)59
Пьер Франк рассказывает, что в те недели и месяцы, когда Троцкий был занят поисками решения этих вопросов, его секретари ежедневно видели, как он часами шагал по своей комнате, молча, в напряжении и погруженный в свои мысли. «Лицо его обильно покрывал пот; и чувствовалось физическое напряжение в его мысли».
(обратно)60
«Ясно, — делает вывод Троцкий, — что в этом счастливом историческом варианте бюрократия превратится только в инструмент — плохой и дорогой — социалистического государства». Но он не считал, что этот «счастливый вариант» материализуется сам собой.
(обратно)61
Один вождь, одна партия, один народ! (нем.)
(обратно)62
Они сами признавались в этом «тайном восхищении» многие годы спустя, когда были свободны высказать свое мнение; некоторые дошли до того, что смогли заявить это нынешнему биографу Троцкого.
(обратно)63
Карлейль Томас (1795–1881) — историк, автор книги «Французская революция» и других работ.
(обратно)64
Мировоззрение (нем.).
(обратно)65
Бабеф Гракх (1760–1797) — деятель Великой французской революции; вождь раннекоммунистического «движения во имя равенства». Был казнен.
(обратно)66
Роковой (лат.).
(обратно)67
Бароны Фальц-Файн имели обширные земельные владения на Украине.
(обратно)68
Моя печаль звучит перед неизвестной толпой, ее аплодисменты вызывают страх в моей душе (нем.).
(обратно)69
Покровский М. Н. — один из первых авторитетных советских историков-марксистов.
(обратно)70
Эйзенштейн Сергей (1898–1948) — знаменитый советский кинорежиссер. Автор фильмов «Броненосец „Потемкин“», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.
(обратно)71
Милюков, однако, сам частично отрекался от своей собственной работы, считая ее неадекватной с исторической точки зрения (Милюков Т. История второй русской революции. Предисловие). Главным или, скорее, единственным пунктом, в котором Керенский стремился опровергнуть Троцкого, был повтор старых обвинений в том, что Ленин и большевистская партия были шпионами на содержании у немцев (Керенский А. Распятие свободы).
(обратно)72
Из ничего (лат.).
(обратно)73
Идеология (нем.).
(обратно)74
Троцкий Л. Преданная революция. С. 87–88. Что характерно, Сидней Хук в своей антимарксистской книге «Герой в истории» делает упор на субъективной ноте в отношении Троцкого к Ленину и приходит к выводу, что Октябрьская революция была не «столько продуктом всей прошлой истории России, сколько продуктом одного из самых великих творцов событий всех времен».
(обратно)75
Направленность на цель (фр.).
(обратно)76
Когда я заметил Наталье Седовой, что отсутствует ощущение личной близости между Лениным и Троцким, и предположил, что это стало невозможным из-за обидного характера дореволюционной полемики Троцкого, она ответила, что никогда не думала об этом в таком аспекте. Однако, поразмыслив, она добавила: «Возможно, именно это было причиной некоторой сдержанности со стороны Ленина. Старая фракционная борьба велась в дикой и грубой манере».
(обратно)77
Деловитость (нем.).
(обратно)78
В феврале 1851 г. после того, как стало очевидно поражение революции в Европе, Энгельс писал Марксу: «Теперь наконец-то мы вновь имеем… возможность показать, что нуждаемся не в популярности, не в „поддержке“ со стороны какой-либо партии в любой стране и что наша позиция вообще независима от таких мелочей… Действительно, нам даже не следует выражать недовольство, когда эти petits grands hommes [мелкие лидеры (фр.). — лидеры различных социалистических партий и групп] боятся нас; столь много лет мы вели себя так, словно шантрапа, оборванцы и всякая шваль были нашей партией, тогда как фактически у нас не было партии вообще, а люди, кого мы считали принадлежащими нашей партии, по крайней мере формально, sous reserve de les appeler des bêtes incorrigibles entre nous [не исключая возможности назвать их, между нами, неисправимыми скотами (фр.)] не улавливали даже основ наших проблем». «С нынешнего момента мы отвечаем лишь за самих себя; а когда придет время и эти господа нам понадобятся, мы сможем диктовать им свои условия. До того времени мы будем, по крайней мере, жить в условиях мира. Конечно, при этом наступит некоторое одиночество… [И все-таки] как могут люди вроде нас, которые остерегаются любого официального поста, как чумы, подходить „партии“… то есть шайке ослов, которые используют нас, потому что считают, что мы — такие же, как и они… При следующей возможности мы можем и должны избрать такую линию поведения: мы не занимаем никаких официальных постов в государстве и, как можно дольше, никаких официальных постов в партии, никаких мест в комитетах и т. д., никакой ответственности за ослов, [но вместо этого проводим] беспощадную критику всех и пользуемся общительностью и жизнерадостностью, которой нас не смогут лишить интриги всех болванов… Главное на данный момент то, что у нас должна быть возможность публиковать все, что мы пишем… либо в ежеквартальных изданиях, либо в объемистых томах… Что останется от всей этой болтовни, которой может заниматься за ваш счет эта толпа эмигрантов, как только вы выступите в ответ со своими экономическими трактатами?»
(обратно)79
Троцкий подозревал, что «Vossische Zeitung» (к тому времени уже ставшая нацистской) занялась этим вопросом по приказу Гитлера и что Сталин поспешил заверить Гитлера, что и не думает о каком-либо примирении с человеком, который предлагал советскому правительству в ответ на захват Гитлером власти объявить мобилизацию Красной армии.
(обратно)80
Служба безопасности (фр.).
(обратно)81
«Путешествие на краю ночи» (фр.).
(обратно)82
Человеческое состояние (фр.).
(обратно)83
Впервые Троцкий написал о Мальро в 1931 г. Некоторое время после приезда Троцкого во Францию Мальро был членом Комитета по содействию в защите Льва Троцкого. Этот Комитет занимался сбором денег, которые должны были покрыть расходы на содержание телохранителей Троцкого; и в воззвании, подписанном наряду с другими и Мальро, он «à tous ceux qui refusent de livrer un proscrit dont toute la vie a été au service de l'avenement d'une société meuilleure aux balles de la reaction» [ «обращается ко всем, кто отказывается предать изгнанника, который всю свою жизнь отдал делу прихода лучшего общества под пулями реакции» (фр.)]. (Среди тех, кто поддержал это воззвание, был Ромен Роллан, который впоследствии, однако, также оправдывал сталинские репрессии.)
(обратно)84
Это хорошо согласуется с тем, что Троцкий писал позже (29 апреля 1936 г.) В. Сержу: «Ромер, расходясь со мной по второстепенному вопросу, приходил в чрезвычайное возбуждение… Из-за этого мы не встречались с ним во время моего пребывания во Франции; но наше уважение и симпатии как к Альфреду, так и Маргарите, были, как всегда, велики. Ромер — это человек, на которого всегда можно положиться в трудный момент».
(обратно)85
Огненный крест (фр.).
(обратно)86
«Смерть Даладье!» (фр.)
(обратно)87
«Куда идет Франция?» (фр.)
(обратно)88
В свое время Троцкий был единственным политическим теоретиком, который выработал точное определение фашизма. И все же в некоторых случаях он употреблял его весьма неточно. Ему виделась неминуемость фашизма во Франции, и он настаивал на присвоении ярлыка «фашистский» псевдобонапартистской диктатуре Пилсудского в Польше, хотя Пилсудский вовсе не правил в авторитарной манере и был вынужден мириться с многопартийной системой. С другой стороны, Троцкий описывал весьма неубедительно эфемерные правительства Шляйхера и Папена, а также слабое правительство Думерга в 1934 г. как бонапартистские. (Только в 1940 г. он, наконец, назвал режим Петэна скорее псевдобонапартистским, чем фашистским.) По этим пунктам я спорил с Троцким в 30-х годах, но этот вопрос, возможно, имеет небольшое историческое значение и слишком запутан, чтобы им здесь заниматься.
(обратно)89
«Еще раз: Куда идет Франция?» (фр.)
(обратно)90
В статье Жака Дюкло в «Humanité» в декабре 1934 г. идет речь о том, что «руки Троцкого покрыты кровью Кирова»; a Secours Rouge International [Международная красная помощь (фр.)] — французская секция MOPR (международная организация защиты политзаключенных и ссыльных) — шумно требовала высылки Троцкого из Франции.
(обратно)91
В своей книге «Россия после Сталина» (1953) и во многих статьях, опубликованных как раз в конце сталинской эры, я подчеркивал это обстоятельство. Американские троцкисты тогда посвятили целый выпуск своего теоретического органа «The Fourth International» (зима 1954 г.) теме «Троцкий или Дойчер», а их лидер Джеймс П. Кеннон категорически осудил меня как «ревизиониста» и как «Бернштейна троцкизма». Мой грех заключался в том, что я предсказал, что через несколько лет не будет шансов для «политической революции» в СССР и что начинается период «реформ сверху». Я базировал свое мнение, между прочим, на том факте, что уничтожение всякой оппозиции, особенно троцкистской, оставило советское общество аморфным, нечетким и неспособным на «инициативу снизу». Парадоксально, что троцкисты на Западе настолько были не информированы об этих последствиях уничтожения троцкистов (и других антисталинских большевиков) в СССР.
(обратно)92
Мертвый хватает живого (фр.).
(обратно)93
Чистки (фр.).
(обратно)94
Услуга за услугу (лат.).
(обратно)95
В 1961 г. одно американское правительственное агентство напечатало памфлет под названием «Революция преданная», целью которого было оправдать американскую кампанию против Кубы. Человек, которого Государственный департамент, Пентагон, бывшие владельцы сахарных плантаций на Кубе и некоторые «радикалы» осудили как предателя революции, был Фидель Кастро. Оплаченное американцами вторжение на Кубу имело целью, прежде всего, восстановить кубинскую революцию в первичной чистоте.
(обратно)96
Настоящая любовь (фр.).
(обратно)97
Подкаблучный президент (нем.).
(обратно)98
В своих «Военных мемуарах» Кот так описывает эту сцену: «После встречи [с королем и германским послом] я собрал членов парламента… и рассказал им о новых германских требованиях… У меня не было сомнений, что правительство их отвергнет… что нам придется снова спасаться бегством., и придется покинуть страну. Я вспомнил слова, которые Троцкий сказал Трюгве Ли… „Через несколько лет вы и ваше правительство сами станете политическими беженцами, окажетесь без дома и страны, как я сейчас“. Мы отбрасывали его слова прочь, подобное казалось нам совершенно невозможным… Несколько раз я был вынужден прервать свою речь, чтобы удержаться от слез». Норвежские парламентарии, бывшие свидетелями этой сцены, описывали мне ее в том же духе. Один из них утверждает, что именно король Хокон напомнил Трюгве Ли о «проклятии Троцкого».
(обратно)99
«Красная книга о московском процессе» (фр.).
(обратно)100
Впоследствии Этьен (Марк Зборовски) во всем признался, и в декабре 1955 г. был приговорен американским судом к пяти годам тюремного заключения по обвинению в вероломстве. Мой рассказ об отношениях между Этьеном и Лёвой основан на их переписке с Троцким и показаниях, которые каждый из них дал французской полиции и судье. История Этьена была изложена X. Кассоном в газете «New Leader» (от 21 ноября 1955 г.) и Дейвидом Дж. Далином (19 и 26 марта 1956 г.). См. также: Слушания в подкомитете Сената США по вопросам внутренней безопасности. Часть 51, 14–15 февраля 1957 г., а также: Isaac Don Levine. The Mind of an Assassin.
(обратно)101
Позднее Карденас счел необходимым опровергнуть эти вымыслы публично, а Троцкий подумывал о том, чтобы подать в суд на одну американскую газету, которая яростно нападала на него как на злой дух Карденаса. Он уступил лишь тогда, когда Альберт Гольдман сообщил ему, что нет юридических оснований для таких действий.
(обратно)102
Крестьяне (исп.).
(обратно)103
«Сегодня, какие бы субъективные намерения ни были у Троцкого, я не стану судить о них, ибо его объективная роль состоит в мобилизации в рабочем движении негативного отношения к Советскому Союзу. Он приказал своим сторонникам во Франции вступать в Социалистический Интернационал. Он еще дальше отошел от коммунистических основ… Он даже выступал за гражданскую войну в Советском Союзе и тем самым стал открытым врагом класса и страны, которой он так верно когда-то служил». Так Бертрам Д. Вольфе писал о Троцком в 1936 г.! Лишь когда великие репрессии приблизились к концу, незадолго до того, как на скамье подсудимых появился Бухарин, вот тогда Вольфе, этот «коммунистический фундаменталист», выразил сожаление, что оказывал моральную поддержку этим репрессиям. В результате Троцкий заметил, что Вольфе все еще должен многому учиться, чтобы не делать впредь прискорбные ошибки в будущем. В последующие годы Вольфе критиковал других авторов (которые всегда осуждали сталинские репрессии), называя их «поборниками Сталина».
(обратно)104
Речь идет о Б. Голдберге, писавшем 26 и 27 января в нью-йоркской «Tag». В то время Троцкий переформулировал свои взгляды на еврейскую проблему. В интервью «Forwärts», другой ежедневной нью-йоркской газете, он признал, что недавний опыт антисемитизма в Третьем рейхе и даже в СССР вынудил его отказаться от старой надежды на «ассимиляцию» евреев в нациях, в которых они живут. Он пришел к мнению, что даже при социализме еврейский вопрос потребует «территориального решения», т. е. что евреям придется селиться на своей собственной родине. Тем не менее, он верил, что это будет в Палестине, что сионизм сможет решить эту проблему или что она может быть решена при капитализме. Чем дольше будет существовать загнивающее капиталистическое общество, утверждал он, тем более жестоким и варварским будет становиться антисемитизм по всему миру.
(обратно)105
Цитируется по конспекту речи Мальро на банкете, данном в его честь редакцией «Nation». Мальро прибыл в США при сталинской поддержке и в попытке организовать поддержку Интернациональным бригадам, сражавшимся в Испании. Несколько ранее Троцкий критиковал его за отношение к репрессиям.
(обратно)106
Грубое животное (фр.).
(обратно)107
Третьего не дано (лат.).
(обратно)108
Кому выгодно (лат.).
(обратно)109
Оправдание своей жизни (лат.).
(обратно)110
Через двадцать лет Наталья рассказала мне, что Троцкий написал «очень длинное и очень сердечное письмо» Лёве, которое «устранило все недоразумения». Она обещала найти это письмо, хотя боялась, что оно затерялось. Возможно, она имела в виду эти письма, только что упоминавшиеся. Но все это, увы, не особенно помогло в «устранении недоразумений».
(обратно)111
Ничто человеческое (лат.).
(обратно)112
Гекатомба — жертва.
(обратно)113
Вот, мой малыш, что я могу тебе сказать (фр.).
(обратно)114
Обнимаю тебя. Твой старик (фр.).
(обратно)115
Рассказ о поведении Сергея в тюрьме пришел от г-на Джозефа Бергера, который, помогая основать компартию Палестины и отслужив в Ближневосточном отделе Коминтерна, провел двадцать пять лет в сталинских тюрьмах и концентрационных лагерях. Он был освобожден и реабилитирован в 1956 г.
(обратно)116
Очень подозрительный рассудок и, к несчастью, неуравновешенный (фр).
(обратно)117
Мой маленький Сева (фр.).
(обратно)118
Г-жа Лилия Даллин («товарищ Лола» из русской секции Международного секретариата в Париже в конце 30-х гг.) свидетельствовала в Соединенных Штатах, что, когда приехала в Койоакан летом 1939 г., Троцкий показал ей письмо, предостерегавшее его против Этьена. «Я чувствовала себя несколько неловко, потому что детали были очень неприятны… Я сказала: „Это наверняка грязная проделка НКВД, который хочет лишить вас ваших сотрудников“ и… у него [Троцкого] было еще одно письмо от другого анонимного корреспондента, который сообщал ему, что некая женщина, имея в виду меня, приедет к нему с визитом и отравит его. Поэтому мы оба решили… что… это — мистификация НКВД… И первое, что я сделала [по возвращении в Париж], это рассказала обо всем Этьену… Я ему доверяла». Этьен над этим «от души посмеялся».
(обратно)119
Файншод в книге «Смоленск при Советах» цитирует из захваченных документов ГПУ случаи, когда даже в 1936–1937 гг. в разгар репрессий рабочие, которых спрашивали, кого следует считать образцовым большевиком, отвечали: Троцкого (и/или Зиновьева); и когда школьники на митинге памяти Кирова предложили включить в состав почетного президиума Троцкого. Троцкизм не был особенно популярен в Смоленской области; и такие случаи были более часты в других частях страны. Всех виновных, даже детей, депортировали как «троцкистов».
(обратно)120
Социалистическая партия рабочих и крестьян (фр.).
(обратно)121
Из двух польских делегатов один, Стефен, молодой ученый, находившийся на учебе во Франции, провел несколько юных лет в польской тюрьме для несовершеннолетних за свою политическую деятельность; а другой, Карл, пожилой еврейский рабочий, провел двенадцать лет в тюрьмах при царе и Пилсудском, принимал участие в Октябрьской революции в Москве и сражался в первых боях Гражданской войны в России, после чего вернулся в Польшу; был там приговорен к смертной казни за революционную деятельность и бежал, когда его вели на казнь. Я был автором возражения против основания 4-го Интернационала, которое эти два делегата озвучили на конференции.
(обратно)122
См. письма Троцкого к «товарищу Гласу» от 5 февраля и 25 июня 1938 г., а также отчет г. Флитмана о впечатлениях от поездки в Китай и встречах с китайскими троцкистами. Имеющаяся в избытке переписка Троцкого с его китайскими последователями свидетельствует о неослабевающем интересе к перспективам китайской революции. Я цитирую взгляды Чен Дусю по его длинному очерку, написанному в Сычуани и датированному 3 ноября 1938 г.
(обратно)123
Встреча с Кингсли Мартином, описанная последним в «The New Statesman» от 10 апреля 1937 г., была весьма недружественной из-за стремления Мартина «защитить честь» своего друга Д. Н. Притта, королевского советника и члена парламента, который вовсю отстаивал московские процессы перед британским обществом с юридической точки зрения. Чувствительность британского издателя относительно чести Притта и бесчувственность в отношении чести всех подсудимых на московских судебных процессах и чести самого Троцкого могла привести Троцкого в раздражение и спровоцировать его на резкое заявление. Весьма пикантное описание визита Мартина в Койоакан дается сами Троцким в его переписке с Международным секретариатом в Париже.
(обратно)124
Троцкий Макдональду, 20 января 1938 г. Редакторы «Partisan Review» приглашали Троцкого посодействовать симпозиуму по марксизму, в котором должны были принять участие Гарольд Ласки, Сидни Хук, Игнацио Силон, Эдмунд Уилсон, Огаст Тальмейер, Джон Стречи, Феннер Брокуэй и другие. Тема была определена такая: «Что живо и что мертво в марксизме?» Тот факт, что «Partisan Review» намеревалась начать свою «новую главу», подвергая сомнению обоснованность марксизма, не говорил для Троцкого в пользу газеты. В конце концов редакторы отказались от идеи проведения этого симпозиума.
(обратно)125
В письме Лёве (19 ноября 1937 г.) Троцкий рассказывает, что, когда вопрос обсуждался на Политбюро, он высказался за штурм Кронштадта, в то время как Сталин был против этого, заявляя, что мятежники, если их оставить в покое, сами сдадутся через две-три недели. Интересно, что в своей публичной полемике со Сталиным (и в своей биографии Сталина) Троцкий никогда не упоминал об этом факте, хотя обычно до предела эксплуатировал любой пример политической «мягкости» Сталина или отклонения от ленинской линии. Может быть, потому, что Троцкий как-то чувствовал, что в этом случае «легкость» могла делать честь Сталину? Споры о Кронштадте продолжались и в «The New International», и в книгах (Килига. Au pays du Grand Mensonge; Серж. Menioires d'un Revolutionnaire). Один из американских секретарей Троцкого, Бернард Вольфе, проведший несколько месяцев в Койоакане в 1937 г., написал после этого роман «The Great Prince Died», основная идея которого — совесть Троцкого и его жизнь были разъедены виной за Кронштадт. К сожалению, этот роман как груб и дешев в художественном отношении, так и неверен исторически.
(обратно)126
Мне рассказывали, что один мексиканский издатель и книготорговец русского происхождения, потомок русских революционеров, был кредитором Троцкого в этом и других случаях. Я также слышал фантастические истории о «финансовой стороне» существования Троцкого в изгнании. Так, редактор одного крупного американского журнала уверял меня, что Троцкий снимал деньги со счета в большом американском банке, который открыл Ленин на имя свое и Троцкого во время Гражданской войны, когда считался с возможностью разгрома большевиков и необходимостью возобновления революционной борьбы за рубежом. История эта была бы интересной, будь она правдивой. Но она таковой не является.
(обратно)127
В архивах (закрытая секция) содержится переписка Троцкого с его издателями, детальные отчеты по гонорарам, счета и т. д., дающие ясное представление о его финансовых трудностях в 1939 г. Так, например, Даблдей выплатил ему еще в 1936 г. аванс в 5 тысяч долларов за «Ленина» и теперь торопил с рукописью. Также в 1936 г. ему выплатили 1800 долларов, а потом другую, меньшую сумму за «Преданную революцию», но до 1939 г. продажи не покрыли авансов. Троцкий в первой половине 1938 г. подписал с Харперсом в Нью-Йорке и Никольсоном и Уотсоном в Лондоне контракты на «Сталина»; но в конце года Харперс уже отказал ему в авансе под тем предлогом, что Троцкий слишком медленно передает части рукописи.
(обратно)128
Троцкий — Альберту Гольдману, 11 января 1940 г. Еще в марте 1940 г. Гарвардский университет предложил выплатить за архивы не более 6 тысяч долларов. В конце концов этот университет купил архивы за 15 тысяч долларов — малая сумма, учитывая ценность приобретенного.
(обратно)129
Троцкий посоветовал американским издателям «Longmans, Green and Со» обратиться к Рюле, написавшему биографию Маркса, с предложением стать единственным автором этой книги, уверяя их, что после Рязанова Рюле — «величайший ныне живущий знаток Маркса». Издатели согласились, чтобы Рюле отбирал и редактировал тексты Маркса, но настояли на том, чтобы Троцкий написал введение.
(обратно)130
Государство — это я (фр.).
(обратно)131
Общество — это я (фр.).
(обратно)132
В статье, датированной 22 сентября 1938 г. («Бюллетень оппозиции», №3 70), Троцкий писал: «…теперь можно быть уверенным, что советская дипломатия попытается пойти на сближение с Германией». «Компромисс, достигнутый над мертвым телом Чехословакии… дает Гитлеру более удобную базу для начала войны. Полеты Чемберлена [в Мюнхен] войдут в историю как символ дипломатических конвульсий, которые расколотая, алчная и беспомощная Европа испытала накануне новой кровавой бани, ожидающей нашу планету».
(обратно)133
«Бюрократизация мира» (фр.).
(обратно)134
Оборот речи (фр.).
(обратно)135
Я цитирую текст из архивов, датируемый 23 апреля 1940 г. Примерно в то же время, незадолго до германского вторжения в Норвегию, немецкий троцкист Вальтер Гельд покинул эту страну, надеясь добраться до Америки через СССР и Японию. По пути, однако, он бесследно исчез. Почти наверняка его арестовали и казнили в СССР. Возможно, но не вполне, что он пытался передать послание Троцкого людям в СССР.
(обратно)136
Дурная репутация (фр.).
(обратно)137
Троцкий вспоминал, что не ко ре после приезда Шелдона он увидел, как тот отдает ключи от входных порот дома одному из работавших там строителей. Троцкий предупредил, чтобы он впредь не делал этого, и сказал: «Если это повторится, в случае налета вы будете первой жертвой» (из заявления Троцкого по поводу Шелдона 15 июля 1940 г.).
(обратно)138
По материалам Салазара, арестованный 4 октября 1940 г. (уже после убийства Троцкого) Сикейрос не отрицал своего участия в майском налете, но утверждал, что Коммунистическая партия здесь ни при чем и что его целью было не убить Троцкого, а произвести «психологический шок» и выразить протест против присутствия Троцкого. Освобожденный под залог Сикейрос на несколько месяцев исчез из Мексики.
(обратно)139
Троцкий перечислил следующих секретарей и помощников, павших жертвами сталинской мести: Глазман, Бутоп, Блюмкин, Сермукс, Познанский, Клемент и Вольф (заявление от 25 июня в архивах).
(обратно)140
Наедине (фр.).
(обратно)141
Вопреки самому себе (фр.).
(обратно)

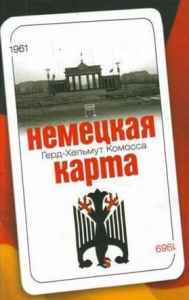
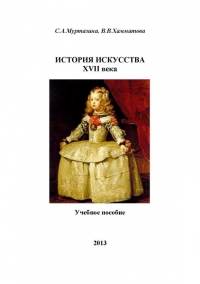
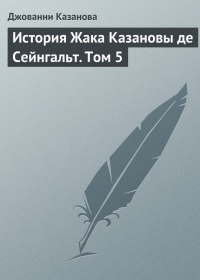

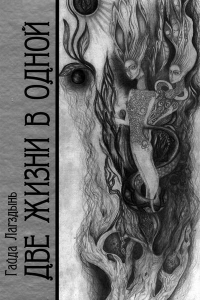

Комментарии к книге «Троцкий», Исаак Дойчер
Всего 0 комментариев