Петр Дмитриевич Боборыкин За полвека. Воспоминания
Жизнь успокаивает, как смерть, примиряет с теми, кто мыслит или чувствует иначе, чем мы.
М. Гюйо («Иррелигиозность будущего».)Кто знает: сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти.
Ив. Тургенев («Фауст», 7-е письмо).Вступление
Итоги писателя — Опасность всяких мемуаров — Два примера: Руссо и Шатобриан — Главные две темы этих воспоминаний: 1) жизнь и творчество русских писателей, 2) судьбы нашей интеллигенции — Тенденциозность и свобода оценок — Другая половина моих итогов: книга «Столицы мира»
Пришел час оглянуться на всю или почти всю прожитую жизнь.
Полвека, и даже с придатком, — срок достаточный. Он охватывает полосу уже вполне сознательной жизни, с того возраста, когда отрок готовится быть юношей.
Для меня — в годы моего первоначального ученья — это совпадало с переходом в пятый класс гимназии, то есть к 1851 году. Через два года я был студент.
Я высидел уже тогда четыре года на гимназической «парте», я прочел к тому времени немало книг, заглядывал даже в «Космос» Гумбольдта, знал в подлиннике драмы Шиллера; наши поэты и прозаики, иностранные романисты и рассказчики привлекали меня давно. Я был накануне первого своего литературного опыта, представленного по классу русской словесности.
Писатель уже был в зародыше.
Записки мои и будут итогами писателя по преимуществу.
Под этим заглавием «Итоги писателя» я набросал уже в начале 90-х годов, в Ницце, и дополнил в прошлом году, как бы род моей авторской, исповеди. Я не назначал ее для печати; но двум-трем моим собратам, писавшим обо мне, давал читать.
Эта чисто личная писательская исповедь появится в печати после меня.
Мемуары — предательское дело для самих авторов, да и для публики.
Для авторов — потому, что слишком велик соблазн говорить обо всем, что для читателей вовсе не интересно, перетряхать сотни житейских случаев, анекдотов, встреч, знакомств и впадать в смертный грех старчества.
Для публики — потому, что она так часто не находит того, чего законно ищет, и принуждена поглощать десятки и сотни страниц безвкусных воспоминаний, прежде чем выудить что-нибудь действительно ценное.
Мне кажется, так выходит всего чаще оттого, что составители записок не выбирают себе главной темы, то есть того ядра, вокруг которого должен кристаллизоваться их рассказ.
Без такого «ядра» всякие воспоминания будут непременно рисковать перейти в беспорядочную болтовню.
Мемуары и сами-то по себе — слишком личная вещь. Когда их автор не боится говорить о себе беспощадную, даже циническую правду, да вдобавок он очень даровит — может получиться такой «человеческий документ», как «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо. Но и в них сколько неизлечимой возни с своим «я», сколько усилий обелить себя, обвиняя других.
И такой талант, как Шатобриан в своих «Memoires d'outre tombe» грешил, и как! той же постоянной возней с своим «я», придавая особенное значение множеству эпизодов своей жизни, в которых нет для читателей объективного интереса, после того как они уже достаточно ознакомились с личностью, складом ума, всей психикой автора этих «Замогильных записок».
На всемирную известность Руссо и Шатобриана никто из нас не будет претендовать. Я это говорю затем только, чтобы подтвердить верность того, что я сейчас написал о необходимости «ядра».
В этих воспоминаниях ядром будет по преимуществу писательский мир и все, что с ним соприкасается, и вообще жизнь русской интеллигенции, насколько я к ней приглядывался и сам разделял ее судьбы.
Это спасет меня, я надеюсь, от излишних «оборотов на себя», как пишется на векселях. Гораздо больше речь пойдет о тех, с кем я встречался, чем о себе самом.
И всю-то русскую жизнь, через какую я проходил в течение полувека, я главным образом беру как материал, который просился бы на творческое воспроизведение. Она составит тот фон, на котором выступит все то, что наша литература, ее деятели, ее верные слуги и поборники черпали из нее.
Вопрос о том, насколько была тесна связь жизни с писательским делом, — для меня первенствующий. Была ли эта жизнь захвачена своевременно нашей беллетристикой и театром? В чем сказывались, на мой взгляд, те «опоздания», какие выходили между жизнью и писательским делом? И в чем можно видеть истинные заслуги русской интеллигенции, вместе с ее часто трагической судьбой и слабостями, недочетами, малодушием, изменами своему призванию?
Хуже всего — узкая тенденциозность, однотонный колорит мнений, чувств, оценок. Быть честным — не значит еще ходить вечно в шорах, рабски служа известному лозунгу без той смелости, которую я всегда считал высшей добродетелью писателя.
И какая, спрошу я, будет сладость для публики находить в воспоминаниях старого писателя все один и тот же «камертон», одно и то же окрашивание нравов, событий, людей и их произведений?
Этим, думается мне, грешат почти все воспоминания, за исключением уже самых безобидных, сшитых из пестрых лоскутков, без плана, без ценного содержания. То, что я предлагаю читателю здесь, почти исключительно русские воспоминания. Своих заграничных испытаний, впечатлений, встреч, отношений к тамошней интеллигенции, за целых тридцать с лишком лет, я в подробностях касаться не буду.
Тот отдел моей писательской жизни уже записан мною несколько лет назад, в зиму 1896–1897 года, в целой книге «Столицы мира», где я подводил итоги всему, что пережил, видел, слышал и зазнал в Париже и Лондоне с половины 60-х годов.
Там я сравнительно гораздо больше занимаюсь и характеристикой разных сторон французской и английской жизни, чем даже нашей в этих русских воспоминаниях. И самый план той книги — иной. Он имеет еще более объективный характер. Встречи мои и знакомства с выдающимися иностранцами (из которых все известности, а многие и всесветные знаменитости) я отметил почти целиком, и галерея получилась обширная — до полутораста лиц.
Эта книга была тогда же приобретена покойным издателем «Нивы», но по разным причинам до сих пор не напечатана.
Если читателю моих русских воспоминаний было бы интересно сопоставить оба отдела моей жизни, я, к сожалению, не могу еще удовлетворить его желание, но не по своей вине.
Глава первая
Нижегородская гимназия — Решение своей дороги в четвертом классе — Задатки писателя — Наш дом — Гувернеры и дворовые, частные учителя — Страсть к чтению — Книжник-библиотекарь Меледин — Как отражалась на нас Николаевская эпоха? — Мои дяди — Нижегородский театр — Первая поездка в Москву на Масленице 1853 года — Тогдашние московские театры — Щепкин в лучших своих созданиях — Другие крупные силы в мужском и женском персонале — Первая пьеса Островского на сцене — Окончание курса — Как мы относились к деревне и крестьянству? — Культурные элементы окружающей жизни — Писатели, каких я знал по Нижнему — Родной город и его природа — Историческая старина Нижнего — Первая поездка в Казань — Холера — Итоги воспитывающей среды и ученья перед поступлением в студенты
Не помню, чтобы я при переходе из отрочества в юношеский возраст определенно мечтал уже быть писателем или «сочинителем», как тогда говорили все: и большие, и мы, маленькие. И Пушкин употреблял это слово, и в прямом смысле, а не в одном том ироническом значении, какое придают ему теперь.
Но свою умственную дорогу нас заставили самих решить еще годом раньше, при переходе в четвертый класс гимназии, то есть по четырнадцатому году.
Было это при министре просвещения Ширинском-Шихматове.
Когда мы к 1 сентября собрались после молебна, перед тем как расходиться по классам, нам, четвероклассникам, объявил инспектор, чтобы мы, поговорив дома с кем нужно, решили, как мы желаем учиться дальше: хотим ли продолжать учиться латинскому языку (нас ему учили с первого класса) для поступления в университет, или новому предмету, «законоведению», или же ни тому, ни другому. «Законоведы» будут получать чин четырнадцатого класса; университетские — право поступить без экзамена, при высших баллах; а остальные — те останутся без латыни и знания русских законов и ничего не получат; зато будут гораздо меньше учиться.
Этого мало. От нас потребовали, даже от тех, кто пожелает продолжать латынь — обозначить еще, какой факультет мы выбираем.
Теперь это показалось бы невероятным; а так оно было, и было в самый разгар «николаевского» режима, до Крымской войны, когда на нее еще не было и намека.
И по всей гимназии наделал шуму ответ гимназиста 5-го класса С-на, который написал: «на первое отделение философского факультета», что по-тогдашнему значило: в историко-филологический факультет. Второе отделение было физико-математическое.
Я нарочно начинаю с гимназии.
Место учения, где вы просидели семь лет, дает если не всему, то многому основной тон.
В моем родном городе Нижнем (где я родился и жил безвыездно почти до окончания курса) и тогда уже было два средних заведения: гимназия (полуклассическая, как везде) и дворянский институт, по курсу такая же гимназия, но с прибавкой некоторых предметов, которых у нас не читали. Институт превратился позднее в полуоткрытое заведение, но тогда он был еще интернатом и в него принимали исключительно детей потомственных и личных дворян.
И форму «институты» носили не общую (красный воротник с серебряными пуговицами, по казанскому округу), а свою — с золотыми пуговицами. Сюртуков у них не было, а только мундиры с фалдочками (как у гимназистов) и куртки.
Выбор гимназии состоялся не сразу. Меня хотели было отдавать в кадеты. Была речь и об училище правоведения. В институт не отдали, вероятно для того, чтобы держать меня дома, а также и оттого, что гимназия дешевле.
Поверят ли мне, что во все семь лет учения годовая плата была пять рублей?! Ее вносили в полугодия, да и то бывали недоимщики. Вся гимназическая выучка — с правом поступить без экзамена в университет своего округа — обходилась в 35 рублей!
Нельзя придумать более доступного, демократического заведения! Оно было им и по составу учеников, как везде. За исключением крепостных, принимали из всех податных сословий. Но дворяне и крупные чиновники не пренебрегали гимназией для детей своих, и в нашем классе очутилось больше трети барских детей, некоторые из самых первых домов в городе. А рядом — дети купцов, мелких приказных — мещан и вольноотпущенных. Один из наших одноклассников оказался сыном бывшего дворового отца своего товарища. И они были, разумеется, на «ты»…
Наша гимназия была вроде той, какая описана у меня в первых двух книгах «В путь-дорогу». Но когда я писал этот роман, я еще близко стоял ко времени моей юности. Краски наложены, быть может, гуще, чем бы я это сделал теперь. В общем верно, но полной объективности еще нет.
Если все сообразить и одно к другому прикинуть, то выйдет, что все было еще гораздо лучше, чем могло бы быть, и при этом не забывать, какое тогда стояло время.
Начать с того, что мы, мальчуганами по десятому году, уже готовили себя к долголетнему ученью и добровольно. Если б я упрашивал мать; «Готовьте меня в гусары», очень возможно, что меня отдали бы в кадеты. Но меня еще за год до поступления в первый класс учил латыни бывший приемыш-воспитанник моей тетки, кончивший курс в нашей же гимназии.
И я без всякого отвращения склонял «mensa» (стол) и спрягал «amo» (люблю), повторяя вслух «amaturus, amatura, amaturum, sim, sis, sit», и когда поступил, то знал уже наизусть Эзоповскую басню о двух раках: «Cancrum retrogradum monebat pater…» (Рак поучает сына, привыкшего пятиться задом.)
Некоторых из нас рано стали учить и новым языкам; но не это завлекало, не о светских успехах мечтали мы, а о том, что будем сначала гимназисты, а потом студенты. Да! Мечтали, и это великое дело! Студент рисовался нам как высшая ступень для того, кто учится. Он и учится и «большой». У него шпага и треугольная шляпа. Вот почему целая треть нашего класса решили сами, по четырнадцатому году, продолжать учиться латыни, без всякого давления от начальства и от родных.
Это факт характерный.
«Николаевщина» царила в русском государстве и обществе, а вот у нас, мальчуганов, не было никакого пристрастия к военщине. Из всех нас (а в классе было до тридцати человек) только двое собирались в юнкера: процент — ничтожный, если взять в соображение, какое это было время.
Но дело в том, что общий гнет совсем не чувствовался нами так, как принято признавать до сих пор в русской публицистике.
Меня дома держали строже, чем кого-либо из моих одноклассников; но эта строгость была больше внешняя, да и то по известным только пунктам. Самый главный, от которого приходилось всего обиднее, это — надзор, в виде гувернера, запрет ходить одному по улице, посещать своих товарищей без дозволения. Но на таком «положении» был едва ли не я один во всем классе. Остальные — особенно дети мелких чиновников и разночинцев — пользовались большой свободой. Да и в гимназии мы не знали настоящего гнета. Начальство, когда мы стали подрастать, то есть директор и инспектор, не внушало нам страха. Мы над ними, за глаза, подсмеивались. Секли в нашей гимназии только до четвертого класса. Да и большинство никогда не проходило через эти экзекуции. Учили нас плохо, духовное влияние учителей было малое. В этом картина классной жизни в романе «В путь-дорогу» достаточна верна. Но нас не задергивали, не муштровали, у нас было много досуга и во время самых классов читать и заниматься чем угодно. Много не учебных книжек, журналов и романов, прочитывалось на уроках. И первые по счету (мы сидели по успехам) ученики всего больше уклонялись от классной дисциплины. Уроки они знали хорошо. Сидеть и слушать, как отвечают другие, — скука. Они читали или писали переводы и упражнения для приятелей.
Мой товарищ по гимназии, впоследствии заслуженный профессор Петербургского университета В. А. Лебедев, поступил к нам в четвертый класс и прямо стал слушать законоведение. Но он был дома превосходно приготовлен отцом, доктором, по латинскому языку и мог даже говорить на нем. Он всегда делал нам переводы с русского в классы словесности или математики, иногда нескольким плохим латинистам зараз. И кончил он с золотой медалью.
Да и дома приготовление уроков брало каких-нибудь два часа. Тяжелых письменных работ мы не знали.
В результате — плохая школьная выучка; но охота к чтению и гораздо большая развитость, чем можно бы было предположить по тем временам.
Разносословный состав товарищей делал то, что мальчики не замыкались в кастовом чувстве, узнавали всякую жизнь, сходились с товарищами «простого звания».
Дурного я от этого не видал. Тех, кто был держан строго, в смысле барских запретов, жизнь в других слоях общества скорее привлекала, была чем-то вроде запретного плода. И когда, к шестому классу гимназии, меня стали держать с меньшей строгостью по части выходов из дому (хотя еще при мне и состоял гувернер), я сближался с «простецами» и любил ходить к ним, вместе готовиться, гулять, говорить о прочитанных романах, которые мы поглощали в больших количествах, беря их на наши крошечные карманные деньги из платной библиотеки.
Беллетристика — переводная и своя — и сказалась в выборе сюжета того юмористического рассказа «Фрак», который я написал по переходе в шестой класс. Он был послан в округ (как тогда делалось с лучшими ученическими сочинениями), и профессор Булич написал рецензию, где мне сильно досталось, а два очерка из деревенской жизни — «Дурачок» и «Дурочка» ученика В. Ешевского (брата покойного профессора Московского университета, которого я уже не застал в гимназии) — сильно похвалил, находя в них достоинства во вкусе тогдашних повестей Григоровича.
Мы все изумлялись тому, как он мог написать такие два очерка, и даже заподозрили подлинность этого сочинительства. Беллетриста из него не вышло, а только чиновник, кажется провиантского ведомства.
Рецензия профессора Булича привела меня в некоторое смущение и поубавила моей школьной славы.
Хотя я и не мечтал еще тогда пойти со временем по чисто писательской дороге, однако, сколько помню, я собирался уже тайно послать мой рассказ в редакцию какого-то журнала, а может, и послал.
Учитель словесности уже не так верил в мои таланты. В следующем учебном году я, не смущаясь, однако, приговором казанского профессора, написал нечто вроде продолжения похождений моего героя, и в довольно обширных размерах. Место действия был опять Петербург, куда я не попадал до 1855 года. Все это было сочинено по разным повестям и очеркам, читанным в журналах, гораздо больше, чем по каким-нибудь устным рассказам о столичной жизни.
Читал я эту эпопею вслух в классе, по мере того как писал. Все слушали с интересом, в том числе и учитель.
Репутация «бойкого пера» утвердилась за мною. Но в округ наших сочинений уже не посылали. Не было, когда мы кончали, и тех «литературных бесед», какие происходили прежде. Одну из таких бесед я описал в моем романе с известной долей вымысла по лицам и подробностям.
На этих «беседах» происходили настоящие прения, и оппонентами являлись ученики. В моей памяти удержалась в особенности одна такая беседа, где сочинение ученика седьмого класса читал сам учитель, а автор стоял около кафедры.
На меня же, в двух последних классах, возлагалась почти исключительно обязанность читать вслух отрывки из поэтических произведений и даже прозу, например из «Мертвых душ». Всего чаще читались стихотворения и главы из поэм Лермонтова.
Выходит, стало быть, что две главных словесных склонности: художественное письмо и выразительное чтение — предмет интереса всей моей писательской жизни, уже были намечены до наступления юношеского возраста, то есть до поступления в университет.
Всего более отзывалось николаевским временем тогдашнее начальство: директор и инспектор. Они оставались все те же за все время учения. Не то чтобы они были бездарны и неумелы. Директор был из учителей словесности, и Ф. И. Буслаев с сочувствием говорит о нем в своих воспоминаниях о пензенской гимназии, где учился. Тогда этот самый «Янсон Петрович» выдавался как способный преподаватель, сумевший возбуждать в учениках любовь к словесности. А у нас он превратился в алкоголика и пугалу, никогда не бывал в классах и только на экзаменах желал выказывать свои познания в латинском языке и риторике. То, что приведено в моем романе о его способе экзаменовать по стихосложению, не выдумано.
Инспектор был из наших же учителей, духовного звания, как и директор; учил нас в первых двух классах латыни очень умело, хоть и по-семинарски; но, попав в инспекторы, сделался для нас «притчей во языцех», смешной фигурой полицейского, с наслаждением ловившего мальчуганов, возглашая при этом: «Стань столбом!» или: «Дик видом».
Не то что уже обаяния, высшего руководительства, но даже простого признания их формального авторитета они в наших глазах не имели. Но, как я говорю выше, в общем весь этот школьный режим не развращал нас и не задергивал настолько, чтобы мы делались, как недавно, забитыми гимназической «муштрой».
Доказательство того, что у нас было много времени, — это запойное поглощение беллетристики и журнальных статей в тогдашней библиотеке для чтения, куда мы несли все наши деньжонки. Абонироваться было высшим пределом мечтаний, и я мог достичь этого благополучия только в шестом классе; а раньше содержатель библиотеки, старик Меледин, из балахнинских мещан, давал нам кое-какие книжки даром.
Это была типичнейшая фигура. Из малограмотных мещан уездного города он сделался настоящим просветителем Нижнего; имел на родине лавчонку, потом завел библиотеку и кончил свою жизнь заведующим городской публичной библиотекой, которая разрослась из его книгохранилища.
Он говорил на «он» и делал такие ударения: «Двадцать лет спустя», а не «спустя», называя заглавие романа Дюма-отца: «Vingt ans apres». Всякую книгу он знал и прочел, конечно, две трети томов своей библиотеки, тогда исключительно русской. С нами, подростками, он держал себя строговато и добродушно вместе, и втянуть его в разговор было нетрудно. Мы его выспрашивали насчет сюжета книжки или содержания статьи, и он умел возбуждать наш интерес, как никто. И впоследствии, в бесплатной городской библиотеке, он сам давал читателю то, что ему «нужно», видя каждого посетителя насквозь.
В такой библиотеке для чтения стоял воздух того, что теперь зовется «интеллигенцией», воздух если не научной, то словесной любознательности, склонности к произведениям изящного слова и критической мысли. Разумеется, мы бросались больше на романы. Но и в этой области рядом с Сю и Дюма читали Вальтера Скотта, Купера, Диккенса, Теккерея, Бульвера и, поменьше, Бальзака. Не по-французски, а по-русски прочел я подростком «Отец Горио» («Le Pere Goriot»), а когда мы кончали, герои Диккенса и Теккерея сделались нам близки и по разговорам старших, какие слышал я всегда и дома, где тетка моя и ее муж зачитывались английскими романистами, Жорж Зандом и Бальзаком, и почти исключительно в русских переводах.
Наших беллетристов мы успели поглотить если не всех, то многих, включая и старых повествователей и самых тогда новых, от Нарежного и Полевого до Соллогуба, Гребенки, Буткова, Зинаиды Р-вой, Юрьевой (мать А. Ф. Кони), Вонлярлярского, Вельтмана, графини Ростопчиной, Авдеева — тогда «путейского» офицера на службе в Нижнем.
«Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Арабески» Гоголя, «Мертвые души» и «Герой нашего времени» стояли над этим. Тургенева мы уже знали; но Писемский, Гончаров и Григорович привлекали нас больше. Все это было до 1853 года включительно.
Самое ценное, что было в гимназии, это идея открытого и всесословного заведения. Она была для каждого неглупого мальчика символом знания, умственной культуры, преддверием в университет.
Вместе со многими моими товарищами-дворянами, детьми местных помещиков и крупных чиновников, я был, в полном смысле, питомец министерства «народного просвещения», за ученье которого заплатили те же тридцать пять рублей за семилетний курс, как и за сына какой-нибудь торговки на Нижнем базаре или мелкого портного.
Бытовая сторона жизни гимназиста для будущего писателя была бы еще богаче содержанием, если б меня не так строго держали дома, если б до шестнадцатилетнего возраста при мне не состояли гувернеры.
Об этих гувернерах я уже рассказывал в отдельных очерках. Они печатались когда-то в газете «Новости», лет около двадцати назад.
Как учителя они были плохи. Не очень хороши и как воспитатели; но они нас не портили. А многое общекультурное пришло прямо через них. Немец, сын пастора в приволжской колонии, был ограниченный малый, но добродушный и умел привязать к себе, влиял всем своим бытовым складом, развивал рассказами, возбуждая любознательность, давал чувствовать, что такое сохранять достоинство и в некрасной доле «немца». Француз, живший у нас около четырех лет, лицо скорее комическое, с разными слабостями и чудачествами, был обломок великой эпохи, бывший военный врач в армии Наполеона, взятый в плен в 1812 году казаками около города Орши, потом «штаб-лекарь» русской службы, к старости опустившийся до заработка домашнего преподавателя.
От него чего я только не наслушался! Он видал маленького капрала целыми годами, служил в Италии еще при консульстве, любил итальянский язык, читал довольно много и всегда делился прочитанным, писал стихи и играл на флейточке. Знал порядочно и по-латыни и не без гордости показывал свою диссертацию на звание русского «штаб-лекаря» о холере: «De cholera morbus».
Это была старая Европа, Франция героической эпохи, не умиравший до смерти интерес к умственным и художественным впечатлениям! А то, чего он не мог мне дать как преподаватель, то доделал другой француз — А.-И. де Венси (de Vincy), тоже обломок великой эпохи, но с прекрасным образованием, бывший артиллерийский офицер времен Реставрации, воспитанник политехнической школы, застрявший в русской провинции, где сделался учителем и умер, нажив три дома. Ему я обязан очень большой словесной муштрой, вплоть до выхода из гимназии, на тех уроках, которые ходил брать у него на дому. Так, насколько я потом наблюдал, уже не учили и самые патентованные педагоги. О простых гимназических учителях и говорить нечего.
Уроки дома языков, музыки, учителя и репетиторы, вплоть до семинаристов, делали ученье разнообразным и позволяли завязывать приятельские отношения со всем этим народом, не исключая и семинаристов, являвшихся ко мне зимой в тулупах, покрытых нанкой.
И все это шло как-то само собой в доме, где я рос один, без особенного вмешательства родных и даже гувернеров. Факт тот, что если физическая сторона организма мало развивалась — но далеко не у всех моих товарищей, то голова работала. В сущности, целый день она была в работе. До двух с половиной часов — гимназия, потом частные учителя, потом готовиться к завтрашнему дню, а вечером — чтение, рисование или музыка, кроме послеобеденных уроков.
Такой режим совсем не говорил о временах запрета, лежавшего на умственной жизни. Напротив! Да и разговоры, к которым я прислушивался у больших, вовсе не запугивали и не отталкивали своим тоном и содержанием. Много я из них узнал положительно интересного. И у всех, кто был поумнее, и в мужчинах и в женщинах, я видел большой интерес к чтению. Формальный запрет, лежавший, например, на журналах «Отечественные записки» и «Современник» у нас в гимназии, не мешал нам читать на стороне и тот и другой журналы.
И, кроме старших из своего сословия и круга, учителей и гувернеров, развивали нас и дворовые.
Это вовсе не парадокс и не выдумка.
В тех газетных очерках, о которых я сейчас упомянул, я говорю о дворовых, моих друзьях, от которых я многому научился, и вовсе не в дурном смысле.
Типичнейшая личность старой девицы Лизаветы (вольноотпущенной моей прабабки с материнской стороны) вошла и в мой первый роман. И эта «Лизавета Андреевна» стоила целой энциклопедии. Она жила на покое и запойно читала. Нет ни малейшего преувеличения в том, что я сообщал в тех очерках о ее изумительной памяти и любознательности во всем, что — история, политика, наполеоновская эпоха, война 1812 года. Она знала наизусть имена маршалов Наполеона, даже таких, о которых у нас выпускные гимназисты никогда не слыхали, имена и возраст членов всех царствующих домов. Она читала решительно все, что могла достать: газеты, журналы, романы, многотомные сочинения, всю историю Карамзина и описания таких обширных путешествий, как кругосветное плавание Дюмон-Дюрвиля. Любимые ее темы были: исторические личности — Наполеон, Иван Грозный, Карл XII, Петр Великий, Екатерина Вторая, король Густав-Адольф.
Спрашивается: каким образом могло бы сложиться бытовое лицо такой Лизаветы Андреевны, если б в том доме, где она родилась дворовой девчонкой, не было известного умственного воздуха?
Дворовые для меня, да и не для одного меня, были связующим звеном с деревней, с народом. Половину их, молодых, брали из деревни; остальные — родились уже в дворне. И девичья, и прихожая, и, главное, столярная и другие службы и в городе и в деревне были для меня предметом живого интереса. У меня заводилось приятельство и со старыми и с молодыми. От женского пола не видал я никакого порочного влияния даже и в те годы, когда из отрока вырастал в юношу. Рассказы няньки, горничных, буфетчика, столяров, старого повара и подростков-поварят, псарей, музыкантов — все это обогащало знание быта, делало ближе к народу, забавляло или заставляло его жалеть, или бояться за других.
«Музыкантская» потянула к скрипке, и первый мой учитель был выездной «Сашка», ездивший и «стремянным» у деда моего. К некоторым дворовым я привязывался. Садовник Павел и столяр Тимофей были моими первыми приятелями, когда мы, летом, переезжали в подгородную деревню Анкудиновку, описанную мною в романе под именем «Липки».
Это ежегодное житье в усадьбе с мая до августа дополняло то, что давали город и гимназия.
И тут я еще раз хочу подтвердить то, что уже высказывал в печати, вспоминая свое детство. «Мужик» совсем не представлялся нам как забитое, жалкое существо, ниже и несчастнее которого нет ничего. Напротив! Все рассказы дворовых — и прямо деревенских, и родившихся в дворне — вертелись всегда на том, как привольно живется крестьянам, какие они бывают богатые и сколько разных приятностей и забав доставляет деревенская жизнь.
Мужицкой нищеты мы не видали. В нашей подгородной усадьбе крестьяне жили исправно, избы были новые и выстроенные по одному образцу, в каждом дворе по три лошади, бабы даже франтили, имея доход с продажи в город молока, ягод, грибов. Нищенство или голытьбу в деревне мы даже с трудом могли себе представать. Из дальних округ приходили круглый год обозы с хлебом, с холстом, с яблоками, свиными тушами, живностью, грибами.
Все это были барские поборы; но сами крестьяне от этого не падали в наших глазах. Мы на них смотрели как на очень почтенное сословие. Их говор, вся повадка, одёжа, особенно женская, — все это нам нравилось. А некоторые личности из крестьянства внушали даже большое почтение. Это были те богатые мужики, которые ходили по оброку и занимались торговлей. Одного из них, старика тряпичника, господа принимали почти как «особу» и говорили о нем, как об умнейшем человеке, с капиталом чуть не в сто тысяч на ассигнации. Он на волю не желал выходить, но сыновей «выкупил».
Подрастая, каждый из нас останавливался на праве помещика владеть душой и телом крепостных. Протестов против такого порядка вещей мы не слыхали от взрослых, а недовольство и мечты о «вольной» замечали всего больше среди дворовых. Но, повторяю, отношение к крестьянству как к особому сословию и к деревенской жизни вынесли мы отнюдь не презирающее или унизительно-жалостливое, а почтительное и заинтересованное в самом лучшем смысле.
Деревня была для нас символом приволья, свободы от срочных занятий, простора, прогулок, картин крестьянской жизни, сельских работ, охоты, игр с ребятишками, искания ягод, цветов, трав. И попутно весь быт выступал перед вами, до самых его глубоких устоев, до легенд и поверий древнеязыческого склада.
Рассказы дворовых были драгоценны по своему бытовому разнообразию. В такой губернии, как Нижегородская, живут всякие инородцы, а коренные великороссы принадлежат к различным полосам на севере и на юге по Волге, вплоть до дремучих тогда лесов Заволжья и черноземных местностей юго-восточных уездов и «медвежьих углов», где водились в мое детство знаменитые «медвежатники», ходившие один на один на зверя, с рогатиной или плохим кременным ружьишком.
Вотчинные права барина выступали и передо мною во всей их суровости. И в нашем доме на протяжении десяти лет, от раннего детства до выхода из гимназии, происходили случаи помещичьей карательной расправы. Троим дворовым «забрили лбы», один ходил с полгода в арестантской форме; помню и экзекуцию псаря на конюшне. Все эти наказания были, с господской точки зрения, «за дело»; но бесправие наказуемых и бесконтрольность карающей власти вставали перед нами достаточно ясно и заставляли нас тайно страдать.
Наш дом во всем городе был едва ли не самый строгий. Но о возмутительных превышениях власти у нас или у других, еще менее об истязаниях или мучительствах, не было, однако, и слухов за все время моего житья в Нижнем. Барского цинического разврата в городе тоже не водилось; а у нас не было и подобия какой-либо барской грязи. Между дворовыми некоторые тайно попивали, были любовные связи без законного штемпеля; но все это в гораздо меньшей степени, чем это было бы теперь. И за ними смотрели строго, и сами не подавали никакого соблазнительного примера.
По губернии водились очень крутые помещики, вроде С. В. Шереметева; но «извергов» не было, а опороченный всем дворянством князь Грузинский неоднократно уличался в том, что принимал к себе беглых, которые у него в приволжском селе Лыскове в скором времени и богатели.
Все это я говорю затем, чтобы показать необходимость объективнее относиться к тогдашней жизни. С 60-х годов выработался один как бы обязательный тон, когда говорят о николаевском времени, об эпохе крепостного права. Но ведь если так прямолинейно освещать минувшие периоды культурного развития, то всю греко-римскую цивилизацию надо похерить потому только, что она держалась за рабство.
Здесь, в этих воспоминаниях, я подвожу итоги всему тому, что могло развивать отрока и юношу, родившегося и воспитанного в среде тогдашнего привилегированного сословия и в условиях тогдашнего государственного строя.
Крепостников из нас не вышло, по крайней мере очень многих из нас; прямо развращающих влияний не вынесли мы ни из гимназии, ни из домашней обстановки, даже не приобрели замашек тщеславия и суетности более, чем бы это случилось в настоящее время. Все, что тогда было поживей умом и попорядочнее, мужчины и женщины, по-своему шло вперед, читало, интересовалось и событиями на Западе, и всякими выдающимися фактами внутренней жизни, подчинялось, правда, общему гнету сверху, но не всегда мирилось с ним, сочувствовало тем, кто «пострадал», значительно было подготовлено к тому движению, которое началось после Крымской войны, то есть всего три года после того, как мы вышли из гимназии и превратились в студентов.
На что уж наш дом был старинный и строгий: дед-генерал из «гатчинцев», бабушка — старого закала барыня, воспитанная еще в конце XVIII века! И в таком-то семействе вырос младший мой дядя, Н. П. Григорьев, отданный в Пажеский корпус по лично выраженному желанию Николая и очутившийся в 1849 году замешанным в деле Петрашевского, сосланный на каторгу, где нажил медленную душевную болезнь.
Вот вам барчонок, прошедший обычную выучку сословно-военную, а гвардейским офицером он сближается с кружком тогдашних социальных мечтателей (вероятно, через знакомство с А. Н. Плещеевым), пишет какую-то «Солдатскую беседу» и приговаривается сначала к смертной казни.
Этот дядя, когда наезжал к нам в отпуск, был всегда очень ласков со мною, давал мне читать книжки, рассказывал про Петербург, про театры, про разные местности России, где стоял, когда служил еще в армейской кавалерии. Разумеется, своих протестующих идей он не развивал перед гимназистиком по двенадцатому году; но в нем, питомце светско-придворного корпуса, не было никакой военщины ни в тоне, ни в манерах, ни в нравах.
Да и старший мой дядя — его брат, живший всегда при родителях, хоть и опустился впоследствии в провинциальной жизни, но для меня был источником неистощимых рассказов о Московском университетском пансионе, где он кончил курс, о писателях и профессорах того времени, об актерах казенных театров, о всем, что он прочел. Он был юморист и хороший актер-любитель, и в нем никогда не замирала связь со всем, что в тогдашнем обществе, начиная с 20-х годов, было самого развитого, даровитого и культурного.
И тут уместен вопрос: воспользовалась ли наша беллетристика всем, чем могла бы, в русской жизни 40-х и половины 50-х годов?
Смело говорю: нет, не воспользовалась. Если тогда силен был цензурный гнет, то ведь многие стороны жизни, людей, их психика, характерные стороны быта можно было изображать и не в одном обличительном духе. Разве «Евгений Онегин» не драгоценный документ, помимо своей художественной прелести? Он полон бытовых черт средне-дворянской жизни с 20-х по 30-е годы. Даже и такая беспощадная комедия, как «Горе от ума», могла быть написана тогда и даже напечатана (хотя и с пропусками) в николаевское время.
«Семейная хроника» Аксакова — доказательный пример того, как беллетристика могла бы воспроизводить и тогдашнюю жизнь. Можно было расширить рамки и занести в летопись русского общества огромный материал и вне тех сюжетов, которые подлежали запрету.
Каким образом, спрошу я, могли народиться те носители новых идей и стремлений, какие изображались Герценом, Тургеневым и их сверстниками в 40-х годах, если бы во всем тогдашнем культурном слое уже не имелось налицо элементов такого движения? Русская передовая беллетристика торопилась выбирать таких носителей идей; но она упускала из виду многое, что уже давно сложилось в характерные стороны тогдашней жизни, весьма и весьма достойные творческого воспроизведения.
То, что Тургенев и Григорович сделали для знакомства с миром мужика, с его душой и бытом, то весьма и весьма возможно было и для среднего барско-чиновничьего мира, где вырабатывалась вся дальнейшая русская культура.
Без всякой предвзятости, не мудрствуя лукаво, без ложной идеализации и преувеличений, беллетристика могла черпать из жизни каждого губернского города и каждой усадьбы еще многое и многое, что осталось бы достоянием нашей художественной литературы.
Каюсь, и в романе «В путь-дорогу» губернский город начала 50-х годов все-таки трактован с некоторым обличительным оттенком, но разве то, что я связал с отрочеством и юностью героя, не говорит уже о множестве задатков, без которых взрыв нашей «Эпохи бури и натиска» был бы немыслим в такой короткий срок?
Перед поступлением в студенты те из нас, кто был поразвитее и поспособнее, уже вобрали в себя много всяких поощрений к дальнейшему развитию.
Это несомненно! Мы подросли в уважении к идее университетской науки, приобрели склонность к чтению, уходили внутренним чувством и воображением в разные сферы и чужой и своей жизни, исторической и современной. В нас поощряли интерес к искусству, хотя бы и в форме дилетантских склонностей, к рисованию, к музыке. Мы рано полюбили и театр.
Сценическое искусство в провинции, как известно, прямой продукт помещичьего дилетантства на крепостной почве. Происхождение театра в Нижнем Новгороде уже прямо барски-крепостное.
Князь Шаховской, местный помещик, завел первый публичный театр с платою, и после его смерти все актеры и актрисы очутились «вольными», но очень долго, до моих отроческих лет, ядро труппы состояло еще из бывших дворовых князя Шаховского. Одним из первых сюжетов труппы была Х. И. Таланова (по себе Стрелкова), которая умерла на казенной службе, артисткой московского Малого театра. Ее сестра, Ал. Ив. Стрелкова, стала провинциальной знаменитостью, играла и в столицах. Первый любовник Трусов был уже актером в платном театре из крепостных господ Ульяниных, из крепостных вышел и первый комик Соколов, позднее «полезность» московского Малого театра.
Старые господа еще продолжали называть актрис и актеров только по именам: «Минай», «Ханея» (Таланова), «Аннушка» (талантливая Вышеславцева), но в поколении наших родителей уже не было к ним никакого унижающего отношения. Всегда они говорили о них в добродушном тоне, рассказывая нам про свои первые сценические впечатления, про те времена, когда главная актриса (при мне уже старуха) Пиунова (бабушка впоследствии известной актрисы) играла все трагические роли в белом канифасовом платье и в красном шерстяном платке, в виде мантии.
Нас рано стали возить в театр. Тогда все почти дома в городе были абонированы. В театре зимой сидели в шубах и салопах, дамы в капорах. Впечатления сцены в том, кому суждено быть писателем, — самые трепетные и сложные. Они влекут к тому, что впоследствии развернется перед тобою как бесконечная область творчества; они обогащают душу мальчика все новыми и новыми эмоциями. Для болезненно-нервных детей это вредно; но для более нормальных это — великое бродило развития.
Большой литературности мы там не приобретали, потому что репертуар конца 40-х и начала 50-х годов ею не отличался, но все-таки нам давали и «Отелло» в Дюсисовой переделке, и мольеровские комедии, и драмы Шиллера, и «Ревизора», и «Горе от ума», с преобладанием, конечно, французских мелодрам и пьес Полевого и Кукольника.
Но мелодрама для детей и народной массы — безусловно развивающее и бодрящее зрелище. Она вызывает всегда благородные порывы сердца, заставляет плакать хорошими слезами, страдать и бояться за то, что достойно сострадания и симпатии. И тогдашний водевиль, добродушно-веселый, часто с недурными куплетами, поддерживал живое, жизнерадостное настроение гораздо больше, чем теперешнее скабрезное шутовство или пессимистические измышления, на которые также возят детей.
Беря в общем, тогдашний губернский город был далеко не лишен культурных элементов. Кроме театра, был интерес и к музыке, и местный барин Улыбышев, автор известной французской книги о Моцарте, много сделал для поднятия уровня музыкальности, и в его доме нашел оценку и всякого рода поддержку и талант моего товарища по гимназии, Балакирева.
Как бы я, задним числом, ни придирался к тогдашней жизни, в период моего гимназического ученья (1846–1853 годы), я бы никак не мог поставить ее в такой мрачный свет, как сделал, например, М. Е. Салтыков в своем «Пошехонье». Он описывает эпоху, близкую по годам к моему времени. Разница в десяток лет, не более. Нравы дворянско-чиновничьего круга в тогдашнем Нижнем не были так жестоки. Крепостное право и весь строй казенной службы держались, правда, на узурпации и подкупе; но опять-таки не с таким повальным бездушием, тиранством и хищением для того города и даже губернии, где я вырос.
Нравы семей, составлявших тогдашнее «общество», были сами по себе вовсе не грязнее нынешних. Распады брачных уз случались редко, в виде «разъезда»; о разводах я не помню, но, наверное, они были все наперечет; зверств и истязаний не водилось, по крайней мере в городе. Наш дом считался старозаветным, и дворовых одевали и кормили в нем скупее, чем у других; но и в нем я не помню никакого возмутительного «сквалыжничества», а еще менее каких-нибудь жестокостей, особенно в поколении моих дядей, моей матери и тетки. Никогда я не видал, чтобы они кого-нибудь ударили из своей прислуги.
Общество не было и исключительно сословным. В него проникали все: чиновники, учителя гимназии, архитекторы, образованные или только полированные купцы. Дворян с видным положением в городе, женатых на купчихах, почти что не было, что показывало также, что за одним приданым не гонялись, хотя в городе и тогда было немало богатых купцов, водились и миллионеры.
Нравственность надо различать. Есть известные виды социального зла, которые вошли в учреждения страны или сделались закоренелыми привычками и традициями. Такая безнравственность все равно что рабство древних, которое такой возвышенный мыслитель, как Платон, возводил, однако, в краеугольный камень общественного здания.
Тогдашний режим поддерживал, конечно, низкую социальную нравственность; но в том, что составляло семейную мораль и мораль общежития, я, если не кривить душою, не помню ничего глубоко испорченного, цинического или бездушного. Надо даже удивляться, что при тогдашних законных жестокостях, «торговой казни», плетях и кнутах, шпицрутенах и так далее, сохранялось много доброго и прямо честного. А эти жестокости суда и расправы возмущали лучших людей и среди старших, и нас, юнцов, не менее, чем бы это было и теперь. Все мои сверстники подтвердят то, что тогда «николаевщина» если и страшила, то настолько же вызывала и глухое недовольство. Тогда каждый политический ссыльный, всякий «штрафной», попавший на подневольное житье в провинцию, был предметом безусловного сочувствия всех порядочных людей.
Спрашиваю еще раз: как бы это могло быть, если бы в тогдашнем обществе уже не назревали высшие душевные запросы? И назревали они с 20-х годов.
О «декабристах» я мальчиком слыхал рассказы старших, всегда в одном и том же сочувственном тоне. Любое рукописное стихотворение, любой запретный листок, статья или письмо переписывались и заучивались наизусть.
Заметьте, что я лично лишен был, сравнительно с товарищами, свободы знакомств и выходов из дому до седьмого класса; но все-таки был «в курсе» всего, чем тогда жило общество.
Благодарны, должны мы быть и за то, что из нас не сделали ханжей, лицемеров или искренних мистиков, это все равно. Время было строгое, но больше формально. Ни дома, ни в гимназии нас не подавляли требованиями обязательного благочестия. «Батюшка» учил нас Закону Божию, а дома соблюдались предания: ездили к обедне, говели, разговлялись — все это истово, но без всякого излишества, и религиозное чувство поддерживалось простое, здоровое и, в юных летах, не лишенное отрадных настроений в известные праздники, в говенье, на Пасху, в Троицу.
Мы опять-таки сливались в этом с народом, с дворовыми и крестьянами. Разница была только в том, что нас учили, что мы знали молитвы и катехизис и освобождались от многих суеверных страхов.
Никакой нетерпимости нам не прививали. Никогда не было кругом разговоров в злобном или пренебрежительном духе о других религиях. Свобода совести в гимназии уважалась больше, чем теперь, потому что «инославные» ученики не бывали обязаны участвовать в православных молитвах и уходили от класса Закона Божия. Травли «жидов» и поляков — никакой. Евреи для нас были забитые кантонисты, насильно крещенные, или будочники, а поляки — «несчастный народ», и генерала Костюшку мы прямо считали героем. Очень рано я полюбил рассказы моего старшего дяди о расколе в Нижегородской губернии и переписывал его докладную записку, которую он составлял как чиновник особых поручений.
Мы не сочувствовали тогдашним строгостям, и раскол с его скитами имел для нас что-то таинственное и, скорее, привлекательное.
Словом, в тех из нас, из кого мог выйти какой-нибудь прок, не было к выходу из гимназии никакой «николаевской» закваски.
Рано и звание писателя было окружено для меня особым обаянием.
Разумеется, в тогдашней провинции не могло быть много местных литераторов, да еще в простом, не в университетском городе. Но целых три известности были по рождению или службе нижегородцы.
Во-первых, П. И. Мельников-Печерский.
О нем я знал с самого раннего детства. Он был долго учителем нашей гимназии; но раньше моего поступления в нее перешел в чиновники по особым поручениям к губернатору и тогда начал свои «изучения» раскола, в виде следствий и дознаний. Еще ребенком я слыхал о нем как о редакторе «Губернских ведомостей» и составителе книжки о Нижегородской ярмарке.
Помню его, уже позднее, в один из приемных дней, кажется в именины моей бабушки, когда весь город приезжал ее поздравлять. Но у нас он не был постоянным гостем. И бабушка моя его недолюбливала, называла чуть не «кутейником» (хотя он не был из семинаристов), особенно после его женитьбы, во второй раз, на очень молоденькой своей ученице, местного дворянского рода. Еще позднее, когда он наезжал в Нижний по статистике уже как столичный чиновник, мы читали его первые талантливые рассказы в «Москвитянине», под псевдонимом Печерского. В них, конечно, все искали живых лиц из знакомых, так же как и в первом произведении другого нижегородца, по службе, М. В. Авдеева.
Этот езжал к нам всего чаще на половину моего старшего дяди, только что женившегося.
Авдеев служил «путейским» офицером. Тогда инженеры путей сообщения и «публичных зданий» получали военную выправку и носили довольно красивый мундир с аксельбантом и каску с черным волосяным султаном. В Нижнем читали нарасхват его повесть «Варенька», первую треть его трилогии «Тамарин». Все лица были «расписаны», начиная с самой героини. За это его не чурались в нижегородском «монде» (обществе), везде принимали, считали очень умным и колким; но подсмеивались над его некрасивой наружностью, претензиями на сердцеедство и сочиняли на него стишки. Когда путейцам дали усы, это послужило поводом к стихотворному памфлету, который все распевали под фортепьяно. И меня выучили этим стихам. И я пел:
Штабс-капитан у нас Авдеев: Он счастие нашел в усах, Огонь похитил Прометеев И разразился в остротах. Когда усы путейцам дали, То Нижний весь затрепетал. Усы чем больше подрастали, Авдеев больше всех пленял.И так еще в нескольких строфах.
Но все это было добродушно, без злости. Того оттенка недоброжелательства, какой теперь зачастую чувствуется в обществе к писателю, тогда еще не появлялось. Напротив, всем было как будто лестно, что вот есть в обществе молодой человек, которого «печатают» в лучшем журнале.
«Варенька», а позднее весь «Тамарин» и тогда уже понимались, как вещи в «жорж-зандовском» направлении. Тогда уже появились и в дворянском кругу и девушки и замужние женщины с налетом любовно-романтического настроения, поглощавшие и в подлиннике и в переводах «Индиану», «Лелию», «Консуэло», «Жака», «Мопра», «Лукрецию Флориани».
С этим путейцем-романистом мне тогда не случилось ни разу вступить в разговор. Я был для этого недостаточно боек; да он и не езжал к нам запросто, так, чтобы набраться смелости и заговорить с ним о его повести или вообще о литературе. В двух-трех более светских и бойких домах, чем наш, он, как я помню, считался приятелем, а на балах в собрании держал себя как светский кавалер, танцевал и славился остротами и хорошим французским языком.
Третья и большая тогда известность, В. И. Даль, служил управляющим удельной конторой, уже после того, как составил себе имя под псевдонимом Казака Луганского.
Он почти нигде не бывал. Меня к нему повезли уже студентом. Но он и в нас, гимназистах, возбуждал сильное любопытство. Его считали гордецом, большим «чудодеем», много сплетничали про него как про начальника своего ведомства, про его семейную жизнь, воспитание детей и привычки. Он образовал кружок врачей и собирал их у себя на вечеринки, где, как тогда было слышно, говорили по-латыни. Много было толков и про шахматные партии вчетвером, которые у него разыгрывались по известным дням. То, что было поразвитее, и помимо его коллег врачей, искало его знакомства; но светский круг побаивался его чудачеств и угрюмости.
Дядя (со стороны отца), который повез меня к нему уже казанским студентом на втором курсе, В. В. Боборыкин, был также писатель, по агрономии, автор книжки «Письма о земледелии к новичку-хозяину».
По тому времени он представлял собою довольно редкое явление в дворянско-помещичьей среде. После бурной молодости гвардейского офицера, сосланного на Кавказ, он прошел через прожигание жизни за границей, где стал учиться и рациональному хозяйству, вперемежку с нервными заболеваниями. Женившись, он поселился в деревне, недалеко от Нижнего, и стал чем-то вроде Л. Н. Толстого по проповеди опрощения и по опытам разных усовершенствований в домоводстве, по идеям сближения с народом и работе над его просвещением, по более гуманному отношению к своим крепостным.
Его долго считали «с винтиком» все, начиная с родных и приятелей. Правда, в нем была заметная доля странностей; но я и мальчиком понимал, что он стоит выше очень многих по своим умственным запросам, благородству стремлений, начитанности и природному красноречию. Меня обижал такой взгляд на него. В том, что он лично мне говорил или как разговаривал в гостиной, при посторонних, я решительно не видал и не слыхал ничего нелепого и дикого.
Такой Василий Васильевич был как бы предшественником помещика Ясной Поляну, без его дарования, но с таким же неугомонным исканием правды.
Он кончил очень некрасной долей, растратив весь свой наследственный достаток. На его примере я тогда еще отроком, по пятнадцатому году, понимал, что у нас трудненько жилось всем, кто шел по своему собственному пути, позволял себе ходить в полушубке вместо барской шубы и открывать у себя в деревне школу, когда никто еще детей не учил грамоте, и хлопотать о лишних заработках своих крестьян, выдумывая для них новые виды кустарного промысла.
То, что Ломброзо установил в душевной жизни масс под видом мизонеизма, то есть страха новизны, держалось еще в тогдашнем сословном обществе, да и теперь еще держит в своих когтях массу, которая сторонится от смелых идей, требующих настоящей общественной ломки.
И вот судьбе угодно было, чтобы такой местный писатель, с идеями, не совсем удобными для привилегированного сословия, оказался моим родным дядей.
Проезжали Нижним и другие более крупные величины и по тому времени, и для всех эпох развития русской литературы.
Пушкин, отправляясь в Болдино (в моем, Лукояновском уезде), живал в Нижнем, но это было еще до моего рождения. Дядя П. П. Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней губернаторшей, Бутурлиной, мужем которой, Михаилом Петровичем, меня всегда дразнили и пугали, когда он приезжал к нам с визитом. А дразнили тем, что я был ребенком такой же «курносый», как и он.
Не могу подтвердить точность пересказа одной из шуточных тирад Пушкина; но разговор его с губернаторшей, в редакции дяди, остался у меня в памяти очень отчетливо.
Это было в холерный год.
— Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич? — спрашивала Бутурлина. — Скучали?
— Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди.
— Проповеди?
— Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. «И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»
К Пушкину старшее поколение относилось так, как вся грамотная Россия стала смотреть на него после московского торжества открытия памятника и к столетию. Конечно, менее литературно, но с высоким почтением и нежностью. Мы, когда подрастали, зачитывались Лермонтовым, и Пушкин, особенно антологический, уже мало на нас действовал. Спор между товарищами в моем романе более или менее «создан» мною, но в верных мотивах. И в нем тетка Телепнева пушкинистка, а музыкант Горшков — лермонтист.
На поколении наших отцов можно бы было видеть (только мы тогда в это не вникали), как Пушкин воспитал во всех, кто его читал, поэтическое чувство и возбуждал потребность в утехах изящного творчества. Русская жизнь в «Онегине», в «Капитанской дочке», в «Борисе» впервые воспринималась как предмет эстетического любования, затрагивая самые коренные расовые и бытовые черты.
Другая тогдашняя знаменитость бывала не раз в Нижнем, уже в мое время. Я его тогда сам не видал, но опять, по рассказам дяди, знал про него много. Это был граф В. А. Соллогуб, с которым в Дерпте я так много водился, и с ним, и с его женой, графиней С. М., о чем речь будет позднее.
До 50-х годов имя Соллогуба было самым блестящим именем тогдашней беллетристики; его знали и читали больше Тургенева. «Тарантас» был несомненным «событием» и получил широкую популярность. И повести (особенно «Аптекарша») привлекали всех; и модных барынь, и деревенских барышень, и нас, подростков.
Соллогуб гостил, попадая в Нижний, у тогдашнего губернского предводителя, Н. В. Шереметева, брата того сурового вотчинника, который послужил мне моделью одной из старобытовых фигур в моем романе «Земские силы», оставшемся недоконченным.
Дядя передавал все анекдоты, стишки, экспромты, остроты Соллогуба, в том числе такую с довольно-таки циническим намеком.
Тогда в моде была «Семирамида» Россини, где часто действуют трубы и тромбоны. Соллогуб, прощаясь с своим хозяином, большим обжорой (тот и умер, объевшись мороженого), пожелал, чтобы ему «семирамидилось легко». И весь Нижний стал распевать его куплеты, где описывается такой «казус»: как он внезапно влюбился в невесту, зайдя случайно в церковь на светскую свадьбу. Дядя выучил меня этим куплетам, и мы распевали юмористические вирши автора «Тарантаса», где была такая строфа:
В церкви дамы, как печи, Растопырили плечи, А жених — mа parole! (честное слово!) Как бубновый король!Но в итоге тогдашняя литература и писатели, как писатели, а не как господа с известным положением в обществе, стояли очень высоко во мнении всех, кто не был уже совсем малограмотным обывателем.
Самым сильным зарядом художественных настроений перед поступлением в студенты была моя поездка в Москву к Масленице зимой 1852–1853 года.
Сестра моя — мы с ней были в разлуке больше восьми лет — выходила из Екатерининского института в Петербурге. Брать ее из института поехала туда тетка, старшая сестра моей матери.
Этого свидания я поджидал с радостным волнением. Но ни о какой поездке я не мечтал. До зимы 1852–1853 года я жил безвыездно в Нижнем; только лето до августа проводил в подгородной усадьбе. Первая моя поездка была в начале той же зимы в уездный город, в гости, с теткой и ее воспитанницей, на два дня.
Мы были в детстве так не избалованы по этой части, что и эта поездка стала маленьким событием. О посещении столицы я и не мечтал.
И вдруг нежданно-негаданно перед Масленицей дядя надумал ехать в Москву и брал меня с собою.
Я уже выезжал на балы в Дворянское собрание и носил фрак, стыдился гимназического мундира, играл в большого. И вот предстояла поездка в Москву на всю Масленицу как молодому человеку, без ненавистной «красной говядины», как тогда называли алый воротник гимназистов.
Меня быстро снарядили. Даже расчетливый дедушка дал на поездку что-то вроде «беленькой»; позволение было добыто у гимназического начальства, и в пятницу на предмасленой неделе кибитка уносила нас по Московскому шоссе.
Самый путь — около четырехсот верст на перекладных — был большой радостью! Станции, тройки, уханье ямщика, еда в почтовых гостиницах в Вязниках и Владимире, дорожные встречи и все возраставшее волнение, по мере того как мы близились к Москве.
Это не мешало спать в кибитке — мы ехали без ночевок, и во вторую ночь с меня спала шапка, и я станции две пролежал с непокрытой головой, что и сказалось под конец моей московской одиссеи.
Помню, как ранним утром в полусвете серенького, сиверкого денька въехала наша кибитка в Рогожскую. Дядя еще спал, когда я уже поглядывал по сторонам. Он всю дорогу поддерживал во мне взвинченное настроение. Лучшего спутника и желать было нельзя. Москву он прекрасно знал, там учился, и весь тогдашний дорожный быт был ему особенно хорошо знаком, так как он долго служил чиновником по особым поручениям у почт-инспектора и часто езжал ревизовать по разным трактам.
Москва — на окраинах — мало отличалась тогда от нашего Нижнего базара, то есть приречной части нашего города. Тут все еще пахло купцом, обывателем. Обозы, калачные, множество питейных домов и трактиров с вывесками «Ресторация». Это название трактира теперь совсем вывелось в наших столицах, а в «Герое нашего времени» Печорин так называет еще тогдашнюю гостиницу с рестораном на Минеральных Водах.
Но вот мы на Солянке.
— Тут много заложено имений у нашего брата! — указал мне дядя на здание Воспитательного дома, тогдашний Общегосударственно-Земельный банк.
На Солянке же воздымались и хоромы богача Шепелева, нижегородского помещика — одного из последних фанатиков дилетантства, который сам пел в операх с труппой своего крепостного театра. Мой учитель, первая скрипка нашего театра, А-в, был также из вольноотпущенных этого самого Шепелева.
Ниже, на Мясницкой, дядя указал мне на барские же хоромы на дворе, за решеткой (где позднее были меблированные комнаты, а теперь весь он занят иностранными конторами) — гостеприимный дом братьев Нилусов, игроков, которые были «под конец» высланы за подозрительную игру со своими гостями. К ним ездили, как в клуб, и сотни тысяч помещичьих денег переходили из Опекунского совета прямо по соседству — в дом Нилусов.
Мы спускались и поднимались, ныряя по ухабам. Тут я почувствовал впервые, что Москва действительно расположена на холмах, как Рим. Но до Красной площади златоверхая первопрестольная столица не отзывалась еще, даже на мой провинциальный взгляд юноши нигде не бывавшего, чем-нибудь особенно столичным. Весь ее пошиб продолжал быть обывательско-купецким.
На Красной площади стены Кремля, Василий Блаженный, Спасские и Никольские ворота, главы соборов, памятник Минину — все это сейчас же иначе настраивало.
— А тут вот Яма! — указал дядя на старинный дом у Воскресенских ворот.
Я уж знал, что «Ямой» по-московски называли долговую тюрьму.
Перед нами открылась площадь с выездом на Театральную площадь. Справа тянулось двухэтажное приземистое здание тогдашнего Московского трактира, или «Турина заведения», как называли москвичи.
От дяди я уже слыхал рассказы о том, как там кормят, а также и про Печкинскую кофейню, куда я в тот приезд не попал и не знаю, существовала ли она в своем первоначальном виде в ту зиму 1852–1853 года.
Все на том же месте и с тем же фасадом на Тверскую и проезд стояла гостиница «Париж». Ее выбрал дядя, не любивший франтить ни в чем и по-провинциальному экономный, но не скупой.
Гостиница эта была средней руки и тогда, и мы очутились в высоком нумере, с перегородкой, где я сейчас же свалился на диван, чувствуя, что меня начинает уже «ломать» от двухчасовой езды без шапки по морозу, хотя и не трескучему.
Но мне не полагалось хворать. Я стремился в театр, и в первый же вечер я с верхней галереи Большого театра смотрел тогдашнюю «фурорную» (по теперешнему жаргону) пьесу Сухонина «Русская свадьба».
Тогда драматические спектакли шли постоянно — вперемежку — на обоих театрах. Балеты давались чаще опер, и никто из певцов меня не привлекал, кроме Бантышева в его прославленной роли Торопки-гудочника в «Аскольдовой могиле» Верстовского, бывшего тогда директором.
«Русская свадьба» и тогда не восхитила меня. Мои литературные вкусы требовали уже иных художественных впечатлений. «Горе от ума», «Ревизор» и «Женитьба» готовили мне другие наслаждения.
Тогдашняя дирекция держалась очень хорошей традиции; давать на Масленице в пятнадцать спектаклей лучшие наши пьесы старого репертуара и то, что шло самого ценного за зиму из новых вещей — драматических и балетных.
Для приезжих это было чистым кладом.
И вышло так, что заезжий гимназист, попав на Масленицу в Москву, мог видеть Щепкина в трех его «коронных» ролях — городничего, Кочкарева и Фамусова; Садовского в Подколесине, Осипе и Большове («Не в свои сани не садись»), Сергея Васильева, Шуйского, Степанова, Немчинова, Живокини, Васильеву, Косицкую, Сабурову, Акимову, Львову-Синецкую, Орлову.
Такого заряда хватило бы на несколько лет. И, конечно, в этом первоначальном захвате сценического творчества и по репертуару и по игре заложено было ядро той скрытой писательской тяги, которая вдруг в конце 50-х годов сказалась в замысле комедии и толкнула меня на путь писателя.
И мог ли этот нижегородский гимназист мечтать, что в этом самом Малом театре, куда он попал на Масленице 1853 года, через восемь всего лет, в декабре 1861 года, он будет раскланиваться из министерской ложи публике на первом представлении «Однодворца», в бенефис Садовского, игравшего главную роль.
И с Островским как писателем я как следует познакомился только тогда в Большом театре, где видел в первый раз «Не в свои сани не садись». В Нижнем мы добывали те книжки «Москвитянина», где появлялся «Банкрут»; кажется, и читали эту комедию, но она в нас хорошенько не вошла; мы знали только, что ею зачитывалась вся Москва (а потом и Петербург) и что ее не позволили давать на сцене.
Никогда еще перед тем я не испытывал того особенного восхищения, какое дает общий лад игры, где перед вами сама жизнь. И это было в «Не в свои сани не садись» больше, чем в «Ревизоре» и в «Горе от ума», где, например, Чацкий — Полтавцев казался мне совсем не похожим на того героя, которого мы представляли себе. Да и те танцы, которые тогда очень нравились публике, отзывались чем-то слишком водевильным, скорее в угоду райку, чем более развитому зрителю. Такого трио, как три купца в первом акте комедии Островского (первой, по счету, попавшей на сцену), как Садовский (Большов), С. Васильев (Бородкин) и Степанов (Маломальский), больше уже не бывало. По крайней мере мне за все сорок с лишком лет не приводилось видеть. Старуха Сабурова (жена трактирщика) и Косицкая (Авдотья Максимовна) дышали бытовой правдой: первая с прибавкой тонкого комизма, вторая — с чисто народным лиризмом.
Косицкая была моя землячка. Про нее я много слыхал дома. Дядя знавал ее еще крепостной помещиков Б-ных, в услужении у купчихи Долгоновой, где ее заставляли петь при гостях. Потом она, как известно, попала статисткой в театр, где ее заметил Живокини и перетащил в Москву, и в два-три года она стала любимицей публики, полуграмотная, силой таланта и необычайной искренности. Ее заставляли много играть в трагедиях и в романтических драмах, где она оставалась все же «Любашей», нижегородской горничной с порывами чувства и прекрасным голосом. Видал я ее потом в таких вещах, как «Отец и дочь» Ободовского и «Гризельда и Персиваль», и глубоко сожалел о том, что она навек не осталась русской простой девушкой, Авдотьей Максимовной, которую Ваня Бородкин спасает от срама.
Трогательно было то, что Косицкая, уже знаменитостью, когда приезжала в Нижний на гастроли, сохраняла с нами тот же жаргон бывшей «девушки». Так, она не говорила: «публика» или «зрители», а «господа дворяне», разумея публику кресел и бельэтажа. У ней срывались фразы вроде:
— Много довольна приемом господ дворян!
И это было на склоне ее карьеры, в 60-х годах, когда я, приехав раз в Нижний зимой, уже писателем, видел ее, кажется, в этой самой «Гризельде» и пошел говорить с нею в уборную.
Конец ее был довольно печальный. В последний раз я с ней встретился в «Кружке», в зиму 1866 года.
С Малым театром я не разрываю связи с той самой поры, но здесь я остановлюсь на артистах и артистках, из которых иные уже не участвуют в моих дальнейших воспоминаниях, с тех пор как я сделался драматическим писателем.
Прежде всего, конечно, Михаил Семенович Щепкин. Я видал его позднее всего только в двух пьесах: в «Свадьбе Кречинского» (роль Муромцева) и в пьесе, переделанной из комедии Ожье «Зять господина Пуарье» под русским ее заглавием: «Тесть любит честь — зять любит взять».
Но в истории русского сценического искусства Михаил Семенович — творец двух лиц: Фамусова и городничего, и, в меньшей степени, Кочкарева в «Женитьбе». Во всех трех этих «созданиях» я его видел тогда юношей, уже значительно подготовленным к высшим запросам от театра и игры актера.
Это была последняя полоса его игры, когда он, уже пожилым человеком, еще сохранял большую артистическую энергию. Случилось так, что я его в Нижнем не видал (и точно не знаю, езжал ли он к нам, когда меня уже возили в театр) и вряд ли даже видал его портреты. Тогда это было во сто раз труднее, чем теперь.
Вся его короткая, полная (но не очень толстая) фигура, круглое лицо с сильной гримировкой, особого рода подвижность, жесты рук, головы, мимика рта и глаз — все это отзывалось чем-то необычным. Голос был непохожий и на интонации тогдашних актеров из коренных москвичей. Полная простота тона и вкусная — если можно так определить — дикция, с легким стариковским оттенком артикуляции, говорили о чем-то особенном. М. С. был и оставался «хохлом» более, чем великороссом. Мне рассказывал покойный Павел Васильев (уже в начале 60-х годов, в Петербурге), что когда он, учеником театральной школы, стоял за кулисой, близко к сцене, то ему явственно было слышно, что у Щепкина в знаменитом возгласе: «Дочь! Софья Павловна!» слышалось хохлацкое «хв», и он, хотя и не очень явственно, произносил: «Дочь! Сохвья Павловна!»
Поэтому-то он так хорош бывал в одной из своих характерных ролей в «Москале-чаривныке», а великорусских простонародных типов не создавал.
Фамусовым он был в меру и барин, и чиновник, и истый человек времени Реставрации, когда он у своего барина достаточно насмотрелся и наслушался господ. Никто впоследствии не заменил его, не исключая и Самарина, которого я так и не видал в тот приезд ни в одной его роли.
Сквозник-Дмухановский точно нарочно создан был для Щепкина. Его произношение только помогало правде и типичности создания этой фигуры. Он его играл сангвиником, без всякого умничания, не уступая другу своему Гоголю в толковании этого лица, не придавая ему символического смысла, как желал того автор «Ревизора». И все в нем дышало комизмом. Он был глубоко забавен, но не мелко смешон. И выходило так от полнейшей художнической искренности исполнения. Комизм пробивался во всем: в дикции, в минах, в походке, в жестикуляции.
До сих пор я могу еще представить себе: как он сидит и читает письмо в первом акте, как дрожит перед пьяным Хлестаковым, как указывает квартальным на бумажку посредине гостиной, как наскакивает на квартального с подавленным криком: «Не по чину берешь!» Друг и единомышленник Гоголя сказывался и в том, как он произносил имя квартального Держиморды.
Щепкин выговаривал «Держиморда», а не «Держиморда», как произносят везде вне московского Малого театра, где щепкинская традиция, вероятно, до сих пор еще сохраняется.
Сангвинический пошиб во всем преобладал. Тогда «первый комический актер» (по номенклатуре Гоголя) действительно играл как высокий комик, а не как резонер, который по-своему мудрит и подгоняет лицо, выхваченное из жизни, под свои личные теории, соображения, вкусы и приемы игры.
В Кочкареве я, помню, не сразу признал его, когда на сцену ввалился кругленький господин в темно-русом парике, вицмундире и в белых брюках.
Сказать ли правду? Он показался мне мало похожим на петербургского «чинуша», шумного торопыгу, балагура и свата. Для этого он уже не был достаточно молод; его тон и повадка мало отзывались тем, что можно было представлять себе, читая «Женитьбу».
Люди генерации моего дяди видали его несколько раньше в этой роли и любили распространяться о том, как он заразительно и долго хохочет перед Жевакиным. На меня этот смех не подействовал тогда так заразительно, и мне даже как бы неприятно было, что я не нашел в Кочкареве того самого Михаила Семеновича, который выступал в городничем и Фамусове.
Года брали свое. К этому времени те ценители игры, которые восторгались тогдашними исполнителями нового поколения, Садовским и Васильевым, — начинали уже «прохаживаться» над слезливостью Щепкина в серьезных ролях и вообще к его личности относились уже с разными оговорками, любили рассказывать анекдоты, невыгодные для него, напирая всего больше на его старческую чувствительность и хохлацкую двойственность. От одного из писателей кружка и приятелей Островского — Е. Н. Эдельсона (уже в 60-х годах) я слышал рассказ о том, как у Щепкина (позднее моей первой поездки в Москву) на сцене выпала искусственная челюсть, а также и про то, как он бывал несносен в своей старческой болтовне и слезливости.
У него с молодых лет была склонность, как у многих комиков, к чувствительным ролям, и одной из любимых его ролей в таком роде была роль в пьесе «Матрос», где он пел куплеты в патетическом роде и сам плакал. Эту роль он играл всегда в провинции и в позднейший период своей сценической карьеры.
Такого именно податливого на слезы старика я нашел в нем в ту зиму, когда с ним лично познакомился на репетиции моей драмы «Ребенок», когда мы сидели в креслах рядом и смотрели на игру воспитанницы Позняковой, которую выпустил Самарин в моей пьесе, взятой им на свой бенефис.
Но и тогда (то есть за каких-нибудь три года до смерти) его беседа была чрезвычайно приятная, с большой живостью и тонкостью наблюдательности. Говорил он складным, литературным языком и приятным тоном старика, сознающего, кто он, но без замашек знаменитости, постоянно думающей о своем гениальном даровании и значении в истории русской сцены.
Подробности этой встречи я описал в очерке, помещенном в одном сборнике, и повторять здесь не буду. Для меня, юноши из провинции, воспитанного в барской среде, да и для всех москвичей и иногородных из сколько-нибудь образованных сфер, Щепкин был национальной славой. Несмотря на сословно-чиновный уклад тогдашнего общества, на даровитых артистов, так же как и на известных писателей, смотрели вовсе не сверху вниз, а, напротив, снизу вверх.
Типическим ценителем того времени был мой дядя, тот, кто привез меня в Москву. По времени воспитания он восходил к 20-м годам (родился в 1810 году), и от него-то я с раннего детства слышал о знаменитых актерах и актрисах, без малейшего оттенка барского пренебрежения; не только о Михаиле Семеновиче (он так его всегда и звал), но о Мочалове, о Репиной, о молодом Самарине, Садовском, даже Немчинове, и о петербургских корифеях: Каратыгине, Брянском, Мартынове, А. Максимове, Сосницком, чете Дюр, Асенковой, Гусевой, семействе Самойловых.
Мы уже гимназистами знали про то, что Щепкин водил дружбу с писателями: с Гоголем, с кружком Грановского и Белинского и с Герценом, которого мы много читали, разумеется кроме того, что он начал уже печатать за границей, как эмигрант.
Для тогдашнего николаевского общества такое положение Щепкина было важным фактом, и фактом, вовсе не выходящим из ряду вон. Я на это напираю. Талант, личное достоинство ценились чрезвычайно всеми, кто сколько-нибудь выделялся над глухим и закорузлым обывательским миром.
В моем лице — в лице гимназиста из провинции, выросшего в старопомещичьем мире, — это сказывалось безусловно. Я уже был подготовлен всей жизнью к тому, чтобы ценить таких людей, как Щепкин, и всякого писателя и артиста, из какого бы звания они ни вышли.
Сергея Васильева я только тогда и увидел в такой бытовой роли, как Бородкин. Позднее, когда приезжал студентом домой, на ярмарочном театре привелось видеть его только в водевилях; а потом он ослеп к тому времени, когда я начал ставить пьесы.
Бородкин врезался мне в память на долгие годы и так восхищал меня обликом, тоном, мимикой и всей повадкой Васильева, что я в Дерпте, когда начал играть как любитель, создавал это лицо прямо по Васильеву. Это был единственный в своем роде бытовой актер, способный на самое разнообразное творчество лиц из всяких слоев общества: и комик и почти трагик, если верить тем, кто его видал в ямщике Михаиле из драмы А. Потехина «Чужое добро впрок не идет».
К нему привлекала также и блестящая, игривая веселость, какая бывает только у прекрасных французских комиков. Самая некрасивость его лица, голос немного в нос — все это превращалось в привлекательные особенности. По богатству мимики и комических интонаций он не уступал ни Садовскому, ни Живокини.
Кроме роли Бородкина, Сергей Васильев выступал в ту памятную мне Масленицу еще в одном типичнейшем своем создании — почтмейстер Шпекин.
Роль — очень небольшая; но он действительно «создавал» нечто тонко-юмористическое, без шаржа в гримировке, тоне, жестах. Это был немножко чопорный, но благодушно настроенный гоголевский чиновник, делающий себе из привычки вскрывать письма постоянное умственное развлечение.
Надо было видеть выражение его лица, усмешку рта и глаз и слышать его интонации, когда он рассказывает городничему о том, как описывается торжество, где стоит знаменитая фраза — «штандарт скачет».
Только истинно артистическая натура способна была на подобное разнообразие в сценическом воспроизведении фигур, до такой степени непохожих одна на другую, как Шпекин и Ваня Бородкин.
Впоследствии (как я заметил выше), приезжая из Казани и Дерпта на вакацию, я видал Васильева на ярмарке в Нижнем и в Москве, но в водевилях.
Ранняя слепота свела его со сцены, и этот блистательно-веселый комик кончал жизнь в глубокой печали заживо погребенного для сцены слепца.
Садовский и тогда уже считался «первой силой» труппы, после Щепкина, а для его почитателей не только рядом с Щепкиным, но даже над ним. Если за Щепкиным значилась неувядаемая слава быть создателем Фамусова и городничего, то Садовский, уже и в зиму 1852–1853 года, появлялся в разнообразных созданиях — в Осипе, Подколесине, купце Большове. Гоголя он сочетал — и в таком разнообразном воспроизведении — с Островским, а типы Островского Щепкину не удавались позднее в такой же степени. И если взять два крупнейших лица из театра Гоголя — городничего и Подколесина, то трудно было тогда и знатокам театра решить, кто стоял выше как художник-исполнитель: Щепкин или Садовский?
Для нас, провинциалов, Садовский был еще что-то совсем новое, хотя он уже и состоял к тому времени в труппе Малого театра более десяти лет.
Но газеты занимались тогда театром совсем не так, как теперь. У нас в доме, правда, получали «Московские ведомости»; но читал их дед; а нам в руки газеты почти что не попадали. Только один дядя, Павел Петрович, много сообщал о столичных актерах, говаривал мне и о Садовском еще до нашей поездки в Москву. Он его видел раньше в роли офицера Анучкина в «Женитьбе». Тогда этот офицер назывался еще «Ходилкин».
От игры Садовского впервые испытал я впечатление чего-то могучего. Чувствовался кряж натуры, прирожденного богатейшего таланта. Все тут было свое, ниоткуда не заимствованное. Каждая интонация, всякий жест, взгляд, усмешка, поворот головы говорили о бытовой почве.
И все это дышало необычайной простотой и легкостью выполнения. Ни малейшего усилия! Один взгляд, один звук — и зала смеется. Это у Садовского было в блистательном развитии и тогда уже в ролях Осипа и Подколесина. Такого героя «Женитьбы» никто позднее не создавал, за исключением, быть может, Мартынова. Я говорю «быть может», потому что в Подколесине сам никогда его не видал.
Сохранилось все это у Садовского и даже достигло полной виртуозности и позднее, как, например, в роли Расплюева… Одно его появление и первый вздох уже настраивали всю залу на особый комический лад.
И тем разительнее выходил контраст между Подколесиным и Большовым. Такая бытовая фигура, уже без всякой комической примеси, появилась решительно в первый раз, и создание ее было делом совершенно нового понимания русского быта, новой полосы интереса к тому, что раньше не считалось достойным художественной наблюдательности.
А в области чистого комизма Садовский представлял собою полнейший контраст с комизмом такого, например, прирожденного «буффа», каков был давно уже тогда знаменитый любимец публики В. И. Живокини. В нем текла итальянская кровь. Он заразительно смешил, но на создание строго бытовых лиц не был способен, хотя впоследствии и сыграл немало всяких купеческих ролей в репертуаре Островского.
Случилось так, что я видел его тогда два раза и… в том числе в опере! Он играл труса и хвастуна Фрелафа в «Аскольдовой могиле». А в «Горе от ума» — Репетилова.
О нем я в 80-х годах написал воспоминания в одном сборнике после многолетнего личного знакомства и участия его в моем «Однодворце».
Его ближайший сверстник и товарищ по театральному училищу и службе на Малом театре, П. Г. Степанов, был создатель роли трактирщика Маломальского в том бесподобном трио, о котором я говорил выше.
В свое время он считался «второй силой», как нынче и официально выражаются, а стоил многих теперешних «первых сюжетов» и даже превосходил их.
Он с самых молодых лет отличался тем, что нынче называют «гримом» и вообще схватывателя типичных черт, в особенности пожилых лиц и стариков. Когда было разрешено давать только третий акт «Горя от ума», ему поручили роль князя Тугоуховского, в которой я его и увидал впервые, до представления «Не в свои сани не садись». Позднее, уже во второй половине 60-х годов, он сам мне рассказывал, как император Николай видел его в этой роли и вызвал потом играть ее в Петербург. Другой его такой же типичной ролью из той же эпохи было лицо старого Фридриха II (в какой-то переводной пьесе), и он вспоминал, что один престарелый московский барин, видавший короля в живых, восхищался тем, как Степанов схватил и физическое сходство, и всю повадку великого «Фрица».
Ту же типичность и рельеф замысла и выполнения выказывал он в гоголевском Яичнице. Эта роль оставалась одною из его «коронных» ролей.
В таких старых актерах было что-то особенно прочное, веское, значительное и жизненное, чего теперь не замечается даже и в самых даровитых исполнителях. И по бытовому репертуару Степанов среди своих сверстников один и подошел по тону и говору. Задолго до создания лица Маломальского он уже знаменит был тем, как он играл загулявшего ямского старосту в водевиле «Ямщики».
С. В. Шуйский к зиме 1852–1853 года встал уже впереди, рядом с Васильевым и Самариным; из водевильного актера очень скоро превратился в тонкого художника с разнообразным и гибким дарованием.
Я его видел тогда в трех ролях: Загорецкого, Хлестакова и Вихорева («Не в свои сани не садись»). Хлестаков выходил у него слишком «умно», как замечал кто-то в «Москвитянине» того времени. Игра была бойкая, приятная, но без той особой ноты в создании наивно-пустейшего хлыща, без которой Хлестаков не будет понятен. И этот оттенок впоследствии (спустя с лишком двадцать лет) гораздо более удавался М. П. Садовскому, который долго оставался нашим лучшим Хлестаковым.
Загорецкий являлся у Шуйского высокохудожественной фигурой, без той несколько водевильной игривости, какую придавал ей П. А. Каратыгин в Петербурге. До сих пор, по прошествии с лишком полвека, движется предо мною эта суховатая фигура в золотых очках и старомодной прическе, с особой походочкой, с гримировкой плутоватого москвича 20-х годов, вплоть до малейших деталей, обдуманных артистом, например того, что у Загорецкого нет собственного лакея, и он отдает свою шинель швейцару и одевается в сторонке.
Роль Вихорева, несложная по авторскому замыслу и тону выполнения, выходила у него с тем чувством меры, которая еще более помогала удивительному ансамблю этой, по времени первой на московской сцене, комедии создателя нашего бытового театра.
Шумского 60-х годов я лично зазнал уже как драматический писатель; но об этом в другом месте.
Трех женщин Малого театра, кроме Е. Васильевой (Она была тогда еще девица Лаврова и выступала в Софье в «Горе от ума»), помню я из этой поездки: старуху Сабурову, Кавалерову и только недавно умершую П. И. Орлову.
С Сабуровой (мать петербургской актрисы) ушли особенная своеобразность, прекрасная московская дикция, комизм без шаржа и значительность всего пошиба игры. Одинаково хороша была она и в московской старой барыне (из «Горя от ума»), и в жене трактирщика Маломальского.
Кавалерова и тогда уже считалась старухой не на одной сцене, а и в жизни; по виду и тону в своих бытовых ролях свах и тому подобного люда напоминала наших дворовых и мещанок, какие хаживали к нашей дворне. Тон у ней был удивительно правдивый и типичный. Так теперь уже разучаются играть комические лица. Пропала наивность, непосредственность; гораздо больше подделки и условности, которые мешают художественной цельности лица.
П. И. Орлова держала тогда — уже на склоне карьеры — амплуа светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия во время Севастопольской кампании.
Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на Масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника Великого поста и утром и вечером.
Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал из себя молодого человека во фраке. Тут было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Нессельроде, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же как и ее кавалеры.
Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрачник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь, слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Кучер Жан», которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в заглавной роли, под именем «Извозчик».
И не для меня одного театральная Масленица сезона 1852–1853 года была прощальной. На первой же неделе поста сгорел Большой театр, когда мы были на обратном пути в Нижний.
В Малом театре на представлении, сколько помню, «Женитьбы» совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезде наших дам из Петербурга.
Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкусил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.
Чего-нибудь особенно столичного я не находил. Это был тот же почти тон, как и в Нижнем, только побойчее, особенно у молодых женщин и барышень. Разумеется, я обегал вопросов: учусь я или уже служу? Особого стеснения от того, что я из провинции, я не чувствовал. Я попадал в такие же дома-особняки, с дворовой прислугой, с такими же обедами и вечерами. Слышались такие же толки. И моды соблюдались те же.
Я это привожу опять-таки затем, чтобы показать, как тогда замечался и в губернских городах известный уровень культуры, и ничто такое, что входило в интересы тогдашнего общества в Москве, уже не удивляло особенной новизной юного гимназиста.
В литературные кружки мне не было случая попасть. Ни дядя, ни отец в них не бывали. Разговоров о славянофилах, о Грановском, об университете, о писателях я не помню в тех домах, куда меня возили. Гоголь уже умер. Другого «светила» не было. Всего больше говорили о «Додо», то есть о графине Евдокии Ростопчиной.
Не скажу, чтобы и уличная жизнь казалась мне «столичной»; езды было много, больше карет, чем в губернском городе; но еще больше простых ванек. Ухабы, грязные и узкие тротуары, бесконечные переулки, маленькие дома — все это было, как и у нас. Знаменитое катанье под Новинским напомнило, по большому счету, такое же катанье на Масленице в Нижнем, по Покровке — улице, где я родился в доме деда. Он до сих пор еще сохранился.
Барский строй жизни с военным оттенком замечал я всего больше в мельканье парных саней с пристяжками, в касках и киверах тогдашних гусар и улан. Фуражек тогда не позволяли носить; а теперешняя мерлушковая шапка всех бы скандализовала, особенно на голове гвардейца. Подтянутость публики замечалась везде, и борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией. Но в общем Масленица текла бойко, шумно и, кажется, веселее, чем в последние годы. Особенного гнета я не замечал, и вся Масленая прошла для меня, как в чаду.
Студенческие треуголки (фуражки строго преследовались) волновали меня. Я уже мечтал о скором поступлении в университет провинциальный. Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода. Существовал комплект, и каждый из нас смотрел на здешнего студента, как на счастливца.
Одним из таких счастливцев оказался мой земляк Б-вин, сын председателя палаты. Он перешел сюда из Казани. Я отыскал его в плохонькой комнате, где-то на Никитской; но для меня и невзрачная студенческая «меблировка» казалась чем-то соблазнительным, и хотя мы с ним были на «ты», но я смотрел на него как на избранника.
Студентов в театрах я как-то не замечал; но на улицах видал много, особенно на Тверской, и раз в бильярдной нашей гостиницы сидел нарочно целый час, пока там играли два студента. Они прошли туда задним ходом, потому что посещение трактиров было стеснено. Оба были франтоваты, уже очень взрослые, барского тона, при шпагах.
Теперешнего вида студентов, какие встречаются по улицам Москвы сотнями, тогда не было. Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично и от них требовалось строго соблюдение формы.
Древняя Москва только скользнула по мне. Кремль, соборы, Чудов монастырь, Грановитая палата — все это быстро промелькнуло предо мною, но без старины Москва показалась бы только огромным губернским городом, не больше. Что-то таинственное и величавое осталось в памяти, и в этой рамке поездка в Москву получила еще большее значение в моей только что открывающейся юношеской жизни.
С этим совпало и мое свидание с сестрой после такой разлуки. Моему долгому одиночеству настал конец. Молодое существо стало рядом со мною, и я, хоть моложе ее, очутился как бы в ее руководителях.
И весь конец моего ученья, вплоть до студенчества, получил более светлый налет. Даже стало житься по-другому. В наш большой, строгий и почти безмолвный дом вошло молодое веселье. И постом мы танцевали.
С сестрой у меня сразу завязалась нежная дружба. Все мне было ново и близко в ее институтском прошлом. Шли бесконечные разговоры и рассказы. В ней я не нашел того, что тогда соединяли с понятием «институтка», — той смешной наивности и еще менее наивничанья. Она была первое время скорее застенчива в большом обществе, но без всяких странностей специфического «монастырского» оттенка. Я мог по ней изучать, какими выпускали из столичного института девушек средних талантов и среднего прилежания. Она просидела безвыездно около девяти лет в стенах здания на Фонтанке. Их учили не по-нынешнему, но довольно старательно. Кроме языков и так называемых «русских» предметов — немного естественным наукам, довольно хорошо словесности, заставляли немало писать, развивали их музыкальные способности, приучали красиво танцевать. Читали французскую и немецкую литературу на этих языках и заставляли много учить классических отрывков.
«Идей» в теперешнем смысле они не имели, книжка не владела ими, да тогда и не было никаких «направлений» даже и у нас, гимназистов. Но они все же любили читать и, оставаясь затворницами, многое узнавали из тогдашней жизни. Куклами их назвать никак нельзя было. Про общество, свет, двор, молодых людей, дам, театр они знали гораздо больше, чем любая барышня в провинции, домашнего воспитания. В них не было ничего изломанного, нервного или озлобленного своим долгим институтским сидением взаперти.
Напротив! Они не задавались «вопросами», но зато были восприимчивы ко всем веяниям жизни, с большим фондом того, что составляет душевную норму. Как девицы, выезжающие в свет, они охотно танцевали, любили дружиться без излишнего кокетства, долго оставались с чистым воображением, не проявляли никаких сознательно хищнических инстинктов.
Из них весьма многие стали хорошими женами и очень приятными собеседницами, умели вести дружбу и с подругами и с мужчинами, были гораздо проще в своих требованиях, без особой страсти к туалетам, без того культа «вещей», то есть комфорта и разного обстановочного вздора, который захватывает теперь молодых женщин. О том, о чем теперь каждая барышня средней руки говорит как о самой банальной вещи, например о заграничных поездках, об игре на скачках, о водах и морских купаньях, о рулетке, — даже и не мечтали.
Не надо забывать, что тургеневские Лиза и Елена принадлежали как раз к этой генерации, то есть стали взрослыми девицами к половине 50-х годов.
Крепостным правом они особенно не возмущались, но и не выходили крепостницами и в обращении с прислугой привозили с собой очень гуманный и порядочный тон. Этого, конечно, не было бы, если б там, в стенах казенного заведения, поощрялись разные «вотчинные» замашки. Они не стремились к тому, что и тогда уже называлось «эмансипацией», и, читая романы Жорж Занд, не надевали на себя никаких заграничных личин во вкусе той или другой героини.
Думаю, что главное русло русской культурной жизни, когда время подошло к 60-м годам, было полно молодыми женщинами или зрелыми девушками этого именно этическо-социального типа. История показала, что они, как сестры, жены и потом матери двух поколений, не помешали русскому обществу идти вперед.
И тут будет уместно помянуть добрым словом всех тех женщин — замужних и девиц, которые участвовали и в нашем умственном и нравственном росте. Я лично отроком и юношей до университета много им обязан. В моей тетке (со стороны матери) я находил всегда чуткую душу, необычайно добрую, развитую, начитанную, с трогательной любовью к своей больной сестре, моей матери, и к брату Николаю, особенно с той минуты, как он был сослан в Сибирь по делу Петрашевского. Она одна могла бы служить ярким доказательством того, какие та эпоха доставляла личности. И она и мать моя хоть и выросли на рабовладельческих порядках, но никогда их не оправдывали. Гнет родительской власти не помешал им быть проникнутыми теплой сердечностью и в родственных связях, и ко всем, кто сближался с ними.
Мальчиком я долго был неразвязен и дик, в особенности при женщинах. Но во мне рано подметили влюбчивость и склонность к дружбе с взрослыми девицами. И те, кто умели приручить меня, охотно со мной беседовали и, может и не желая того, участвовали в моем воспитании.
У меня еще до университета, когда я уже подрос, было несколько приятельниц, старше меня на много лет. Они не довольствовались ролью конфиденток, которым я поверял свои сердечные тайны. Они давали мне книги, много рассказывали о себе и о своих впечатлениях, переписывались со мною подолгу; даже и позднее, когда я поступил в студенты.
Одна из них в особенности интересовала меня. Тут не обошлось и без некоторой влюбленности, но уже впоследствии; а сначала она меня привлекала своим умственным изяществом, даровитостью и блестящим разговором. Мы продолжали с ней дружбу и в Казани. И она была из институток, даже провинциальных, но из ряду вон.
Такая культурная гимнастика — как тогда говорили — «полировала» юношу и с таких ранних лет накопляла тот психический материал, который пригодился потом писателю.
Те месяцы, которые протекли между выпускным экзаменом и отъездом в Казань с правом поступить без экзамена, были полным расцветом молодой души. Все возраставшая любовь к сестре, свобода, права взрослого, мечты о студенчестве, приволье деревенского житья, все в той же Анкудиновке, дружба с умными милыми девушками, с оттенком тайной влюбленности, ночи в саду, музыка, бесконечные разговоры, где молодость души трепетно изливается и жаждет таких же излияний. Больше это уже не повторилось.
Деревня была заключительным аккордом всех этих «откровений бытия». Она не вызывала тогда в нас того, что она теперь может давать юноше горького и тяжелого.
Слова мои покажутся парадоксом… Тогда царило крепостничество, а теперь мужик вольный. Конечно! Но власть чувствовалась тогда всеми: и нами не меньше, чем мужиками. Это была цепь из разных степеней государственной, общественной и домашней иерархии.
Но то, что мы тогда видели на деревенском «порядке» и в полях, не гнело и не сокрушало так, как может гнесть и сокрушать теперь. Народ жил исправно, о голоде и нищенстве кругом не было слышно. Его не учили, не было ни школы, ни фельдшера, но одичалости, распутства, пропойства — ни малейшего. Барщина, конечно, но барщина — как и мы понимали — не «чересчурная». У всех хорошо обстроенные дворы, о «безлошадниках» и подумать было нельзя. Кабака ни одного верст на десять кругом.
«Крепость» только поднимала в нас чувство жалости и к крестьянам и к дворовым. Но повторяю: хищно-сословного и даже просто насмешливо-пренебрежительного взгляда на деревню, на мужиков, баб, ребятишек мы не имели никакого.
И во мне, и в сестре моей, и в наших приятельницах жило, напротив, всегдашнее ласковое чувство к девчатам, к мальчикам, к молодухам и старухам. Мы ходили в лес и поле с ребятами сбирать грибы, ягоды, цветы, не испытывая никакого брезгливо-дворянского чувства.
И сестра и я сохраняли интимную связь с нашими кормилицами и знали своих молочных братьев и сестер. И прямо от деревенских, и через дворовых мы узнавали множество вещей про деревенскую жизнь, помнили в лицо мужиков из дальних деревень, их прозвища, их родство с дворовыми.
Все это также послужило писателю. Он не сделался тенденциозным народником, но сохранил до старости неизменную связь с народом и убежден в том, что его быт, душа, общежительные формы достойны художнического изображения.
Только ни мы, ни вокруг нас никто, даже из самых развитых людей, никогда бы не подумал искать какого-то откровения в каких-нибудь «босяках», пропойцах и бродягах, якобы изображающих собою новый мир идей и упований.
Бродяги были и тогда, только мы их не видали. Босяков, в теперешнем смысле, кругом не было, да и не могло скопиться в таком количестве, как теперь. За все мое детство и юношеские годы в гимназии я никогда не слыхал, чтобы водились в городе с тридцатью тысячами жителей отщепенцы в нынешнем вкусе, герои трущоб из «интеллигентного» класса, вперемежку с простонародьем. Пили и даже спивались, но ни класса, ни даже групп такого сорта положительно не водилось. Были чудаки, полоумные или юродивые, вроде Миши Бидарева, который ходил по морозу босиком в длинной рубашке. Было, конечно, профессиональное нищенство, но «босяка» не было в нынешнем смысле, и диким представилось бы нам, искавшим также идеалов, возводить алкоголиков, контрабандистов, простых воришек или бездомных бродяг в особый класс носителей социальной правды!
Бурлаков мы знали и жалели их за тяжелую службу, когда все на Волге еще двигалось «лямкой» и пароходы бегали по ней всего каких-нибудь три-четыре года, но и бурлак был «крестьянин», наш мужичок из приволжских оброчных деревень. На нем не лежало никакого босяческого клейма. «Бурлаки» Репина еще не сложились тогда. Они были еще не сбродом, а более или менее исправными крестьянами с дешевым и тяжелым заработком.
Без всякого сословного высокомерия мы не могли бы тогда признать за «босяками» какой-то особой прерогативы, потому что мы уже воспитывали в себе высокое почтение к знанию, таланту, личным достоинствам. Любой товарищ по гимназии — сын мещанина из вольноотпущенных — становился в наших глазах не только равным, но и выше нас потому, что он отлично учится, умен, ловок, хороший товарищ. А превратись он в «босяка», мы бы от этого одного не преисполнились к нему никогда особенным сочувствием или почтением.
Перед тем как меня снаряжали в студенты, я прощался с моим родным городом, когда мы вернулись из деревни к августу, к ярмарочному времени. И весной, когда я гулял с сестрой по набережной и нашему «Откосу», и теперь на прощанье я подолгу стаивал на вышке, откуда видно все Заволжье, и часть ярмарки, и Печерский монастырь, и слева Егорьевская башня кремля.
Волга и нижегородская историческая старина, сохранившаяся в тамошнем кремле, заложили в душу будущего писателя чувство связи с родиной, ее живописными сторонами, ее тихой и истовой величавостью. Это сделалось само собою, без всяких особых «развиваний». Ни домашние, ни в гимназии учителя, ни гувернеры никогда не водили нас по древним урочищам Нижнего, его церквам и башням с целью разъяснять нам, укреплять патриотическое или художественное чувство к родной стороне. Это сложилось само собою.
Попадая в наш собор, особенно в его крипту, где лежат останки удельных князей нижегородских, я еще мальчиком читал их имена на могильных плитах, и воображение рисовало какие-то образы. Спрашивалось, бывало, у самого себя: а каков он был видом, вот этот князь, по прозвищу «Брюхатый», или вон тот, прозванный «Тугой лук»?
Имена Минина и Пожарского всегда шевелили в душе что-то особенное. Но на них, к сожалению, был оттенок чего-то официального, «казенного», как мы и тогда уже говорили. Наш учитель рисования и чистописания, по прозванию «Трошка», написал их портреты, висевшие в библиотеке. И Минин у него вышел почти на одно лицо с князем Пожарским.
И староцерковное и гражданское зодчество привлекало: одна из кремлевских церквей, с царской вышкой в виде узкого балкончика, соборная колокольня, «Строгановская» церковь на Нижнебазарской улице, единственный каменный дом конца XVII столетия на Почайне, где останавливался Петр Великий, все башни и самые стены кремля, его великолепное положение на холмах, как ни у одной старой крепости в Европе. Мы все знали, что строил его итальянский зодчий по имени Марк Фрязин. И эта связь с Италией Возрождения, еще не сознаваемая нами, смутно чувствовалась. Понятно было бы и нам, что только тогдашний европеец, земляк Микеланджело, Браманте и других великих «фряжских» зодчих, мог задумать и выполнить такое сооружение.
Башни были все к тому времени обезображены крышами, которыми отсекли старинные украшения. Нам тогда об этом никто не рассказывал. Хорошо и то, что учитель рисования водил тех, кто получше рисует, снимать с натуры кремль и церкви в городе и Печерском монастыре.
Все, что у меня есть в «Василии Теркине» в этом направлении, вынесено еще из детства. Я его делаю уроженцем приволжского села, бывшего княжеского «стола» вроде села Городец, куда я попал уже больше сорока лет спустя, когда задумывал этот роман.
Многие особенности своего и общепсихического и писательского склада я объясняю тем, что родился в нагорной местности. Нижний по положению — исключительный город. Он не только стоит так высоко, как ни один приречный город в Европе из мне известных, не исключая Парижа, Пешта, Белграда и Гейдельберга; но и весь изрыт балками, ущельями, крутыми подъемами и спусками.
С детства «Гребешок» был для нас, мальчиков, любимейшим пунктом прогулок. Туда сладко было «закатиться», особенно тайком, без гувернерского надзора. Это — вышка над самым ярмарочным мостом, известная всем, кто побывал «у Макария». Теперь все это опошлилось увеселительным заведением и подъем совершается по трапу; а тогда это было настоящее восхождение, вроде как на Альпы — для детской фантазии. Путь лежал от нас с Покровки по Лыковой дамбе мимо церкви Жен-Мироносиц, потом опять кверху, мимо церквей Вознесения и Похвалы Богородицы, и, оставляя вправо спуск по Похвалинскому съезду, а слева балки, где. стояли деревянные жандармские казармы, вы по переулочкам попадали к тому «взлобью», которое и был «Гребешок», где потом при губернаторе Муравьеве (бывшем декабристе) водрузили довольно-таки безобразную башню.
В нашу кровь и западало что-то горное: любовь к крутизнам и высоким подъемам, к оврагам, густо заросшим лопухом и крапивой, которые наше воображение превращало в целые леса, к отвесным почти «откосам», где карабкались козы — белые и темношерстные: истое нижегородское животное, кормилица мелкого люда. Коз мы любили особенной какой-то любовью, и когда я в Неаполе в 1870 году увидал их в таком количестве, таких умных и прирученных, я испытывал точно встречу с чем-то родным.
Надо было все это бросить и ехать в Казань. И грустно и сладко было. Меня проводили на пароход, первый пароход, на какой я вступал и пускался в путь, не по одной только Волге, а в долгую дорогу ученья — в аудитории и в жизни, у себя и в чужих землях.
В Казань я поторопился. Явившись к ректору — астроному Симонову, я получил от него разрешение вернуться на весь август месяц. Я был принят и мог дома «достраивать» себе студенческую форму и кутнуть на ярмарке.
Но кутнуть не пришлось: хозяйничала холера. И я заболел, хотя и легкой формой: «холериной», как тогда называли.
И тут окончательно я выбрал себе не просто факультет, а «разряд», о котором в гимназии не имел понятия. Моя мать, узнав, что я подал прошение о поступлении в «камералисты», почему-то не была довольна, видя в этом неодобрительную изменчивость. Хотел быть юристом, а попал на какие-то «камералы», о которых у нас дома никто, кажется, не имел вполне ясного представления.
А этот скорый выбор сослужил мне службу, и немалую. Благодаря энциклопедической программе камерального разряда, где преподавали, кроме чисто юридических наук, химию, ботанику, технологию, сельское хозяйство, я получил вкус к естествознанию и незаметно прошел в течение восьми лет, в двух и даже трех университетах, полный цикл университетского знания по целым трем факультетам с их разрядами.
Весьма вероятно, что поступи я в «юристы» — это повело бы меня на службу, о чем мечтали и мои домашние, и не позволило бы так долго и по такой обширной программе умственно развивать себя.
Какие же выводы можно сделать из того преддверия в жизнь, через какое прошел будущий «бытописатель» русского общества?
Может, кому и не особенно понравятся эти выводы, но я не могу их не привести здесь.
Без той общей культурности, в воздухе которой я рос и воспитывался, нельзя было получить известных предрасположений, помимо вопроса о личной даровитости.
Тогдашний николаевский Нижний, домашний быт, гимназия, товарищи, гувернеры, общество, его вкусы и общежительность, театр, музыка, общий тон дали более положительных, чем отрицательных результатов.
Гнет правительственных порядков, крепостного права и домашних строгостей скорее помогал нарождению в нас освободительных чувств и настроений.
Закорузло-сословных, хищнических и развращающих навыков и замашек мы не вынесли, по крайней мере, лучшие из нас.
Идея науки, обаяние университета, мечта о высшем образовании наполняли многих из нас. Теперешнего карьеризма и жуирства, в самых юных экземплярах, мы не знали.
Разночинский быт, деревня, дворня, поля, лес, мужики, даже барские забавы, вроде, например, псовой охоты (см. рассказ мой «Псарня»), воспитали во мне лично то сочувственное отношение к родной почве, без которого не сложился бы писатель-художник.
Наконец, прошлое родного края, исторические памятники, Волга, ее берега, живительный воздух ее высот и урочищ поддерживали особые настроения, опять-таки в высокой степени благоприятные для нарождения будущего писателя.
Глава вторая
Казань в 50-х годах — Университет — Начальство — Инспектор Ланге — Полицейский надзор — Камеральный разряд — Профессор Иванов — Любимые профессора: Аристов, Мейер, Бутлеров, Киттары — Словесники — Григорович — Медицинский факультет — Жизнь вне университета — Материальные условия — Светский мир Казани — Губернаторша — Литературность общества — Музыкальное любительство — Мой товарищ М. Балакирев — Театр — Милославский, Ал. Стрелкова, Шмидгоф — Начало Крымской войны — Настроение общества — Дух студенчества — Казенные студенты — Начитанность в первые годы студенчества — Поворот к точной науке на втором курсе — Химия — Нравы студентов — Мечта о Дерпте — Переход туда на третьем курсе — Проф. Бабст — Бутлеров в лаборатории — Без любовных увлечений — Смерть Николая I — На вакациях — Поездка на долгих — Тамбовская усадьба — Липецкие воды — Дворовые и крестьяне — Дедовская библиотека — Дальнейшее знакомство с бытовой жизнью — Вторая летняя вакация — Ополчение 1855 года — В Нижнем — Зимой и летом — Писатель Даль — Переезд в Дерпт
Два с лишком года моего казанского студенчества для будущего писателя не прошли даром; но больше в виде школы жизни, чем в прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали бы литературно-художественные интересы.
Вся вторая треть романа «В путь-дорогу» (книга третья и четвертая) полна моих личных испытаний и очерков студенческого быта; но автобиографический характер и в первой трети, и в этой (так же, как и в последней трети) значительно изменен. Герой его, гимназист, а потом студент Телепнев — иначе провел свое детство и отрочество; его первая любовь, в гимназии, и его светская интрига в Казани созданы автором. Но почти все остальное, что есть в этой казанской трети романа, извлечено было из личных воспоминаний, и, в общем, ход развития героя сходен с тем, через что и я проходил.
Казань как город, как пункт тогдашней культурной жизни приволжского края, уже не могла быть для меня чем-нибудь внушительным, невиданным. Поездка в Москву дала мне запас впечатлений, после которых большой губернский город показался мне таким же Нижним, побойчее, пообширнее, но все-таки провинцией.
Положение города на реке менее красиво; крепость по живописности хуже нашего кремля; историческая татарская старина сводилась едва ли не к одной Сумбекиной башне. Только татарская часть города за рекой Булаком была своеобразнее. Но тогда и я, и большинство моих товарищей не приобрели еще вкуса к этнографии. Это не пошло дальше двух-трех прогулок по тем улицам, где скучилось татарское население, где были их школы и мечети, лавки, бани.
Привлекал университет, и прежде всего потому, что он для нас являлся символом нашего освобождения от запретов и зависимости жизни «малолетков», от унизительного положения школьников, от домашнего надзора, хотя в последнее полугодие я и дома состоял уже почти что на правах взрослого.
Университет — главный корпус и здания на дворе с памятником Державину в тогдашнем античном стиле — все-таки имел в себе что-то, не похожее на нашу гимназию. От него «пахло» наукой, а от аудиторий мы ждали еще неиспытанных умственных услад.
Но сразу после поступления, когда мы облеклись в желанную форму, с треугольной шляпой и шпагой, встал перед нами полицейский надзор в виде власти инспектора, тогда вершителя судеб студенчества не только казенного но и своекоштного — две довольно резкие категории, на какие оно тогда разделялось.
Нас уже пугали старые студенты из земляков этим «всесильным Василием Иванычем», прозванным давно хлестаковской кличкой Земляники и даже «кувшинным рылом». До представления инспектору мы уже ходили заводить знакомство с его унтером и посыльным «Демкой» — вестником радостей и бед. Он приносил повестки на денежные пакеты, и он же требовал к «ишпектору», что весьма часто грозило крупной неприятностью. Карцер тогда постоянно действовал, и плохая отметка в поведении могла вам испортить всю вашу студенческую карьеру.
Ректора никто не боялся. Он никогда не показывался в аудиториях, ничего сам не читал, являлся только в церковь и на экзамены. Как известный астроном, Симонов считался как бы украшением города Казани рядом с чудаком, уже выживавшим из ума, — помощником попечителя Лобачевским, большой математической величиной.
Попечитель произнес нам речь вроде той, какую Телепнев выслушал со всеми новичками в актовой зале. Генерал Молоствов был, кажется, добрейший старичок, любитель музыки, приятный собеседник и пользовался репутацией усердного служителя Вакха. Тогда, в гостиных, где французили, обыкновенно выражались о таких вивёрах: «il leve souvent le coude» (он часто закладывает за галстук).
От всего этого начальства не исходило на нас никакого обаяния. Это было нечто вроде наших гимназических властей, только повыше рангом. Отношение в студенчестве ко всем этим лицам было насмешливое, вовсе не почтительное, разумеется, про себя; к инспектору так и прямо враждебное.
Но я не знаю, был ли этот обер-полициант так уже антипатичен, если посмотреть на него с «исторической» точки зрения, взяв в расчет тогдашний «дух» в начале 50-х годов, то есть в период все той же реакции, тянувшейся с 1848 года.
Грозный «Василий Иваныч» (по фамилии Ланге) смахивал на чиновника, какими тогдашние губернские города были полны: вицмундирная пара, при узких брюках, орден на шее, туго накрахмаленная манишка, прическа с височками рыжеватого парика, бритое, начальническое лицо и внушительный тон в нос без явного немецкого акцента, но с какой-то особой «оттяжкой». Он был из военных, перешедших в гражданскую службу, кажется, из какого-то специального рода оружия, сапер или военных инженеров. Оставаясь в лютеранской вере, стоял неизменно впереди студентов в церкви на всех службах; и когда успевал посещать кирку — мы не знали. Нельзя сказать, чтобы он возмущал грубостью; больше вызывал он неприязнь своей чиновничьей выправкой и нежеланием снизойти до более мягких и доступных приемов. Строгости касались ношения формы, хождения к обедне, надзора в театрах, посещения трактиров.
Но известно было, что он с казенными обходился мягче, заглядывал запросто в столовую, выслушивал их просьбы, доставлял им и удовольствия, вроде даровых посещений концертов.
В сущности, инспекторский надзор с его «субами», которых в грош не ставили, не проникал в глубь студенческой жизни. Домашнего соглядатайства не было, и под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы — пьянство, буйство, половая распущенность, И посещение лекций не состояло ни под чьим контролем. Были круглые лентяи, по полугодиям не ходившие на лекции, никаких записываний субами не водилось, ни перекличек, ни отметок, какие производили так недавно «педеля». О педелях никто не имел и понятия, разве по рассказам о дерптских порядках, откуда их, в другие времена, и заимствовали.
Поступив на «камеральный» разряд, я стал ходить на одни и те же лекции с юристами первого курса в общие аудитории; а на специально камеральные лекции, по естественным наукам, — в аудитории, где помещались музеи, и в лабораторию, которая до сих пор еще в том же надворном здании, весьма запущенном, как и весь университет, судя по тому, как я нашел его здания летом 1882 года, почти тридцать лет спустя.
Одна из профессорских фигур, которая сразу заинтересовала меня своей внешностью, была фигура худощавого брюнета, в черном пальто и высокой шляпе с трауром. Он поднимался с площадки наверх, где помещалось правление.
— Это Мейер! — назвал мне кто-то с особым выражением.
Знаменитого цивилиста мне не привелось слушать ни на первом, ни на втором курсе: гражданского права нам, камералистам, не читали. Позднее он перешел в Петербургский университет, где и сделался его украшением.
Он худощавым лицом нервного брюнета и всем своим душевным складом и тоном выделялся, как оригинальная и тонкая личность. Мы, «камералы», знали, что он нас не очень жалует, считая какими-то незаконными чадами юридического факультета. Юристы его побаивались и далеко не все хорошо усваивали себе его лекции. Он был требователен и всячески подтягивал своих слушателей, заставлял их читать специальные сочинения, звал к себе на беседы.
Для нас, новичков, первым номером был профессор русской истории Иванов, родом мой земляк, нижегородец, сын сельского попа из окрестностей Нижнего. В его аудитории, самой обширной, собирались слушатели целых трех разрядов и двух факультетов.
Как и герой романа «В путь-дорогу», я впервые услыхал его зычный возглас «Милостивые государи!», который так ласкал наш слух сознанием, что мы не мальчишки, а взрослые слушатели, которым надо говорить «милостивые государи!»
Чисто камеральных профессоров на первом курсе значилось всего двое: ботаник и химик. Ботаник Пель, по специальности агроном, всего только с кандидатским дипломом, оказался жалким лектором, и мы стали ходить к нему по очереди, чтобы аудитория совсем не пустовала. Химик А. М. Бутлеров, тогда еще очень молодой, речистый, живой, сразу делал свой предмет интересным, и на второй год я стал у него работать в лаборатории.
Кроме Мейера у юристов, Аристова, читавшего анатомию медикам, и Киттары, профессора технологии, самого популярного у камералистов, никто не заставлял говорить о себе как о чем-то из ряду вон. Не о таком подъеме духа мечтали даже и мы, «камералы», когда попали в Казань.
Того обновления, о каком любили вспоминать люди 40-х годов, слушавшие в Москве Грановского и его сверстников, мы не испытывали. Разумеется, это было ново после гимназии; мы слушали лекции, а «не заучивали только параграфы учебников; но университет не захватывал, да и свободного времени у нас на первом курсе было слишком много. Вряд ли среди нас и на других факультетах водились юноши с совершенно определенными, высшими запросами. Лучшие тогдашние студенты все-таки были не больше, как старательные ученики, редко шедшие дальше записывания лекций и чтения тех скудных пособий, какие тогда существовали на русском языке.
По некоторым наукам, например хотя бы по химии, вся литература пособий сводилась к учебникам Гессе и француза Реньо, и то только по неорганической химии. Языки знал один на тридцать человек, да и то вряд ли. Того, что теперь называют «семинариями», писания рефератов и прений, и в заводе не было.
Созывали нас на первом курсе слушать сочинения, которые писались на разные темы под руководством адъюнкта словесности, добродушнейшего слависта Ровинского. Эти обязательные упражнения как-то не привились. Во мне, считавшемся в гимназии «сочинителем», эти литературные сборища не вызвали особенного интереса. У меня не явилось ни малейшей охоты что-нибудь написать самому или обратиться за советом к Ровинскому.
Вообще, словесные науки стояли от нас в стороне. Посещать чужие лекции считалось неловким, да никто из профессоров и не привлекал. Самый речистый и интересный был все-таки Иванов, который читал нам обязательный предмет, и целых два года. Ему многие, и не словесники, обязаны порядочными сведениями по историографии. Он прочел нам целый курс «пропедевтики» с критическим разбором неписьменных и письменных источников.
О профессор словесности Буличе мы не имели никакого ясного представления. Филологи-классики, профессора восточных языков — все это входило в область каких-то более или менее «ископаемых». Исключение делали для известного в то время слависта В. И. Григоровича, и то больше потому, что он пользовался репутацией чудака и вся Казань рассказывала анекдоты о его феноменальной рассеянности. А адъюнкт всеобщей истории Славянский, которого звали все «Мишенька», приобрел популярность своей ленью, кутежами и беспорядочным ухарством, с каким он читал лекции, когда являлся в аудиторию.
Два-три немца, профессора римского и уголовного права и зоологии, были предметами потешных россказней, которые мы получили в наследство от старых студентов.
Нисколько не анекдот то, что Камбек, профессор римского права, коверкал русские слова, попадая на скандальные созвучия, а Фогель лекцию о неумышленных убийствах с смехотворным акцентом неизменно начинал такой тирадой: «Ешели кдо-то фистрэляет на бупличном месте з пулею и упьет трухаго».
У медиков я бывал на разных лекциях, посещал и товарищей в клинике. Там все было построже — по учению, экзаменам и практическим работам. Очень любимый и требовательный преподаватель анатомии Аристов действительно владел мастерским описательным языком, и считалось как-то унизительным пропустить хоть одну его лекцию. В клинике местной славой окружен был хирург Елачич, читавший еще по-латыни. Но физиология была в жалком положении, без кабинета, опытов и вивисекций. Иностранец Берви, как рассказывали тогда сами медики, кровообращение объяснял на собственном носовом платке, а профессор терапии Линдгрэн был заведомый гомеопат.
Не хочу здесь повторяться. «В путь-дорогу» во второй трети содержит достаточно штрихов, портретов и картин, взятых живьем, может быть в несколько обличительном тоне, но без умышленных преувеличений.
Моя жизнь вне университета проходила по материальной обстановке совсем не так, как у Телепнева. Мне пришлось сесть на содержание в тысячу рублей ассигнациями, как тогда еще считали наши старики, что составляло неполных триста рублей, — весьма скудная студенческая стипендия в настоящее время; да и тогда это было очень в обрез, хотя слушание лекций и стоило всего сорок рублей.
Со мной отпустили «человека», чего я совсем не добивался, и он стоил целую треть моего содержания. Жили мы втроем в маленькой квартирке из двух комнат в знаменитой «Акчуринской казарме», двор которой был очень похож по своей обстановке на тот, где проживали у М. Горького его супруги Орловы.
Переход был довольно-таки резкий из барского дома, где нас, правда, не приучали ни к какой роскоши, но где все-таки значилось до сорока человек дворни и до двадцати лошадей на конюшнях.
Но я не помню, чтобы такое житье на двадцать рублей в месяц вызывало во мне чувство недовольства, болезненно подавляло или питало нездоровый, тщеславный стыд.
Да и вообще в то время нигде, ни в каком университете, где я побывал — ни в Казани, ни в Дерпте, ни в Петербурге — не водилось почти того, что теперь стало неизбежной принадлежностью студенческого быта, жизни на благотворительные сборы. Нам и в голову не приходило, что мы потому только, что мы учимся, имеем как бы какое-то право требовать от общества материальной поддержки.
И в наше время было много бедняков. Казенных держали недурно, им жилось куда лучше доброй половины своекоштных, которые и тогда освобождались от платы, пользовались некоторыми стипендиями (например, сибиряки), получали от казны даровой обед и даже даровую баню. Но, повторяю, ни в обществе, ни в среде студентов не сложился еще взгляд, по которому одно только звание студента дает как бы привилегию на государственную или общественную поддержку. Мы должны были довольствоваться очень скудной едой. В Дерпте, два года спустя, она стала еще скуднее, и целую зиму мы с товарищем не могли тратить на обед больше четырех рублей на двоих в месяц, а мой «раб» ел гораздо лучше нас.
И с таким-то скудным содержанием я в первую же зиму стал бывать в казанских гостиных. Мундир позволял играть роль молодого человека; на извозчика не из чего было много тратить, а танцевать в чистых замшевых перчатках стоило недорого, потому что они мылись. В лучшие дома тогдашнего чисто дворянского общества меня вводило семейство Г-н, где с умной девушкой, старшей дочерью, у меня установился довольно невинный флирт. Были и другие рекомендации из Нижнего.
Тогда Казань славилась тем, что в «общество» не попадали даже и крупные чиновники, если их не считали «из того же круга». Самые родовитые и богатые дома перероднились между собою, много принимали, давали балы и вечера. Танцевал я в первую зиму, конечно, больше, чем сидел за лекциями или серьезными книгами.
Такой светский искус я считаю положительно полезным. Он отвлекал от многих грязных увлечений студенчества. Юноша «полировался», а это совсем не плохо. И тут женщины — замужние дамы и девицы — продолжали свое воспитательное влияние. Нетребовательность и сравнительная дешевизна позволяли бывать всюду, в самых богатых и блестящих домах, не делая долгов, не выходя из своего бюджета в тысячу рублей ассигнациями.
Жили в Казани и шумно и привольно, но по части высшей «интеллигенции» было скудно. Даже в Нижнем нашлось несколько писателей за мои гимназические годы; а в тогдашнем казанском обществе я не помню ни одного интересного мужчины с литературным именем или с репутацией особенного ума, начитанности. Профессора в тамошнем свете появлялись очень редко, и едва ли не одного только И. К. Бабста встречал я в светских домах до перехода его в Москву.
Не помню, чтобы водился тогда в Казани хоть один профессиональный писатель, даже из маленьких. В Нижнем как-никак все-таки служил Авдеев; Мельников уже начинал свою карьеру беллетриста в «Москвитянине». В Казани не было даже и местного поэтика. По крайней мере в тогдашнем монде мне не приводилось встретить ни единого.
Этот монд, как я сказал выше, был почти исключительно дворянский. И чиновники, бывавшие в «обществе», принадлежали к местному дворянству. Даже вице-губернатор был «не из общества», и разные советники правления и палат. Зато одного из частных приставов, в тогдашней форме гоголевского городничего, принимали — и его, и жену, и дочь — потому что он был из дворян и помещик.
Губернатором все время при мне оставался И. А. Баратынский, брат поэта, женатый на Абамелек, той красавице, которой Пушкин написал прелестный мадригал: «Когда-то помню» и т. д.
Тогда она уже повернула за роковой для красавицы предел сорокалетия, но все еще считалась красавицей, держала себя на своих приемах с большими «тонами» и принимала «в перчатках», о чем говорили в городе; даже ее кресло стояло в гостиной на некотором возвышении. Старушкой, лет через тридцать, она жила в Бадене, и я увидал в ней какую-то Наину из «Руслана и Людмилы». Тогда она сделалась литературной дамой и переводила русские стихи по-английски; но губернаторшей никаких у себя вечеров с литературными чтениями и даже с музыкой в те годы не устраивала.
Литературу в казанском монде представляла собою одна только М. Ф. Ростовская (по казанскому произношению Растовская), сестра Львова, автора «Боже, царя храни», и другого генерала, бывшего тогда в Казани начальником жандармского округа. Вся ее известность основывалась на каких-то повестушках, которыми никто из нас не интересовался. По положению она была только жена директора первой гимназии (где когда-то учился Державин); ее муж принадлежал к «обществу», да и по братьям она была из петербургского света.
Она и начальница института Загоскина считались самыми блестящими собеседницами. Начальница принимала у себя всю светскую Казань, и ее гостиная по тону стояла почти на одном ранге с губернаторской.
У ней, у Ростовских, у Львовых и у Молоствовых любили музыку, и мой товарищ по нижегородской гимназии Милий Балакирев (на вторую зиму мы жили с ним в одной квартире) сразу пошел очень ходко в казанском обществе, получил уроки, много играл в гостиных и сделался до переезда своего в Петербург местным виртуозом и композитором.
Наши товарищеские отношения с Балакиревым закрепились именно здесь, в Казани. Не помню, почему он не поступил в студенты (на что имел право, так как кончил курс в нижегородском Александровском институте), а зачислился в вольные слушатели по математическому разряду. Он сначала довольно усердно посещал лекции, но дальше второго курса не пошел, отдавшись своему музыкальному призванию.
Балакирев остался истым нижегородцем, больше многих из нас, и Нижнему он обязан своей первоначальной музыкальной выучкой. Тот барин — биограф Моцарта, А. В. Улыбышев, о котором я говорил в первой главе, — оценил его дарование, и в его доме он, еще в Нижнем, попал в воздух настоящей музыкальности, слышал его воспоминания, оценки, участвовал годами во всем, что в этом доме исполнялось по камерной и симфонической музыке. Улыбышев как раз перед нашим поступлением в Казань писал свой критический этюд о Бетховене (где оценивал его, как безусловный поклонник Моцарта, то есть по-старинному), а для этого он прослушивал у себя на дому симфонии Бетховена, которые исполняли ему театральные музыканты.
Балакирев в Нижнем покончил уже свою выучку пианиста. Кроме москвича Дюбюка, его учителем был некий Эйзерих, застрявший в провинциальных пианистах. В Казани ему не у кого было учиться, и в Петербург он уехал готовым музыкантом и как виртуоз, и как начинающий композитор. Пианисты, какие наезжали в Казань — Сеймур Шифф и Антон Контский, — обходились с ним уже как с молодым коллегой. Контский заезжал и к нам, в нашу студенческую квартирку; но в ученики, как к виртуозу, Балакирев к нему не поступил. В своих первых композиторских попытках мой земляк был предоставлен самому себе. Систематически учиться теории музыки или истории ее было не у кого. Ни о каких высших курсах или консерваториях тогда и в столицах никто еще не думал, а тем менее в провинции.
Музицировали в казанском свете больше, чем в Нижнем; но все-таки там не нашлось ни одного такого музыкального дома, как дом Улыбышева. За Балакиревым всего больше ухаживали у начальницы института, у Молоствова (попечителя), Ростовских, Львовых. Меня он туда не возил. Общая наша светская гостиная была только у Загоскиной. Серьезного кружка любителей музыки с постоянными вечерами я тоже что-то не помню. Не думаю, чтобы значился там и такой хороший педагог, как нижегородский Эйзерих — учитель Балакирева. В университете состоял на службе немец Мунк. Под руководством его шли квартетные вечера, в которых и я участвовал — в первую зиму. Но к скрипке я стал охладевать, а к переезду в Дерпт и совсем ее оставил, видя, что виртуоза из меня не выйдет.
Но все-таки меня с Балакиревым связывал мой — хоть и чисто любительский — интерес к музыке. Он постоянно делился со мною своими вкусами, оценками и замыслами, какие начинали уже приходить ему. Помню и те две композиции, какие он написал в Казани: фантазию на мотивы из какой-то оперы (в тогдашнем модном стиле таких транскрипций) и опыт квартета, который он начал писать без всякого руководительства. Не помню, чтобы у него были какие-нибудь учебники по теории музыки, оркестровке или гармонии. Русских учебников не существовало; а немецкий язык он знал недостаточно. Кажется, в Казани стал он выступать и в концертах. Но вообще хорошей музыки симфонического характера тогда и совсем нельзя было слышать в концертах. Наезжали знаменитости-виртуозы. Особую сенсацию, кроме Антона Контского, произвел его брат-скрипач, Аполлинарий. Мне потому особенно памятен его концерт, данный в городском театре, что я был оклеветан субом (по фамилии Ивановым) — якобы я производил шум; а дело сводилось к какому-то объяснению с казенными студентами, которых этот суб привел гурьбой в верхнюю галерею. Из-за этого обвинения инспектор посадил меня в карцер на целые сутки. Оправданий он не принимал против суба; а из казенных никто в пользу мою показаний не дал. Это случилось в первую зиму моего житья в Казани.
Театр играл довольно видную роль в жизни города: и студенчество, и средний класс (вплоть до богатых купцов-татар), и дворянское общество интересовались театром.
После нижегородской деревянной хоромины только что отстроенный казанский театр мог казаться даже роскошным. По фасаду он был красивее московского Малого и стоял на просторной площадке, невдалеке от нового же тогда дома Дворянского собрания. Если не ошибаюсь, он и теперь после пожара на том же месте.
Управлялся он городской дирекцией. Это отзывалось уже новыми порядками. Общий строй игры и постановки пьес для губернского города — совсем не плохие, никак не хуже (по тогдашнему времени), чем, например, частные театры Петербурга и Москвы и в конце XIX века, прикидывая их к уровню образцовых сцен, за исключением, конечно, Художественного театра.
Но я уже побывал в Москве, и то, что мне дал Малый театр, залегло в мои оценки, подняло мои требования. В труппе были такие силы, как Милославский, игравший в Нижнем не один сезон в те годы, когда я еще учился в гимназии, Виноградов (впоследствии петербургский актер), Владимиров, Дудкин (превратившийся в Петербурге в Озерова), Никитин; а в женском персонале: Таланова (наша Ханея), ее сестра Стрелкова (также из нашей нижегородской труппы), хорошенькая тогда Прокофьева, перешедшая потом в Александрийский театр вместе с Дудкиным.
Читатели романа «В путь-дорогу» знают, что публика разделялась тогда на «стрелкистов» и «прокофьистов», особенно студенчество.
Эти театральные клички могли служить и оценкой того, что каждый из лагерей представлял собою и в аудиториях, в университетской жизни. Поклонники первой драматической актрисы Стрелковой набирались из более развитых студентов, принадлежали к демократам. Много было в них и казенных. А «прокофьистами» считались франтики, которые и тогда водились, но в ограниченном числе. То же и в обществе, в зрителях партера и лож.
Мне как нижегородцу курьезно было найти в первой драматической актрисе — нашу «Сашеньку Стрелкову», меньшую сестру «Ханеи». Она росла за кулисами, вряд ли где-нибудь и чему-нибудь училась, кроме русской грамоты, и когда стала подрастать, то ее выпускали в дивертисменте танцевать качучу, а мы, гимназистами, всегда подтрунивали над ее толстыми ногами, бесцеремонно называя их (за глаза) «бревнами».
И она в два-три года так выровнялась, что держала первое амплуа, при наружности скорее некрасивой, плотной фигуре и неэффектном росте.
А Прокофьева брала лицом, голоском, бойкостью; но настоящего таланта не имела и кончила в Петербурге на водевильном амплуа.
Милославский считался тогда провинциальной знаменитостью. Я его видал и у моего дяди — театрала. Его принимали в нижегородском обществе, что тогда считалось редкостью, принимали больше потому, что он был отставной гусар, из дворянской балтийской фамилии. В Казани, как и в Нижнем, Милославский играл все, и в комедии, и в мелодраме, и в трагедии, от роли городничего до Гамлета и Ляпунова. Он состоял и главным распорядителем казанской сцены; репертуар давал разнообразный, разумеется с преобладанием переводных драм, выступая в таких пьесах, как «Эсмеральда», «Графиня Клара д'Обервиль», «Она помешана» и т. д. Тогда, как и теперь, провинция шла следом за столицами; что давалось в них, то повторяли и в губернских городах. Островский только что входил во вкусы публики, да всего одна его комедия и давалась к 1853 году: «Не в свои сани не садись». За новинками гнались и тогда. И в Казани я уже видел пьесу, состряпанную на подвиге того плотника, который спас танцовщицу в пожаре Большого театра, взобравшись на крышу. И этого плотника, прикрашенного по-театральному, играл все тот же первый сюжет Милославский.
Он дебютировал и в Москве и оставался там некоторое время на первом драматическом амплуа.
С тех пор, то есть с зим 1853–1855 годов, я его больше не видал, и он кончил свою жизнь провинциальным антрепренером на юге.
«Николай Карлович» (как его всегда звали в публике) был типичный продукт своего времени, талантливый дилетант, из тогдашних прожигателей жизни, с барским тоном и замашками; но комедиант в полном смысле, самоуверенный, берущийся за все, прекрасный исполнитель светских ролей (его в «Кречинском» ставили выше Самойлова и Шуйского), каратыгинской школы в трагедиях и мелодрамах, прибегавший к разным «штучкам» в мимических эффектах, рассказчик и бонмотист (острослов), не пренебрегавший и куплетами в дивертисментах, вроде:
Один мушик, одна жонушка был… Хорошенький, миленький — да!Я бы его сравнил с В. В. Самойловым. И по судьбе, по тону, по разносторонней талантливости, и, кажется, во чисто актерским свойствам и характеру жизни, они — одного поля; только у Самойлова даровитость была выше сортом.
Сохранилась у меня в памяти и его дикция, с каким-то не совсем русским, но, несомненно, барским акцентом. В обществе он бойко говорил по-французски. В Нижнем его принимали; но в Казани — в тамошнем монде, на вечерах или дневных приемах, — я его ни в одном доме не встречал.
Жил он с своей подругой Э. К. Шмидгоф, с которой когда-то приехал и в Нижний. Эта красивая полунемка-полуполька пела в московской опере и полегоньку превращалась и в актрису, сохранив навсегда польско-немецкий акцент. При ней состояла целая большая семья: отец-музыкант, сестра-танцовщица (в которую масса студентов были влюблены) и братья — с малолетства музыканты и актеры; жена одного из них, наша нижегородская театральная «воспитанница» Пиунова, сделалась провинциальной знаменитостью под именем «Пиуновой-Шмидгоф».
Это музыкальное семейство поддерживало в казанском театре и некоторый вокальный элемент. Давали «Аскольдову могилу» и одноактные комические оперы. Это началось еще с Нижнего, где для Эвелины поставили даже «Норму».
Театральное любительство водилось и в казанском свете; но не больше, чем в Нижнем. Были талантливые дилетанты, например тогдашний университетский «синдик» (член правления) Алферьев, хороший комик. Но я лично, выезжая в первую зиму, не находил ни в каких домах никакого особенного интереса к театру, к декламации, к чтению вслух, вообще к литературе. Увлекались только входившим тогда в моду столоверчением. Приезжие из Петербурга и Москвы рассказывали про Рашель, которую мне так и не привелось видеть ни в России, ни во Франции. Я попал за границу много лет спустя после ее смерти.
Но чего-нибудь литературного, лекций или сборищ в домах с чтением стихов или прозы, я положительно не припомню. Были публичные лекции в университете по механике (проф. Котельникова) и по другим предметам — и только. Да и вообще, в казанском светском, то есть дворянско-помещичьем, монде связь с университетом чувствовалась весьма мало. Этому нечего удивляться и теперь, судя по тому, что я находил в конце 90-х годов в таких университетских городах, как Харьков, Одесса и Киев. Барский, военный и чиновничий круг, населяющий в Киеве квартал Липки, весьма далек от университета и вообще интеллигенции, и в нем держится особый, сословно-бюрократический дух, скорее враждебный просветительным и передовым идеям, чем наоборот.
Наперечет были в тогдашней Казани помещики, которые водились с профессорами и сохранили некоторое дилетантство по части науки, почитывали книжки или заводили порядочные библиотеки.
Зато можно сказать про тогдашнюю Казань, что она оставалась свободной от военщины. Не стояло даже ни одного полка, ни пехотного, ни кавалерийского, тогда как теперь чуть не целая дивизия. Весь военный элемент сводился к гарнизону, к крепостному управлению, жандармерии, к персоналу адъютантов, из которых двое — один молодой, другой уже в майорском чине — сделались «притчей во языцех» своей франтоватостью. Студенты постоянно издевались над ними, разумеется за глаза, и про одного, майора, рассказывали, что он ходит с муфтой. Я его встречал в домах, видал и на улицах, но муфты не заметил.
К второй зиме разразилась уже Крымская война. Никакого патриотического одушевления я положительно не замечал в обществе. Получались «Северная пчела» и «Московские ведомости»; сообщались слухи; дамы рвали корпию — и только. Ни сестер милосердия, ни подписок. Там где-то дрались; но город продолжал жить все так же: пили, ели, играли в карты, ездили в театр, давали балы, амурились, сплетничали.
По амурной части казанский монд имел тогда особую репутацию, может быть и преувеличенную; весьма возможно, что та барыня, которая посвящала моего Телепнева в тайны галантной хроники, и не далека была от истины. Но я лично оставался далек от такого совсем не платонического флирта, выражаясь по-нынешнему. И тайные любовные интриги были у всех «на знати». Вы про них узнавали в первые же месяцы житья в Казани. Несколько «адультеров» сделались уже как бы освященными общественным мнением. Ходили слухи и о нравах, напоминающих библейские сказания, как, например, об одном отце-кровосмесителе. Разумеется, все это могло считаться и сплетнями; но странно, что такая репутация упорно держалась, и никто никогда против нее не протестовал. С дочерью этого патриарха мы, выезжавшие в свет, танцевали. Она долго не выходила замуж и отличалась манерами дамы, а не барышни.
Равнодушие к судьбам своего отечества, к тому, что делалось в Крыму, да и во время севастопольской осады, держалось и в студенчестве. Не помню никаких не то что уж массовых, а даже и кружковых проявлений патриотического чувства. Никто не шел добровольно на войну (а воинской повинности мы тогда не знали), кроме студентов-медиков, которым предлагали разные места и льготы. Четверокурсников усиленно готовили к выпуску и отправляли в армию и флот. Таких военных врачей, обновивших еще в Казани свою форму, я помню… Но и только.
В студенчестве совсем не было тогда духа, какой стал давать о себе знать позднее, к 60-м годам, в той же Казани, когда я уже переехал в Дерпт.
Причину нельзя искать только в том, что с новым царствованием пришли и новые порядки. И при самом суровом гнете могут крыться в массе вольнолюбивые стремления, которые только ждут случая, чтобы прорваться наружу.
Для этого нужно сначала почувствовать потребность в общем ладе, сознать свою солидарность с товарищами. Идея скопа, теперь преобладающая, тогда не западала еще в общее сознание. Никаких кружков, землячеств, собраний, сходок, и не потому только, что это было неосуществимо. Я уже говорил, что полицейский режим инспекции ограничивался внешним порядком и чиноначалием. Как мы жили у себя — ни инспектор, ни субы не знали. Шпионства что-то не водилось; стало быть, в известных пределах можно было сплачиваться, обсуждать свои интересы и готовиться к протестам. Все это позднее и явилось. В аудиториях мы свободно обо всем говорили. Суб обыкновенно сидел в профессорской комнате или ходил по коридору. Медики в клинике и анатомическом театре оставались и совсем без надзора суба.
Не назрел «дух» ни в общественном смысле, ни в чисто университетском. Общий полицейский режим мы терпели, как терпели его все: помещики, чиновники, военные, разночинцы. Принести из дому протестующие настроения мы не могли, там их не было. Профессора стояли от нас далеко, за исключением очень немногих. По-нынешнему, иные были бы сейчас же «бойкотированы», так они плохо читали; мы просто не ходили на их лекции; но шикать, или посылать депутации, или требовать, чтобы они перестали читать, это никому и в голову не приходило!
Случаев действительно возмущающего поведения, даже со стороны инспектора, я не помню. Профессора обращались с нами вежливо, а некоторые даже особенно ласково, как, например, тогдашний любимец Киттары, профессор-технолог, у которого все почти камералисты работали в лаборатории, выбирая темы для своих кандидатских диссертаций.
За все время моего казанского житья (полных два года) не вышло ни одного резкого столкновения студента с профессором, из-за которого по нынешнему времени было бы непременно волнение с обструкцией и прочими «оказательствами».
На экзаменах строгих профессоров боялись, но уважали. Самым строгим считался анатом Аристов, и никто бы не осмелился сделать ему «историю» за тройку вместо четверки.
Сколько я помню по рассказам студентов того времени, и в Москве и в Петербурге до конца 50-х годов было то же отсутствие общего духа. В Москве еще в 60-е годы студенты выносили то, что им профессор Н. И. Крылов говорил «ты» и язвил их на экзаменах своими семинарскими прибаутками до тех пор, пока нашелся один «восточный человек» из армян, который крикнул ему:
— Нэ смээшь говорить мне ты!..
Я еще застал нескольких студентов-поляков, которые были как бы на положении ссыльных. Те были куда развитее нас в этом смысле, но им следовало «держать ухо востро» более, чем кому-либо.
Казенные составляли «общежитие», по нынешнему выражению. У них возможнее был дух товарищества. Но я не помню, чтобы из «занимательных» (так тогда назывались их комнаты в верхнем этаже) исходил какой-нибудь почин в теперешнем смысле: протест или действие скопом, направленное против начальства, профессоров или кого-нибудь вне университета. Бывали заявления недовольства субом и, главное, экономом, отказ от плохой еды или что-нибудь в таком роде. Начальство допускало контроль самого студенчества над тем, как его кормили, и даже установило дежурство казенных по кухне.
В столовых, в бане, в танцевальной зале (тогда классами танцев могли пользоваться и своекоштные), в дортуарах удобно было бы толковать, уговариваться, собирать сходки. Наверх, в занимательные, начальство заглядывало редко. Комнаты, хоть и низкие, были просторные, длинный, довольно широкий коридор, дортуары также поместительные (в одном коридоре с музеями и аудиториями по естественным наукам), и там же уборная, где мы, камералы, обыкновенно собирались перед лекциями ботаники и сельского хозяйства.
Такая же малая инициатива была в студенчестве и по части устройства каких-нибудь вечеров, праздников, концертов. И не думаю, чтобы это происходило от боязни начальства, от уверенности, что не позволят. Более невинные удовольствия или устройство вечеров в пользу бедного товарища было бы возможно.
Единственный бал, данный студентами, был задуман во вторую зиму моего житья в Казани нами, то есть мною и двумя моими товарищами, занимавшимися химией в лаборатории у А. М. Бутлерова. Мысль эта пришла нам без выискиванья какого-нибудь особого предлога. Мы ее сообщили профессору Киттары, зная, какой он энергичный хлопотун и как готов всегда на всякий добрый совет и содействие. Мы даже и струхнули немного, когда пустили в ход эту «затею», боялись «провалиться». Но идея наша очень понравилась; весь город заинтересовался студенческим балом, и в несколько дней Киттары, взявший на себя главное распорядительство, все наладил, и бал вышел на славу.
На этом балу я справлял как бы поминки по моей прошлогодней «светской» жизни. С перехода во второй курс я быстро охладел к выездам и городским знакомствам, и практические занятия химией направили мой интерес в более серьезную сторону. Программа второго курса стала гораздо интереснее. Лекции, лаборатория брали больше времени. И тогда же я задумал переводить немецкий учебник химии Лемана.
Это и был, собственно, первый мой опыт переводного писательства, попавший в печать через три года, в 1857 году; но на первом курсе, насколько память не изменяет мне, я написал рассказ и отправил его не то в «Современник», не то в «Отечественные записки», и ответа никакого не получил.
Такая попытка показывает, что я после гимназической моей беллетристики все-таки мечтал о писательстве; но это не отражалось на моей тогдашней литературности. В первую зиму я читал мало, не следил даже за журналами так, как делал это в последних двух классах гимназии, не искал между товарищами людей более начитанных, не вел разговоров на чисто литературные темы. Правда, никто вокруг меня и не поощрял меня к этому.
Читал больше французские романы, и одно время довольно усердно Жорж Занда, и доставлял их девицам, моим приятельницам, прибегая к такому невинному приему: входя в гостиную, клал томик в тулью своей треуголки и как только удалялся с барышней в залу ходить (по тогдашней манере), то сейчас же и вручал запретную книжку.
Как я сказал выше, в казанском обществе я не встречал ни одного известного писателя и был весьма огорчен, когда кто-то из товарищей, вернувшись из театра, рассказывал, что видел И. А. Гончарова в креслах. Тогда автор «Обломова» (еще не появившегося в свет) возвращался из своего кругосветного путешествия через Сибирь, побывал на своей родине в Симбирске и останавливался на несколько дней в Казани.
«Обыкновенную историю» мы прочли еще гимназистами, и в начале 50-х годов, то есть в проезд Гончарова Казанью, его считали уже «знаменитостью». Она и тогда могла приобретаться одной повестью.
«Неофитом науки» я почувствовал себя к переходу на второй курс самобытно, без всякого влияния кого-нибудь из старших товарищей или однокурсников. Самым дельным из них был мой школьный товарищ Лебедев, тот заслуженный профессор Петербургского университета, который обратился ко мне с очень милым и теплым письмом в день празднования моего юбилея в Союзе писателей, 29 октября 1900 года. Он там остроумно говорит, как я, начав свое писательство еще в гимназии, изменил беллетристике, увлекшись ретортами и колбами.
Но с Лебедевым мы, хотя и земляки, видались только в аудиториях, а особенного приятельства не водили. Потребность более серьезного образования, на подкладке некоторой даже экзальтированной преданности идее точного знания, запала в мою если не душу, то голову спонтанно, говоря философским жаргоном. И я резко переменил весь свой habitus, все привычки, сделался почти домоседом и стал вести дневник с записями всего, что входило в мою умственную жизнь.
Это была первая по времени попытка самопроверки и выяснения того, куда шли мои, уже более серьезные, душевные потребности.
О казанском «свете», о флирте с барышнями и пикантных разговорах с замужними женщинами я не скучал. Время летело; днем — лекции и работа в лаборатории, после обеда чтение, перевод химии Лемана, разговоры и часто споры с ближайшими товарищами, изредка театр — никаких кутежей.
От попоек и посещения разных притонов и меня, и кое-кого из моих приятелей воздерживало инстинктивное чувство порядочности. Мы не строили фраз, не играли роль моралистов; а просто нас, на второй же год учения, совсем не тянуло в эту сторону.
А студенческая братия держалась в массе тех же нравов. Тут было гораздо больше грубости, чем испорченности; скука, лень, молодечество, доходившее часто до самых возмутительных выходок. Были такие обычаи, по части разврата, когда какая-нибудь пьяная компания дойдет до «зеленого змия», что я и теперь затрудняюсь рассказать дословно, что разумели, например, под циническими терминами — «хлюст» и «хлюстованье».
И это было. Я раз убежал от гнусной экзекуции, которой подвергались проститутки, попавшие в руки совсем озверевшей компании. И не помню, чтобы потом участники в такой экзекуции после похмелья каялись в том, а те, кто об этом слышал, особенно возмущались.
Но, к счастью, не вся же масса студенчества наполняла таким содержанием свои досуги. Пили много, и больше водку; буянили почти все, кто пил. Водились игрочишки и даже с «подмоченной» репутацией по части обыгрывания своих партнеров. И общий «дух» в деле вопросов чести был так слаб, что я не помню за два года ни одного случая, чтобы кто-либо из таких студентов, считавшихся подозрительными по части карт или пользования женщинами в звании альфонсов, был потребован к товарищескому суду.
Самая идея такого «суда» еще не зарождалась.
Но, как я говорю в заключительной главке одной из частей романа «В путь-дорогу», море водки далеко не всех поглотило, и из кутил, даже пьяниц, вышло немало дельных и хороших людей. Нашлись между ними и профессора, и адвокаты, и честные чиновники, прокуроры, члены судов. Иные достигли и высших званий. Недавно еще умер один судебный сановник, которого я помню форменным пьяницей и драчуном. Он даже из-за постоянного кутежа не кончил курса, но потом подтянул себя и пошел очень успешно по службе после введения новых судебных уставов.
Вернувшись с вакаций на третий курс, я стал уже думать о кандидатской диссертации. Перевод химии Лемана сильно двинулся вперед за летние месяцы. И не больше как через два месяца я решил свой переход в Дерптский университет.
Случилось это очень быстро, в каких-нибудь три-четыре недели.
О Дерпте, тамошних профессорах и студентской жизни мы знали немного. Кое-какие случайные рассказы и то, что осталось в памяти из повести графа Соллогуба «Аптекарша». Смутно мы знали, что там совсем другие порядки, что существуют корпорации, что ученье идет не так, как в Казани и других русских университетских городах. Но и только.
И вдруг в нашей квартирке, где я опять жил с нижегородцем-медиком 3-чем и юристом С. (Балакирева уже не было с нами), начались толки о Дерпте.
Вышло это так. Мой земляк, юрист С., стал ходить «к новому адъюнкту (по-нынешнему приват-доценту) Соколову, читавшему римское право. Он был послан для подготовки к магистерству в Дерпт, где пробыл два года и защитил там диссертацию. Вот он и рассказывал моему земляку о Дерпте в таком сочувственном тоне, что идея перейти туда запала, как искра, и, кажется, всего сильнее в меня. Сам С. от перехода в Дерпт воздержался; но медик З-ч (хотя и не знал по-немецки) был увлечен и привлек нашего четвертого сожителя, пензенца Зарина, камералиста, моложе меня курсом.
Не без борьбы обошелся для меня этот переворот. Но в ноябре мы втроем, на перекладной телеге, с моим «Личардой», Михаилом Мемноновым, на облучке, уже уехали по пути в Нижний.
В Казани мне было жаль расставаться с двумя профессорами, с Киттары и с моим наставником по химии А. М. Бутлеровым. Он нашел мой план хорошим и не выказал никакой обидчивости за то, что я менял его на дерптскую знаменитость Карла Шмидта, которого он, по репутации, конечно, знал. В Дерпте еще здравствовал его учитель профессор Клаус, долго читавший химию в Казани, а тогда профессор фармации. К нему Бутлеров дал мне рекомендательное письмо, едва ли не единственное, какое я повез в Ливонский край. Клаусом казанцы гордились. В их городе он нашел и отпрепарировал металл рутений из платиновых отбросков.
Киттары читал нам практическую механику, а с третьего курса — технологию, и читал занимательно, живо, разнообразно. Но мною овладело влечение к чистой науке. Технология уже казалась мне чем-то низменным, годным для управителей и фабричных нарядчиков. Я уже знал по рассказам адъюнкта Соколова, что в Дерпте можно изучать каждый предмет специально. Вы вступали на физико-математический факультет и выбирали себе главную науку. Я буду называться chemiae cultor, и этот титул казался очень привлекательным. Одно нас смущало: заставят, пожалуй, держать по-гречески, потому что там, у немцев, гимназии строго классические; а у нас в гимназическом аттестате значился только один латинский.
Из остальных профессоров по кафедрам политико-юридических наук пожалеть, в известной степени, можно было разве о И. К. Бабсте, которого вскоре после того перевели в Москву. Он знал меня лично, но после того, как еще на втором курсе задал мне перевод нескольких глав из политической экономии Ж. Батиста Сэя, не вызывал меня к себе, не давал книг и не спрашивал меня, что я читаю по его предмету. На экзамене поставил мне пять и всегда ласково здоровался со мною. Позднее я бывал у него и в Москве.
Читал он интересно, тихим голосом, без ораторских приемов, свободно, с изящной дикцией, по-московски, хотя и был москвич только по образованию, а родился в Риге. Как я заметил выше, Бабст едва ли не один посещал казанские светские гостиные.
С Бутлеровым у нас с двумя моими товарищами по работе, Венским и Х-ковым (он теперь губернский предводитель дворянства, единственный в своем роде, потому что вышел из купцов), сложились прекрасные отношения. Он любил поболтать с нами, говорил о замыслах своих работ, шутил, делился даже впечатлениями от прочитанных беллетристических произведений. В ту зиму он ездил в Москву сдавать экзамен на доктора химии (и физики, как тогда было обязательно) и часто повторял мне:
— Боборыкин, хотите поскорее быть магистром, не торопитесь жениться. Вот я женился слишком рано, и сколько лет не могу выдержать на доктора.
Он был среди тогдашних профессоров едва ли не единственный из местных помещиков с хорошими средствами и сам по себе, и по жене, урожденной Глумилиной, с братом которой он учился.
У него были повадки хозяина, любителя деревни, он давно стал страстным охотником, и сколько раз старик Фогель, смешной профессор уголовного права, заходил к нему в лабораторию условиться насчет дня и часа отправления на охоту. И с собаками Александра Михайловича мы были знакомы.
С лаборантом он всегда говорил по-немецки, также и с Фогелем, и говорил бойко, с хорошим акцентом.
Из нас троих, работавших у Бутлерова, меня он, сколько мне думается, считал самым верным идее науки, желанию идти дальше, не довольствоваться степенью кандидата камеральных наук, и он неспроста повторял мне, чтобы я не торопился жениться, если хочу вовремя быть магистром.
Но мысль о женитьбе буквально не приходила мне ни тогда, ни позднее, когда я уже стал весьма великовозрастным студентом. В наше время дико было представить себе женатого студента; и в Казани, и еще более в Дерпте, кутилы или зубрилы, все одинаково далеко стояли от брачных мыслей, смотрели на себя как на учащихся, а не как на обывателей в треуголках с голубым околышем.
И разговоров таких у нас никогда не заходило. Не скажу, чтобы и любовные увлечения играли большую роль в тогдашнем студенчестве, во время моего житья в Казани. Интриги имел кое-кто; а остальная братия держалась дешевых и довольно нечистоплотных сношений с женщинами. Вообще, сентиментального оттенка в чувствах к другому полу замечалось очень мало. О какой-нибудь роковой истории, вроде самоубийства одного или обоих возлюбленных, никогда и ни от кого я не слыхал.
В этом смысле мне решительно не с кем было прощаться, покидая Казань в ноябре 1855 года. Мы уезжали — трезвые, возбужденные не вином, а мечтами о новой жизни в «Ливонских Афинах», без всякого молодечества, с хорошим мозговым задором.
Покидали мы Казань уже на девятом месяце нового царствования. В порядках еще не чувствовалось тогда перемены. Новых освободительных веяний еще не носилось в воздухе. Когда я выправлял из правления свидетельство для перехода в Дерпт, ректором был ориенталист Ковалевский, поляк, очень порядочный человек. Но инспектор, все то же животное в ермолке, аттестовал меня только четверкой в поведении, и совершенно несправедливо.
А четверка считалась плохим баллом в поведении. И ее получил студент, который по своему образу жизни, особенно на втором курсе, мог считаться примерно благонравным. Но, вероятно, инспектор (как бывало и в гимназии) усмотрел в выражении моего лица и тоне недостаточно благонамеренный дух.
Мы принимали присягу после 19 февраля. Смерть Николая никого из нас не огорчила, но и никакого ликования я что-то не припомню. Надежд на новые порядки тоже не являлось и тогда, когда мы вернулись с вакаций. И в наших мечтах о Дерпте нас манили не более свободная в политическом смысле жизнь, даже не буршикозные вольности, а возможность учиться не как школьникам, а как настоящим питомцам науки.
Политическое чувство настолько еще дремало, что и такой оборот судьбы, как смерть Николая, не вызвал на первых порах никакого особенного душевного подъема.
Мои жизненные итоги увеличились не одним только студенчеством в Казани. Для будущего художника-бытописателя не прошли даром и впечатления житья на вакациях, в три приема, зимой и в два лета.
На первую зимнюю вакацию я в Нижний не ездил.
С отцом у меня только к университетским годам установилась родственная связь. Я рос вдали от него, видел его всего три раза до поступления в студенты: два раза в Нижнем и последний — в Москве. Но в доме деда, где я жил при матери, меня не воспитывали во враждебных к нему чувствах. Привязаться, однако, было трудно с такими многолетними паузами. В Казани мы и сблизились. Его желание съездить для свидания со мною зимой (восемьсот почти верст взад и вперед) тронуло меня, и когда я, вернувшись домой летом, собрался к отцу в его тамбовскую деревню, меня эта поездка очень привлекала. В Нижнем я не нашел того, что оставил. Сестра ушла из-под моего влияния. Прежней нежной дружбы я уже не нашел. А остальное кругом оставалось по-старому. В Анкудиновке опять праздновали день наших именин с дедом, 12 июня, большим съездом гостей из города; после обеда танцы, встреча с девушкой, с которой я флектировал зимой. Одно было уже по-новому: на меня смотрели как на молодого человека. Мать моя всего строже относилась ко мне и, кажется, подозревала в склонности к кутежу. Тем привольнее рисовалась передо мною поездка в усадьбу отца.
Это первое путешествие на своих (отец выслал за мною тарантас с тройкой), остановки, дорожные встречи, леса и поля, житье-бытье крестьян разных местностей по целым трем губерниям; а потом старинная усадьба, наши мужики с особым тамбовским говором, соседи, их нравы, долгие рассказы отца, его наблюдательность и юмор — все это залегало в память и впоследствии сказалось в том, с чем я выступил уже как писатель, решивший вопрос своего «призвания».
Тамбовские урочища, тамошняя помещичья и крестьянская жизнь навеяли комедию «Однодворец» и большую часть деревенских картин и подробностей в повествовательных вещах, в особенности в повести «В усадьбе и на порядке».
В первую же вакацию отец послал меня на Липецкие воды (в тридцати с небольшим верстах от нашего села Павловское) на тройке бурых повеселиться, ко дню ежегодного бала, 22 июля. Там я нашел большой дворянский съезд, сделал множество знакомств среди девиц и дам, которые и после Казани показались мне весьма бойкими и склонными к флирту. Приехал вновь тогда назначенный губернатор Данзас и на бале заговорил со мною, приняв меня за харьковского студента (у нас с харьковцами была одинаковая форма). Красовалась и крупная, породистая фигура красавца губернского предводителя князя Юрия Голицына, впоследствии очутившегося в Лондоне вроде полуэмигранта и кончившего карьеру начальником хора, предшественником Славянского. Тогда он носил камергерский ключ и держал себя как типичный барин-вивёр николаевского времени, мот и женолюб, способный на пылкие юношеские увлечения, будучи уже отцом семейства. Вся губерния гудела толками о его последнем увлечении девицей Колеминой, с которой он позднее и убежал за границу от жены и детей и прошел в Лондоне через всякие мытарства, вплоть до сидения в долговой тюрьме, откуда импресарио возил его в концертную залу и ссужал фраком с капельмейстерской палочкой, после чего его опять отвозили в «яму».
Тамбовский свет и в губернском городе и по усадьбам славился еще большей легкостью нравов, чем казанский. Но тон был такой же, та же жуирная жизнь, карты, добывание доходов правдами и неправдами, кутежи, франтовство, французская болтовня, у многих с грехом пополам, никаких общественных интересов. Среди липецких помещиков особо стоял некто К-н, учившийся в Париже медицине, богатый человек, женившийся позднее на француженке с неизвестным прошедшим, как все тогда говорили. Он лечил даром и соседей и крестьян, вел хозяйство с заграничными приемами; кроме хлебопашества, имел и свеклосахарный завод.
К быту крепостных крестьян я в оба приезда на вакации и впоследствии, в наезды из Дерпта, достаточно присматривался, ходил по избам, ездил на работы, много расспрашивал и старых дворовых, и старост, и баб. Когда дошел в Дерпте до пятого курса медицинского факультета, то лечил и мужиков и дворовых.
В усадьбе дворовых было не безобразно много: два-три лакея, повар, кучера и конюхи при конском заводе, столяр, стряпуха, ключница, псарь, коровница. Жилось им более чем сносно, гораздо привольнее, чем в доме деда в Нижнем, их одевали и кормили хорошо; а работа, разумеется, была весьма «с прохладцей». Два лакея ездили с отцом и на охоту.
Забот о школе для крестьян я не находил ни у нас, ни в соседних имениях. И лечили их как придется, крестьян — знахарки, а дворовых кое-когда доктор. Больниц — никаких. Словом, тогдашний крепостной быт. У государственных крестьян (их зовут там и до сих пор «однодворцами») водились школы и даже сберегательные кассы; но быт их не отличался от быта крепостных, и, в общем, они не считались зажиточнее.
Нельзя сказать, чтобы тогдашняя барщина (по крайней мере у отца) подъедала хозяйство самих крестьян. Она усиливалась в рабочую пору, но если выгоняли на работу лишний раз против положения (то есть против трех-четырех дней в неделю), то давались потом льготные дни или устраивали угощение, род «помочи».
Мягкость характера моего отца не могла вызывать никаких крепостнических эксцессов. И тогда, в николаевское время, и позднее, до 1861 года, я не помню у отца случаев отдачи в солдаты в виде наказания или в арестантские роты, не помню и никаких экзекуций на конюшне.
После сурового дома в Нижнем, где моего деда боялись все, не исключая и бабушки, житье в усадьбе отца, особенно для меня, привлекало своим привольем и мирным складом. Отец, не впадая ни в какое излишнее баловство, поставил себя со мною как друг или старший брат. Никаких стеснений: делай что хочешь, ходи, катайся, спи, ешь и пей, читай книжки.
Я нашел в наших старинных дубовых хоромах два огромных шкафа с дедовской библиотекой, с французскими классиками и со всеми энциклопедистами. Тогда же я ушел в Вольтера, а для легкого чтения у отца нашлась такая же обширная библиотека новейших романов. Он потреблял их в огромном количестве, выписывал из Москвы. Тогда еще процветали дешевые брюссельские перепечатки парижских изданий. С этой летней вакации идет мое знакомство с Бальзаком в подлиннике. Гимназистом я брал из библиотеки старика Меледина только русские переводы.
Целыми днями в томительный жар мы сидели в прохладном кабинете отца, один против другого, и читали.
Но ни в первый, ни во второй мой приезд из Казани при большом потреблении беллетристики во мне не начинал шевелиться литературный червяк. Это явилось гораздо позднее, в самый разгар моих научных занятий, уже дерптским студентом.
Бытовая жизнь — помещичья, крестьянская и разночинская — делалась все знакомее и ближе. Под боком был и когда-то очень характерный уездный город Лебедянь, уже описанный Тургеневым. Но его рассказ, вошедший в «Записки охотника», я прочел несколько лет спустя. Ярмарка к моему времени уже упала. Также и бега, но кое-что еще оставалось: конная, с ремонтерами и барышниками, трактиры с цыганами из Тулы и Тамбова, гостиница с курьезной вывеской «Для благородных», которую не заметил Тургенев, если она существовала уже в его приезд.
Эти ярмарочные впечатления отлились у меня более десяти лет позднее в первом по счету рассказе «Фараончики», написанном в 1866 году в Москве и появившемся в журнале «Развлечение», у старика Ф. Б. Миллера, отца известного московского ученого Всеволода Федоровича.
Трагическая смерть цыганки, жены начальника хора, — действительный случай. И майор, родственник лица, от которого ведется рассказ, являлся каждый год на ярмарку, как жандармский штаб-офицер, из губернского города.
Во второй приезд я нашел приготовления к выходу в поход ополченских рот. Одной из них командовал мой отец. Подробности моей первой (оставшейся в рукописи) комедии «Фразёры» навеяны были четыре года спустя этой эпохой. Я уезжал на ученья ополченцев в соседнее село Куймань.
И грустно и смешно было смотреть на эти упражнения мужиков в лаптях с палками вместо ружей. Ружья им выдали уже на походе, да и то чуть не суворовские, кремневые.
Дворяне из бывших военных очень многие попали в ополчение. Но я не замечал и подобия какого-нибудь патриотического порыва. Нельзя было нейти, неловко. Но кроме тягости похода и того, что их «раскатают» союзники, ничего больше не чувствовалось. Крестьяне-ополченцы справляли род рекрутчины, и в два-три месяца их выучка была довольно-таки жалкая. Типичным образцом этих подневольных защитников родины, носивших на сером картузе крест с словами «за веру и царя», был для меня денщик отца из государственных крестьян (однодворцев, по тамошнему прозвищу) Чесноков. Я им тоже воспользовался для комедии «Фразёры».
С отцом мы простились в Липецке, опять в разгар водяного сезона. На бал 22 июля съезд был еще больше прошлогоднего, и ополченские офицеры в серых и черных кафтанах очутились, разумеется, героями. Но, повторяю, в обществе среди дам и девиц никакого подъема патриотического или даже гуманного чувства! Не помню, чтобы они занимались усиленно и дерганьем корпии, а о снаряжении отрядов и речи не было. Так же все танцевали, амурились, сплетничали, играли в карты, ловили женихов из тех же ополченцев.
Возвращения из тамбовской усадьбы отца в Нижний, где жили мать моя и сестра, и в этот приезд и в другие, брали несколько дней, даже и на почтовых; а раз мне наняли длиннейшую фуру ломового, ехавшего на Нижегородскую ярмарку за работой. Этот «исход» тянулся целых десять дней, и путь наш лежал по глухим дорогам и лесам Тамбовской, Рязанской и Нижегородской губерний. Со мною отпустили разных варений и сушений и пуда три романов, которые я все и прочел. По картинам русской природы и крестьянской жизни такая езда «на долгих» стоила дорогого для будущего беллетриста-бытописателя. Мы попадали в такие деревни (в Филипповский пост), где, кроме черного хлеба, белого степного квасу и луку, нельзя было ничего достать, и я приналегал на лепешки, пирожки, варенье и сушеные караси — очень вкусную еду, но вызывающую сильную жажду.
В мои нижегородские поездки казанским студентом — одна зимой и две летом — я дома пользовался уже полной свободой без возвратов к прежнему строгому надзору, но не злоупотреблял ею. В доме деда все шло по-старому. Матушка моя, прежде бессменно проводившая свои дни в кровати, стала чувствовать себя бодрее. Сестра моя выезжала зимой и обзавелась целым ассортиментом подруг, из которых две-три умели бойко болтать. Но никто не заронил ничего в сердце студента, даже и в зимние вакации, когда я ездил с сестрой на балы и танцевальные вечера.
В ту зиму уже началась Крымская война. И в Нижнем к весне собрано было ополчение. Летом я нашел больше толков о войне; общество несколько живее относилось и к местным ополченцам. Дед мой командовал ополчением 1812 года и теперь ездил за город смотреть на ученье и оживлялся в разговорах. Но раньше, зимой. Нижний продолжал играть в карты, давать обеды, плясать, закармливать и запаивать тех офицеров, которые попадали проездом, отправляясь «под Севастополь» и «из-под Севастополя».
События надвигались грозные, но в тогдашнем высшем классе общества было больше любопытства, чем искренней тревоги за свою родину. Самое маленькое меньшинство (как мне случалось слышать скорее в Казани, чем в Нижнем) видело в Крымской кампании приближение краха всей николаевской системы.
Но кругом — в дворянском обществе — еще не раздавалось громко осуждение всего режима. Это явилось позднее, когда после смерти Николая началось освободительное движение, не раньше, однако, 1857–1858 годов.
На зимней вакации, в Нижнем, я бывал на балах и вечерах уже без всякого увлечения ими, больше потому, что выезжал вместе с сестрой. Дядя Василий Васильевич (о нем я говорю выше) повез меня к В. И. Далю, служившему еще управляющим удельной конторой. О нем много говорили в городе, еще в мои школьные годы, как о чудаке, ушедшем в составление своего толкового словаря русского языка.
Мы его застали за партией шахмат. И он сам — худой старик, странно одетый — и семья его (он уже был женат на второй жене), их манеры, разговоры, весь тон дома не располагали к тому, чтобы чувствовать себя свободно и приятно.
Мне даже странно казалось, что этот угрюмый, сухой старик, наклонившийся над шахматами, был тот самый «Казак Луганский», автор рассказов, которыми мы зачитывались когда-то.
Несомненно, однако ж, что этот дом был самый «интеллигентный» во всем Нижнем. Собиралось к Далю все, что было посерьезнее и пообразованнее; у него происходили и сеансы медиумического кружка, заведенного им; ходили к нему учителя гимназии. Через одного из них, Л-на, учителя грамматики, он добывал от гимназистов всевозможные поговорки и прибаутки из разночинских сфер. Кто доставлял Л-ну известное число новых присловий и поговорок, тому он ставил пять из грамматики. Так, по крайней мере, говорили и в городе и в гимназии.
К казанскому периоду моего студенчества относится и первый мой проезд Петербургом в конце ноября 1855 года. Но о нем я расскажу в следующей главе.
Глава третья
Переход из Казани в Дерпт — Мой служитель Михаил Бушуев — Переправа через Волгу — Победа студента-камералиста — Что лежало в «идее» Дерпта — На сдаточных в Москву и Петербург зимой 1855 года — После севастопольского погрома — Петербургское искусство — «Ливонские Афины» — Я и герой «В путь-дорогу» в Дерпте — Главная программа этой главы — Мы и немцы — Корпорация «Рутения» — Нравы студентов — «Дикие» — История с «ферруфом» — Дуэли — Что представлял собою университет сравнительно с русскими? — Физиономия города Дерпта — Уличная жизнь — Наша студенческая бедность — Развлечения Дерпта — «Академическая Мусса» — Мои два факультета — Мой учитель Карл Шмидт — Порядки экзаменов — Учебная свобода — Местное равнодушие к тогдашнему русскому «движению» — Знакомство с С. Ф. Уваровым — Русские барские дома — Граф В. А. Соллогуб и жена его С. М. — Перевод «Химии» Лемана — Академик Зинин — Петербург в мои поездки туда — Составление учебника — Проф. Лясковский — Н. Х. Кетчер — Вакации в Нижнем и в деревне — Поворот к писательству — Любительские спектакли — Комедии «Фразеры» и «Однодворец» — Наш кружок — Драма «Ребенок»
Эта глава посвящена целиком моему студенчеству в Дерпте.
Оно длилось с лишком пять лет: с конца ноября 1855 года по конец декабря 1860 года и захватило собою как раз первое пятилетие «эпохи реформ».
Николаевское время было позади. Но для нас — для учащейся молодежи, особенно в тогдашней Казани — все еще пока обстояло по-прежнему.
Я должен отойти несколько назад и напомнить читателю о некоторых фактах из предыдущей главы.
В идею моего перехода в Дерпт потребность свободы входила несомненно, но свободы главным образом «академической» (по немецкому термину). Я хотел серьезно учиться, не школьнически, не на моем двойственном, как бы дилетантском, камеральном разряде. Это привлекало меня больше всего. А затем и желание вкусить другой, чисто студенческой жизни с ее традиционными дозволенными вольностями, в тех «Ливонских Афинах», где порядки напоминали уже Германию.
Во всем этом воображение играло немалую роль. Новизна манила чрезвычайно, и опять-таки новизна научная. Не думаю, чтобы в среде большинства моих ближайших товарищей «камералов» по третьему курсу научный интерес мог привлекательно действовать. Из них было много два-три человека, способных хорошо заниматься. Но для того чтобы сразу без какого-нибудь чисто житейского повода — семейных обстоятельств или временного исключения — в начале третьего курса задумать такое переселение в дальний университетский город с чужим языком для поступления на другой совсем факультет с потерей всего, что было достигнуто здесь, для этого надобен был особый заряд. Может быть, и у меня недостало бы настойчивости, если б мы не собрались втроем и не возбуждали друг друга разговорами все на ту же тему, предаваясь радужным мечтам.
И все было сделано в каких-нибудь шесть недель. Кроме начальства университетского, было и свое, домашнее. Я предвидел, что этот внезапный переход в Дерпт смутит мою матушку более, чем отца. Но согласие все-таки было получено. Мы сложили наши скудные финансы. Свое содержание я получил вперед на семестр; но больше половины его должно будет уйти на дорогу. И для меня все это осложнялось еще постоянным расходом на моего служителя, навязанного мне с самого поступления в студенты. Да и жаль было расстаться с ним.
Михаил Мемнонов, по прозвищу Бушуев, сделался и для меня и для моих товарищей как бы членом нашей студенческой семьи. Ему самому было бы горько покидать нас. Отцу моему он никогда не служил, в деревне ему было делать нечего. В житейском обиходе мы его считали «мужем совета»; а в дороге он тем паче окажется опытнее и практичнее всех нас.
Зима близилась, но санного пути еще не было. Стояли бесснежные морозные дни. Приходилось ехать до Нижнего в перекладной телеге, всем четверым: три студиоза и один дворовый человек, тогда даже еще не «временно-обязанный».
Покидали мы Казань весело. У нас не было к ней никаких особенных привязок. Меня лично давно уже не удовлетворяли ни университетские порядки, ни нравы студенческой братии. Чего-нибудь общего, сплоченного в студенчестве не было. От светской жизни сословного губернского города я добровольно ушел еще год назад, как я уже говорил во второй главе. Из профессоров жаль было только двоих — Бутлерова и Киттары, но Бутлеров сам одобрил мою идею перехода в Дерпт для специального изучения химии, дал мне и рекомендательное письмо к своему когда-то наставнику, старику Клаусу, открывшему в Казани металл рутений. Клаус давно уже занимал в Дерпте место директора фармацевтического института, профессора фармакологии и фармации.
Припомню и то, что начальство, то есть инспекция, и тут заявило себя в должном виде.
Читатель уже знает, что на «увольнительном» свидетельстве моем инспектор поставил мне в поведении четверку, что считалось плохой отметкой и могло затруднить мое принятие в Дерпте.
Почему? Должно быть, потому, что в моем «кондуитном списке» значился карцер за инцидент, о котором я упоминал выше. Больше у меня не бывало никаких столкновений с инспекцией. Еще на первом курсе случалось покучивать с товарищами, но весь второй я провел почти что затворником. В смысле неблагонадежности другого рода инспекция не могла также меня заподозрить. И вообще-то тогда не было никаких «движений» в студенчестве. Лично я не имел историй или даже резких разговоров с каким-нибудь субом, еще менее с инспектором. Ни одного замечания по ношению формы не доставалось.
Мы все трое значились студентами разных курсов и факультетов. Но проводы наши были самые скромные, несколько ближайших приятелей пришли проститься, немножко, вероятно, выпили, и только. Сплоченного товарищества по курсам, если не по факультетам, не существовало. Не помню, чтобы мои однокурсники особенно заинтересовались моим добровольным переходом, расспрашивали бы меня о мотивах такого coup de tete, приводили бы доводы за и против.
Мне впервые приходилось ехать на перекладных. Мои переезды на вакациях происходили и летом и зимой — в кибитке. Телега катила по мерзлой земле старого казанского «тракта» с колеями и выбоинами. На облучке высилась фигура нашего «фамулюса» (говоря по-дерптски) Михаила Мемнонова, а мы в ряд заседали на сене, упираясь спинами в чемоданы.
Волгу уже начало затягивать «сало». На перевозе мы все чуть было не перекинулись через борт парома, так его накренило от разыгравшейся «погоды».
Впервые испытал я чувство настоящей опасности. Это было всего несколько секунд, но памятных. До сих пор мечется передо мною картина хмурого дня с темно-серыми волнами реки и очертаниями берегов и весь переполох на пароме.
Свидание со своими в Нижнем обошлось более мирно, чем я ожидал. Я не особенно огорчался тем, что к моему переходу в Дерпт относились с некоторым недоумением, если и не с сильным беспокойством. Довольно было и того, что помирились с моим решением. Это равнялось признанию права руководить самому своими идеями и стремлениями, искать лучшего не затем, чтобы беспорядочно «прожигать» жизнь, а чтобы работать, расширять свой умственный горизонт, увлекаясь наукой, а не гусарским ментиком.
Это была несомненная победа, а для меня самого — приобретение, даже если бы я и не выполнил свою главную цель: сделаться специалистом по химии, что и случилось.
Но, начиная с самого этого переселения «из земли Халдейской в землю Ханаанскую», сейчас же расширялся кругозор студента-камералиста, инстинктивно искавшего пути к высшему знанию или к художественному воспроизведению жизни.
Останься я оканчивать курс в Казани, вышло бы одно из двух: или я, получив кандидатский диплом по камеральному разряду (я его непременно бы получил), вернулся бы в Нижний и поступил бы на службу, то есть осуществил бы всегдашнее желание моих родных. Матушка желала всегда видеть меня чиновником особых поручений при губернаторе. А дальше, стало быть, советником губернского правления и, если бы удалось перевестись в министерство, петербургским чиновником известного ранга.
Или же я пошел бы по ученой части с ресурсами казанской выучки. Бутлеров обнадеживал меня насчет магистерства. Камералисту без более серьезной подготовки «естественника», без специальных знаний по физике нельзя было приобрести прав на занятие кафедры, разве в области прикладной химии, то есть технологии. Но и в лучшем случае, если б я даже и выдержал на магистра и занял место адъюнкта (как тогда называли приват-доцента), я бы впряг себя в такое дело, к которому у меня не было настоящего призвания, в чем я и убедился, проделав в Дерпте в течение пяти лет целую, так сказать, эволюцию интеллектуального и нравственного развития, которую вряд ли бы проделал в Казани.
И что же бы случилось? Весьма вероятно, я добился бы кафедры, стал бы составлять недурные учебники, читал бы, пожалуй, живо и занимательно благодаря моему словесному темпераменту; но истинного ученого из меня (даже и на одну треть такого, как мой первоначальный наставник Бутлеров) не вышло бы. Заложенные в мою природу литературные стремления и склонности пришли бы в конфликт с требованиями, какие наука предъявляет своим истинным сынам.
Профессорскую карьеру я мог бы сделать; но, заморив в себе писателя, оставался бы только более или менее искусным лектором, а не двигателем науки.
Идея Дерпта как научного «эльдорадо», так быстро охватившая меня в сентябре 1855 года, была только дальнейшей фазой моих порываний в области свободного труда, далекого от всяких соображений карьеры, служебных успехов, прибыльных мест, чинов и орденов.
Довольно даже странно выходило, что в отпрыске дворянского рода в самый разгар николаевских порядков и нравов на студенческой скамье и даже на гимназической оказалось так мало склонности к «государственному пирогу», так же мало, как и к военной карьере, то есть ровно никакой. Как гимназистиком четвертого класса, когда я выбрал латинский язык для того, чтобы попасть со временем в студенты, так и дальше, в Казани и Дерпте, я оставался безусловно верен царству высшего образования, университету в самом обширном смысле — universitas, как понимали ее люди эпохи Возрождения, в совокупности всех знаний, философских систем, красноречия, поэзии, диалектики, прикладных наук, самых важных для человека, как астрономия, механика, медицина и другие прикладные доктрины.
Через все это я и прошел, благодаря, главным образом, моему на иной взгляд порывистому и необдуманному шагу — переходу в Дерптский университет на другой факультет.
Я так был этим воодушевлен, что не мог, конечно, отговаривать моих двух товарищей. Старший из них, мой земляк, нижегородец З-ч был сильно увлечен идеей Дерпта и сначала — всего больше подговаривал меня. Другой, камералист Зарин, пристал к нам позднее. Для обоих переход этот и тогда казался мне рискованным. Ни тот, ни другой не знали по-немецки; а я говорил на этом языке с детства. З-ч перешел уже на четвертый курс. Зарин никакой специальности еще не избирал, а был просто бойкий, франтоватый, кое-что читавший студент, склонный к романтическим похождениям юноша.
Его, кажется, всего больше привлекала «буршикозная» жизнь корпораций, желание играть роль, иметь похождения, чего он впоследствии и достиг, и даже в такой степени, что после побоищ с немцами был исключен и кончил курс в Москве, где стал серьезно работать и даже готовился, кажется, к ученой дороге.
Но тогда, то есть на тряской телеге, трое казанских студентов были одинаково заражены «Ливонскими Афинами».
Зимнего пути все еще не было, и от Нижнего до Москвы мы наняли тарантас на «сдаточных», и ехать пришлось несколько поудобнее, с защитой от погоды и по менее тряскому грунту тогдашнего очень хорошего Московского шоссе.
Для меня бытовая жизнь рано стала привлекательна. Поездкам в студенческие годы, то есть за целых семь лет, я многим был обязан. Этим путем я знакомился с разными местностями России, попадал в захолустные углы и бойкие места Нижегородской, Тамбовской, Рязанской губерний, а на восток от Нижнего до Казани по Волге зимой и на пароходах. Из Нижнего в Москву дорога была мне уже хорошо известна после первой моей поездки в Москву на Масленице 1853 года, а не дальше как за четыре месяца перед тем я пролетел, на перекладных отправляясь к отцу, в Тамбовскую губернию, на Москву и Рязань.
Езда на «сдаточных» была много раз описана в былое время. Она представляла собою род азартной игры. Все дело сводилось к тому: удастся ли вам доехать без истории, то есть без отказа ямщика, до последнего конца, доставят ли вас до места назначения без прибавки.
Вы условливаетесь: столько-то за всю дорогу. Но сразу у вас забирали вперед больше, чем следует по расчету верст. То же происходило и на каждом новом привале. И последнему ямщику приходилось так мало, что он вас прижимал и вымогал прибавку.
Нашим министром финансов был Михаил Мемнонов, довольно-таки опытный по этой части. Благодаря его умелости мы доехали до Москвы без истории. Привалы на постоялых дворах и в квартирах были гораздо занимательнее, чем остановки на казенных почтовых станциях. Один комический инцидент остался до сих пор в памяти. В ночь перед въездом в Москву, баба, которую ямщик посадил на «задок» тарантаса, разрешилась от бремени, только что мы сделали привал в трактире, уже на рассвете. И мы же давали ей на «пеленки».
Москва промелькнула, не оставив никаких новых впечатлений. Мы спешили захватить конец учебного семестра и на Петербург отсчитывали не больше недели.
Наши финансы были настолько не роскошны, что мы взяли товаро-пассажирский поезд, совершавший переезд в шестьсот четыре версты в двое суток. Второй товарищ, Зарин заболел и доехал до Петербурга уже совсем больной. Мы должны были поместить его в Обуховской больнице. У него открылся тиф, и он приехал в Дерпт уже в начале следующего полугодия.
Петербург встретил нас санной ездой. В какой-то меблировке около вокзала мы переоделись и в тот же вечер устремились «на авось» в итальянскую оперу, ничего и никого не зная.
Невский в зимнем уборе с тогдашним освещением, казавшимся нам блестящим, давал гораздо более столичную ноту, чем Москва с своим Кузнецким мостом и бесконечными бульварами.
У кассы Большого театра какой-то пожилой господин, чиновничьего типа, предложил нам три места в галерее пятого яруса. Это был абонент, промышляющий своими билетами. Он поднялся с нами наверх и сдал нас капельдинеру. Взял он с нас не больше восьмидесяти копеек за место.
Попадали мы на исторический спектакль. Это было первое представление «Трубадура», в бенефис баритона Дебассини, во вновь отделанной зале Большого театра с ее позолотой, скульптурной отделкой и фресками.
Даже и после московского Большого театра эффект был еще неиспытанный. Итальянцев ни один из нас не слыхал как следует.
Тогда была еще блистательная пора оперы: Тамберлик, Кальцоляри, Лаблаш, Демерик, Бозио, Дебассини. В этот спектакль зала показалась нам особенно парадной. И на верхах нас окружала публика, какую мы не привыкли видеть в парадизе. Все смотрело так чопорно и корректно. Учащейся молодежи очень мало, потому и гораздо меньше крика и неистовых вызываний, чем в настоящее время.
Пылкий и сообщительный Зарин стал было в антрактах заводить разговоры с соседями; но на него только косились. К тому же он был странно одет: в каком-то сак-пальто с капюшоном.
Мое впечатление от петербуржцев средней руки, от той массы, где преобладал чиновник холостой и семейный, сразу дало верную ноту на десятки лет вперед. И теперь приличная петербургская толпа в общих чертах — та же. Но она сделалась понервнее от огромного наплыва в последние годы молодежи — студентов, студенток, профессиональных женщин и «интеллигентного разночинца».
В ложах и креслах чиновно-светский монд, с преобладанием военных, по манере держать себя мало отличался от теперешнего. Бросилось мне в глаза с верхов, что тогдашние фешенебли, не все, но очень многие, одевались так: черный фрак, светло-серые панталоны, при черном галстуке и белом жилете.
Тамберлик брал свои «ut'ы» (ноту «до»), Бозио пленяла голосом и игрой, бенефициант пел вовсю, красиво носил костюм и брал своей видной фигурой и энергическим лицом.
Охваченный всеми этими ощущениями от сцены, оркестра, залы, я нет-нет да и вспоминаю, что ведь злосчастная война не кончена, прошло каких-нибудь два-три месяца со взятия Севастополя, что там десятки тысяч мертвецов гниют в общих ямах и тысячи раненых томятся в госпиталях. А кругом ни малейшего признака национального горя и траура! Все разряжено, все ликует, упивается сладкозвучным пением, болтает, охорашивается, глазеет и грызет конфеты.
В Казани, как я говорил выше, замечалось такое же равнодушие и в среде студенчества. Не больше было одушевления и в дворянском обществе. Петербург, как столица, как центр национального самосознания, поражал меня и тут, в зале Большого театра, и во всю неделю, проведенную нами перед отъездом в Дерпт, невозмутимостью своей обычной сутолоки, без малейшего признака в чем бы то ни было того трагического момента, какой переживало отечество.
Ведь это был как раз поворотный пункт нашего внутреннего развития. Жестокий урок только что был дай Западом северо-восточному колоссу. Сторонников николаевского режима, конечно, было немало в тогдашнем Петербурге. В военно-чиновничьей сфере они преобладали. И ни одного сокрушенного лица, никаких патриотических настроений, разговоров в театрах, на улице, в магазинах, в церквах.
И молодежь — те студенты, с какими мы виделись, — не выказывала никаких признаков особого подъема духа, даже и в сторону каких-либо новых течений и упований.
А мы нашли здесь довольно большую семью казанцев — студентов восточного факультета, только что переведенного в Петербург. Многие из них были «казенные», и в Казани мы над ними подтрунивали, как над более или менее «восточными человеками», хотя настоящих восточников между ними было очень мало.
Здесь в каких-нибудь два полугодия они сильно отшлифовались, носили франтоватые мундиры и треуголки, сделались меломанами и даже любителями балета. «Казэнными», с особым произношением этого слова, их уже нельзя было называть, так как в Петербурге они жили не в казенном здании, а на квартирах и пользовались только стипендиями.
Из моих товарищей по нижегородской гимназии я нашел здесь Г-ва, моего одноклассника. В гимназии он шел далеко не из первых, а в Петербурге из него вышел дельный студент-юрист, работавший уже по истории русского права, погруженный в разбирание актов XVI и XVII веков.
И в этом серьезном малом (он умер тотчас по выходе из университета) я не нашел какого-нибудь особого подъема в смысле общественном.
У него и у бывших казанцев мы успели познакомиться с дюжиной других петербургских студентов. Общий уровень был выше, разговор бойчее и культурнее и гораздо более светскости, даже и у тех, кто пробивался на стипендию. Я не помню, чтобы мы зачуяли какие-нибудь особенные настроения, чтобы вольный дух сказывался в направлении идей и в тоне разговоров. Но прежний режим уже значительно поослаб, да в огромном городе и немыслим был надзор, который и в Казани-то ограничивался почти что только контролем по части соблюдения формы и хождения в церковь.
Когда через два года мне привелось провести зимние вакации в студенческом обществе, «дух» уже веял совсем другой. Но об этом ниже.
Зима 1855–1856 года похожа была на тот момент, когда замерзлое тело вот-вот начнет оттаивать и к нему, быть может, вернется жизнь.
Но большая жизненность уже сказывалась в отсутствии гнета, трусливых разговоров, в какой-то новой бойкости и пестроте.
В сущности, так и должно было случиться. Севастопольский погром стоял уже позади. Чувствовалось наступление другой эры, и всем хотелось стряхнуть с себя национальный траур.
Был ли он и в разгар крымской трагедии очень силен в тогдашнем обществе, позволяю себе сомневаться на основании всего, что видел во время войны.
Как заезжие провинциалы, мы днем обозревали разные достопримечательности, начиная с Эрмитажа, а вечером я побывал во всех театрах. Один из моих спутников уже слег и помещен был в больницу — у него открылся тиф, а другой менее интересовался театрами.
По состоянию своих финансов я попадал на верхи. Но тогда, не так как нынче, всюду можно было попасть гораздо легче, чем в настоящее время, начиная с итальянской оперы, самой дорогой и посещаемой. Попал я и в балет, чуть ли не на бенефис, и в галерее пятого яруса нашел и наших восточников-казанцев в мундирчиках, очень франтоватых и подстриженных, совсем не отзывавших казанскими «занимательными».
Давали балет «Армида», где впоследствии знаменитая Муравьева исполняла, еще воспитанницей, роль Амура, а балериной была Фанни Черрито. Я успел побывать еще два раза у итальянцев, слушал «Ломбардов» и «Дон-Паскуале» с Лаблашем в главной роли. Во всю мою жизнь я видел всего одну оперу в современных костюмах, во фраках и, по-тогдашнему, в пышных юбках и прическах с большими зачесами на ушах.
Воскресный спектакль в Александрийском театре огорчил меня. Давали ужасную драму «Сальватор Роза» с пожаром и разрушением замка. Леонидова, за его болезнью, заменял еще более ужасный актер Славин, отличавшийся всегда способностью перевирать слова. Героиню играла Жулева, бывшая еще на молодом амплуа. Лейтенанта при атамане разбойников исполнял первый любовник труппы Алексей Максимов. Я просто верить не хотел, что эта сухопарая фигура с глухим, смешным, гнусавым голосом — первый сюжет и в светских пьесах. Все это зрелище было и на оценку казанского студента совершенно недостойно императорской сцены, даже и в воскресный вечер.
После жестокой драмы давали какой-то трехактный переводной водевиль, где троих мужей-рогоносцев играли Мартынов, Самойлов и П. Григорьев. Мартынова я помнил по моим детским воспоминаниям, когда он приезжал в Нижний на ярмарку; но я привык и заочно считать его великом комиком, а тут роль его была так ничтожна и в игре его сквозила такая малая охота исполнять ее, что я с трудом верил в подлинность Мартынова. Самойлов пускал разные штучки, изображая чудаковатого старика-ревнивца, и его комизм казался мне деланным.
Кругом меня в галерее пятого яруса сидела разночинская публика сортом гораздо ниже той, какая бывает теперь. Но и в воскресный спектакль было гораздо меньше нынешнего «галденья», надоедливых вызовов и криков.
Из глубины «курятника» в райке Михайловского театра смотрел я пьесу, переделанную из романа Бальзака «Лилия в долине». После прощального вечера на Масленой в Московском Малом театре это был мой первый французский спектакль. И в этой слащавой светской пьесе, и в каком-то трехактном фарсе (тогда были щедры на количество актов) я ознакомился с лучшими силами труппы — в женском персонале: Луиза Майер, Вольнис, Миля, Мальвина; в мужском — Бертон, П. Бондуа, Лемениль, Берне, Дешан, Пешна и другие.
Немцы играли в Мариинском театре, переделанном из цирка, и немецкий спектакль оставил во мне смутную память. Тогда в Мариинском театре давали и русские оперы; но театр этот был еще в загоне у публики, и никто бы не мог предвидеть, что русские оперные представления заменят итальянцев и Мариинский театр сделается тем, чем был Большой в дни итальянцев, что он будет всегда полон, что абонемент на русскую оперу так войдет в нравы высшего петербургского общества.
Уже вдвоем с медиком 3-чем, оставив больного товарища, мы выехали по шоссе в ливонские пределы. Путь наш шел на Нарву по Эстландии с «раздельной» тогда станцией «Вайвара», откуда уже начинались настоящие чухонские страны.
Русских ямщиков сменили тяжелые, закутанные фигуры эстов, которым надо было кричать: «Кууле! Рутту!» (Слушай! Живей!) Вместо тройки — пара в дышло и сани в виде лодки.
Мороз крепчал, и первый ночной привал на станцию — чистую, светлую, с чаем и дешевым немецким ужином — произвел на нас впечатление некоторой «заграницы».
Тут я останавливаюсь и должен опять (как делал для Нижнего и Казани) оговориться перед читателями романа «В путь-дорогу», а в то же время и перед самим собою.
Все самое характерное, через что прошел герой романа Телепнев в «Ливонских Афинах» — испытал в общих чертах и я, и мне пришлось бы неминуемо повторяться здесь, если б я захотел давать заново подробности о тогдашнем Дерпте, университете, буршах, физиономии города.
Город в своей центральной части, где площадь «Маркта», университет и Ritterstrasse — чрезвычайно сохранился и до сих пор. Меня это тронуло, когда я по прошествии тридцати с лишком лет, в 90-х годах, заехал в Дерпт (теперь Юрьев) летом.
Вы могли бы проверить физиономию этого старого города с теми страницами пятой книги романа, где описывается первое знакомство с ним Телепнева. Маркт списан точно вчера.
Но я должен сделать опять весьма существенную оговорку — о предполагаемом тождестве Телепнева с автором романа.
Тут пути обоих расходятся: романист провел своего героя через целый ряд итогов — и житейских и чисто умственных, закончив его личные испытания любовью. Но главная нить осталась та же: искание высшего интеллектуального развития, а под конец неудовлетворенность такой мозговой эволюцией, потребность в более тесном слиянии с жизнью родного края, с идеалами общественного деятеля.
В самом же авторе романа на протяжении его пятилетней выучки в Дерпте происходила сначала скрытая, а потом и явная борьба будущего писателя-беллетриста с «питомцем точной науки», явившимся сюда готовиться к ученой дороге.
Сначала, в первые два года, я еще считал себя возделывателем химии («chemiae cultor») в качестве главного предмета.
И уже в этот с лишком двухлетний период литературные стремления начали проявлять себя. Я стал читать немецких поэтов, впервые вошел в Гейне, интересовался Шекспиром, сначала в немецких переводах, его критиками, биографиями Шиллера и Гете.
Но мысли о том, чтобы «переседлать» (слово дерптских русских), изменить науке, предаться литературе, — только еще дремали во мне.
Когда программа отдела химии была преобразована (что случилось ко времени моего половинного экзамена) и в нее введены были астрономия и высшая математика и расширена физико-математическая часть химии, я почувствовал впервые, что меня эта более строгая специальность несколько пугает. Работы в лаборатории за целые четыре семестра показали довольно убедительно, что во мне нет той выдержки, какая отличает исследователей природы; слаб и особый интерес к деталям химической кухни.
Первый поворот от строгой специальности сложился в виде измены моей университетской «учебе». Физиологическая химия повела к большему знакомству с физиологией, которая стояла как обязательный предмет в обеих программах. Я был подготовлен (за исключением практических занятий по анатомии) к тому, что тогда называлось у медиков «philosophicum», то есть к поступлению на третий курс медицинского факультета, что я и решил сделать на третьем году моего житья в Дерпте. Но и тогда о карьере практикующего врача я не думал. Студентом медицины оставался я до самого конца, прослушав весь курс медицинских наук вплоть до клинической практики включительно.
Но в последние три года, к 1858 году, меня, дерптского студента, стало все сильнее забирать стремление не к научной, а к литературной работе. Пробуждение нашего общества, новые журналы, приподнятый интерес к художественному изображению русской жизни, наплыв освобождающих идей во всех смыслах пробудили нечто более трепетное и теплое, чем чистая или прикладная наука.
И к моменту прощания с Дерптом химика и медика во мне уже не было. Я уже выступил как писатель, отдавший на суд критики и публики целую пятиактную комедию, которая явилась в печати в октябре 1860 года, когда я еще носил голубой воротник, но уже твердо решил избрать писательскую дорогу, на доктора медицины не держать, а переехать в Петербург, где и приобрести кандидатскую степень по другому факультету.
Я забежал вперед, чтобы сразу выяснить процесс того внутреннего брожения, какое происходило во мне, и оттенить существенную разницу между дерптской эпопеей героя романа «В путь-дорогу» и тем, что сталось с самим автором.
И в этой главе я буду останавливаться на тех сторонах жизни, которые могли доставлять будущему писателю всего больше жизненных черт того времени, поддерживать его наблюдательность, воспитывали в нем интерес к воспроизведению жизни, давали толчок к более широкому умственному развитию не по одним только специальным познаниям, а в смысле той universitas, какую я в семь лет моих студенческих исканий, в сущности, и прошел, побывав на трех факультетах; а четвертый, словесный, также не остался мне чуждым, и он-то и пересилил все остальное, так как я становился все более и более словесником, хотя и не прошел строго классической выучки.
Перед принятием меня в студенты Дерптского университета возник было вопрос: не понадобится ли сдавать дополнительный экзамен из греческого? Тогда его требовали от окончивших курс в остзейских гимназиях. Перед нашим поступлением будущий товарищ мой Л-ский (впоследствии профессор в Киеве), перейдя из Киевского университета на-медицинский факультет, должен был сдать экзамен по-гречески. То же требовалось и с натуралистов, но мы с 3-чем почему-то избегли этого.
Тогда это считалось крайне отяготительным и чем-то глубоко ненужным и схоластическим. А впоследствии я не раз жалел о том, что меня не заставили засесть за греческий. И уже больше тридцати лет спустя я — по собственному побуждению — в Москве надумал дополнить свое «словесное» образование и принялся за греческую грамоту под руководством одной девицы — «фишерки», что было характерным штрихом в последнее пятнадцатилетие XIX века для тогдашней Москвы.
Дерптские мои «откровения бытия» я обозрю здесь синтетически, в виде крупных выводов, и начну с студенческого быта, который так резко отличался от того, что я оставил в Казани.
Подробности значатся всего больше в пятой книге романа «В путь-дорогу». Не знаю, какой окончательный вывод получает читатель: в пользу дерптских порядков или нет; но думаю, что полной объективности у автора романа быть еще не могло.
Ведь и я, и все почти русские, учившиеся в мое время (если они приехали из России, а не воспитывались в остзейском крае), знали немцев, их корпоративный быт, семейные нравы и рельефные черты тогдашней балтийской культуры, и дворянско-сословной, и общебюргерской — больше из вторых рук, понаслышке, со стороны, издали, во всяком случае недостаточно, чтобы это приводило к полной и беспристрастной оценке.
Как автор романа, я не погрешил против субъективной правды. Через все это проходил его герой. Через все это проходил и я. В романе — это монография, интимная история одного лица, род «Ученических годов Вильгельма Мейстера», разумеется с соответствующими изменениями! Ведь и у олимпийца Гете в этой первой половине романа нет полной объективной картины, даже и многих уголков немецкой жизни, которая захватывала Мейстера только с известных своих сторон.
Так и тут. Как испытания Телепнева — все это и теперь правдиво, но как итоги — тут многого недостает. И большинство моих сверстников оставляло Дерпт с оценками и взглядами, на которых лежал значительный налет субъективных чувств.
Иначе и не могло быть. С немцами все мы только сталкивались, а не жили с ними. Сначала, в первые два-три года моего студенчества, русские имели свою корпорацию; потом все мы, после того как ее «прикончили», превратились в бесправных. Немецкие бурши посадили нас на «Verruf» (по-студенчески есть слово более беспощадное и циническое), и в таком положении мы все дожили до выхода из университета. С нами немцы не сносились, не разговаривали с нами и в аудиториях, и при занятиях в кабинетах и клинике, через что прошел и я с другими медиками. Это было крайне тягостно. Дело кончилось генеральной схваткой, зачинщиком которой и был наш казанец Зарин. Она описана в романе довольно беспристрастно.
В подобных условиях полного знакомства с немецким бытом — и студенческим, и бюргерским, и сословно-дворянским — не могло быть и не было. В немецких корпорациях значилось несколько русских, уроженцев ост-зейского края; но мы их не знали. Члены русской корпорации жили только «своей компанией», с буршами-немцами имели лишь официальные сношения по Комману, в разных заседаниях, вообще относились к ним не особенно дружелюбно, хотя и были со всеми на «ты», что продолжалось до того момента, когда русских подвергли остракизму.
Стало быть, и мои итоги не могли выйти вполне объективными, когда я оставлял Дерпт. Но я был поставлен в условия большей умственной и, так сказать, бытовой свободы. Я приехал уже студентом третьего курса, с серьезной, определенной целью, без всякого национального или сословного задора, чтобы воспользоваться как можно лучше тем «академическим» (то есть учебно-ученым) режимом, который выгодно отличал тогда Дерпт от всех университетов в России.
В этом я не ошибся. Учиться можно было вовсю, работать в лаборатории, посещать всевозможные курсы, быть у источника немецкой науки, жить дешево и тихо.
Корпорация «Рутения», куда я попал с моими казанцами, в каких-нибудь полгода не только выдохлась для меня, но стала прямо невыносимой.
На нее немецкий «буршикозный» быт подействовал всего сильнее своими отрицательными сторонами. Я нашел кружок из разных элементов, на одну треть не русских (немцы из России и один еврей), с привычкой к молодечеству на немецкий лад, в виде постоянных попоек, без всяких серьезных запросов, даже с принципиальным нежеланием на попойках и сходках говорить о политике, религии, общественных вопросах, с очень малой начитанностью (особенно по-русски), с варварским жаргоном и таким складом веселости и остроумия, который сразу я нашел довольно-таки низменным.
По-своему я (как и герой романа Телепнев) был прав. Я ожидал совсем не того и, без всякого сомнения, видел, что казанский третьекурсник представлял собою нечто другое, хотя и явился из варварских, полутатарских стран.
Но так ли оно было на самом деле, если поглядеть «ретроспективным» взглядом? Русским «бурсакам» (как они себя называли в песнях) вредил всего больше подражательный ритуал товарищеской жизни по образцу немецких корпораций. Когда они сделались «vogelfrei» (т. е. лишенными покровительства корпорационных законов), были посажены немцами на «Verruf» — те же самые бурши, к которым присоединились несколько «диких» (Wilde), в том числе и я, зажили гораздо осмысленнее, и в их же среде я мог найти весьма сочувственный отклик на мои опыты писательства.
Наукой, как желал работать я, никто из них не занимался, но все почти кончили курс, были дельными медиками, водились и любители музыки, в последние 50-е годы стали читать русские журналы, а немецкую литературу знали все-таки больше, чем рядовые студенты в Казани, Москве или Киеве.
Корпоративный быт привил, кроме того, привычку к более сомкнутому товариществу, при котором нельзя сторониться друг друга. Суть этого единения была слишком уже пуста, сводилась к кутежу и «шалдашничанью» (то есть ничегонеделанью), но идея солидарности все-таки держалась.
Меня лично такая совместная жизнь не могла удовлетворять. Превратись я в настоящего «бурша», я бы смотрел на это как на сильный шаг назад, на падение своего «я». Для меня в тот момент предмет пылкого культа были точное знание вообще и «наука наук» — химия. А у них на попойках слово «Gelehrter», ученый, было шутливо-оскорбительным прозвищем, за которое вызывали на пивную дуэль. Это называлось на ужасном немецко-русском жаргоне «закатить гелертера». Если вдуматься, то такое отношение к учености, к культу науки совсем не так глупо и пошло.
Под этим сидит такой ряд афоризмов: «В юности не напускай на себя излишней серьезности; лови момент, пой и смейся; учись, если желаешь; но на товарищеской пирушке не кичись своей ученостью, а то получишь нахлобучку».
Никто из буршей не возмущался тем, что явившийся из Казани студент хочет изучать химию у Карла Шмидта; но если он желал быть сразу persona qrata, он, поступив «фуксом» в корпорацию, должен был проделывать их род жизни, то есть пить и поить других, петь вакхические песни и предаваться болтовне, которая вся вертелась около такого буршикозного прожигания жизни.
За целое полугодие моей выучки в звании фукса я не слыхал на какой-нибудь вечеринке или попойке (что было одно и то же) разговора, который хоть немного напомнил бы мне: зачем, собственно, переехал я с берегов речки Казанки на берега чухонского Эмбаха?
Можно и теперь без преувеличения сказать, что в самом преддверии эпохи реформ бурши «Рутении» совершенно еще спали, в смысле общественного обновления; они были — по всему складу их кружковой жизни — дореформенные молодые люди, как бы ничем не связанные с теми упованиями и запросами, которые повсюду внутри страны уже пробивались наружу.
Один пример из сотни — и самый веский.
И в Казани и в Дерпте состоял при мне все тот же крепостной служитель, Михаил Мемнонов, который в Дерпте находил свою материальную жизнь лучше, чем мы, его господа, ходил кормиться к русскому портному по фамилии Петух и ел куда вкуснее и свежее, чем мы. В Казани мы со своими товарищами по квартире то и дело говорили о крепостном праве и все искренно желали его уничтожения. Этот служитель мне не был нужен, и я не отсылал его потому, что привязался к нему и у меня ему было очень хорошо: мы обращались с ним, как с приятелем, и делились всем, что сами получали. И всем нам делалось весело, когда Михаил Мемнонов пророчески восклицал:
— Не умру крепостным. Будет воля — не сегодня, так завтра!
И что же? За всю мою выучку в корпорации и позднее, когда я видался с буршами, я никогда не слыхал ни единого слова на эту тему, — такова была их отчужденность от всего того, что уже назрело в России.
И все-таки в общем корпорации были культурнее того, как жили иные товарищеские компании Казани, с очень грубыми и циническими нравами. Самая выпивка была вставлена в рамки с известным обрядом, хотя я и нашел в «Рутении» двух-трех матерых студентов-«филистров» (отслушавших лекции) — настоящих алкоголиков. Не было и цинизма, ни на деле, ни даже на словах, и это обнаруживало несомненный культурный признак. В Казани в разговорах и прибаутках у многих все уснащалось народной «родительской» бранью. Некоторые доходили до прямой виртуозности. У буршей, несмотря на то что половина приехала сюда из русских городов, — ничего подобного! Это считалось непростительным, даже и в пьяном виде.
Эротические нравы стояли совсем на другом уровне. И в этом давали тон немцы. Одна корпорация (Рижское братство) славилась особенным, как бы обязательным, целомудрием. Про нее русские бурши любили рассказывать смешные анекдоты — о том, как «рижане» будто бы шпионили по этой части друг друга, ловили товарищей у мамзелей зазорного поведения.
Но и «мамзелей» в тогдашнем Дерпте водилось очень мало. Открытая проституция почти что не допускалась, не так, как в Казани, где любимой формой молодечества пьяных студенческих ватаг считалось — разбивать публичные дома за Булаком!
Все это в Дерпте было немыслимо. Если мои товарищи по «Рутении», а позднее по нашему вольному товарищескому кружку, грешили против целомудрия, то это считалось «приватным» делом, наружу не всплывало, так что я за все пять лет не знал, например, ни у одного товарища ни единой нелегальной связи, даже в самых приличных формах; а о женитьбе тогда никто и не помышлял, ни у немцев, ни у русских. Это просто показалось бы дико и смешно.
Ни одной попойки не помню я с женским полом. Он водился на окраинах города, но в самом ограниченном количестве, из немок и онемеченных чухонок. Все они были наперечет, и разговоры о них происходили крайне редко.
Не отвечаю за всех моих товарищей, но в мою пятилетнюю дерптскую жизнь этот элемент не входил ни в какой форме. И такая строгость вовсе не исходила от одного внешнего гнета. Она была скорее в воздухе и отвечала тому настроению, какое владело мною, особенно в первые четыре семестра, когда я предавался культу чистой науки и еще мечтал сделать из себя ученого.
Какова бы ни была скудость корпоративного быта среди русских по умственной части, все-таки же этот быт сделал то, что после погрома «Рутении» мы все могли собраться и образовать свободный кружок, без всякого письменного устава, и прожили больше двух лет очень дружно.
«Диких» оказалось несколько человек (в том числе и я), и они внесли с собою другой дух, другие повадки. Пало обязательное выпиванье, начались сходки с литературным оттенком, и в моей писательской судьбе они сыграли роль весьма значительную, К тому времени меня уже гораздо сильнее потянуло в сторону беллетристики. На наших сборищах читалась уже в зиму 1858–1859 года комедия «Фразёры», первоначально озаглавленная «Шила в мешке не утаишь», которую я решился везти в Петербург печатать и ставить, если она пройдет в Театрально-литературном комитете.
Наш кружок сплотился еще сильнее в бурные дни массового столкновения с немцами, подробно описанного в моем романе. Тогда все почувствовали себя русскими, даже и те обруселые немцы, какие были в «Рутении». Главного зачинщика, нашего казанца Зарина, ударившего немца ремнем по лицу за нежелание давать ему «сатисфакцию» (так как мы все были на ферруфе), начальство немедленно удалило, продержав взаперти в полицейской тюрьме. Но наш свободный кружок не проникался никаким особенным шовинизмом. На немцев мы смотрели с большей терпимостью, чем они на нас. Страдали от остракизма мы, а не они. Нам казалось все более и более диким, что русским студентам в России, в императорском университете, нельзя жить без подчинения немецкому «Комману», который не имел никакой правительственной санкции. Но и попечитель ничего не мог или не хотел сделать, чтобы прекратить такое status quo. Его разговор с нашими депутатами (роль Телепнева играл я) описан мною без всяких прикрас и всего каких-нибудь четыре года спустя, когда все еще свежо сохранялось в памяти.
Больше уже до выхода моего никаких, ни кровавых, ни рукопашных, столкновений не происходило. Нашим медикам приходилось (как я заметил и выше) всего тяжелее в клиниках, где никто из немцев с нами не говорил.
Теперь в Юрьевском университете такие претензии остзейцев показались бы комическими.
Но и тогда существовали давно два польских союза «Щегул» и «Огул», которые не признавали немецкого общего устава. Они добились этого не без борьбы, и их немцы побаивались уже потому, что в случае дуэлей (по-дерптски «шкандалов») они выходили только на пистолетах, а не на немецких эспадронах, которые мы звали неправильно «рапирами».
Дуэлирование (сохранившееся, как я слышу, и поднесь, по крайней мере у немцев) описано в моем романе. Оно выродилось в смешноватый ритуал, изредка с более серьезными последствиями, и поддерживало в корпоративном быту постоянный задор, амбициозность, невысокого сорта удальство — совершенно так, как до сих пор в Германии, где шрамы на лице считаются патентом на геройство. В Дерпте ударов по лицу не получали, потому что дуэли официально преследовались, и дрались в огромных кожаных шлемах. Поводы к дуэлям отличались вздорностью и внутри корпорации, и между буршами разных корпораций. Известное количество «шкандалов» надо было иметь с чужими; без этого репутация падала в глазах остальных.
Но и эта полукомическая игра в средневековые ордалии давала известный тон, вырабатывала большее сознание своего, хотя бы и внешнего, достоинства. Всякий должен был отвечать не только за свои поступки, но и за слова. Оправдания состоянием опьянения (так частого у буршей) не принимались.
С таким пережитком варварства я никогда не мирился и всегда это высказывал. И тогда уже среди немцев водились студенты (особенно теологи), которые не дрались, объявляя это «против их убеждения». Но в «Рутении» таких не было. Как всегда русские, когда обезьянят с чужого, теряют всякую самобытность. Но все это было напускное. Доказательство налицо. Те же бурши, после того как сбросили с себя иго «Коммана» и стали вместе с нами, «дикими», жить свободным товарищеским кружком, утратили всякий задор. В течение двух лет не случилось у нас ни одной дуэли, ни одной даже неприятной истории между своими, не оказалось надобности учреждать и «суд чести», какой завели у себя немцы. Это учреждение (вероятно, оно и до сих пор существует) поддерживало известную нравственную дисциплину; идею его похулить нельзя, но разбирательства всего больше вертелись около «шкандалов», вопросов «сатисфакции» и подчинения «Комману»; я помню, однако, что несколько имен стояло на так называемом «списке лишенных чести» за неблаговидные поступки, хотя это и не вело к ходатайствам перед начальством — об исключении, даже и в случаях подозрения в воровстве или мошеннических проделках.
Наш вольный кружок уже через каких-нибудь полгода потерял прежнюю буршикозную физиономию. Нас, «диких», принесших с собою другие умственные запросы и другие нравы, прозвали эллинами в противоположность старым, пелазгам. Полного слияния, конечно, не могло произойти, но жили в ладу с преобладанием эллинской культуры.
В подведении этих дерптских итогов я уже забежал вперед. Держаться хронологического порядка повело бы к лишним подробностям, было бы очень пестро, пришлось бы и разбрасываться. Лучше будет разделить то, о чем стоит вспомнить, на несколько крупных пунктов.
Сначала — что представлял собою Дерпт в его общей жизни, как «академический» городок и как уездный городок остзейского края, который все-таки входил в состав Русской империи и, в известной степени, испытывал неизбежное воздействие нашего государственного и национального строя.
Затем, университет в его лучших представителях, склад занятий, отличие от тогдашних университетских городов, сравнительно, например, с Казанью, все то, чем действительно можно было попользоваться для своего общего умственного и научно-специального развития; как поставлены были студенты в городе; что они имели в смысле обще-развивающих условий; какие художественные удовольствия; какие формы общительности вне корпоративной, то есть почти исключительно трактирной (по «кнейпам») жизни, какую вело большинство буршей.
Русское общество в тогдашнем Дерпте, все знакомства, какие имел я в течение пяти лет, и их влияние на мое развитие. Наши светские знакомства, театральное любительство, характер светскости, отношение к нам, студентам, русских семейств и все развивавшаяся связь с тем, что происходило внутри страны, в наших столицах.
Мои экскурсии в вакационное время. Петербург, Москва, Нижний, деревня. Расширение кругозора наблюдений и всякого рода жизненных опытов.
В связи со всем этим во мне шла и внутренняя работа, та борьба, в которой писательство окончательно победило, под прямым влиянием обновления нашей литературы, журналов, театра, прессы. Жизнь все сильнее тянула к работе бытописателя. Опыты были проделаны в Дерпте в те последние два года, когда я еще продолжал слушать лекции по медицинскому факультету. Найдена была и та форма, в какой сложилось первое произведение, с которым я дерзнул выступить уже как настоящий драматург, еще нося голубой воротник.
«Ливонские Афины» представлялись издали, как и нам из Казани, чем-то гораздо более заграничным; вообще чем-то красивее и привлекательнее того, что имелось в действительности.
Дерпт, теперешний Юрьев, был в то время, то есть полвека назад, городком лучше обстроенным и более культурным, чем все уездные города, в каких я тогда бывал, даже самые многолюдные и бойкие. Его можно было сравнивать только с губернскими городами, не такими, как, например, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Нижний, но — весьма и весьма в его пользу — с такими, как Владимир, Витебск, Кострома. Выше я уже говорил, как он до сих пор мало изменился в своем центре, самом характерном квартале, на Маркте и смежных улицах.
Здание университета его не красит, потому что стоит в стороне, на узкой площадке. Но холмы, разбитые под парк (так называемый Dom), где руины католической церкви рыцарского ордена и здание клиник, анатомического театра и кабинетов, придают Дерпту особый живописный и совсем не провинциальный отпечаток. Эти верхи в последние годы обстроились в направлении железной дороги и разрослись в новый квартал, который был для меня неожиданностью, когда я навестил Юрьев после с лишком тридцатилетнего отсутствия, в 90-х годах.
И тогда в Дерпте можно было и людям, привыкшим к комфорту более, чем студенческая братия, устроиться лучше, чем в любом великорусском городке. Были недурные гостиницы, немало сносных и недорогих квартир, даже и с мебелью, очень дешевые парные извозчики, магазины и лавки всякого рода (в том числе прекрасные книжные магазины), кондитерские, клубы, разные ферейны, целый ассортимент студенческих ресторанов и кнейп.
Немецкая печать лежала на всей городской культуре с сильной примесью народного, то есть эстонского, элемента. Языки слышались на улицах и во всех публичных местах, лавках, на рынке почти исключительно — немецкий и эстонский. В базарные дни наезжали эстонцы, распространяя запах своей махорки и особенной чухонской вони, которая бросилась мне в нос и когда я попал в первый раз на базарную площадь Ревеля, в 90-х годах.
Но и тогда уже, то есть во второй половине 50-х годов, чувствовалось то, что «Ливонские Афины» принадлежат русскому государству и представляют собою уездный город Лифляндской губернии.
Во-первых, я нашел там в зиму 1855–1856 года целый гвардейский уланский полк, тот самый, где тогда еще служил Фет-Шеншин в обер-офицерских чинах. Он и воспитывался в немецком пансионе в одном из городков Лифляндской губернии. Долго оставался в Дерпте и целый отряд корпуса топографов, с училищем; была русская пробирная палатка, русская почта, разные другие присутственные места; много колониальных лавок, содержимых нашими ярославцами; а на базар приезжали постоянно русские староверы, беспоповцы из деревни Черной.
Город жил так, как описано в моем романе. Там ничего не прибавлено и не убавлено. Внешняя жизнь вообще была тихая; но не тише, чем в средних русских губернских городах, даже бойчее по езде студентов на парных пролетках и санях, особенно когда происходили периодические попойки и загородные экскурсии.
Мы, русские студенты, мало проникали в домашнюю и светскую жизнь немцев разных слоев общества. Сословные деления были такие же, как и в России, если еще не сильнее. Преобладал бюргерский класс немецкого и онемеченного происхождения. Жили домами и немало каксов, то есть дворян-балтов. Они имели свое сословное собрание «Ressource», давали балы и вечеринки. Купечество собиралось в своем «Casino»; а мастеровые и мелкие лавочники в шустер-клубе — «Досуг горожанина».
Всякий остзеец из Риги, Митавы, Ревеля, а тем более из мелких городов Прибалтийского края, находил в Дерпте все, к чему он привык, и ему жизнь в Дерпте должна была нравиться еще и по тому оттенку, какой придавала ей университетская молодежь.
При всей «буршикозности» корпоративного быта уличных оказательств молодечества почти что не водилось: шумной, бешеной езды, задиранья женщин, ночных скандалов. В одиннадцать часов педеля производили ночной обход всех ресторанов и пивных, заходили во все квартиры, где «анмельдованы» были попойки, и просили студентов разойтись.
В самые глухие часы уличная тишина нарушалась только студенческим кортежем в санях или шарабанах за город, в те корчмы, где происходили обыкновенно дуэли на рапирах.
Немец-гимназист из других городов края, попадая в дерптские студенты, устраивался по своим средствам и привычкам сразу без всяких хлопот и если в корпорации делал долги и тратил сравнительно много, то «диким» мог проживать меньше, чем проживали мы и в русских провинциальных университетских городах.
Слышно, что и теперь бедняки едут в Юрьев, зная, что там можно просуществовать чуть не на пятнадцать рублей в месяц!
То же возможно было и тогда.
Обыкновенно полугодовую квартиру, одну комнату с передней или без нее, нанимали с отоплением и мебелью за двадцать-тридцать рублей. Обед на двоих стоил тогда от четырех до шести рублей в месяц. Какой это был обед — не спрашивайте! Но такой едой довольствовались две трети студенчества, остальная треть ела в кнейпах и в «ресторациях» (Restauration) с ценами порций от пятнадцати до тридцати копеек.
Ничтожное меньшинство ходило в ресторан тогдашнего Hotel London с выписанными из Пруссии кельнерами, где можно было есть на марки — по двадцати копеек каждая.
Стоит все-таки напомнить, что такое был тот обед, который мы имели помесячно. Его приносили в судках (по-тамошнему «менажки»). Он состоял из двух блюд, причем каждое блюдо составляло, по больничному выражению, только полпорции. Суп вы редко получали; его заменяла каша-размазня или род лапши с прогорклым маслом. Второе блюдо — якобы мясное; но те «кровяные котлеты с патокой и коринкой», о которых упоминается в моем романе, не принадлежат вовсе к поэтическим мифам, а могли быть отнесены и к реальным возможностям.
И на такую-то пищу мы с моим казанским товарищем 3-чем сразу сели. Состояние наших финансов вскоре так ослабло, что пришлось, поджидая присылки денег, питаться не одну неделю сухарями из ржаного хлеба (мы их сами сушили в печке) с дешевым местным сыром, по двенадцати копеек фунт.
Тут я открою скобку и повторю еще раз (чтобы к этому уже более не возвращаться), что мы — в наше студенческое время и в Казани, и в Дерпте, да и в столицах — не смотрели такими глазами на свою нужду, как нынешняя молодежь.
Ведь и в наше время везде было немало бедняков среди своекоштных студентов. Согласитесь, если вы кормитесь месяцами на два рубля, питаетесь неделями черными сухарями с скверным сыром и платите за квартиру четыре-шесть рублей в месяц, вы — настоящий бедняк.
Но тогда не было в обычае, как я уже заметил, вызывать в обществе особый вид благотворительности, обращенной на учащихся. Не знали мы, студенты, того взгляда, что общество как будто обязано нас поддерживать. Это показалось бы нам прямо унизительным, а теперь это норма, нечто освященное традицией.
Не хочу впадать здесь в резко обличительный тон! При нынешних прерогативах университетской молодежи это — скользкая почва. Но я утверждаю положительно, что мы мирились с бедностью, дурной пищей, плохой квартирой — гораздо охотнее и выносливее; не позволяли себе делать из этой бедности какого-то мундира. А помощь тогда являлась крайне редко и скудно. Были казенные студенты, живущие в университете или нет (как в Петербурге), были кое-какие субсидии, но такого всеобщего искания денежной поддержки от государства и общества положительно не водилось в нравах студентов ни в Казани, ни в Дерпте. Благотворительных обществ для поддержки студентов нигде и не было.
Я до сих пор не знаю — сколько тогда значилось в Дерпте «казенных» студентов среди немцев, поляков, эстонцев и латышей; но среди русских — ни буршей, ни «диких» — не помню ни одного.
А какие мы были богачи — видно из того, что я сейчас привел насчет нашего питания с 3-чем в первый семестр нашего дерптского житья.
Правда, при мне состоял крепостной служитель. Но это была для меня только лишняя обуза! Приходилось брать квартиру побольше, а кормился наш Михаил Мемнонов у портного Петуха гораздо лучше нас — его господ!
Возвращаюсь к городу Дерпту и его ресурсам — в те месяцы, когда университет жил полною жизнью.
По развлечениям Дерпт, за все время моего житья там, не отличался большим разнообразием.
Театр «не допускался» — именно не допускался, а не то что не мог бы существовать.
Этот запрет шел прямо от университетского начальства. Опасались, должно быть, лишних расходов и отвлечения от занятий или влияния на нравственность студентов закулисных сфер.
Но расчет отзывался филистерски-учительским недомыслием.
Нынче и для народа строят у нас великолепные театры и хлопочут об этом Общества народной трезвости, желая оттягивать народ — от чего?.. От пьянства.
А в Дерпте кутежей, то сеть попросту пьянства — и у немцев, и у русских — было слишком достаточно. Кроме попоек и «шкандалов», не имелось почти никаких диверсий для молодых сил. Театр мог бы сослужить и общепросветительную и эстетическую службу.
Но начальство рассуждало по-своему, и эта традиция сохраняется, если не ошибаюсь, и до сегодня.
Только с половины мая приезжала в Дерпт плохая труппа из Ревеля и давала представления в балагане — в вакационное время, и то за чертой города, что делало места вдвое дороже, потому что туда приходилось брать извозчика (Такой остракизм театра поддерживался и пиетизмом местного лютеранства).
К чему же сводились художественные развлечения? Исключительно к музыке, к концертам в университетской актовой зале. Давались концерты, где действовал местный оркестр любителей и пелись квартеты членами немецких кружков — почти всегда студентами. Стоячие места стоили довольно дорого, всегда около рубля. Наезжали и знаменитости, но редко.
Больше студенту некуда было деться вечером. В Шустер-клуб вход им был затруднен из-за боязни скандалов, а остальные два клуба были мужские, картежные.
Так тянулось до учреждения университетского клуба — Academische Musse, в казенном здании около университета, где внизу спокон века помещался один из книжных магазинов.
Идею этого клуба поддержал тогдашний попечитель сенатор Брадке, герренгутер-пиетист и когда-то адъютант Аракчеева, умный и тонкий старичок, который давал мне рекомендательное письмо в Петербург к одному академику, когда я поехал туда продавать перевод «Химии» Лемана.
«Академическая Мусса» объединяла профессоров со студентами, и студенты были в ней главные хозяева и распорядители. Представительство было по корпорациям. Я тогда уже ушел из бурсацкой жизни, но и как «дикий» имел право сделаться членом Муссы. Но что-то она меня не привлекла. А вскоре все «рутенисты» должны были выйти из нее в полном составе после того, как немцы посадили и их и нас на «ферруф».
В этом профессорско-студенческом клубе шла такая жизнь, как в наших смешанных клубах, куда вхожи и дамы: давались танцевальные и музыкальные вечера, допускались, кажется, и карты, имелись столовая и буфет, читались общедоступные лекции для городской публики.
Русские в Дерпте, вне студенческой сферы, держались, как всегда и везде — скорее разрозненно. И только в последние два года моего житья несколько семейств из светско-дворянского общества делали у себя приемы и сближались с немецкими «каксами». Об этом я поговорю особо, когда перейду к итогам тех знакомств и впечатлений, через какие я прошел, как молодой человек, вне университета.
Никакого общества или организованного кружка среди русских чиновников, купцов, учителей я не помню в те времена.
В церкви сходились все, и в доме старшего священника, который в то же время читал для православных обязательный курс не только богословия и церковной истории, но психологии и логики.
Только под самый конец этого пятилетнего периода образовался род общества, которое открыло школу для девочек местных православных из простого люда, и я там целый год преподавал грамматику и арифметику.
Вот как жил город Дерпт, в крупных чертах, и вот что казанский третьекурсник, вкусивший довольно бойкой жизни большого губернского города с дворянским обществом, мог найти в «Ливонских Афинах».
Теперь остановлюсь на том, что Дерпт мог дать студенту вообще — и немцу или онемеченному чухонцу, и русскому; и такому, кто поступил прямо в этот университет, и такому, как я, который приехал уже «матерым» русским студентом, хотя и из провинции, но с определенными и притом высшими запросами. Тогда Дерпт еще сохранял свою областную самостоятельность. Он был немецкий, предназначен для остзейцев, а не для русских, которые составляли в нем ничтожный процент.
Но не нужно думать, что государственная власть не делала и тогда попыток к некоторому обрусению. Каждого студента на всех факультетах, в том числе и русского (что было совершенно лишнее), обязывали слушать лекции русской литературы. Их экзаменовали и из русского языка при поступлении в студенты. Но и то и другое сводилось к формальности. Масса остзейцев из своих гимназий (где уже читали русский язык), оканчивая курс с порядочными теоретическими познаниями, совершенно забывали русский язык к окончанию курса в университете. А те остзейцы из русских, которые там родились в онемеченных семействах, ходя на лекции православного богословия, не понимали того, что читает протоиерей. Помню два таких продукта остзейского быта: фон Атропова и сына русского дьячка в Ревеле, по фамилии Цветков (или что-то вроде этого), который состоял все время буршем в корпорации «Эстония».
Нечего и говорить, что язык везде — в аудиториях, кабинетах, клиниках — был обязательно немецкий. Большинство профессоров не знали по-русски. Между ними довольно значительный процент составляли заграничные, выписные немцы; да и остзейцы редко могли свободно объясняться по-русски, хотя один из них, профессор Ширрен, заядлый русофоб, одно время читал даже русскую историю.
Но мы разбираем здесь не вопрос национальной политики. На Дерптский университет следовало такому русскому студенту, как я, смотреть, как на немецкий университет и дорожить именно этим, ожидая найти в нем повышенный строй всей учебной и ученой жизни.
И в общем и в подробностях ожидания эти могли сбываться.
Уровень — не на всех факультетах одинаково — был действительно повышен, особенно в сравнении с Казанским университетом.
На моих двух факультетах, сначала физико-математическом, потом медицинском, можно было учиться гораздо серьезнее и успешнее. Я уже говорил, что натуралисты и математики выбирали себе специальности, о каких даме и слыхом не слыхали студенты русских университетов, то, что теперь называется: «предметная система».
И в то же время всякий химик, физик или натуралист, в тесном смысле, слушал все факультетские предметы. В профессорском составе значились такие ученые, как Карл Шмидт (химия), Кемц (физика), Медлер (астрономия). В Казани, кроме как в анатомическом театре да в лаборатории, — нигде не работали студенты. О физиологическом кабинете, о вивисекциях и демонстрациях на аппаратах на лекциях физиологии там не имели понятия! Профессор Берви показывал казанцам процесс деятельности сердца на своем носовом платке. Там терапию читал гомеопат, а фармакологию запоздалый эскулап, который рекомендовал марену против бледной немочи!
А в Дерпте на медицинском факультете я нашел таких ученых, как Биддер, сотрудник моего Шмидта, один из создателей животной физиологии питания, как прекрасный акушер Вальтер, терапевт Эрдман, хирурги Адельман и Эттинген и другие. В клиниках пахло новыми течениями в медицине, читали специальные курсы (privatissima) по разным отделам теории и практики. А в то же время в Казани не умели еще порядочно обходиться с плессиметром и никто не читал лекций о «выстукивании» и «выслушивании» грудной полости.
Блестящих и даже просто приятных лекторов было немного на этих двух факультетах. Лучшими считались физик Кемц и физиолог Биддер (впоследствии ректор) — чрезвычайно изящный лектор в особом, приподнятом, но мягком тоне. Остроумием и широтой взглядов отличался талантливый неудачник, специалист по палеонтологии, Асмус. Эту симпатичную личность и его похороны читатель найдет в моем романе вместе с портретами многих профессоров, начиная с моего ближайшего наставника Карла Шмидта, недавно умершего.
Он читал так связно и стремительно, что я долго не понимал его. Но особенно плохой дикцией и диалектикой отличался профессор Бухгейм — создатель новейшей фармакологии, и Рейсснер, анатом, обессмертивший себя отпрепарированием маленькой неровности в ушной кости, которое носит его имя: «Recessus Reissnerii». Этот читал ужасно по монотонности и «дубиноватости», как говорили мы, русские; но работать у него по описательной и микроскопической анатомии все-таки можно было не так, как в Казани. При мне кафедры «микроскопической анатомии» там и совсем еще не имелось.
Чтобы наглядно убедиться в громадной разнице «академических» (выражаясь и по-дерптски) порядков в Казани и Дерпте, стоит перечесть в моем романе описание экзаменов там и тут.
В Казани экзаменовались, как школьники, иногда даже с своими билетами, выдергивая их из-под обшлага мундира, в актовой зале, навытяжку перед столом экзаменатора.
В Дерпте не было и тогда курсовых экзаменов ни на одном факультете. Главные предметы сдавали в два срока: первая половина у медиков «philosophicum»; а у остальных «rigorosum». Побочные предметы дозволялось сдавать когда угодно. Вы приходили к профессору, и у него на квартире или в кабинете, в лаборатории — садились перед ним и давали ему вашу матрикульную книжечку, где он и производил отметки.
По химии мой двухлетний rigorosum продолжался целый день, в два приема, с глазу на глаз с профессором и без всяких других формальностей. Но из одного такого испытания можно бы выкроить дюжину казанских студенческих экзаменов. Почти так экзаменуют у нас разве магистрантов.
Для того, кто бы пожелал расширять свои познания и в аудиториях других факультетов (что нисколько не возбранялось), тогдашний Дерпт был, в общем, опять-таки выше. Особенно даровитых и блестящих лекторов водилось немного. На историко-филологическом факультете преобладала классическая филология; кафедры всеобщей литературы не имелось (да, кажется, и до сих пор ее нет). Но историю философии и разные части ее читали тогда только в Дерпте, и профессор Штрюмпель, последователь Гербарта, заграничный немец, выделялся своей диалектикой. Психологию он читал по Бенеке. Филология и лингвистика обогащались и восточными языками — на богословском факультете: арабским, сирийским и еврейским языками. Теология стояла на высоте германской экзегетики, И некоторые лекции могли весьма и весьма развивать и стороннего слушателя. Но направление на этом факультете отзывалось ортодоксальным лютеранством, хотя в городе водились и герренгутеры. Ортодоксальность большинства профессоров-теологов не мешала им преподавать, кроме лютеран, и тем полякам-кальвинистам, которые в Дерпте получали свое богословское образование, будущим кальвинистским пасторам.
По русской истории, праву и литературе приходилось довольствоваться более скудным составом профессоров и программ. Сколько помню, единственный русский юрист Жиряев по уходе его не был никем заменен. Русскую историю читал одно время приехавший после нас из Казани профессор Иванов, который в Дерпте окончательно спился, и его аудитория, сначала многолюдная, совсем опустела. Русскую литературу читал интересный москвич, человек времени Надеждина и Станкевича, зять Н. Полевого, Михаил Розберг; но этот курс сводился к трем-четырем лекциям в семестр. Лектором русского языка состоял Павловский, известный составитель лексикона, который в мое время и стал появляться в печати у рижского книгопродавца Киммеля.
Если б прикинуть Дерптский университет к германским, он, конечно, оказался бы ниже таких, как Берлинский, Гейдельбергский или Боннский. Но в пределах России он давал все существенное из того, что немецкая нация вырабатывала на Западе. Самый немецкий язык вел к расширению умственных горизонтов, позволял знакомиться со множеством научных сочинений, неизвестных тогдашним студентам в России и по заглавиям.
И все это — на почве большой умственной и учебной свободы. Студенчество подчинялось надзору только в уличной, трактирной и бурсацкой жизни. Этот надзор производили педеля — род сторожей. Но в университетское здание, в аудитории, кабинеты и даже коридоры они не заглядывали. Инспектора и субов и вовсе не существовало. И даже «обер-педель», знаменитый старик Шмит, допускался только в правление, докладывая ректору (впоследствии проректору) о провинившихся студентах, которых вызывали для объяснения или выслушивания выговоров и вердиктов университетского суда.
Как «возделыватель» науки (cultor), студент не знал никаких стеснений; а если не попадался в кутежных и дуэльных историях, то мог совершенно игнорировать всякую инспекцию. Его не заставляли ходить к обедне, носить треуголку, не переписывали на лекциях или в шинельных, как делали еще у нас в недавнее время.
По словесному и юридическому факультетам устраивали уже и тогда семинарии; а теологи упражнялись в красноречии и представляли на просмотр свои произведения.
И та, даже крайняя специализация, какую я нашел на физико-математическом факультете, существовала и у словесников и у юристов. Значилось несколько разрядов; кончали курс и «экономистами», и «дипломатами», и даже специально по статистике и географии.
При том же стремлении к строгому знанию, по самому складу жизни в Казани, Москве или Петербурге, нельзя было так устроить свою студенческую жизнь — в интересах чисто научных — как в тихих «Ливонских Афинах», где некутящего молодого человека, ушедшего из корпорации, ничто не отвлекало от обихода, ограниченного университетом с его клиниками, кабинетами, библиотекой — и невеселого, но бодрящего и целомудренного одиночества в дешевой, студенческой мансарде.
Словом, для общеевропейского умственного роста — находил это и я, и все, кто приезжал сюда учиться, а не «шалдашничать» — Дерпт как университет немецко-остзейского склада мог дать очень многое. Но для русского молодого человека, с того момента, как наше отечество в 1856 году встрепенулось и пошло другим ходом, в стенах alma mater воздух оставался совершенно чужим. Если бы за все пять лет забыть о том, что там, к востоку, есть обширная родиной что в ее центрах и даже в провинции началась работа общественного роста, что оживились литература и пресса, что множество новых идей, упований, протестов подталкивало поступательное движение России в ожидании великих реформ, забыть и не знать ничего, кроме своих немецких книг, лекций, кабинетов, клиник, то вы не услыхали бы с кафедры ни единого звука, говорившего о связи «Ливонских Афин» с общим отечеством. Обособленность, исключительное тяготение к тому, что делается на немецком Западе и в Прибалтийском крае, вот какая нота слышалась всегда и везде.
Это равнодушие к русскому движению оттолкнуло меня и от русских буршей, и только когда рухнула корпорация и образовался новый вольный русский кружок, наши закорузлые «бурсаки» стали сбрасывать с себя эту чисто дерптскую обособленность и безличный индифферентам.
В борьбе двух направлений, какая началась во мне в последние годы дерптской выучки, будущий писатель и пробудился и наметил свой путь в воздухе русских интересов, знакомств и интимных испытаний.
Начало этого внутреннего процесса совпало с образованием (после разрыва русской корпорации с немцами) нашего нового товарищеского кружка. К тому времени и меня начало забирать то, что шло из России. Я стал зачитываться русскими журналами. Горный чиновник, заведовавший местной пробирной палатой, организовал дешевый абонемент на русские журналы, и мой служитель, Михаил Мемнонов, очутился в рассыльных. Горный инженер был еще молодой малый, холостяк, ходил на лекции и в кабинеты при кафедре минералогии (ее занимал довольно обруселый остзеец профессор Гревингк) и переводил учебник минералогии. На просмотре этого перевода (по части языка) мы и сошлись.
Квартира при пробирной палате была обширная, с просторной залой, и в ней я впервые участвовал в спектаклях, которые устраивались учениками школы топографов, помещавшейся в том же казенном доме. Как во времена Шекспира, и женские роли у нас исполняли подростки-ученики. Мы сладили «Женитьбу» и даже второй акт из «Свадьбы Кречинского», причем я играл в гоголевской комедии Кочкарева, а тут — Расплюева. Пьеса Сухово-Кобылина была еще внове, и я успел видеть ее в Москве в одну из вакационных поездок домой.
Но и раньше, еще в «Рутении», я в самый разгар увлечения химией после казанского повествовательного опыта (вещица, посланная в «Современник») написал юмористический рассказ «Званые блины», который читал на одной из литературных сходок корпорации. И в ней они уже существовали, но литература была самая первобытная, больше немудрые стишки и переводцы. Мой рассказ произвел сенсацию и был целиком переписан в альбом, который служил летописью этих литературных упражнений.
Через «рутенистов» познакомился я и сошелся (уже позднее, когда вышел из корпорации) с типичным человеком 40-х годов, но совсем не в том значении, какое этот термин приобрел в нашем писательском жаргоне.
Это был русский барин с большим учено-литературным багажом, с своеобразной и чудаковатой умственной и нравственной физиономией — С. Ф. Уваров.
Таких я еще до того не встречал; не встречал никогда и нигде, ни в каких сферах и наслоениях русской интеллигенции.
По времени своей студенческой юности он принадлежал поколению Тургенева, Каткова, Леонтьева, Кудрявцева — и одновременно с ними попал в Берлин, где страстно предавался изучению филологии и истории литературы, в особенности Шекспира и итальянских поэтов. Но он вышел не из русской школы, кажется не был никогда гимназистом, не готовил себя ни к какой профессии. Сергей Федорович родился и воспитывался в богатой и родовитой семье, от отца — генерала эпохи Отечественной войны, и матери — Луниной, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны и родной сестры известного декабриста Лунина. Отца он рано лишился и с тех пор состоял «при маменьке» до весьма почтенных годов, все холостяком и вечным буршем, но буршем чисто платоническим, а в сущности архикабинетным человеком.
Германия, ее университетская наука и «академические» сферы укрепили в нем его ненасытную, но неупорядоченную любознательность и слабость ко всему традиционному складу немецкой студенческой жизни, хотя он по своей болезненности, (настоящей или мнимой) не мог, вероятно, и в юности быть кутилой.
Из-за границы он уже во второй период своей юности попал в Дерпт, здесь держал на кандидата и потом на магистра не по филологии, а по истории.
При мне он приехал «с маменькой» на новое житье уже магистром, человеком под сорок (если не за сорок) лет, с лысой, характерной головой, странного вида и еще болев странных приемов, и в особенности жаргона. Его «маменька» открыла у себя приемы, держала его почти как малолетка, не позволяла даже ему ходить одному по улицам, а непременно с лакеем, из опасения, что с ним сделается припадок.
Когда я стал бывать у него и был приглашаем на обеды и вечера «генеральши», я нашел в их квартире обстановку чисто тамбовскую (их деревня и была в той губернии) с своей крепостной прислугой, ключницей, поваром, горничными.
С «рутенистами» Уваров держался как бывший бурш, ходил на их вечеринки, со всеми, даже с юными «фуксами», был на «ты» и смотрел на их жизнь с особой точки зрения, так сказать, символической. Он находил такую жизнь «лихой» и, участвуя в их литературных сходках, читал там свои стихи и очерки, написанные чрезвычайно странным, смешанным языком, который в него глубоко въелся.
Он же после падения «Рутении», когда сложился наш новый кружок, пустил прозвище: пелазгов и эллинов.
Даже по своей европейской выучке и культурности он был дореформенный барин-гуманист, словесник, с культом всего, что германская наука внесла в то время в изучение и классической древности, и Возрождения, и средневековья. Уварова можно было назвать «исповедником» немецкого гуманизма и романтизма. И Шекспира, и итальянских великих поэтов он облюбовал через немцев, под их руководительством.
И в то же время он продолжал проходить по иерархии высших ученых степеней как историк, но, в сущности, никогда им не был. Не знаю, имел ли он когда-либо определенное намерение занять в России кафедру истории, древней или новой; по крайней мере, он ничего не делал, чтобы этого добиться. Его магистерская диссертация, защищенная до моего приезда в Дерпт, называлась: «О расселении болгар», а докторская, которую он защищал при мне, уже в конце 50-х годов, написанная также по-латыни (тогда это еще требовалось от словесника), носила такое трудно переваримое заглавие: «Об изменении формы управления в провинциях восточной империи».
Эта старина — древняя Болгария (когда болгары еще сидели на Волге) и Византия — не находилась нимало в связи с его постоянно взвинченным, чисто литературным настроением, но литературным не в смысле художественной писательской работы, а по предметам своих чтений, бесед, записей.
Повторяю: такого русского барина-интеллигента, с таким словесным дилетантством высшего пошиба, с таким обширным запасом чтений, воспоминаний, подготовки, при постоянном подъеме пестрой и своеобразной диалектики — я не знавал ни в людях его поколения, ни в дальнейших генерациях.
Как питомец тогдашних немецких аудиторий, он сохранил гораздо больший германский налет, чем, например, Тургенев. Не сухая эрудиция, не аппарат специальной учености отличали его, а неизменно юношеская любовь к прекрасному творчеству, к эллинской и римской мифологии и поэзии, к великому движению итальянских гуманистов, к староанглийской литературе, Шекспиру и его предшественникам и сверстникам, ко всем крупнейшим моментам немецкой поэзии и литературы, к людям «Sturm und Drang» периода до романтиков первой и второй генерации — к Тикам, Шлегелям, Гофманам, Новалисам.
Из такого высшего дилетантства не могло вытечь строгой научной работы. Мешала этому вся психическая организация этого русского барина-гуманиста. Натура слишком нервная, склонная к постоянным скачкам, к переходу от одной умственной области к другой. В своих записных книжках, которые составляли уже тогда целую библиотеку, записи он постоянно делал на всех ему известных языках: по-гречески, по-латыни, по-немецки, французски, английски, итальянски, и не цитаты только, а свои мысли, вопросы, отметки, соображения, мечты.
Судьба — точно нарочно — свела меня с таким человеком в ту полосу моей дерптской жизни, когда будущий писатель стал забивать естественника и студента медицины.
Сближение пошло быстро. От него пахнули на меня разом несколько изящных литератур и несколько эпох. В беседах с ним я бывал обвеян неувядаемыми красотами древнего и нового творчества, и во мне все разгоралась потребность расширить, насколько возможно, мое словесное образование, прочесть многое если не в подлинниках, то в переводах. Тогда же зародилось во мне желание изучать английский язык — Эсхил, Софокл, Эврипид, Шекспир, Данте, Ариосто, Боккачио, Сервантес, испанские драматурги, немецкие классики и романтики — специально «Фауст» — и вплоть до лириков и драматургов 30-х и 40-х годов, с особым интересом к Гейне, — вот что вносил с собою Уваров в наши продолжительные беседы у него в кабинете. И все это было скрашено и согрето его тоном, юмором, возгласами и полетами фантазии. Трудно было не привязаться к такому чудаку и не быть ему благодарным за те «заряды», какие давали моему назревающему писательству подобная подготовка и беззаветная любовь к области прекрасного слова.
К современным «злобам дня» он был равнодушен так же, как и его приятели, бурсаки «Рутении». Но случилось так, что именно наше литературное возрождение во второй половине 50-х годов подало повод к тому, что у нас явилась новая потребность еще чаще видеться и работать вместе.
В это время он ушел в предшественников Шекспира, в изучение этюдов Тэна о староанглийском театре. И я стал упрашивать его разработать эту тему, остановившись на самом крупном из предтеч Шекспира — Кристофере Марло. Язык автора мы и очищали целую почти зиму от чересчур нерусских особенностей. Эту статью я повез в Петербург уже как автор первой моей комедии и был особенно рад, что мне удалось поместить ее в «Русском слове».
Я тут по необходимости забегаю вперед. Перед этим прошло два дерптских сезона. Уваров продолжал жить домом, и мы — русские студенты — сделались в нем постоянными «филистерьянами», следуя жаргону буршей. Там я ставил впервые в Дерпте комедию Островского «Не в свои сани не садись», где играл Бородкина, и этот памятный тамошним старожилам спектакль начался комическими сценами из шекспировского «Сна в летнюю ночь» в немецком переводе Тика; а мендельсоновскую музыку исполнял за сценой в четыре руки сам С. Ф. с одним из бывших «рутенистов», впоследствии известным в Петербурге врачом, Тицнером.
Дом Уварова и был за этот период тем местом, где на русской почве (несмотря на международный гуманизм Сергея Федоровича) мои писательские стремления усилились и проявляли себя и в усиленном интересе к всемирной литературе и все возраставшей любовью к театру, в виде сценических опытов.
От Уварова пошли и другие русские знакомства в той дворянской светской полосе, какая сложилась в Дерпте в последние мои зимы.
На окраинах Дерпта стояла знаменитая «Мыза Карлово» — когда-то постоянная летняя резиденция Фаддея Булгарина — обширные хоромы с картинной галереей (с весьма грубоватыми новыми картинами), концертной залой и садом.
В ней две зимы жило семейство князя М. А. Дондукова-Корсакова. Через Уваровых и старшую дочь князя, Марью Михайловну, я сделался вхож в их дом и сошелся со всем женским персоналом этой фамилии, начиная с самой княгини и двух старших дочерей. Здесь, в гостеприимном Карлове, происходила моя дальнейшая писательская «эволюция». Все свои досуги и в денные и в вечерние часы я проводил в Карлове целых два года. Здесь я брал уроки английского языка у одной из княжон, читал с ней Шекспира и Гейне, музицировал с другими сестрами, ставил пьесы, играл в них как главный режиссер и актер, читал свои критические этюды, отдельные акты моих пьес и очерки казанской жизни, вошедшие потом в роман «В путь-дорогу».
Там же завязывались и мои остальные знакомства. Довольно часто на обедах и вечерах бывал у них профессор М. П. Розберг, слушал мои вещи и охотно рассказывал о литературно-университетской Москве 30-х и 40-х годов. Как профессор он был лентяй, и я ничем не мог у него попользоваться; но как у собеседника и человека своей эпохи — очень многим. Он же, когда я — уже автором, напечатавшим целую пятиактную комедию, — отправился окончательно в Петербург, дал мне письмо к своему сверстнику П. А. Плетневу, бывшему тогда ректором университета.
В Карлове после Дондуковых поселилась семья автора «Тарантаса» графа В. А. Соллогуба, которого я впервые увядал у Дондуковых, когда он приехал подсмотреть для своего семейства квартиру еще за год до найма булгаринских хором.
Признаюсь, он мне в тот визит к обывателям Карлова не особенно приглянулся. Наружностью он походил еще на тогдашние портреты автора «Тарантаса», без седины, с бакенбардами, с чувственным ртом, очень рослый, если не тучный, то плотный; держался он сутуловато и как бы умышленно небрежно, говорил, мешая французский жаргон с русским — скорее деланным тоном, часто острил и пускал в ход комические интонации.
Таким оставался он и позднее, когда я стал часто бывать у Соллогубов, но больше у жены его, графини Софьи Михайловны (урожденной графини Виельгорской), чем у него, потому что он то и дело уезжал в Петербург, где состоял на какой-то службе, кажется по тюремному ведомству.
Но мы с ним все-таки ладили. Я был к тому времени довольно уже обстрелянный «студиозус», любящий поспорить и отстоять свое мнение.
Как писатель тогдашний граф Соллогуб уже мало «импонировал» мне, как говорят в таких случаях. Не один я находил уже, что он разменялся на мелкие деньги. Его либеральная комедия «Чиновник» совсем меня не обманула ни в «цивическом» (гражданском), ни в художественном смысле. И в первый же вечер, когда граф (еще в первую зиму) пригласил к себе слушать действие какой-то новой двухактной пьесы (которую Вера Самойлова попросила его написать для нее), студиозус, уже мечтавший тогда о дороге писателя, позволил себе довольно-таки сильную атаку и на замысел пьесы, и на отдельные лица, и, главное, на диалог.
И со мною согласилась прежде всех остальных слушателей сама графиня. Автор не обиделся, по крайней мере не выказал никакого «генеральства», почти не возражал и вскоре потом говорил нашим общим знакомым, что он пьесу доканчивать не будет, ссылаясь и на мои замечания.
От такого критического успеха я не возгордился.
И граф не стал вовсе избегать разговоров со мною. Напротив, от него я услыхал — за два сезона, особенно в Карлове — целую серию рассказов из его воспоминаний о Пушкине, которого он хорошо знал, Одоевском, Тургеневе, Григоровиче, Островском.
Он действительно был первый петербургский литератор, у которого Островский прочел комедию «Свои люди — сочтемся!». И он искренно ценил его талант и значение как создателя бытового русского театра.
В таких людях, как граф Соллогуб, надо различать две половины: личность известного нравственного склада, продукт барски-дилетантской среды с разными «провинностями и шалушками» и человека, преданного идее искусства и вообще, и в области литературного творчества. В нем сидел нелицемерный культ Пушкина и Гоголя; он в свое время, да и в эти годы, способен был поддержать своим сочувствием всякое новое дарование. Но связи с тогдашними передовыми идеями у него уже не было настолько, чтобы самому обновиться. Он уже растратил все то, что имел, когда писал лучшие свои повести, вроде «Истории двух калош», и свой «Тарантас». Он действительно разменялся, кидаясь от театра (вплоть до водевиля) к этнографии, к разным видам полуписательской службы, состоя чиновником по специальным поручениям.
Но и в этой сфере он был для меня интересен. Только что перед тем он брал командировку в Париж по поручению министра двора для изучения парижского театрального дела. Он охотно читал мне отрывки из своей обширной докладной записки, из которой я сразу ознакомился со многим, что мне было полезно и тогда, когда я в Париже в 1867–1870 годах изучал и общее театральное дело, и преподавание сценического искусства.
В Соллогубе остался и бурш, когда-то учившийся в Дерпте, член русской корпорации. Сквозь его светскость чувствовался все-таки особого пошиба барин, который и в петербургском монде в года молодости выделялся своим тоном и манерами, водился постоянно с писателями и, когда женился и зажил домом, собирал к себе пишущую братию.
И тут — в предпоследнюю мою дерптскую зиму — он вошел в наше сценическое любительство, когда мы с благотворительной целью (в пользу русской школы, где я преподавал) ставили спектакли в клубе «Casino», давали и «Ревизора», и «Свадьбу Кречинского», и обе комедии Островского. Он приходил в наши уборные, гримировал нас и одевал и угощал при этом шампанским.
Его жена, графиня Софья Михайловна, была для всего нашего кружка гораздо привлекательнее графа. Но первое время она казалась чопорной и даже странной, с особым тоном, жестами и говором немного на иностранный лад. Но она была — в ее поколении — одна из самых милых женщин, каких я встречал среди наших барынь света и придворных сфер; а ее мать вышла из семьи герцогов Биронов, и воспитывали ее вместе с ее сестрой Веневитиновой чрезвычайно строго.
Тогда графиня уже была матерью целой вереницы детей, и старшая дочь (теперь Е. В. Сабурова) еще ходила в коротких платьях и носила прозвище Булки, каким окрестил ее когда-то Гоголь.
Воспоминания о Гоголе были темой моих первых разговоров с графиней. Она задолго до его смерти была близка с ним, состояла с ним в переписке и много нам рассказывала из разных полос жизни автора «Мертвых душ».
В маленьком кабинете графини (в Карлове) я читал ей в последнюю мою зиму и статьи, и беллетристику, в том числе и свои вещи. Тогда же я посвятил ей пьесу «Мать», которая явилась в печати под псевдонимом.
В семье Соллогуба в той же зале Карлова продолжалась, но уже менее широко и гостеприимно, жизнь дерптских русских.
Не знаю, выдавались ли такие же эпохи в дальнейших судьбах русской колонии с таким оживлением, и светским, и литературно-художественным. Вряд ли. Что-то я не слыхал этого потом от дерптских русских — бывших студентов и не студентов, с какими встречался до последнего времени.
В прямой связи с тем, что исходило от русских и шло из России, находились и мои поездки на вакации, сначала на все летние, а раза два-три и на зимние.
Первая поездка — исключительно в Петербург — пришлась на ближайшую летнюю вакацию. Перевод учебника химии Лемана я уже приготовил к печати. Переписал мне его мой сожитель по квартире З-ч, у которого случилась пистолетная дуэль с другим моим спутником Зариным, уже превратившимся в бурша. З-ч стал сильно хандрить в Дерпте, и я его уговаривал перейти обратно в какой-нибудь русский университет, что он и сделал, перебравшись в Москву, где и кончил по медицинскому факультету.
Впервые познал я в Петербурге хлопоты о помещении своего труда. Старик Клаус прослушал всю огромную рукопись с весны 1856 года и дал от себя удостоверение о достоинстве перевода. У меня были рекомендации к двум русским химикам — Воскресенскому и гораздо более известному, даже знаменитому, Н. Н. Зинину. Оба — бывшие ученики Юстуса Либиха, оба — академики, жившие в академических зданиях. Воскресенский ничего для меня не сделал. Зинин сейчас же познакомил меня с доктором Ханом, впоследствии редактором «Всемирного труда», где я печатал в конце 60-х годов свой роман «Жертва вечерняя». Доктор Хан свел меня к книгопродавцу Маврикию Вольфу, тогда еще только начинавшему свое книгоиздательство на том же месте, в Гостином дворе. Вольф купил у меня рукопись в сорок с лишком печатных листов за триста рублей. Из них он сто рублей мне не уплатил под тем предлогом, что перевод был не точен и он должен был отдать его кому-то на исправление. Это не помешало ему пропечатать то удостоверение, какое я получил от профессора Клауса.
Из двухсот рублей заплатил я шестьдесят 3-чу за переписку, сто сорок рублей были моим первым гонораром. Это приходилось по три рубля пятьдесят копеек за перевод печатного листа in 8, который я продолжал около двух лет. Не знаю, в какой степени перевод вышел удачен, но я, переводя и неорганическую и органическую части этого учебника, должен был создавать русские термины. Тогда химическая литература по-русски почти что не существовала. Вся она сводилась к двум учебникам: Гессе, русского немца, и к переводу неорганической химии француза Реньо. Органическую химию я слушал целый год у А. М. Бутлерова, но совсем не в таких размерах, какие значились в учебнике Лемана. Множество терминов я пустил впервые в русской печати, и мне некоторым подспорьем служили только учебники фармакологии, в том числе и перевод Эстерлена — того же доктора Хана — перевод местами очень плохой, с варварскими германизмами и с уродливыми переделками терминов.
Академик Зинин заинтересовал меня в те визиты, какие я ему делал. Я нашел в нем отъявленного противника самостоятельного развития физиологической химии, как раз специальности моего дерптского учителя Карла Шмидта.
Я еще не встречал тогда такого оригинального чудака на подкладке большого ученого. Видом он напоминал скорее отставного военного, чем академика, коренастый, уже очень пожилой, дома в архалуке, с сильным голосом и особенной речистостью. Он охотно «разносил», в том числе и своего первоначального учителя Либиха. Все его симпатии были за основателей новейшей органической химии — француза Жерара и его учителя Лорана, которого он также зазнал в Париже.
Зинин изображал его жертвой тупоумия и ученого генеральства таких тузов химического мира, как Дюма и знаменитый швед Берцелиус.
Я затруднился бы передать стенографически те выражения, какие соскакивали с губ Зинина. Некоторые были совершенно нецензурные.
В этом сказывался настоящий казанец начала 40-х годов, умный, хлесткий в своей диалектике и рассказах русак, хотя он был, если не ошибаюсь, сын француженки.
Мало знавал я на своем веку таких оригинальных русских самородков, как Зинин, который и в долгие годы заграничной выучки не утратил своего казанского «букета» во всем, что он знал, о чем думал и говорил. Тогда с молодыми учеными начальство не церемонилось. Зинина послали изучать химию, а потом ему приказали превратиться в технолога и еще во что-то по воле тогдашнего казанского самодура, попечителя Мусина-Пушкина. Он не без юмора рассказывал мне про все опыты, какие с ним проделывало начальство. И под конец, когда он перешел в медико-хирургическую академию, он должен был по тогдашнему уставу сдавать экзамены из всех естественных и медицинских наук.
Я еще застал Зинина в живых, когда я поселился в Петербурге, и незадолго до его смерти встречал его. Его лаборатория в академии перешла к Бутлерову, и в его академической квартире я бывал вплоть до смерти Александра — Михайловича уже в 80-х годах.
Оба знаменитых химика оказались казанцами. Бутлеров создал русскую «школу» химии, чего нельзя сказать про Зинина. Он оставался сам по себе, крупный ученый и прекрасный преподаватель, но не сыграл такой роли, как Бутлеров, в истории русской химической науки в смысле создания целой «школы».
Личность Зинина сделала мою летнюю экскурсию в Петербург особенно ценной. В остальном время прошло без таких ярких и занимательных эпизодов, о которых стоило бы вспоминать. Муж кузины моего отца, тогда обер-прокурор одного из департаментов сената, предложил мне жить в его пустой городской квартире. Его чиновничья фигура и суховатый педантский тон порядочно коробили меня; к счастию, он только раз в неделю ночевал у себя, наезжая с дачи.
Стояли петербургские белые ночи, для меня еще до того не виданные. Я много ходил по городу, пристроивая своего Лемана. И замечательно, как и провинциальному студенту Невская «перспектива» быстро приедалась! Петербург внутри города был таким же, как и теперь, в начале XX века. Что-то такое фатально-петербургское чувствовалось и тогда в этих безлюдных широких улицах, в летних запахах, в белесоватой мгле, в дребезжании извозчичьих дрожек.
И позднее, когда я попадал на острова и в разные загородные заведения, вроде Излера, я туго поддавался тогдашним приманкам Петербурга. И Нева, ее ширь, красивость прогулок по островам — не давали мне того столичного «настроения», какое нападало на других приезжих из провинции, которые годами вспоминали про острова, Царское, Петергоф.
Зимнего Петербурга вкусил я еще студентом в вакационное время в начале и в конце моего дерптского студенчества. Я гащивал у знакомых студентов; ездил и в Москву зимой, несколько раз осенью, проводил по неделям и в Петербурге, возвращаясь в свои «Ливонские Афины». С каждым заездом в обе столицы я все сильнее втягивался в жизнь тогдашней интеллигенции, сначала как натуралист и медик, по поводу своих научно-литературных трудов, а потом уже как писатель, решившийся попробовать удачи на театре.
Москва конца 50-х годов (где З-ч знакомил меня со студенческой братией) памятна мне всего больше знакомствами в ученом и литературном мире.
Через год после продажи перевода «Химии» Лемана я задумал обширное руководство по животно-физиологической химии — в трех частях, и первую часть вполне обработал и хотел найти издателя в Москве. Поручил я первые «ходы» 3-чу, который отнес рукопись к знаменитому доктору Кетчеру, экс-другу Герцена и переводчику Шекспира. Он в то время заведовал только что народившимся книгоиздательством фирмы «Солдатенков и Щепкин».
Мой учебник (первую его часть) весьма одобрил тогдашний профессор химии Лясковский, к которому я привез письмо от Карла Шмидта. Мне и теперь кажется курьезным, что студент задумал целый учебник «собственного сочинения», и самая существенная часть его — первая, удостоилась лестной рекомендации от авторитетного профессора.
Из-за издания моего учебника попал я к Кетчеру, и сношения с ним затянулись на несколько сезонов. Не один год на задней странице обертки сочинений Белинского стояло неизменно: «Печатается: Руководство к животно-физиологической химии. Петра Боборыкина».
Но на деле рукопись «и не думала» печататься, и уже конечно не автор ее был виновник такого обмана публики. Зачем так поступал Кетчер — не знаю; но что я прекрасно знаю и помню — это то, что он затягивал печатание сначала потому, что потребовались рисунки по химико-микроскопическому анализу крови и других животных жидкостей, образцы которых (с одного немецкого издания) я и доставил; а потом он требовал, кажется, окончание моей работы. Вскоре, однако, выяснилось, что рукопись моя затерялась, и я после того не мог ее получить ни лично (в проезды Москвой), ни через 3-ча.
Жаловаться, затевать историю я не стал, и труд мой, доведенный мною почти до конца второй части — так и погиб «во цвете лет», в таком же возрасте, в каком находился и сам автор. Мне тогда было не больше двадцати двух лет.
У Кетчера я бывал не раз в его домике-особняке с садом, в одной из Мещанских, за Сухаревой башней. Этот дом ему подарили на какую-то годовщину его друзья, главным образом, конечно, Кузьма Терентьевич Солдатенков, которого мне в те годы еще не удалось видеть.
В посмертных очерках и портретах, вошедших в том, изданный тотчас после кончины А. И. Герцена, есть превосходная характеристика Кетчера-друга, с которым Герцен впоследствии разошелся, и заочно. Охлаждение произошло со стороны Кетчера, вероятно испугавшегося дальнейшей фазы революционной эволюции своего московского закадыки. Кетчер у Герцена как вылитый, со всеми беспощадными подробностями его интимной жизни, вплоть до связи с простой женщиной — связи (кажется, впоследствии узаконенной), которая медленно, но радикально изменила весь его душевный облик.
И вот в такой период «перерождения» и зазнал я этого курьезного москвича, званием «штадт-физика» города Москвы, считавшегося еще в публике другом Герцена и Бакунина, Грановского, Огарева и всех радикалов 40-х и 50-х годов.
Такого же точно литературного Собакевича я не знавал, не исключая и М. Е. Салтыкова! Кетчеровский «смех» сделался легендарным. Слово «смех» слишком слабо… Надо было сказать «хохочущее ржание», которое раскатисто гремело после каждой фразы. Он был виртуозный ругатель. Про кого бы вы ни упоминали, особенно из петербургских писателей, он сейчас разражался каким-нибудь эпитетом во вкусе Собакевича. Помню, в один из наших разговоров от него особенно круто досталось Полонскому и Некрасову — одному по части умственных способностей, другому по части личной нравственности, и то и другое по поводу изданий их стихотворений, которые он должен был корректировать, так как их издала фирма «Солдатенков и Щепкин». Вся Москва десятки лет знала кетчеровскую огромную голову, и его рот с почернелыми большими зубами, и его топорно сбитую фигуру в вицмундире медицинского чиновника.
Дома он по утрам принимал в кабинете, окнами в сад, заваленном книгами, рукописями и корректурами, с обширной коллекцией трубок на длинных чубуках. Он курил «Жуков», беспрестанно зажигал бумажку и закуривал, ходил в затрапезном халате, с раскрытым воротом ночной рубашки не особенной чистоты. Его старая подруга никогда не показывалась, и всякий бы счел его закоренелым холостяком.
Из его приятелей я встретил у него в разные приезды двоих: Сатина, друга Герцена и Огарева и переводчика шекспировских комедий, и Галахова, тогда уже знакомого всем гимназистам составителя хрестоматии. Сатин смотрел барином 40-х годов, с прической a la moujik, а Галахов — учителем гимназии с сухим петербургским тоном, очень похожим на его педагогические труды.
Трудно мне было и тогда представить себе, что этот московский обыватель с натурой и пошибом Собакевича состоял когда-то душою общества в том кружке, где Герцен провел годы «Былого и дум». И его шекспиромания казалась мне совершенно неподходящей ко всему его бытовому habitus. И то сказать: по тогдашней же прибаутке, он более «перепер», чем «перевел» великого «Вилли».
Театр он любил и считал себя самым авторитетным носителем традиций Малого театра, но Малого театра мочаловско-щепкинской эпохи, а не той, которая началась с нарождением новой генерации исполнителей, нашедших в Островском своего автора, то есть Садовских, Васильевых, Косицких, Полтавцевых.
К Островскому Кетчер относился прямо ругательно, как бы не признавал его таланта и того, чем он обновил наш театр. Любимым его прозвищем было: «Островитяне, папуасы!..» Этой кличкой он окрестил всех ценителей Островского.
— Папуасы! Ха-ха! Островитяне! Ха-ха! Иерихонцы! Трактирные ярыги!
Вот что звенело в ушах дерптского студиоза — автора злосчастного руководства, когда он шел от Сухаревой башни к тому домику мещанки Почасовой (эта фамилия оставалась у меня в памяти десятки лет), где гостил у своего товарища.
Вероятно, Кетчер не мог не сознавать таланта и значения Островского, но ему, кроме разносной его натуры и вкоренившейся в него ругательной манеры, мешало запоздалое уже и тогда крайнее западничество, счеты с славянофилами, обида за европеизм, протест против купеческой «чуйки» и мужицкой «сермяги», которые начали водворяться на сцене и в беллетристике.
Об Аполлоне Григорьеве он выражался так же резко, и термин «трактирные ярыги» относился всего больше к нему.
Случилось мне за эти пять лет провести и зимние праздники в Москве, куда приехал пожить и полечиться и отец мой. Мы жили в тех архимосковских номерах челышевского дома, которые прошли через столько «аватаров» (превратностей) и кончили в виде миллионного «Метрополя» после грандиозного пожара. Тогда Малый театр снова захватил меня, после впечатлений гимназиста в зиму 1852–1853 года. Щепкин еще играл, и я его видел в «Свадьбе Кречинского» и в переделанной на русские нравы комедии Ожье «Le Gendre de m-r Poirier». Он уже сильно постарел и говорил невнятно от вставной челюсти, которая у него раз и выпала, но это случилось не при мне. Инцидент этот, как я говорю выше, передавал мне позднее в 60-х годах мой сотрудник по «Библиотеке для чтения» Ев. Н. Эдельсон.
Таланты Шуйского, Самарина и всех «папуасов» (по номенклатуре Кетчера) — Садовского, Сергея Васильева, его жены Екатерины, Степанова, Косицкой, Колосовой, Бороздиных, Акимовой — были в полном расцвете; а две замечательные старухи — Сабурова и Кавалерова — уже доживали свой сценический век.
Как я расскажу ниже, толчок к написанию моей первой пьесы дала мне не Москва, не спектакль в Малом, а в Александрийском театре. Но это был только толчок: Малый театр, конечно, всего более помог тому внутреннему процессу, который в данный момент сказался в позыве к писательству в драматической форме.
Поездки в Нижний и в деревню почти в каждую летнюю вакацию вели дальше эту скрытую работу над русской действительностью. И в Нижнем, и в усадьбе отца, я входил в жизнь дворянского общества и в крестьянский быт с прибавкой того разнообразного купеческого и мещанского разночинства, которое имел возможность наблюдать на Макарьевской ярмарке.
Сестра моя вышла замуж в Нижнем за местного дворянина, учившегося в Дерпте как раз в те годы, когда С. Ф. Уваров, приехав из-за границы, поступил в «Рутению» и готовился потом к магистерскому экзамену. Отношение ко мне всех моих нижегородских родных, начиная с матушки, вступило в новую фазу. Время и та самостоятельность, которая развилась во мне в Дерпте, сделали то, что на меня все смотрели уже как на личность. И прежняя разница между тем, как мне жилось в доме деда (где оставалась мать моя), и в тамбовской усадьбе у отца — уже не чувствовалась. Но с отцом все-таки жилось гораздо привольнее, как бы в воздухе товарищества. Мы проводили дни в откровенных беседах, я очень много читал, немного присматривался к хозяйству, лечил крестьян, ездил к соседям, с возрастающим интересом приглядывался и прислушивался ко всему, что давали тогдашняя деревня, помещики и крестьяне.
Запахло освобождением крестьян. Дед мой в Нижнем, еще бодрый старик за восемьдесят лет, ревниво и зорко следил за всем, что делалось по крестьянскому вопросу, разумеется не мирился с такими крутыми, на его аршин, мерами, но не позволял себе вслух никаких резких выходок. Отец не стоял на стороне реформы, как то меньшинство, которое поддерживало ее впоследствии, но особого раздражения не выказывал, не предавался преувеличенным страхам. Впоследствии он довольно долго состоял кандидатом в мировые посредники и не без гордости носил крест в память 19 февраля.
Ежегодные мои поездки «в Россию» в целом и в деталях доставляли обширный материал будущему беллетристу. И жизнь нашего дерптского товарищеского кружка в последние два года питалась уже почти исключительно чисто русскими интересами. Журналы продолжали свое развивающее дело. Они поддерживали во мне сильнее, чем в остальных, уже не одну книжную отвлеченную любознательность, а все возраставшее желание самому испробовать свои силы.
В семействе Дондуковых я нашел за этот последний дерптский период много ласки и поощрения всему, что во мне назревало, как в будущем писателе. Два лета я отчасти или целиком провел в их живописной усадьбе в Опочском уезде Псковской губернии. Там писалась и вторая моя по счету пьеса «Ребенок»; первая — «Фразеры» — в Дерпте; а «Однодворец» — у отца в усадьбе, в селе Павловском Лебедянского уезда Тамбовской губернии.
Петербургу принадлежит знаменательная доля впечатлений за последние дерптские годы и до того момента, когда я приступил к первой серьезной литературной вещи.
Довольно свежо сохранился у меня в памяти тот проезд Петербургом, когда выставлялась картина Иванова «Явление Христа народу». Я попал в воздух горячих споров и толков на Васильевском острове и помню, что молодежь (в том числе мои приятели и новые знакомцы из студентов) стояли за картину Иванова; а в академических кружках на нее сильно нападали. На Васильевском острове зазнал я немало студентов, принимавших потом участие в волнении 1861 года. Я гостил в квартире братьев того Вл. Бакста, с которым мы в Дерпте перевели первый том «Физиологии» Дондерса. Оба они известны публике; старший — как один из первых передовых издателей, переводчик немецких и английских книг; второй — как профессор физиологии. Позднее, к 60-м годам, к тем же кружкам принадлежал студент Н. Неклюдов, вожак студенческой братии, который начал свою известность с Петропавловской крепости, а кончил должностью товарища министра внутренних дел и умер в здании «у Цепного моста», превратившись из архикрасного в белоснежного государственника и обличителя крамолы.
Автором пьес я, еще студентом, попал и в тогдашний театрально-писательский мир, и в журнальную среду.
Из тогдашних крупных литераторов зазнал я Дружинина, к которому явился как к члену Театрально-литературного комитета, куда я представил уже свою комедию «Шила в мешке не утаишь», переименованную потом в «Фразеры». Из-за пьесы вышло знакомство с Я. П. Полонским, жившим в доме Штакеншнейдера. Он заставил меня прочесть мою вещь на вечере у хозяев дома, где я впервые видел П. Л. Лаврова в форме артиллерийского полковника, Шевченко, Бенедиктова, М. Семевского — офицером, а потом, уже летом, Полонский познакомил меня с М. Л. Михайловым, которого я видал издали еще в Нижнем, где он когда-то служил у своего дяди — заведующего соляным правлением.
Помню и маленький эпизод, о котором рассказывал С. В. Максимову в год его смерти, когда мы очутились с ним коллегами по академии. Это было в конце лета, когда я возвращался в Дерпт. У Доминика, в ресторане, меня сильно заинтересовал громкий разговор двух господ, в которых я сейчас же заподозрил литераторов. Это были Василий Курочкин и Максимов.
В последнюю мою поездку в Петербург дерптским студентом я был принят и начальником репертуара П. С. Федоровым, после того как мою комедию «Фразеры» окончательно одобрили в комитете и она находилась в цензуре, где ее и запретили. В судьбе ее повторилась история с моим руководством. Редакция «Русского слова» затеряла рукопись, и молодой автор оказался так безобиден, что не потребовал никакого вознаграждения.
Теперь, в заключение этой главы, я отмечу особенно главнейшие моменты того, как будущий писатель складывался во мне в студенческие годы, проведенные в «Ливонских Афинах», и что поддержало во мне все возраставшее внутреннее влечение к миру художественно воспроизведенной русской жизни, удаляя меня от мира теоретической и прикладной науки.
В корпорации, как я уже говорил, в тот семестр, который я пробыл в ней «фуксом», я в самый горячий период моего увлечения химией для оживления якобы «литературных» очередных вечеров сочинил и прочел с большим успехом юмористический рассказ «Званые блины», написанный в тоне тогдашней сатирической беллетристики.
После того прошло добрых два года, и в этот период я ни разу не приступал к какой-нибудь серьезной «пробе пера». Мысль изменить научной дороге еще не дозрела. Но в эти же годы чтение поэтов, романистов, критиков, особенно тогдашних русских журналов, продолжительные беседы и совместная работа с С. Ф. Уваровым, поездки в Россию в обе столицы. Нижний и деревню — все это поддерживало работу «под порогом сознания», по знаменитой фразе психофизика Фехнера.
Если б кто продолжал упорно отрицать бессознательную «церебрацию» — на моем примере должен бы был убедиться в возможности такого именно психического явления.
Я продолжал заниматься наукой, сочинял целый учебник, ходил в лабораторию, последовательно перешел от специальности химика в область биологических наук, перевел с товарищем целый том «Физиологии» Дондерса, усердно посещал лекции медицинского факультета, даже практиковал как «студент-куратор», ходил на роды и дежурил в акушерской клинике.
И в то же время писательская церебрация шла своим чередом, и к четвертому курсу я был уже на один вершок от того, чтобы взять десть бумаги, обмакнуть перо и начать писать, охваченный назревшим желанием что-нибудь создать.
В какой форме? Почему первая серьезная вещь, написанная мною, четверокурсником, была пьеса, а не рассказ, не повесть, не поэма, не ряд лирических стихотворений?
Поэтом, и даже просто стихотворцем — я не был. В Дерпте я кое-что переводил и написал даже несколько стихотворений, которые моим товарищам очень нравились. Но это не развилось. Серьезно я никогда в это не уходил.
Драматическая форма явилась сразу в виде замысла большой комедии из современных нравов опять-таки как результат бессознательной психической работы.
Наши спектакли в Дерпте, открывшие у меня актерские способности, и все мои русские впечатления делали для меня театр все ближе и ближе.
И вот раз (это было осенью), возвратившись из Петербурга, я стал думать о комедии, где героиней была бы эмансипированная девица, каких я уже видал, хотя больше издали.
Я попал в Александрийский театр на бенефис А. И. Шуберт, уже и тогда почти сорокалетней ingenue, поражавшей своей моложавостью. Давали комедию «Капризница» с главной ролью для бенефициантки. Но не она заставила меня мечтать о моей героине, а тогдашняя актриса на первое амплуа в драме и комедии, Владимирова. Ее эффектная красота, тон, туалеты в роли Далилы в переводной драме Октава Фёлье взволновали приезжего студента. И между этим спектаклем и замыслом первой моей пьесы — несомненная связь.
Обстановку действия и диалогов доставила мне помещичья жизнь, а характерные моменты я взял из впечатлений того лета, когда тамбовские ополченцы отправлялись на войну. Сдается мне также, что замысел выяснился после прочтения повести Н. Д. Хвощинской «Фразы». В первоначальной редакции комедия называлась «Шила в мешке не утаишь», а заглавие «Фразеры» я поставил уже на рукописи, которую переделал по предложению Театрально-литературного комитета.
Этот прием имел решающее значение. Стало быть, целый комитет считал меня уже молодым писателем, достойным поощрения.
Чем ближе подходил срок окончания курса, тем ближе был я к решению врачом не делаться, а заняться литературой как профессиональному писателю.
Замысел «Однодворца», написанного в усадьбе отца, был уже совсем свой, нисколько не навеянный ни впечатлениями сцены, ни мотивами тогдашней беллетристики, по крайней мере никаким определенным произведением. Комитет принял «Однодворца» сразу; журнал «Библиотека для чтения» поместил его в октябрьской книжке 1860 года. Мое писательское крещение совершилось. Измена химии и медицине уже совсем назрела. Когда «Однодворец» лежал в комитете, а потом в редакции толстого журнала, я в следующее лето уже написал драму «Ребенок». В ней идеализм с оттенком прекраснодушия был навеян тем воздухом, каким я уже более года дышал в семье Дондуковых. Это было и для меня пробуждение моего лиризма, потребности в любви и нежности, которые слишком долго лежали под спудом в душе студента, ушедшего в мозговую жизнь и в научную философию.
Когда я с вакации из усадьбы Дондуковых вернулся в Дерпт, писатель уже вполне победил химика и медика. Я решил засесть на четыре месяца, написать несколько вещей, с медицинской карьерой проститься, если нужно — держать на кандидата экзамен в Петербурге и начать там жизнь литератора.
И действительно, я написал целых четыре пьесы, из которых три были драмы и одна веселая, сатирическая комедия. Из них драма «Старое зло» была принята Писемским; а драму «Мать» я напечатал четыре года спустя уже в своем журнале «Библиотека для чтения», под псевдонимом; а из комедии появилось только новое действие, в виде «сцен», в журнале «Век» с сохранением первоначального заглавия «Наши знакомцы».
Этот заряд «творчества» (выражаясь высоким термином), хотя самые продукты и не могли быть особенно ценны, показывал несомненно, что бессознательная церебрация находилась в сильнейшем возбуждении. И ее прорвало в виде такой чрезмерной производительности перед оставлением «Ливонских Афин».
После напечатания «Однодворца» я стал считать драматическую литературу моей коренной областью.
О повествовательной беллетристике я не думал в двухлетний, уже прямо писательский, период моего студенчества. Будь это иначе — я бы написал повесть или хотя бы два-три рассказа.
После «Званых блинов» я набросал только несколько картинок из жизни казанских студентов (которые вошли впоследствии в казанскую треть романа «В путь-дорогу») и даже читал их у Дондуковых в первый их приезд в присутствии профессора Розберга, который был очень огорчен низменным уровнем нравов моих бывших казанских товарищей и вспоминал свое время в Москве, когда все они более или менее настраивали себя на идеи, чувства, вкусы и замашки идеалистов. Но Писемский в своих «Людях сороковых годов» изображает тогдашние нравы далеко не в розовом свете; а его эпоха отстояла от студенческих годов профессора всего на какой-нибудь десяток лет.
Эти казанские очерки были набросаны до написания комедий. Потом вплоть до конца 1861 года, когда я приступил прямо к работе над огромным романом, я не написал ни одной строки в повествовательном роде.
А беллетристика второй половины 50-х годов очень сильно увлекала меня. Тогда именно я знакомился с новыми вещами Толстого, накидываясь в журналах и на все, что печатал Тургенев. Тогда даже в корпорации «Рутения» я делал реферат о «Рудине». Такие повести, как «Ася», «Первая любовь», а главное, «Дворянское гнездо» и «Накануне», следовали одна за другой и питали во мне все возраставшее чисто литературное направление.
О «Дворянском гнезде» я даже написал небольшую статью для прочтения и в нашем кружке, и в гостиной Карлова, у Дондуковых. Настроение этой вещи, мистика Лизы, многое, что отзывалось якобы недостаточным свободомыслием автора, вызывали во мне недовольство. Художественная прелесть повести не так на меня действовала тогда, как замысел и тон, и отдельные сцены «Накануне».
Помню, я первый схватил книжку «Русского вестника», прибежал домой и читал до трех часов ночи в постели, и потом не мог заснуть до рассвета.
С тех пор я не помню, чтобы какая-нибудь русская или иностранная вещь так захватила меня, даже и в молодые годы.
Почти так же зачитывался я и «Обломовым»; и в нашем кружке, и в знакомых русских домах о нем целую зиму шли оживленные толки.
И все, что тогда печаталось по беллетристике получше и похуже, Григоровича, Писемского, Авдеева, Печерского, Хвощинской, М. Михайлова, а затем Щедрина (о первых его «Губернских очерках» я делал, кажется, доклад в нашем кружке) и начинающих: Николая Успенского, разных обличительных беллетристов — все это буквально поглощалось мною сейчас же, в первые же дни по получении книжек всех тогдашних больших журналов.
Островский, Потехин, Писемский (как драматург), Сухово-Кобылин так же питали мой писательский голод, как и беллетристы-повествователи.
И я стал сильно мечтать именно о театре и выливать все, что во мне назревало в этот студенческий период писательства с 1858 по 1860 год включительно, в драматическую форму.
Но в этот же трехлетний период я сделался и публицистом студенческой жизни, летописцем конфликта «Рутении» с немецким «Комманом». Мои очерки и воззвания разосланы были в другие университеты; составил я и сообщение для архилиберального тогда «Русского вестника». Катков и Леонтьев сочувственно отнеслись к нашей «истории»; но затруднились напечатать мою статью.
Когда в Казани в конце 50-х годов подуло другим ветром и началось что-то вроде волнения, я, как бывший казанец, написал целое послание, которое отправил моему товарищу по нижегородской гимназии Венскому. Оно начиналось возгласом: «Товарищи, други и недруги!» с эпиграфом из Вольтера: «Права истины неоспоримы». И этот эпиграф я взял в «разрывной» по тому времени книжке Бюхнера «Сила и материя». В послании к казанцам я проводил параллель между тем, что такое была Казань в мое время, и как можно учиться в Дерпте, причем некоторым кафедрам и профессорам досталось особенно сильно. Это «послание» имело сенсационный успех, разошлось во множестве списков, и я встречал казанцев — двадцать, тридцать лет спустя, — которые его помнили чуть не наизусть.
Мне самому было бы занимательно прочесть его в эту минуту; но я никогда не имел ни одного экземпляра. Я писал прямо набело, как отчетливо помню, на листах почтовой бумаги большого формата, и они составили порядочную тетрадку.
Стало, были опыты и по публицистике; но опять-таки ни одного цельного рассказа, ни плана повести и еще менее — романа!
Глава четвертая
Перед переселением в столицу — Неожиданное наследство — Мой план зимнего сезона в Петербурге — Первые впечатления писателя — Журнал «Библиотека для чтения» — П. А. Плетнев — П. И. Вейнберг, — М. Л. Михайлов — А. В. Дружинин — А. Ф. Писемский — Театральный мир, — Судьба «Однодворца» и «Ребенка» — Цензура Третьего отделения — Цензор И. А. Нордштрем — Первый сюжет русской труппы Ф. А. Снеткова — И. И. Сосницкий — Самойлов — Максимов — П. Каратыгин и Григорьев — Леонидов — Павел Васильев — Ф. Бурдин — Дебюты Нильского — Старые театральные порядки — Мои сверстники: Н. Потехин и актер-писатель Чернышев — Русская опера — Французский театр — Балет — Светские знакомства — На острову — Студенческий кружок — Университет — Н. Неклюдов — Жизнь писателей — Манифест 19 февраля — В аудиториях — Прерванный экзамен — Отъезд
Писательское настроение возобладало во мне окончательно в последние месяцы житья в Дерпте, особенно после появления в печати «Однодворца», и мой план с осени 1860 года был быстро составлен: на лекаря или прямо на доктора не держать, дожить до конца 1860 года в Дерпте и написать несколько беллетристических вещей.
Тогда драматическая форма владела всецело мною. Я задумал и выполнил в каких-нибудь три месяца целых четыре пьесы: одну юмористическую комедию, одну бытовую пьесу с драматическим оттенком и две драмы.
Из легкой комедии «Наши знакомцы» только один первый акт был напечатан в журнале «Век»; другая вещь — «Старое зло» — целиком в «Библиотеке для чтения», дана потом в Москве в Малом театре, в несколько измененном виде и под другим заглавием — «Большие хоромы»; одна драма так и осталась в рукописи — «Доезжачий», а другую под псевдонимом я напечатал, уже будучи редактором «Библиотеки для чтения», под заглавием «Мать».
Такая производительность кажется мне теперь просто фантастической. Молодость творит чудеса. Разумеется, эти пьесы, написанные в каких-нибудь три месяца, не были «перлами создания». Но для всех этих пьес у меня оказался все-таки реальный материал, накопившийся незаметно еще в студенческие годы.
Помню и более житейский мотив такой усиленной писательской работы. Я решил бесповоротно быть профессиональным литератором. О службе я не думал, а хотел приобрести в Петербурге кандидатскую степень и устроить свою жизнь — на первых же порах не надеясь ни на что, кроме своих сил. Это было довольно-таки самонадеянно; но я верил в то, что напечатаю и поставлю на сцену все пьесы, какие напишу в Дерпте, до переезда в Петербург.
Собственных обеспеченных средств у меня тогда не было. То, что я получал от отца, не превышало сносной студенческой субсидии. Первый гонорар из «Библиотеки для чтения» за «Однодворца» по пятидесяти рублей за лист составлял весьма скромную цифру.
Но надежда окрыляла. «Однодворец» был уже сразу одобрен к представлению на императорских сценах и находился в театральной цензуре. Также могли быть одобрены и те четыре вещи, которые я так стремительно написал.
Подо всем этим были еще и другие соображения и мечты.
Мое юношеское любовное увлечение оставалось в неопределенном status quo. Ему сочувствовала мать той еще очень молодой девушки, но от отца все скрывали. Семейство это уехало за границу. Мы нередко переписывались с согласия матери; но ничто еще не было выяснено. Два-три года мне нужно было иметь перед собою, чтобы стать на ноги, найти заработок и какое-нибудь «положение». Даже и тогда дело не обошлось бы без борьбы с отцом этой девушки, которой тогда шел всего еще шестнадцатый год.
Словом, я сжег свои корабли «бывшего» химика и студента медицины, не чувствуя призвания быть практическим врачом или готовиться к научной медицинской карьере. И перед самым новым 1861 годом я переехал в Петербург, изготовив себе в Дерпте и гардероб «штатского» молодого человека. На все это у меня хватило средств. Жить я уже сладился с одним приятелем и выехал к нему на квартиру, где мы и прожили весь зимний сезон.
И только что я водворился там, как получил депешу из Нижнего: дед мой по матери, П. Б. Григорьев, престарелый генерал павловских времен, умер, оставив мне по завещанию прямо (помимо того, что получала моя мать) два имения в черноземной полосе Нижегородской губернии.
Я сразу делался довольно состоятельным землевладельцем Лукояновского уезда Нижегородской губернии, где значилось, по тогдашнему выражению, сто с чем-то «душ» вскоре уже «временнообязанных» крестьян.
Для меня это была совершенная неожиданность. Дед, когда я приезжал в Нижний на вакации, был ко мне благосклонен; но ласков он не бывал ни с кем, и не только в разговорах со мною, но и с взрослыми своими детьми никогда не намекал даже на то, как он распорядится своим состоянием, сплошь благоприобретенным.
И вот я еще при жизни отца и матери — состоятельный человек. Выходило нечто прямо благоприятное не только в том смысле, что можно будет остаться навсегда свободным писателем, но и для осуществления мечты о браке по любви.
Но эта спавшая сверху благодать не изменила ни на йоту моих ближайших планов. Я не кинулся сейчас же в Нижний получать наследство, а оставил это до летних месяцев, когда сдам экзамен на кандидата.
И это ободрило меня больше всего как писателя — прямое доказательство того, что для меня и тогда уже дороже всего была свободная профессия. Ни о какой другой карьере я не мечтал, уезжая из Дерпта, не стал мечтать о ней и теперь, после депеши о наследстве. А мог бы по получении его, приобретя университетский диплом, поступить на службу по какому угодно ведомству и, по всей вероятности, сделать более или менее блестящую карьеру.
Но я этим ни на минуту не прельстился и тотчас же попросил у матушки и тетки (как сонаследниц моих) освободить меня от хозяйственных дел до июня, когда я предполагал уже сдать экзамен.
Мне предстояли в Петербурге два ближайших дела:
1) сдать экзамен; 2) сделаться профессиональным писателем.
Насчет экзамена я приехал уже с готовым планом.
Конечно, я мог бы остаться и без всякого диплома. Но мне делалось как-то жутко и как бы совестно перед самим собою — как же это я, после семилетнего пребывания в двух университетах (Казани и Дерпте), после того как сравнительно с своими сверстниками отличался интересом к серьезным занятиям (для чего и перешел в Дерпт), после того как изучал специально химию, переводил научные сочинения и даже составлял сам учебник, а на медицинский факультет перешел из чистой любознательности, и вдруг останусь «не кончившим курса», без всякого звания и всяких «прав»?
Сюда входил также и мотив моих брачных планов. Слишком уже я представлял бы из себя незначительную величину в глазах отца девушки, о которой продолжал мечтать.
Да и для литератора было бы в собственных же глазах неловко не иметь диплома высшего учебного заведения, хотя я и не рассчитывал ни на какие права и преимущества по службе.
И тут мне пригодилось то, что я был в Казани камералистом. Я знал, что в тогдашнем Петербургском университете на юридическом факультете существует так называемый «разряд административных наук», то есть такое же камеральное отделение, только без естественных наук и технологии, которые я слушал в Казани.
Это был как бы подфакультет политических наук, где слушались все юридические предметы, кроме церковного и римского права, судебной медицины, уголовного и гражданского судопроизводства.
Наезжая в Петербург еще дерптским студентом, я завязал знакомство и с тамошним студенчеством, главным образом через братьев Бакст, у которых один раз зимой и гостил на Васильевском острову. И я был в курсе многого, что делалось в университете, где тогда веяло уже новым духом, допущены были женщины, шло сильное движение, которое и разыгралось «событием» в сентябре 1861 года, когда университет был закрыт на целый год. Как раз в эту полосу я и попал; но на сдачу экзамена я посмотрел только как на завершение моих студенческих экскурсий в течение многих лет и приобретение диплома. Я решил поступить в вольнослушатели на второе полугодие 1860–1861 года. И надеялся употребить эти месяцы до мая включительно на усиленное чтение лекций и учебников; а экзамен сдать вместе с четверокурсниками отделения «административных наук». Из Дерпта я привез — кажется, единственное — рекомендательное письмо к тогдашнему ректору П. А. Плетневу от профессора русской словесности Розберга. О Плетневе я, конечно, имел понятие как о друге Пушкина и когда-то издателе «Современника». Я явился к нему, однако, не как будущий «вольный слушатель» — это для меня не составляло никакой важной статьи, — а как начинающий литератор.
Случилось так, что вторая жена Петра Александровича была в ближайшем родстве с одной из моих теток, свояченицей отца, А. Д. Боборыкиной. Тетка мне часто говорила о ней, называя уменьшительным именем «Сашенька».
И когда я сидел у Плетнева в его кабинете — она вошла туда и, узнав, кто я, стала вспоминать о нашей общей родственнице и потом сейчас же начала говорить мне очень любезные вещи по поводу моей драмы «Ребенок», только что напечатанной в январской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 год. Они с мужем прочли накануне «Ребенка», а после жены и муж стал в унисон с женою хвалить мою драму. Выходило так, что рекомендательное письмо дерптского профессора пришлось как нельзя более кстати. В нем говорилось о молодом писателе.
Плетнев тогда был уже пожилой человек, еще бодрый на вид, хорошего роста, с проседью, с выбритым лицом, держался довольно прямо, с ласковым выражением глаз; смотрел больше добрым приятелем, чем университетским сановником — в своем синем вицмундире со звездою. Он только что пришел с какого-то заседания и попросил позволения снять вицмундир и надеть домашний сюртучок. Все в нем отзывалось другой эпохой, вплоть до покроя коротких — только по щиколку — панталон и обуви на тонких подошвах, какую носил и мой дед. В литературные кружки он меня не обращал и не расспрашивал, с кем из петербургских литераторов я уже знаком. Как и оказалось потом, он стоял тогда уже совсем в стороне от литературного движения. К ректору у меня не было никакого дела, требующего особой рекомендации. Я по тогдашним правилам мог свободно поступить в вольные слушатели на второй семестр, внеся плату — что-то вроде двадцати пяти рублей. Эта цифра почему-то осталась у меня в памяти.
Самый университет не настолько меня интересовал, чтобы я вошел сразу же в его жизнь. Мне было не до слушания лекций! Я смотрел уже на себя как на литератора, которому надо — между прочим — выдержать на кандидата «административных наук».
Тянули меня к себе два мира: журналы и театр.
Первое ощущение того, что я уже писатель, что меня печатают и читают в Петербурге, — испытал я в конторе «Библиотеки для чтения», помещавшейся в книжном магазине ее же издателя, В. П. Печаткина, на Невском в доме Армянской церкви, где теперь тоже какой-то, но не книжный, магазин.
Я пришел получить гонорар за «Ребенка». Уже то, что пьесу эту поместили на первом месте и в первой книжке, показывало, что журнал дорожит мною. И гонорар мне также прибавили за эту, по счету вторую вещь, которую я печатал, стало быть, всего в каких-нибудь три месяца, с октября 1860 года.
В магазине я нашел и хозяина, самого Печаткина — личность, которая — увы! — сыграла довольно-таки печальную роль в моих испытаниях литературного деятеля, о чем расскажу дальше.
Это был один из членов обширной семьи местных купцов. Отец его — кажется, еще державшийся старообрядчества — был в делах с известным когда-то книгопродавцем и издателем Ольхиным как бумажный фабрикант, а к Ольхину, если не ошибаюсь, перешли дела Смирдина и собственность «Библиотеки для чтения», основанной когда-то домом Смирдина, под редакцией Сенковского — «барона Брамбеуса».
И вот одному из сыновей — Вячеславу — старик отдал книжное дело вместе с журналом, а до того держал его по горной промышленности. Мне об этом рассказывал сам издатель «Библиотеки для чтения», когда мы вступили в переговоры по покупке у него журнала в начале 1863 года. Тогда такие издатели журналов были еще в редкость. Теперь их сколько хотите, то есть промышленники купеческого звания, не имеющие ничего общего с литературой. К чести Печаткина надо сказать, он сам сознавал, что совсем не в своей роли, которая была ему навязана волей его родителя. Он считал себя «горным инженером», хотя специальной подготовки не имел; но был грамотный человек, вероятно учившийся в какой-нибудь коммерческой школе. По типу он не отзывался купеческим бытом, смотрел петербургским деловым человеком, очень старательно одевался, брил бороду, имел тон культурного человека, в разговоре чуть-чуть заикался, держал себя солидно, чопорно, никакого запанибратства с сотрудниками и с клиентами магазина не позволял себе.
Зато его главный приказчик в магазине, с наружностью щедринского поручика Живновского, как я его прозвал, был известен в литературном мире как самый неутомимый рассказчик и краснобай, одержимый страстью сообщения всяких новостей, слухов и анекдотов.
Я знавал его не один год; и никогда не был уверен — какая у него фамилия. Даже и в имени и отчестве его не был тверд, но, кажется, его звали Николай Павлович. Известно было, что он подвержен «запою», но в магазине я не видал его в скандальном образе, зато почти всегда очень возбужденным и неистощимым на болтовню. Он ходил обыкновенно за прилавком — от конторки до двери в узкую комнатку магазина (где потом была, кажется, меняльная лавочка) — и, размахивая руками, все говорил, представляя многое в лицах. Знал он всю пишущую братию, начиная с самых крупных писателей того времени. И по своему роду занятий имел постоянно дело с персоналом нескольких редакций.
У магазина не было особенно бойкой розничной торговли; но, кроме «Библиотеки для чтения», тут была контора «Искры» и нового еженедельника «Век», только что пошедшего в ход с января 1861 года, и сразу очень бойко, под главным редакторством П. И. Вейнберга, перед тем постоянного сотрудника «Библиотеки» при Дружинине и Писемском. О Вейнберге я узнал тогда же от этого приказчика, что называется, «всю подноготную». Он же мне сообщил и его адрес. А я уже слышал от своей родственницы, его знакомой по Тамбову, что П. И. справлялся обо мне у ней и очень желал бы пригласить меня в сотрудники.
С этого литературного знакомства я и начну здесь мои воспоминания о писательском мире Петербурга в 60-х годах до моего редакторства и во время его, то есть до 1865 года.
П. И. шел именно тогда, что называется, «полным ходом». Затеянный им еженедельник пошел также с небывалым успехом; подписка в начале года поднялась, кажется, до шести тысяч, что по тем временам была цифра необычайная.
Я явился к нему, предупрежденный, как сейчас сказал, о его желании иметь меня в числе своих сотрудников. Жил он и принимал как редактор в одном из переулков Стремянной, чуть ли не в том же доме, где и Дружинин, к которому я являлся еще студентом. Помню, что квартира П. И. была в верхнем этаже.
Встретил он меня особенно любезно и повторил то, что я уже слышал от моей тетки — барыни, получившей тогда как раз очень большое наследство и переехавшей из Тамбова, где ее муж служил.
Кто знаком с теперешней наружностью моего собрата — с его обликом «Нестора» петербургского писательского мира, — вряд ли мог бы составить себе понятие о тогдашнем его внешнем виде.
Он был резкий брюнет, с бородкой, уже с редеющей шевелюрой на лбу и более закругленными чертами лица, но с тем же тоном и манерами. Дома он носил длинный рабочий сюртук — род шлафрока, принимал в первой, довольно просторной комнате, служившей редакторским кабинетом. В «Веке» появился разбор моего «Ребенка», написанный самим редактором, — очень для меня лестный. Оценка эта исходила от такого серьезного любителя и знатока сценического дела. Он раньше, в Петербурге же, играл Хлестакова в том знаменитом спектакле, когда был поставлен «Ревизор» в пользу «Фонда» и где Писемский (также хороший актер) исполнял городничего, а все литературные «имена» выступали в немых лицах купцов, в том числе и Тургенев.
Вейнберга я в эту зиму 1860–1861 года (или в следующую) видел актером всего один раз, в пьесе «Слово и дело» на любительском спектакле, в какой-то частной театральной зале.
Автор этой комедии «с направлением», имевшей большой успех и в Петербурге и в Москве на казенных театрах (других тогда и не было), приводился потом Вейнбергу свояком, женатым на сестре его жены. Это был сын историка Устрялова, впоследствии издатель газеты, кончивший совершенным разорением и нищетой. П. И. играл в его комедии роль резонера пьесы. У него были на казенных сценах такие конкуренты, как Самойлов и Шумский. Мне тогда показалось, что роль была не совсем в темпераменте исполнителя. Он держался на сцене свободно, «читал» умно и значительно; но типа не создал. С Вейнбергом у меня сразу установились хорошие отношения. Я ему написал какие-то сцены; а раньше у него появился и первый акт моих «Знакомцев». На следующую зиму положение «Века» значительно покачнулось после истории с громовой газетной статьей М. Л. Михайлова «Безобразный поступок «Века».
Сам П. И. как-то в «Союзе писателей», уже в начале XX века, счел нелишним сделать — хоть и задним числом — сообщение в свою защиту, где он старался показать, до какой степени была преувеличена его вина перед тогдашним освободительным настроением литературных сфер. Некоторые из наших общих приятелей находили, что П. И. напрасно потревожил эту старину. Не следовало — на их оценку — оправдываться.
Я не хочу решать — кто прав, кто не прав в этом вопросе; я постараюсь только восстановить здесь «из запаса памяти» то, как разыгралась, в общих чертах, вся эта история тогда.
Она свелась, в сущности, к обличению со стороны Михайлова и не вызвала никакой громкой коллективной манифестации. Я не помню, чтобы вся тогдашняя либеральная пресса (в журналах и газетах) встала «как один человек» против фельетониста журнала «Век» с его псевдонимом Камень Виногоров (русский перевод имени и фамилии автора) и чтобы его личное положение сделалось тогда невыносимым. Даже «Искра», игравшая в Петербурге как бы роль «Колокола», ограничилась юмористическим стихотворением редактора В. Курочкина, написанным в размере пушкинских «Египетских ночей», которые г-жа Толмачева и читала где-то в Вятке или в Перми.
Помню до сих пор начало этих куплетов:
Чертог сиял, стихи звучали, И проза мерная лилась, Все восхищались, все зевали…И в той же «Искре» явился карикатурный рисунок, где Вейнберга в одежде кающегося грешника ведет на веревке Михайлов.
О М. Л. Михайлове я должен забежать вперед, еще к годам моего отрочества в Нижнем. Он жил там одно время у своего дяди, начальника соляного правления, и уже печатался; но я, гимназистом, видел его только издали, привлеченный его необычайно некрасивой наружностью. Кажется, я еще и не смотрел на него тогда как на настоящего писателя, и его беллетристические вещи (начиная с рассказа «Кружевница» и продолжая романом «Перелетные птицы») читал уже в студенческие годы.
В первый раз я с ним говорил у Я. П. Полонского, когда являлся к тому, еще дерптским студентом, автором первой моей комедии «Фразеры». Когда я сказал ему у Полонского, что видал его когда-то в Нижнем, то Я. П. спросил с юмором:
— Вероятно, в каком-нибудь неприличном месте?
И я вспомнил тогда, что Михайлова считали автором скабрезных куплетов на Нижегородскую ярмарку, где есть слобода Кунавино.
Ах, где та слобода, Где живут без труда?и т. д.
Про него же в Нижнем и Казани распевали куплеты:
Михайлов-пиита Тянет все клико, Не терпит лафита — Ибо не крепко.После знакомства с Вейнбергом я столкнулся с Михайловым у Писемского вскоре после приезда моего в Петербург. Он, уходя, жаловался Писемскому на то, что у него совсем нет охоты писать беллетристику.
— А ведь я был романист! — вскричал он.
— Заучились, батюшка, заучились… вот и растеряли талант! — пожурил его Писемский.
В эти годы Михайлов уже отдавался публицистике в целом ряде статей на разные «гражданские» темы в «Современнике» и из-за границы, где долго жил, вернулся очень «красным» (как говорили тогда), что и сказалось в его дальнейшей судьбе.
Сколько я мог тогда заметить, как новичок писатель в Петербурге, из-за «безобразного поступка «Века» не вышло, повторяю, никакого поднятия мыслей; «Век» продолжал выходить, и ни один из соредакторов Вейнберга — ни Дружинин, ни Безобразов, ни Кавелин — не покинули журнала, продолжали в нем участвовать.
Это сказалось только на подписке следующего года, которая вдруг сильнейшим образом упала. Но я не думаю, чтобы это вызвано было только историей с госпожой Толмачевой. Вообще журнал издавался неисправно, и сам П. И. впоследствии горько жаловался мне на то, как вели дело его пайщики-соредакторы.
Вся зима и лето прошли для издателя «Века» пестро и шумно; он был уже женихом, когда я с ним познакомился, и праздновал свою свадьбу летом на даче. Мне пришлось даже танцевать там и с его женой, и с свояченицей.
Судьбе угодно было столкнуть меня и с той провинциальной львицей, над которой посмеялся Вейнберг в своем фельетоне и прозой, и припевом:
Как ваше слово Живо, ново, Мадам Толмачева!Я ехал с ней на пароходе по Волге и был заинтересован ее видом, туалетом и манерой держать себя. Эта дама как нельзя больше подходила к той фигуре эмансипированной чтицы, какая явилась в злополучном фельетоне Камня Виногорова, хотя, кажется, П. И. никогда и нигде не видал ее в лицо.
С П. И. мы одинаково — он раньше несколькими годами — попали сразу по приезде в Петербург в сотрудники «Библиотеки для чтения». Там он при Дружинине и Писемском действовал по разным отделам, был переводчиком романов и составителем всяких статей, писал до десяти и больше печатных листов в месяц.
С дружининского кружка начались и его литературные знакомства и связи. Он до глубокой старости любил возвращаться к тому времени и рассказывать про «журфиксы» у Дружинина, где он познакомился со всем цветом тогдашнего писательского мира: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Некрасовым, Боткиным и др.
Он — также провинциал, как и я — испытывал вполне «благоговейное» чувство к этому синклиту. И беседы за ужином (где подавались неизменно котлеты с горошком) были для него в высшей степени интересными и развивающими.
Сколько раз он повторял до последних годов, что на такие писательские ужины он уже потом не попадал, потому что их и не бывало. Это были действительно сливки тогдашней литературы.
Но дружининский кружок — за исключением Некрасова — уже и в конце 50-х годов оказался не в том лагере, к которому принадлежали сотрудники «Современника» и позднее «Русского слова». Мой старший собрат и по этой части очутился почти в таком же положении, как и я. Место, где начинаешь писать, имеет немалое значение, в чем я горьким опытом и убедился впоследствии.
В зиму 1860–1861 года дружининские «журфиксы», сколько помню, уже прекратились. Когда я к нему явился — кажется, за письмом в редакцию «Русского вестника», куда повез одну из своих пьес, — он вел уже очень тихую и уединенную жизнь холостяка, жившего с матерью, кажется, все в той же квартире, где происходили и ужины.
Он умер еще совсем не старым человеком (сорока лет с чем-то), но смотрел старше, с утомленным лицом. Он и дома прикрывал ноги пледом, «полулежа» в своем обширном кабинете, где читал почти исключительно английские книжки, о которых писал этюды для Каткова, тогдашнего Каткова, либерала и англомана.
Но больным Дружинина нельзя еще было назвать. Хорошего роста, не худой в корпусе, он и дома одевался очень старательно. Его портреты из той эпохи достаточно известны. Несмотря на усики и эспаньолку (по тогдашней моде), он не смахивал на отставного военного, каким был в действительности как отставной гвардейский офицер.
Говорил он довольно слабым голосом, шепеляво, медленно, с характерными барскими интонациями. Вообще же, всем своим внешним видом похож был скорее на светского образованного петербургского чиновника из бар, чем на профессионального литератора.
Таких литераторов уже нет теперь — по тону и внешнему виду, как и вся та компания, какая собиралась у автора «Поленьки Сакс», «Записок Ивана Чернокнижникова» и «Писем иногороднего подписчика».
К 1861 году Дружинин, как и Тургенев, перестал быть сотрудником «Современника». Не знаю, разошелся ли он лично с Некрасовым к тому времени (как вышло это у Тургенева), но по направлению он, сделавшись редактором «Библиотеки для чтения» (которую он оживил, но материально не особенно поднял), стал одним из главарей эстетической школы, противником того утилитаризма и тенденциозности, какие он усматривал в новом руководящем персонале «Современника» — в Чернышевском и его школе, в Добролюбове с его «Свистком» и в том обличительном тоне, которым эта школа приобрела огромную популярность в молодой публике.
Если Тургеневу принадлежит фраза о Чернышевском и Добролюбове: «Один — простая змея, а другой — змея очковая», то Дружинин по своему тогдашнему настроению мог быть также ее автором. Он и в всемирной литературе не признавал, например, Гейне, потому что поэт, по его убеждению, не должен так уходить в «злобы дня» и пускать в ход сарказм и издевательство. Как критик он уже сказал тогда свое слово и до смерти почти что не писал статей по текущей русской литературе. В «Веке» он продолжал тогда свои юмористические фельетоны, утратившие и ту соль, какая значилась когда-то в его «Записках Чернокнижникова».
Студентом в Дерпте, усердно читая все журналы, я знаком был со всем, что Дружинин написал выдающегося по литературной критике. Он до сих пор, по-моему, не оценен еще как следует. В эти годы перед самой эпохой реформ Дружинин был самый выдающийся критик художественной беллетристики, с определенным эстетическим credo. И все его ближайшие собраты — Тургенев, Григорович, Боткин, Анненков — держались почти такого же credo. Этого отрицать нельзя.
Позднее, когда я ближе познакомился с Григоровичем (в 1861 году я только изредка видал его, но близко знаком не был), я от него слыхал бесконечные рассказы о тех «афинских вечерах», которые «заказывал» Дружинин.
Затрудняюсь передать здесь — со слов этого свидетеля и участника тех эротических оргий — подробности, например, елки, устроенной Дружининым под Новый год… в «семейных банях».
Григорович известен был за краснобая, и кое-что из его свидетельских показаний надо было подвергать «очистительной» критике; но не мог же он все выдумывать?! И от П. И. В. (оставшегося до поздней старости целомудренным в разговоре) я знал, что Дружинин был эротоман и проделывал даже у себя в кабинете разные «опыты» — такие, что я затрудняюсь объяснить здесь, в чем они состояли.
Я узнал обо всем этом позднее; но, когда являлся к нему и студентом, и уже профессиональным писателем, — никак бы не мог подумать, что этот высокоприличный русский джентльмен с такой чопорной манерой держать себя и холодноватым тоном мог быть героем даже и не похождений только, а разных эротических затей.
Вообще, надо сказать правду (и ничего обсахаривать и прикрашивать я не намерен): та компания, что собиралась у Дружинина, то есть самые выдающиеся литераторы 50-х и 60-х годов, имели старинную барскую наклонность к скабрезным анекдотам, стихам, рассказам.
Этим страдал прежде всего и сам откровенный рассказчик всяких интимностей о своих собратах — Григорович. Не чужд был этого, особенно в те годы, и Некрасов, автор целой поэмы (написанной, кажется, в сотрудничестве с М. Лонгиновым) из нравов монастырской братии. Отличался этим и Боткин. И Тургенев до старости не прочь был рассказать скабрезную историю, и я прекрасно помню, как уже в 1878 году во время Международного конгресса литераторов в Париже он нас, более молодых русских (в том числе и М. М. Ковалевского, бывшего тут), удивил за завтраком в ресторане и по этой части. Я его перед тем знал лично уже около пятнадцати лет (с 1864 года) и не предполагал, чтобы он был в состоянии услаждать себя такими вещами.
В этом сказывается эпоха, известная генерация, пережиток нравов.
Все они могли иметь честные идеи, изящные вкусы, здравые понятия, симпатичные стремления; но они все были продукты старого быта, с привычкой мужчин их эпохи — и помещиков, и военных, и сановников, и чиновников, и артистов, и даже профессоров — к «скоромным» речам. У французских писателей до сих пор — как только дойдут до десерта и ликеров — сейчас начнутся разговоры о женщинах и пойдут эротические и прямо «похабные» словца и анекдоты.
Все это мог бы подтвердить прежде всего сам П. И. Вейнберг. Он был уже человек другого поколения и другого бытового склада, по летам как бы мой старший брат (между нами всего шесть лет разницы), и он сам служит резким контрастом с таким барским эротизмом и наклонностью к скоромным разговорам. А ему судьба как раз и приготовила работу в журнале, где сначала редактором был такой эротоман, как Дружинин, а потом такой «Иона Циник», как его преемник Писемский.
К нему я теперь и перейду. Он был ведь главным объектом моих писательских планов и соображений. До переезда в Петербург я лично с ним не сносился. «Однодворца» снес к нему мой товарищ, музыкант М. Балакирев. Пьесу напечатали, мне прислали гонорар еще в Дерпт, и я не помню, чтобы между мной и Писемским установилась переписка. Я послал в редакцию «Ребенка», который тотчас же был принят. До того я, попадая в Петербург, вряд ли где видел Алексея Феофилактовича (или Филатовича, как его иные звали, особенно москвичи); но как писательская личность он был мне же хорошо известен. Я с гимназических годов читал все, что он печатал, начиная с «Москвитянина». Особенно живо сохранились у меня в памяти эпизоды его сатирической повести из московской жизни 40-х годов «Брак по страсти». И потом, вплоть до «Тысячи душ», я читал его очень усердно. Его пьеса «Горькая судьбина», напечатанная уже в «Библиотеке для чтения» (и получившая Уваровскую премию вместе с «Грозой» Островского), захватила меня в своем роде так же сильно, как когда-то «Банкрут» Островского. И все, что он раньше печатал в «Современнике» и «Библиотеке», вызывало не в одном мне из молодых читателей живейший интерес. Тогда, до начала 60-х годов, Писемский считался, несомненно, либеральным беллетристом, с заветами Гоголя, изобразителем всех темных сторон «николаевщины». И по своим журнальным связям он принадлежал к либеральному кружку «Современника». Некрасов дорожил его сотрудничеством, и работа в его журнале, дававшая хороший гонорар, побудила всего сильнее Писемского оставить службу в провинции и переселиться в Петербург, как профессиональному литератору, до редакторства в «Библиотеке». Та же самая тетушка, которая послужила trait d'union (связующей нитью) между мною и Вейнбергом, оказалась в родстве с женой Алексея Феофилактовича, урожденной Свиньиной, дочерью того литератора 20-х годов, который впервые стал издавать «Отечественные записки». И тут у меня вышло дальнее «свойство» с женой, как и у П. А. Плетнева. Писемский квартировал в те годы до самого своего переселения в Москву в том длинном трехэтажном доме (тогда Куканова), что стоит на Садовой против Юсупова сада, не доходя до Екатерингофского проспекта. Дом этот по внешнему виду совсем не изменился за целых с лишком сорок лет, и я его видел в один из последних моих приездов, в октябре 1906 года, таким же; только лавки и магазины нижнего жилья стали пофрантоватее.
Тогда, в начале 60-х годов, по соседству с ним на углу Екатерингофского проспекта помещалась управа благочиния, одно имя которой пахло еще николаевскими порядками. При ней значился и адресный стол.
Квартиру Писемский нанимал во втором этаже, по парадной лестнице, без швейцара, довольно обширную. Через просторную залу вы проходили налево, в его светлый кабинет с двумя окнами на улицу. Отделка этой комнаты стоит передо мной, как живая, точно я смотрю на ее изображение в стереоскоп. Прямо против двери у стены кресло перед письменным столом, где всегда принимал хозяин. Направо и налево висят литографии в натуральную величину, Беранже и Жорж Занд, в рамках. Они висели у него и в Москве, когда он жил в одном из своих домов, где я у него бывал. Слева — книжный шкаф, и в углу между шкафом и большим турецким диваном висела шуба, а под шубой — ночной сосуд. Эта житейская подробность как нельзя больше характерна для личности Писемского. «Жизнебоязненность» и помещичьи привычки! Шубу он держал, боясь, что у него ее украдут из передней, а «фиал гнева» (как называл один мой приятель в Дерпте) потому, что лень было удаляться из кабинета за естественной надобностью. Левую от двери стену занимал клеенчатый диван.
Позднее я часто заставал Писемского совершенно по-домашнему, то есть в халате, в ночной рубашке и непременно с обнаженной чуть не до пояса жирной и мохнатой грудью. В таком виде он писал по целым дням и вообще не имел привычки с утра одеваться. Но тут я его застал — это было уже не рано — одетым в светло-серый костюм из мохнатой материи, хорошо сшитый. Наружность его была мне уже знакома по литографированному портрету из коллекции Мюнстера, появившемуся в продаже незадолго до того. Позднейшие портреты (например, знаменитый портрет работы Перова в Третьяковской галерее) дают уже слишком растрепанного и дикого Писемского. В Москве он стал бриться, когда поступил опять на службу в губернское правление. Превосходный портрет Репина — из последних годов его московской жизни — изображает уже человека обрюзгшего, с видом почти клинического субъекта и в том «развращенном» виде, в каком он сидел дома и даже по вечерам принимал гостей в Москве.
Тогда же, в январе 1861 года, он был мужчина еще молодой, с интересной некрасивостью, плотный, но не ожирелый. Темные глаза с блеском, несколько курчавые волосы, бородка. Пальцы толстые и тогда уже были выпачканы в чернилах. Профессиональным писателем он не смотрел, а скорее помещиком; но и чиновничьего не было в нем ничего, сразу бросавшегося в глаза, ни в наружности, ни в манерах, ни в тоне, хотя он до переезда в Петербург все время состоял на службе в провинции, в Костроме. Костромского можно было в нем распознать сразу — по говору. По этой части он был человек чисто «бытовой», хотя и дворянского рода, помещик и сын помещиков. Но местный говор удержался в нем сильнее, чем в других костромских из образованного класса, например в его младшем сверстнике, покойном Максимове, в его ближайшем земляке Алексее Потехине и его братьях.
Как уроженец Нижнего я с детства наслушался тамошнего народного говора на «он» и в городе, от дворовых, мещан, купцов, и в деревне от мужиков. Но нижегородский говор отличается от костромского. Когда к нам в дом летом приходили работники костромские (плотники из Галичского уезда, почему народ, в том числе и наши дворовые, всегда звали их «галки»), я прислушивался к их говору и любил болтать с ними.
Писемский был родом из Кинешемского уезда, но у него сохранился говор «галок». Это звучит не особенно резко на «он», а сказывается больше в известного рода певучести и в растяжении и усечении гласных. Окончания глаголов: «глотает», «начинает» и т. д. он произносит, как аат, а фамилию Плещеева — Плещээв с открытым «э». Словом, никто уже в писательском мире — и тогда, и позднее, за целых сорок лет — не имел такого «акцента», как Писемский, и только в последние годы Максим Горький не освободился от своего говора на «он», совершенно в таком роде, как говорят у нас в Нижнем мастеровые, мещане, мелкие лавочники, семинаристы.
Сопоставление этих писателей двух эпох, сохранивших народный говор, будет тут совершенно кстати для характеристики Писемского. В авторе «На дне» чувствуется нижегородский обыватель простого звания, прямо из мира босяков и скитальцев попавший в всесветные знаменитости, без той выправки, какую дает принадлежность к высшему сословию, средняя школа, университет. И в Писемском вы видели нечто в таком же роде на почве личных и отчасти бытовых особенностей. Но он был провинциальное, помещичье чадо, хватившее потом и жизни Москвы, где он учился в университете, типичный представитель дворянско-чиновничьего класса 50-х годов. Разночинцем в особенном смысле от него не пахло. Это был, при всех своих слабостях и чувственном характере, человек «умственный», природно чрезвычайно умный и острый, иногда с циническим оттенком. Но тут надо различать две половины Писемского или, лучше, два его состояния; трезвое и возбужденное. Он был склонен к возлияниям, хотя тогда еще вовсе не форменный алкоголик; по рассказам тех, кто знал его кутежи, бывал способен на самые беспардонные проявления своего кутильно-эротического темперамента — и в России (в особенности в Петербурге, по водворении туда), и за границей, в Париже. П. И. Вейнберг сохранил в своей памяти гомерические эпизоды, когда ему приходилось ездить за Писемским в такие места, где он предавался вакханалиям не одни сутки, и увозить его оттуда. Но я его видел пьяным всего один раз — у него дома и по совершенно особому случаю, о чем расскажу дальше.
Обыкновенно, и днем в редакционные часы, и за обедом, и вечером, когда я бывал у него, он не производил даже впечатления человека выпивающего, а скорее слабого насчет желудочных страстей, как он сам выражался. Поесть он был великий любитель и беспрестанно платился за это гастрическими схватками. Помню, кажется на вторую зиму нашего знакомства, я нашел его лежащим на диване в халате. Ему подавал лакей какую-то минеральную воду, он охал, отдувался, пил.
— Что с вами? — спрашиваю я его.
— Ох, батюшка!.. Уходил себя дикой козой! Увидал я ее в лавке у Каменного моста… Три дня приставал к моей Катерине Павловне (имя жены его): «Сделай ты мне из нее окорочок буженины и вели подать под сливочным соусом». Вот и отдуваюсь теперь!
И вообще он был самый яркий ипохондрик (недаром он написал комедию под таким заглавием) из всего своего литературного поколения, присоединяя сюда и писателей постарше: Анненкова, Боткина, а в особенности Тургенева, который тоже был мнителен, а холеры боялся до полного малодушия. Чуть что — Писемский валялся на диване, охал, ставил горчичники, принимал лекарство и с своим костромским акцентом взвывал:
— Понимаашь? Подпираат, братец, подпираат мне всю нутренную!..
Но при всех этих курьезных повадках и слабостях он вообще вел себя с тактом, был скорее сдержан, я бы сказал даже — с большим сознанием того, кто он, но без напыщенности. Вы сейчас чувствовали, что это крупный писатель, и с первых слов видели, как бойко и своеобразно играл в нем наблюдательный, часто насмешливый, ум. Он мог подаваться, особенно после событий 1861–1862 годов, в сторону охранительных идей, судить неверно, пристрастно обо многом в тогдашнем общественном и чисто литературном движении; наконец, у него не было широкого всестороннего образования, начитанность, кажется, только по-русски (с прибавкой, быть может, кое-каких французских книг), но в пределах тогдашнего русского «просвещения» он был совсем не игнорант, в нем всегда чувствовался московский студент 40-х годов: он был искренно предан всем лучшим заветам нашей литературы, сердечно чтил Пушкина, напечатал когда-то критический этюд о Гоголе, увлекался с юных лет театром, считался хорошим актером и был прекраснейший чтец «в лицах». В нем, если взять его лучшее время, до начала 60-х годов, сказывалось очень большое соответствие между человеком и писателем. Он был чрезвычайно похож на свои произведения — во всех смыслах: и в положительную и в отрицательную сторону. Сила, ум, цепкая наблюдательность, своеобразная форма, беспощадный реализм всего миропонимания; а рядом с этим склонность к обличению того, что ему было не по душе в новом строе общества и литературы, грубоватость приемов, чувственность, чисто русские слабости и пороки — малодушие, себе на уме, приобретательская жилка. Когда я с ним познакомился, он был уже на перепутье: между общим либерализмом людей его эпохи и отчуждением оттого, что тогда представлял собою кружок Чернышевского, «Искры» и других центров петербургского радикализма. Но реакционера в нем еще тогда не было, ни в политическом, ни в религиозном, ни в чисто литературном смысле. Он, я помню, стал мне говорить в одно из первых моих посещений о Токвиле, книга которого переводилась тогда в «Библиотеке для чтения», высказывался о всех наших порядках очень свободно, заинтересован был вопросом освобождения крестьян вовсе не как крепостник.
Не нужно забывать, что Писемский по переезде своем в Петербург (значит, во второй половине 50-х годов) стал близок к Тургеневу, который одно время сделал из него своего любимца, чрезвычайно высоко ставил его как талант, водил с ним приятельское знакомство, кротко выносил его разносы и участвовал даже волей-неволей в его кутежах. Тургенева как художника Писемский понимал очень тонко и определял образно и даже поэтично обаяние его произведений.
— Это — благоухающий сад… и в нем беседка. Вы сидите в ней, и над вами витают светлые тени его женщин.
Но он, хоть и добродушно, не прощал Тургеневу слабость его характера и неустойчивость его в отношениях к людям и даже в идеях, симпатиях и убеждениях.
— Человек в жизни своей не имел ни семьи, ни жены, ни открытой любовницы, ни закадычного друга.
Он и на многолетний роман с Виардо смотрел как на доказательство «тряпичности» натуры своего приятеля.
Не прощал он ему тогда и его петербургских великосветских связей, того, что тот водился с разными высокопоставленными господами из высшего «монда». Могу довольно точно привести текст рассказа Писемского за обедом у него, чрезвычайно характерный для них обоих. Обедал я у Писемского запросто. Сидели только, кроме хозяина, жена его и два мальчика-гимназиста.
Тургенев приглашал его к себе провести вечер.
«Пришел и Огарев (тогда только что отпущенный за границу), а хозяин вскоре скрылся. Он извинился перед нами, что ему надо непременно куда-то ехать в «монд», и обещал пробыть не больше как с час, много полтора. Остались мы вдвоем с Огаревым. Я его тогда в первый раз видел. Парень душевный… Человек подал нам водки и закуски. Мы с ним опорожнили графинчик и спросили второй. И оба мы распалились на Ивана Сергеевича за такое его малодушие: пригласил приятелей, а сам полетел к какой-нибудь кислой фрейлине читать рассказ. Сидим час, другой, спросили и третий графинчик. Звонок. Но вместо самого Тургенева является какой-то великосветский барин в звании камер-юнкера (кажется, это был Маркевич — тогда еще приятель Тургенева) в белом галстуке и во фраке. Мы его спрашиваем: пьете водку? Он отказался и стушевался минут через пять, увидев, на каких ребят он наскочил. И только в час ночи возвращается Тургенев и начинает извиняться. Вот мы его тогда с Огаревым и принялись валять в два жгута. А он только просит прощения. И меня сильно хмельного привез домой и довел до передней».
— Да, папа, — остановил Писемского его старший сын Паша (впоследствии профессор Московского университета), — ты был сильно, выпивши, и Тургенев внес сам в руках твои калоши. Ты их растерял на лестнице.
Тургеневу он не прощал и приятельства с таким «лодырем» (так он называл его), как Болеслав Маркевич — тогда еще не романист, а камер-юнкер, светский декламатор и актер-любитель, стяжавший себе громкую известность за роль Чацкого в великосветском спектакле в доме Белосельских, где он играл с Верой Самойловой в роли Софьи.
— Не водитесь вы с ним! — упрашивал он и меня. — Наверно вытянет у вас сто рублей без отдачи… а то хоть и беленькую. Я его не принимаю, а ежели он нахально станет клянчить — я ему говорю: «Для вас нет у меня денег».
И каждый раз Писемский прибавлял:
— А Иван Сергеевич водит приятельство с такой дрянью! Мое знакомство с великолепным «Болеславом» вышло вот каким образом в первую же зиму. Он жил на одной квартире с неким Казначеевым, бывшим чиновником при графе Закревском в Москве, как и Маркович. А Казначеева я знал через семейство князей Дондуковых. Маркевич пожелал меня «шармировать», стал рассказывать про свои светские связи и приятельство с «Иваном Сергеевичем», прохаживаясь насчет его бесхарактерности и беспринципности. Между прочим, он мне изобразил в лицах (он был большой краснобай), как Тургенев во дворце у Елены Павловны на рауте сначала ругательски ругал весь этот высший монд; а когда одна великая княгиня сказала ему несколько любезностей, то «весь растаял». Этим рассказом я воспользовался впоследствии в романе «Жертва вечерняя», где у меня является некий Балдевич, очень смахивающий на Марковича. Тогда Тургенев его уже отстранил от своей особы, и реакционный романист мстил ему за это всю жизнь.
Водил он близкое приятельство с графом В. Соллогубом, которого я застал в Петербурге одного в меблированной квартире в доме Воронина, в Фонарном переулке за чтением вслух моей драмы «Ребенок». Сидел тут Маркович, и Соллогуб заставил его докончить чтение. А когда мы шли от Соллогуба вдвоем, то Маркович всю дорогу сплетничал на него, возмущался: какую тот ведет безобразную жизнь, как он на днях проиграл ему у себя большую сумму в палки и не мог заплатить и навязывал ему же какую-то немку, актрису Михайловского театра. Я сам не мог и тогда понять — как И. С. Тургенев водит приятельство с таким индивидом и позволяет ему играть в великосветском обществе роль присяжного чтеца его произведений? Писемский был сто раз прав в своих грубых, но справедливых разносах.
Своеобычный Алексей Феофилактович жил в Петербурге так, как жил бы в Костроме помещик или видный чиновник: просторная квартира с приличной обстановкой, но без всякой оригинальности, как говорится, «общеармейского» типа. Была прислуга, как в каждом барском доме средней руки: лакей, повар, горничная. Вопреки своим кутильным эксцессам не только по части Бахуса, но и по части Афродиты, — он был очень семейный человек. И судьба послала ему превосходную жену. Екатерина Павловна и тогда еще была красивая женщина, с ясным и добрым выражением лица, всегда спокойная, с прекрасным тоном, с полным отсутствием какой-нибудь рисовки или жеманства. Такие женщины были не редкость в дворянском кругу, особенно в провинции, в 40-х и 50-х годах. Водились они и раньше. К мужу своему Е. П. относилась с неизменной кротостью, хотя совсем не принадлежала к натурам пассивным и сладковатым. Она была к нему искренно и честно привязана и прощала ему все уклонения от супружеского credo. Привыкла она смотреть сквозь пальцы и на его кутильные наклонности. И он ее весьма уважал, ценил ее по достоинству, по-своему любил, в молодости, наверно, был сильно влюблен в нее. В Писемском семейный инстинкт сказывался очень ярко. Он нежно любил своих детей, любовался ими, дрожал за их здоровье, обходился мягко, с юмором, баловал в меру, следил за их успехами в гимназии.
У него было всего два сына. Тогда оба уже учились в гимназии и шли по успехам прекрасно. И оба кончили так трагически. Меньший еще при жизни отца самоубийством — в Петербурге, блестящим учителем в разных заведениях. Он мальчиком был очень красивый, с тонкими чертами лица. Старший, Паша — наружностью больше в отца — веселый, добродушный, здоровый мальчик. Кто бы подумал тогда, глядя на этого бойкого и крепкого гимназиста, что он кончит душевной болезнью после смерти отца, и в такой длительной форме полного распадения личности? И мать долгие годы была его пестуном. Кажется, он еще до сих пор не умер. При мне не раз, когда мальчики прибегали к нему в кабинет, вернувшись из гимназии, Алексей Феофилактович целовал их, гладил по голове, весело шутил с ними. Я редко видел впоследствии в писательском кругу такую нежную любовь отца к детям, уже довольно большим мальчикам, и такое любование ими, не лишенное, однако, разных юмористических замечаний и забавных прозвищ, которые он им давал.
Для меня как начинающего писателя, который должен был совершенно заново знакомиться с литературной сферой, дом Писемских оказался немалым ресурсом. Они жили не открыто, но довольно гостеприимно. С А. Ф. у меня установились очень скоро простые хорошие отношения и как с редактором. Я бывал у него и не в редакционные дни и часы, а когда мне понадобится.
Когда у него собирались, особенно во вторую зиму, он всегда приглашал меня. У него я впервые увидал многих писателей с именами. Прежде других — А. Майкова, родственника его жены, жившего с ним на одной лестнице. Его более частыми гостями были: из сотрудников «Библиотеки» — Карнович, из тогдашних «Отечественных записок» — Дудышкин, из тургеневских приятелей — Анненков, с которым я познакомился еще раньше в одной из тогдашних воскресных школ, где я преподавал. Она помещалась в казарме гальванической роты.
Про Анненкова и Дудышкина Писемский всегда говорил:
— Это мои присяжные критики. Я читаю им все, что напишу.
Тургенев в те две зимы не наезжал в Петербург, и я не мог его видать у Писемского. Дружинин что-то не бывал у него. Во вторую зиму, когда Писемский стал приглашать на слушание первых двух частей своего «Взбаламученного моря», бывало больше народу. Там я впервые видал и слышал Серова, только что сделавшегося музыкальным критиком «Библиотеки». Помню, он сильно разносил Антона Рубинштейна И называл его «тапер», с очень злобной интонацией. Главного критика журнала Еф. Зарина у Писемского я не встречал и познакомился с ним уже гораздо позднее.
Был ли Писемский вполне на своем месте в качестве редактора? Сравнительно с тем, кто и теперь попадает в издатели-редакторы журналов и газет — скорее да. Он носил громкое тогда имя, любимое и публикой либерального направления» Не нужно забывать, как сам Писарев даже и позднее высоко ценил его. Он кончил курс в Московском университете, любил литературу, как умный и наблюдательный человек, выработал себе довольно верный вкус, предан был заветам художественного реализма, способен был оценить все, что тогда выделялось в молодом поколении. Я не стану напирать на то, что он оценил автора «Однодворца» и «Ребенка». Но он из тогдашних молодых талантов «Современника» всегда хвалебно отзывался о Помяловском и отчасти о Николае Успенском. Глеб явился позднее, и в Петербурге я в 1863 году пустил его в ход впервые рассказом «Старьевщик». Я уже сказал выше, что до второй половины 50-х годов Писемский состоял постоянным сотрудником некрасовского «Современника», перед тем как направлению этого журнала начали давать более резкую окраску Чернышевский и позднее Добролюбов. Даже осенью 1861 года, когда я вернулся из деревни и приехал раз днем к Писемскому, он мне сказал:
— Сейчас засылал ко мне Некрасов Салтыкова приторговать мою новую вещь. Я ему и говорю: «С кого и взять, как не с вас? К вам деньжища валят».
А какая это была «новая вещь»? Роман «Взбаламученное море», которого он писал тогда, кажется, вторую часть.
Конечно, если б Некрасов познакомился предварительно со всем содержанием романа, вряд ли бы он попросил Салтыкова поехать к Писемскому позондировать почву; но это прямо показывает, что тогда и для «Современника» автор «Тысячи душ», «Горькой судьбины», рассказов из крестьянского быта не был еще реакционером, которого нельзя держать в сотрудниках. К нему заслали, и заслали кого? Самого Михаила Евграфовича, тогда уже временно — между двумя вице-губернаторствами — состоявшего в редакции «Современника».
Салтыкова я после не видал никогда у Писемского и вообще не видал его нигде в те две зимы и даже после, во время моего редакторства. Как руководитель толстого журнала Писемский запоздал, совершенно так, как я сам два года спустя слишком рано сделался издателем-редактором «Библиотеки».
В те годы ветер стал дуть, как и теперь, в сторону «переоценки всех ценностей»: и государственно-общественных устоев, и экономических, и нравственных идеалов, и мышления, и литературно-художественных идей, запросов и вкусов.
Десять лет раньше Писемский был бы совершенно на месте и даже представлял бы собой прогрессивную силу в журнализме, хотя бы и без особенной научной или литературной подготовки. Ведь и Краевский в свое время далеко не представлял собою кладезя учености, а Пушкин считал его выдающейся личностью, и его знаменитый промах в энциклопедическом лексиконе Плюшара (Доен д'Аге) не помешал ему сделать из «Отечественных записок» передовой орган 40-х годов и привлечь даровитейших и свободомыслящих людей от Герцена и Белинского до Тургенева и того же Писемского.
«Библиотека для чтения» ко второй половине 50-х годов под редакцией Дружинина оживилась, она стала органом тургеневско-боткинского кружка, в котором защищались пушкинские традиции и заветы Белинского; но не того только, что действовал в «Современнике», а прежнего эстета, гегельянца, восторженного ценителя Пушкина. С этой окраской перешел журнал и к Писемскому. Сам он не мог действовать как критик, что делал Дружинин, но он стал как юморист (в фельетонах «Статского советника Салатушки») подсмеиваться — к наступлению 60-х годов — над крайностями тогдашнего «нигилистического духа». При всей грубоватости его натуры он высоко ставил искусство и художественную литературу, и ему не могло быть по душе направление критики, шедшее от Чернышевского. Он не любил резкой тенденциозности в беллетристике, пропитанной известными, хотя бы и очень модными, темами, и боялся (быть может, не так сильно, как Дружинин), что «свистопляска» в «Современнике» и «Искре» понизит уровень литературных идеалов. Помню разговор в его кабинете, когда я познакомился с его московским приятелем Эдельсоном (впоследствии рекомендованным мне Писемским же как критик), о тогдашнем фурорном романе Авдеева «Подводный камень», который печатался в «Современнике». Оба они — Эдельсон так же, как и Писемский — отзывались об этой вещи, как о тенденциозной «композиции», где нет настоящей художественной правды, где все подведено к мотиву во вкусе жорж-зандовских романов, значит, в сущности, к чему-то новому только в России; а во Франции эта «жорж-зандовщина» процветала еще в 30-х годах.
Могу привести довольно отчетливо слова Писемского:
— Я Тургенева немало дразню: «Авдеев-то, мол, ваш выученик; только он подражает вам в искании интересных тем, а не в настоящей творческой работе».
И ведь это была, безусловно, верная оценка.
Тогдашние статьи Чернышевского своей разрушительной подкладкой прямо смущали его и даже возмущали тоном, манерой на все смотреть «с кондачка», все валить.
Раз при мне Писемский все повторял, обращаясь к Карновичу, который писал и в «Современнике»:
— Вы мне скажите, хороший ли он человек? Коли человек он хороший, то ему многое можно простить.
А вся эта разрастающаяся рознь между двумя лагерями — тем, где стояли Дружинин, Писемский, Боткин и Тургенев, и кружком Чернышевского — поддерживалась тем, что они нигде уже не сходились. Не существовало никакого общего дела, ни клуба, ни союза писателей, а «Фонд» был только благотворительным учреждением, да и то чернышевцы и добролюбовцы вряд ли смотрели на него дружественно. Ведь его основали «генералы» — все тот же Дружинин и Тургенев с своими ближайшими сверстниками. Вот все это и начало всплывать в грубоватых шутках и сарказмах моего предшественника (как фельетониста «Библиотеки») Статского советника Салатушки, который уже действовал «вовсю», когда я сделался постоянным сотрудником «Библиотеки», то есть в сезон 1860–1861 года. К началу 60-х годов и разрослось в Писемском то недоумевающее, а потом и отрицательное отношение к тогдашним «нигилистам» русского журнализма. Точно такой же внутренний процесс произошел не только в Фете, Боткине или Дружинине, но и в Тургеневе еще до напечатания «Отцов и детей», после того, как он «разорвал» с Некрасовым. То же чувство находили вы и в Москве, в кружке бывших приятелей Герцена, особенно в Кетчере. Я помню еще в конце 60-х годов (когда с ним познакомился) раскаты его смеха и беспощадные возгласы, направленные против «Современника», причем и Некрасову досталось очень сильно, больше, впрочем, как человеку.
Журналом в зиму 1860–1861 года Писемский занимался, как говорится, «с прохладцей», что не мешало ему кряхтеть и жаловаться, находить, что редакционная работа ужасно мешает писательству. Он и в ту зиму писал, но не так, как в следующий сезон, когда он приступил к «Взбаламученному морю», задуманному в шести частях. Тогда вообще в журналах не боялись больших романов, и мелкими рассказами трудно было составить себе имя. Как истинный русак, Писемский, отдавшись работе над вещью крупных размеров, писал запоем, просиживал целые дни в халате за письменным столом, и тогда уже не жаловался на то, что редакторство заедает его как романиста. Процесс его работы был очень похож на всю его личность. Он писал сперва черновой текст, жена сейчас же переписывала, и я был свидетелем того, как Екатерина Павловна приходила в кабинет с листком в руке и просила прочесть какое-нибудь слово. Почерк у него был крупный и чрезвычайно беспорядочный — другого такого я ни у кого из писателей не видал. Это было больше мазанье, чем писание. Жена вставляла ему и французские фразы в светских сценах: Писемский не владел ни одним иностранным языком. По-французски, может быть, читал, но ни по-немецки, ни по-английски. Черновой текст, переписанный женою, Писемский исправлял и перемарывал, и делал это так необузданно, что пальцы правой руки были у него по целым неделям измазаны ниже вторых суставов. Об этом многие знали и приводили всегда, когда разговор о Писемском принимал анекдотический характер.
Для меня, как беллетриста работа в «Библиотеке» и частые свидания с ее редактором были выгодны во многих смыслах. Тогда, за отсутствием Тургенева, кроме Достоевского, в Петербурге не было более крупного романиста и драматурга, И талант, и своеобразный ум, и юмор сказывались всегда в его разговорах. Передо мною в его лице стояла целая эпоха, и он был одним из ее типичнейших представителей: настоящий самородок из провинциально-помещичьего быта, без всяких заграничных влияний, полный всяких чисто российских черт антикультурного свойства, но все-таки талантом, умом и преданностью литературе, как высшему, что создала русская жизнь, поднявшийся до значительного уровня. И он же был жертвой своих чувственных инстинктов, в нем же засели разные виды бытовой жизнебоязненности, грубоватый и чересчур развитой пессимизм, недостаток высших гражданских идеалов, огромный недочет по части более тонких свойств души.
Но, повторяю, в ту первую зиму в Петербурге Писемский оставался самым ценным для меня литературным знакомством.
Некрасова и Салтыкова я не встречал лично до возвращения из-за границы в 1871 году. Федора Достоевского зазнал я уже позднее. К его брату Михаилу, уже издававшему журнал «Время», обращался всего раз, предлагал ему одну из пьес, написанных мною в Дерпте, перед переездом в Петербург. С Тургеневым я познакомился в 1864 году, когда был уже издателем «Библиотеки».
Из других выдающихся журналистов был у Краевского, возил ему другую пьесу, но он предложил мне слишком скудный гонорар; я уже получал тогда в «Библиотеке» по семьдесят пять рублей за лист.
Никто меня так и не свел в редакцию «Современника». Я не имел ничего против направления этого журнала в общем и статьями Добролюбова зачитывался еще в Дерпте. Читал с интересом и «Очерки гоголевского периода» там же, кажется, еще не зная, что автор их Чернышевский, уже первая сила «Современника» к половине 50-х годов.
Прошла вся первая зима, и я не имел повода пойти в редакцию «Современника». Из постоянных сотрудников «Библиотеки» Карнович работал и там; но мы с ним в ту зиму были очень мало знакомы. В студенческих кружках, с какими я начал водиться, еще наезжая из Дерпта, были пылкие сторонники идей, которым до появления «Отцов и детей» еще никто не давал прозвища «нигилистических». Я был уже знаком с студентом Михаэлисом, братом г-жи Шелгуновой, тогдашним вожаком петербургского студенчества, приятелем М. Л. Михайлова, которого я видал в этом же кружке.
Но личного знакомства с «Современником» так и не вышло вплоть до отъезда моего за границу в 1865 году.
Добролюбов уже умирал. Его нигде нельзя было встретить. И вышло так, что едва ли не с одним из корифеев литературного движения той эпохи я лично не познакомился и даже не видал его, хотя бы издали, как это случилось у меня с Чернышевским.
А ведь Добролюбов — мой земляк, нижегородец и мой ровесник — 1836 года. Дом его отца, протоиерея Никольской церкви, приходился против нашего флигеля на Лыковой дамбе. Отца его я видал очень часто, хотя он был настоятелем не нашего прихода.
Помню его несколько суровую наружность, с черной бородой и в очках — как он едет в санях в консисторию, где состоял членом. В его доме долго жило семейства князя В. Трубецкого, куда «Николаша» Добролюбов ходил еще семинаристом, а позднее студентом Педагогического института, переписывался с свояченицей князя, очень образованной дамой (моей знакомой) Пальчиковой, урожденной Пещуровой. И при мне в Дерпте у Дондуковых (они были в родстве с Пещуровыми) кто-то прочел вслух письмо Добролюбова — тогда уже известного критика, где он горько сожалеет о том, что вовремя не занялся иностранными языками, с грехом пополам читает французские книги, а по-немецки начинает заново учиться.
Не встретился я ни в эту, ни в следующую зиму и с преемником Добролюбова по литературной критике, Антоновичем.
Меня притягивал особенно сильно театр.
Дела мои стояли так. Литературно-театральный комитет (где большую роль играл и Краевский) одобрил после «Фразеров», принятых условно, и «Однодворца» и «Ребенка» без всякого требования переделок.
Обе пьесы лежали в цензуре: драма «Ребенок» только что туда поступила, а «Однодворец» уже несколько месяцев раньше.
Тогда театральная цензура находилась в Третьем отделении, у Цепного моста, и с обыкновенной цензурой не имела ничего общего; а «Главное управление по делам печати» еще не существовало.
Справиться обо всем этом надо было у тогдашнего начальника репертуара императорских театров, знаменитого П. С. Федорова, бывшего водевилиста и почтового чиновника.
Я уже являлся к нему студентом, и он меня любезно принял.
Он посоветовал мне самому поехать к цензору И. А. Нордштрему и похлопотать.
Обе мои пьесы очень нравились комитету. «Однодворца» еще не предполагалось ставить в тот же сезон, из-за цензурной задержки, а о «Ребенке» Федоров сейчас же сообщил мне, что ролью чрезвычайно заинтересована Ф. А. Снеткова.
— Наш первый драматический сюжет, — прибавил он в пояснение.
— Вы поезжайте к ней теперь же. Она очень желает с вами познакомиться.
Это было для меня особенно приятно.
Снеткову я уже видал и восхитился ею с первого же раза. Это было проездом (в Дерпт или оттуда), в пьесе тогдашнего модного «злобиста» Львова «Предубеждение, или Не место красит человека».
Такой милой, поэтичной ingenue я еще не видал на русской сцене.
А к 1861 году Фанни Александровна сделалась уже «первым сюжетом», особенно после создания роли Катерины в «Грозе» Островского.
Она жила с своей старшей сестрой, танцовщицей Марьей Александровной, у Владимирской церкви, в доме барона Фредерикса. Я нашел ее такой обаятельной, как и на сцене, и мое авторское чувство не мог не ласкать тот искренний интерес, с каким она отнеслась к моей пьесе. Ей сильно хотелось сыграть роль Верочки еще в тот же сезон, но с цензурой разговоры были долгие.
Цензор Нордштрем принимал в своем кабинете, узкой комнатке рядом с его канцелярией, где в числе служащих оказался и один из сыновей Фаддея Булгарина, тогда уже покойного.
Проникать в помещение цензуры надо было через лабиринт коридоров со сводами, пройдя предварительно через весь двор, где помещался двухэтажный флигель с камерами арестантов. Денно и нощно ходил внизу часовой — жандарм, и я в первый раз в жизни видел жандарма с ружьем при штыке.
Мои хождения в это «логово» жандармерии продолжались очень долго. Убийственно было то, что тогда вам сразу не запрещали пьесу, а водили вас месяцами, иногда и годами.
Ни «Однодворца», ни «Ребенка» Нордштрем не запрещал безусловно, но придерживал и кончил тем, что в конце лета 1861 года я должен был переделать «Однодворца», так что комедия (против печатного экземпляра) явилась в значительно измененном виде.
«Ребенка» мне удалось спасти от переделки; но за разрешением я походил-таки вплоть до начала следующего сезона.
Раз эта волокита так меня раздражила, что я без всякой опаски в таком месте, как Третье отделение, стал энергично протестовать.
Нордштрем остановил меня жестом:
— Вы студент. И я был студент Казанского университета. Вы думаете, что я ничего не понимаю?
И, указывая рукой на стену, в глубь здания, он вполголоса воскликнул:
— Но что же вы прикажете делать с тем кадетом?
А тот «кадет» был тогдашний начальник Третьего отделения, генерал Тимашев, впоследствии министр внутренних дел.
И он действительно был экс-кадет, учился где-то, не то в Пажеском корпусе, не то в тогдашней Школе гвардейских подпрапорщиков.
Но что вышло особенно курьезно, это то, что тотчас за либеральной фразой цензора в дверь просунулась голова ражего жандармского «вахтера», и он пробасил:
— Ваше превосходительство, генерал уехал!
Значит, вам всем — чинушам — можно идти по домам!
Через Фанни Снеткову и позднее П. Васильева и актера-писателя Чернышева я вошел и в закулисный мир Александрийского театра.
Печальное воспоминание оставила во мне «Александринка» после воскресного спектакля, куда я попал в первый раз, переезжая в Дерпт в ноябре 1855 года, — особенно во мне, получившем от московского Малого театра еще в 1853 году такой сильный заряд художественных впечатлений.
С тех пор я имел случай лучше ознакомиться с русской драматической труппой Петербурга. Первая героиня и кокетка в те года, г-жа Владимирова, даже увлекла меня своей внешностью в переводной драме О. Фёлье «Далила», и этот спектакль заронил в меня нечто, что еще больше стало влечь к театру.
В той же «Далиле» я видел и Снеткову, и Самойлова, и тогда только что выступившего в роли любовника Малышева, товарища Снетковой по Театральному училищу.
Но все-таки я не видал до зимы 1860–1861 года ни одного замечательного спектакля, который можно бы было поставить рядом с тем, что я видел в московском Малом театре еще семь-восемь лет перед тем.
Нравы закулисного мира я специально не изучал. В лице тогдашней первой актрисы Ф. А. Снетковой я нашел питомицу Театрального училища, вроде институтки. Она вела самую тихую жизнь и довольствовалась кружком знакомых ее сестры, кроме тех молодых людей (в особенности гвардейцев, братьев Х-х), которые высиживали в ее гостиной по нескольку часов, молчали, курили и «созерцали» ее.
Она почти нигде не бывала в городе. Раз я стал ей говорить на эту тему.
— Артистке надо знать жизнь всяких слоев общества. Вот вы, Фанни Александровна, играете Катерину в «Грозе» и создаете поэтичный образ, но, согласитесь, вы ведь не видели, наверно, ни одной такой купчихи? Почему вы летом не поездите по Волге, на пароходе?
— Как же это? Сестрица не так здорова, а одна… я не могу…
И вся программа ее жизни состояла в репетициях, спектаклях, приеме гостей, работе над ролями, изредка прогулке. По субботам и воскресеньям — Владимирская церковь, куда она ходила ко всенощной и к обедне.
Писемский любил распространяться на ту же тему, но в своем, циническом вкусе. Он презирал «Александринку», но особенно сильно доставалось от него петербургским актрисам.
— Хоть бы они пили, что ли? Ничего-то они не умеют играть как надо. Разве одних только д…, да и то не веселых, а скучных, немецких!
Разумеется, эти «разносы» надо оставить на его ответственности.
Кроме Снетковой, в труппе был такой талант, как Линская, не уступавшая актрисам на бытовые роли и в московской труппе, и несколько хороших полезностей.
А мужской персонал стоял в общем довольно высоко. Еще действовал такой прекрасный актер, как старик И. И. Сосницкий, создавший два лица из нашего образцового театра: городничего и Репетилова.
Он был актер «старой» школы, но какой? Не ходульной, а тонкой, правдивой, какая нужна для высокой комедии. Когда-то первый любовник в светских ролях, Сосницкий служил даже моделью для петербургских фешенеблей, а потом перешел на крупные роли в комедии и мог с полным правом считаться конкурентом М. С. Щепкина, своего старшего соратника по сцене.
Только что сошел в преждевременную могилу А. Е. Мартынов, и заменить его было слишком трудно: такие дарования родятся один — два на целое столетие. Смерть его была тем прискорбнее, что он только что со второй половины 50-х годов стал во весь рост и создал несколько сильных, уже драматических лиц в пьесах Чернышева, в драме По-техина «Чужое добро впрок не идет» и, наконец, явился Тихоном Кабановым в «Грозе».
Обед, данный ему петербургскими литераторами незадолго до его смерти, было, кажется, первое чествование в таком роде. На нем впервые сказалась живая связь писательского творчества с творчеством сценического художника.
Его ближайший сверстник и соперник по месту, занимаемому в труппе и в симпатиях публики, В. В. Самойлов, как раз ко времени смерти Мартынова и к 60-м годам окончательно перешел на серьезный репертуар и стал «посягать» даже на создание таких лиц, как Шейлок и король Лир. А еще за четыре года до того я, проезжая Петербургом (из Дерпта), видел его в водевиле «Анютины глазки и барская спесь», где он играл роль русского «пейзана» в тогдашнем вкусе и пел куплеты.
Замечательно, что он ни тогда, ни позднее не связал своего имени ни с Грибоедовым, ни с Гоголем и только гораздо позднее стал появляться в «Ревизоре» — в маленькой роли Растаковского. Островский ему сразу не удался. Его Любим Торцов был найден деланной фигурой. Самойлова упрекали — особенно поклонники Садовского — в том, что он играл это лицо слишком по-своему, без всякого знания купеческого быта, и даже позволял себе к возгласу Торцова: «Изверги естества» — прибавлять слово «анафема» и при этом щелкать пальцами.
Самойлов не был коренным русаком. Это семейство, как известно теперь доподлинно, еврейской крови. Он был по своему происхождению и воспитанию слишком петербургский человек, пошедший в певцы из горных инженеров после какого-то публичного оскорбления. Дилетантский характер лег с самого начала на его артистическую карьеру. Но так как он был очень талантлив и способен на чрезвычайно разнообразную игру, то с годами он и выработал из себя не только ловкого, но и замечательного исполнителя, особенно в несильной драме и комедии. Славолюбие у него было громадное, и он, подчиняясь тогдашним новым литературным вкусам, стал «посягать» на Шекспира. Эти опыты подняли его престиж. В труппе он занимал исключительное место, как бы «вне конкурса» и выше всяких правил и обязанностей, был на «ты» с Федоровым, называл его «Паша», сделался — отчасти от отца, а больше от удачной игры — домовладельцем, членом дорогих клубов, где вел крупную игру, умел обставлять себя эффектно, не бросал своего любительства, как рисовальщик и даже живописец, почему и отличался всегда своей гримировкой, для которой готовил рисунки.
Самые строгие его судьи были москвичи, особенно Аполлон Григорьев, тогда уже действовавший в Петербурге как театральный критик, а также и актеры, начиная с Садовского.
Они все считали его более «ловким» и «штукарем», чем искренним и вдохновенным артистом. Но про него нельзя было сказать, что он лишен внутреннего чувства. Он мог растрогать даже в такой роли, как муж-чиновник, от которого уходит жена, в комедии Чернышева «Историческая жизнь» и в сцене пробуждения Лира на руках своей дочери Корделии; да и сцену бури он вел художественно, тонко, правдиво, не впадая никогда в декламацию. Он был несомненный реалист, не сбившийся с пути в каратыгинское время, сознательно стоявший за правду и естественность, но слишком иногда виртуозный, недостаточно развитый литературно, а главное, ставивший свое актерское «я» выше всего на свете.
Таких типов теперь я уже не знаю и среди самых известных «первых сюжетов» столиц и провинции.
Обе сестры его Вера и Надежда уже покинули сцену до зимы 1860–1861 года. И это была огромная потеря; особенно уход Веры Васильевны.
Более прямым конкурентом и соперником Самойлова считался А. Максимов — тоже сначала водевильный актер, а тогда уже на разных амплуа: и светских и трагических; так и он выступал в «Короле Лире», в роли Эдмонда. Он верил в то, что он сильный драматический актер, а в сущности был очень тонкий комик на фатовское амплуа, чему помогали его сухая, длинная фигура и испитое чахоточное лицо, и глухой голос в нос, и странная дикция.
Он вскоре умер жертвой, как и Мартынов, общерусского артистического недуга — закоренелого алкоголизма.
В труппе почетное место занимали и два сверстника Василия Каратыгина, его брат Петр Андреевич и П. И. Григорьев, оба плодовитые драматурги, авторы бесчисленных оригинальных и переводных пьес, очень популярные в Петербурге личности, не без литературного образования, один остряк и каламбурист, другой большой говорун.
С Каратыгиным я познакомился уже в следующую зиму, когда ставил «Ребенка», а Григорьева стал встречать в книжном магазине Печаткина. Тогда он уже оселся на благородных отцах, играл всегда Фамусова — довольно казенно, изображал всяких генералов, штатских чиновников, отставных военных. Он отличался «запойным» незнанием ролей, а если ему приходилось начинать пьесу по поднятии занавеса, он сначала вынимал табакерку, нюхал и устремлял взгляд на суфлерскую будку, дожидаясь, чтобы ему «подали реплику».
Еще не стариком застал я в труппе и Леонидова, каратыгинского «выученика», которого видел в Москве в 1853 году в «Русской свадьбе». Он оставался все таким же «трагиком» и перед тем, что называется, «осрамился» в роли Отелло. П. И. Вейнберг, переводчик, ставил его сам и часто представлял мне в лицах — как играл Леонидов и что он выделывал в последнем акте.
То, в чем он тогда выступал, уже не давало ему повода пускать такие неистовые возгласы и жесты. Он состоял на амплуа немолодых мужей (например, в драме Дьяченко «Жертва за жертву») и мог быть даже весьма недурен в роли атамана «Свата Фаддеича» в пьесе Чаева.
Лично я познакомился с ним впервые на каком-то масленичном пикнике по подписке в заведении Излера. Он оказался добродушным малым, не без начитанности, с высокими идеалами по части театра и литературы. Как товарища — его любили. Для меня он был типичным представителем николаевской эпохи, когда известные ученики Театрального училища выходили оттуда с искренней любовью к «просвещению» и сами себя развивали впоследствии.
Самой интересной для меня силой труппы явился в тот сезон только что приглашенный из провинции на бытовое амплуа в комедии и драме Павел Васильев, меньшой брат Сергея — московского.
Для меня он не был совсем новым лицом. В Нижнем на ярмарке я, дерптским студентом, уже видал его; но в памяти моей остались больше его коротенькая фигура и пухлое лицо с маленьким носом, чем то, в чем я его видел.
В Петербурге появление П. Васильева совпало с постановкой после долгого запрета первой большой комедии Островского «Свои люди — сочтемся!»
Я тогда еще не видал Садовского в Подхалюзине (мне привелось видеть его в этой роли в Петербурге же, уже позднее), и мне не с кем было сравнивать Васильева.
Сейчас же чуялось в нем сильное и своеобразное дарование при невыгодных внешних средствах: малый рост, короткая фигура, некрасивость пухлого облика и голос хриповатый и, как и у брата его Сергея, в нос.
Подхалюзина он задумал без всяких уступок внешнему комизму серьезного и тихого плута, в гримировке и в жестах очень типичного брюнета.
Когда мы с ним лично познакомились, он мне рассказывал, кто послужил ему моделью — содержатель одного притона в Харькове, где Васильев долго играл.
Публика оценила его талант в первый же сезон, и он сделался соперником если не прямо Самойлова, то тогдашнего «бытовика», приятеля Островского, взявшего его репертуар точно на откуп.
Это был в то время очень популярный во всем Петербурге Бурдин, про которого уже была сложена песенка:
Он у нас один — Theodore Бурдин!..Кажется, еще до переезда в Петербург я уже знал, что этот актер сделался богатым человеком, получив в дар от одного откупщика каменный многоэтажный дом на Владимирской.
Часто передавал мне П. И. Вейнберг, как Писемский на какой-то пирушке, уже значительно «урезав», приставал к Бурдину:
— Нет, ты скажи нам, Федька, как ты себе дом приобретал: коли честно — научи, а коли ёрнически — покайся всенародно.
Откупщик Голенищев, подаривший ему дом, был в тогдашнем вкусе меценат, скучающий вивёр, муж известной красавицы. Бурдин состоял при его особе, ездил с ним в Париж, читал ему, рассказывал анекдоты.
«Теодор», москвич, товарищ по одной из тамошних гимназий Островского, считал себя в Петербурге как бы насадителем и нового бытового реализма, и некоторым образом его вторым «я». Выдвинулся он ролью Бородкина (рядом с Читау-матерью) к началу второй половины 50-х годов и одно время прогремел. Это вскружило ему голову, и без того ужасно славолюбивую: он всю жизнь считал себя первоклассным артистом.
Если бы не эта съедавшая его претензия, он для того времени был, во всяком случае, выдающийся актер с образованием, очень бывалый, много видевший и за границей, с наклонностью к литературе (как переводчик), очень влюбленный в свое дело, приятный, воспитанный человек, не без юмора, довольно любимый товарищами. Подъедала его страсть к картежной игре, и он из богатого человека постарался превратиться в бедняка.
Про его тщеславие ходило немало анекдотов. В Париже он посетил могилу Тальмы и сделал надпись: «Тальма от Федора Бурдина». Там же он один из первых «заполучил самое Ригольбош» — канканёрку Второй империи, которую каждый русский прожигатель считал долгом приобрести.
Для Бурдина присутствие Васильева в труппе было — «нож острый». Сравнение было слишком не в его пользу. Как и Васильев, он считал себя и комиком и трагиком и в сильных местах всегда слишком усердствовал, не имея настоящего драматического дарования.
Писемский говаривал про него в таких случаях:
— Федька-то Бурдин… понимаашь, братец, лампы глотаат от усердия…
Московские традиции и преданность Островскому представлял собою и Горбунов, которого я стал вне сцены видать у начальника репертуара Федорова, где он считался как бы своим человеком. Как рассказчик — и с подмостков и в домах — он был уже первый увеселитель Петербурга. По обычаю того времени, свои народные рассказы он исполнял всегда в русской одежде и непременно в красной рубахе.
Как актер он выделялся пока только Кудряшом в «Грозе», но и всю жизнь в нем рассказчик стоял гораздо выше актера, что и доказывает, что огромная подражательная способность еще не создает крупного актера.
Федоров (в его кабинет я стал проникать по моим авторским делам) поддерживал и молодого jeune premier, заменявшего в ту зиму А. Максимова (уже совсем больного), — Нильского. За год перед тем, еще дерптским студентом, я случайно познакомился на вечере в «интеллигенции» с его отцом Нилусом, одним из двух московских игроков, которые держали в Москве на Мясницкой игорный дом. Оба были одно время высланы при Николае I.
Этот Нилус, узнав, что я написал пьесу, стал мне говорить про своего «незаконного» сына, который должен скоро выйти из Театрального училища. В школе его звали Нилус, а в труппе он взял псевдоним Нильского.
Я его в первый раз увидал в переводной пьесе «Любовь и предрассудок», где он играл актера Сюлливана, еще при жизни Максимова, уже больного.
Его выпустили в целом ряде ролей, начиная с Чацкого. Он был в них не плох, но и не хорош и превратился в того «мастера на все руки», который успевал получать свою поспектакльную плату в трех театрах в один вечер, когда считался уже первым сюжетом и получал тридцать пять рублей за роль.
Более требовательные ценители никогда не ставили его высоко. Останься он «полезностью» — он был бы всегда желанный исполнитель; он брался за все, и в нем можно было видеть олицетворение тогдашнего чиновничьего режима петербургских сцен.
Тогда ведь царила безусловно система привилегии. Частных театров не было ни одного. Императорская дирекция ревниво ограждала свои привилегии и даже с маскарадов и концертов взимала плату.
Порядки на Александрийском театре «держались» за два рычага — разовая плата и система бенефисов.
Когда я сам сделался рецензентом, я стал громить и то и другое. И действительно, при разовой плате актеры и актрисы бились только из-за того, чтобы как можно больше играть, а при бенефисном режиме надо было давать каждую неделю новый спектакль и ставить его поспешно, с каких-нибудь пяти-шести репетиций.
Эти порядки — не без участия наших протестов — рухнули в 1882 году; а ведь для нашего брата, начинающего драматурга, и то и другое было выгодно. Разовая плата поощряла актеров в вашей пьесе, и первые сюжеты не отказывались участвовать, а что еще выгоднее, в сезоне надо было поставить до двадцати (и больше) пьес в четырех и пяти действиях; стало быть, каждый бенефициант и каждая бенефициантка сами усердно искали пьес, и вряд ли одна мало-мальски сносная пьеса (хотя бы и совершенно неизвестного автора) могла проваляться под сукном.
Я это лично испытал на себе. Приехал я в Петербург к январю 1861 года; и обе мои вещи (правда, после долгих цензурных мытарств) были расхватаны у меня: «Однодворец» — для бенефиса П. Васильева в октябре того же года, а «Ребенок» — для бенефиса Бурдина в январе следующего года. То же вышло и в Москве.
Поощрения было тогда довольно и со стороны начальства, но для этого надо было воздерживаться писать о театре. Тогда декорация сразу менялась.
Из моих конкурентов трое владели интересом публики: Дьяченко (которого я ни тогда, ни позднее не встречал); актер Чернышев и Николай Потехин, который пошел сразу так же ходко, как и старший брат его Алексей, писавший для сцены уже с первой половины 50-х годов.
Чернышев, автор «Испорченной жизни», был автор-самоучка из воспитанников Театральной школы, сам плоховатый актер, без определенного амплуа, до того посредственный, что казалось странным, как он, знавший хорошо сцену, по-своему наблюдательный и с некоторым литературным вкусом, мог заявлять себя на подмостках таким бесцветным. Он немало играл в провинции и считался там хорошим актером, но в Петербурге все это с него слиняло.
С ним мы познакомились по «Библиотеке для чтения», куда он что-то приносил и, сколько помню, печатался там. Он мне понравился как очень приятный собеседник, с юмором, с любовью к литературе, с искренними протестами против тогдашних «порядков». Добродушно говорил он мне о своей неудачной влюбленности в Ф. А. Снеткову, которой в труппе два соперника делали предложение, и она ни за одного из них не пошла: Самойлов и Бурдин.
Таким драматургам, как Чернышев, было еще удобнее ставить, чем нам. Они были у себя дома, писали для таких-то первых сюжетов, имели всегда самый легкий сбыт при тогдашней системе бенефисов. Первая большая пьеса Чернышева «Не в деньгах счастье» выдвинула его как писателя благодаря игре Мартынова. А «Испорченная жизнь» разыграна была ансамблем из Самойлова, П. Васильева, Снетковой и Владимировой.
Этот тип актера-писателя также уже не повторится. Тогда литература приобретала особое обаяние, и всех-то драматургов (и хороших и дурных) не насчитывалось больше двух-трех дюжин, а теперь их значится чуть не тысяча.
В кабинете Федорова увидал я Николая Потехина (уже автора комедии «Дока на доку нашел») чуть ли не на другой день после дебюта П. Васильева в Подхалюзине. Мой молодой собрат (мы с ним были, вероятно, ровесники) горячо восхищался Васильевым, и в тоне его чувствовалось то, что и он «повит» московскими традициями.
У него была уже наготове новая пьеса: «Быль — молодцу не укор», с Снетковой в главной роли. Вероятно, и он увлекался ею. Что-то такое я и слыхал… впоследствии. Он еще не мечтал о поступлении на сцену. И тогда он был такой же «картавый», с оттенком северного волжского выговора.
Театром тогда стали запойно увлекаться и в обществе.
Еще раньше спектакль литераторов заинтересовал Петербург, но больше именами исполнителей. Зала Пассажа стала играть роль в жизни Петербурга, там читались лекции, там же была и порядочных размеров сцена.
И я в следующий сезон не избег того же поветрия, участвовал в нескольких спектаклях с персоналом, в котором были такие силы, как старуха Кони и красавица Спорова (впоследствии вторая жена Самойлова). Ею увлекались оба моих старших собрата: Островский и Алексей Потехин. Потехин много играл и в своих пьесах, и Гоголя, и Островского, и сам Островский пожелал исполнить роль Подхалюзина уже после того, как она была создана такими силами, как Садовский и П. Васильев.
За три самых бойких месяца сезона вплоть до поста театральный Петербург показал мне себя со всех сторон.
«Александринка» тогда еще была в загоне у светского общества. Когда состоялся тот спектакль в Мариинском театре (там играла и драматическая труппа), где в «Грозе» Снеткова привлекла и петербургский «монд», это было своего рода событием.
Русская опера только что начала подниматься. Для нее немало сделал все тот же Федоров, прозванный «Губошлепом». В этом чиновнике-дилетанте действительно жила любовь к русской музыке. Глинка не пренебрегал водить с ним приятельство и даже аранжировал один из его романсов: «Прости меня, прости, небесное созданье».
Тогда в русской опере бывали провинциалы, чиновники (больше все провиантского ведомства, по соседству), офицеры и учащаяся молодежь. Любили «Жизнь за царя», стали ценить и «Руслана» с новой обстановкой; довольствовались такими певцами, как Сетов (тогдашний первый сюжет, с смешноватым тембром, но хороший актер) или Булахов, такими примадоннами, как Булахова и Латышева. Довольствовались и кое-какими переводными новинками, вроде «Марты», делавшей тогда большие сборы.
Но в опере были такие таланты, как О. А. Петров и его сверстница по репертуару Глинки Д. М. Леонова, тогда уже не очень молодая, но еще с прекрасным голосом и выразительной игрой.
Оригинальное композиторство только еще намечалось. Ставилась «Русалка»; Серов уже написал свою «Юдифь», образовался уже кружок «кучкистов».
Через Балакирева я ознакомился на первых же порах с этим русским музыкальным движением; но больше присматривался к нему во второй сезон и в отдельности поговорю об этом дальше.
Остальные три труппы императорских театров стояли очень высоко, были каждая в своем роде образцовыми: итальянская опера, балет и французский театр. Немецкий театр не имел и тогда особой привлекательности ни для светской, ни для «большой.» публики; но все-таки стоял гораздо выше, чем десять и больше лет спустя.
Лично я не стал фанатиком итальянской оперы, посещал ее сравнительно редко и только на третью зиму (уже редактором) обзавелся абонементом. Тогда самым блестящим днем считался понедельник, когда можно было видеть весь придворный, дипломатический, военный и сановный Петербург.
Но и в эти дни не бросалось в глаза то усиленное франтовство, отчаянная погоня за модами, такой спорт ношения бриллиантов и декольте, как теперь в Мариинском на воскресных спектаклях балета. Все было гораздо поскромнее, и не царило такое стихийное увлечение певцами, как в последние годы. Не было таких «властителей», которые могли брать безумные гонорары и вызывать истерические вопли теперешних психопаток.
А вспомните, что только что умерла (при мне) Бозио, пели такие тенора, как Тамберлик и Кальцолари.
В известные дни можно было всегда достать билеты даже и у барышников не за разбойнические цены. Словом, тогда «улица», толпа так не царила: все держалось в известных пределах, да и требования были иные.
На балет не так тратили, как это повелось со второй половины 80-х годов, при И. А. Всеволожском; постановки не поражали такой роскошью; но хореография была не ниже, а по обилию своих, русских, талантов и выше.
Я застал самый роскошный расцвет грации и танцев Петипа («по себе» — Суровщиковой), таких балерин, как Прихунова, Е. Соколова, Муравьева и целый персонал первоклассных солисток. То же и в мужском персонале с такими исполнителями, как старик Гольц, сам Петипа, Иогансон, Л. Иванов, Кшесинский, Стуколкин, Пишо и т. д. и т. д.
И в балетомана я не превратился: слишком разнообразны были для меня после дерптской скудости зрелища, хотя, кроме императорской дирекции, никому тогда не дозволялось давать ни опер, ни драм, ни комедий — ничего!
Французская труппа (уже знакомая мне и раньше, в мои приезды студентом) считалась тогда после парижской «Comedie Francaise» едва ли не лучше таких театров Парижа, как «Gymnase» и «Vaudeville».
Сравнивать я не мог до поездки в Париж, уже в 1865 году; но и безотносительно труппа была полная и довольно блестящая, а репертуар, как и всегда, возобновлялся каждую субботу; но тогда гораздо чаще давали водевили, фарсы и бульварные мелодрамы.
Амплуа героинь занимала роскошная блондинка, г-жа Напталь-Арно, вышедшая вторым браком за петербургского игрока, г-на Э. Она брала больше красотой и пластикой и в драме казалась нам рутиннее и тяжелее, чем в светской комедии.
Но в труппе были таких две превосходных актрисы на пожилые роли, как Вольнис и жена первого комика Лемениль. С прошлым парижской знаменитости, когда-то блестящей и увлекательной jeune premiere, Вольнис держала теперь амплуа матерей и характерных персонажей, как никто позднее, вплоть до настоящей минуты. Комический персонал вообще выделялся тогда: в труппе еще состояли такие артисты, как Лемениль, Берне, Дешан, Пешна, Тетар и целый ассортимент молодых хорошеньких актрис, в том числе и знаменитая когда-то наездница (и даже директорша бывшего «императорского» цирка) Лора Бассен.
Дирекция держала в своих руках, как я уже заметил, все артистические удовольствия Петербурга, и даже концерты давались только с ее разрешения. До поста их давали мало. Любимыми «утрами» были университетские симфонические концерты под управлением виолончелиста Шуберта. Постом начинался в театрах ряд бенефисных «живых картин» — тогдашняя господствующая и единственная форма драматических зрелищ, так как ни оперы, ни балета, ни драмы давать постом не разрешали. К посту и для меня пришло время подумать о подготовке к экзамену на кандидата административного права.
Весь этот развал сезона дал мне вкусить тогдашнюю столичную жизнь в разных направлениях. В писательский мир я уже был вхож, хотя еще с большими пробелами, в театральный также, публичные сборища посещал достаточно.
Через двоих моих сожителей по квартире, В. Дондукова и П. Гейдена, я ознакомился отчасти и со сферой молодых гвардейцев. Они оба вышли из Пажеского корпуса, и один из них, Гейден, кончил курс в Артиллерийской академии, а Дондуков состоял вольным слушателем в университете. В военную службу никто из них не поступил.
Для меня как для будущего бытописателя не лишенными интереса оказались и их воспоминания, рассказы, анекдоты кадет о лагерной службе и все их ближайшие приятели, служившие в разных частях гвардии.
Светский круг знакомств сложился у меня с первой же зимы довольно большой, главным образом через Дондукова, с семейством которого я в Дерпте так сошелся, и через мою двоюродную сестру С. Л. Боборыкину, тогда круглую сироту, жившую у своей кузины, княгини Шаховской, жены известного тогда крупного деятеля по финансово-экономической части А. И. Бутовского, директора департамента мануфактур и торговли.
Сонечка Боборыкина считалась красавицей. Когда она была еще в Екатерининском институте и я навещал ее студентом, моя мать сильно побаивалась, чтобы я со временем не женился на ней. До этого не дошло, и когда я нашел ее в доме Бутовских роскошной девицей, собирающейся замуж, у нас установились с ней чисто приятельские отношения. Я не был уже влюблен в нее, а она имела со мной всегда шутливый тон и давала мне всякие юмористические прозвища.
В доме ее кузины, в огромном казенном помещении около Технологического института, давали танцевальные вечера, и с многими дамами и девицами я познакомился как писатель. Но это не было там особенно привлекал тельным званием.
В ту же зиму Сонечка вышла за офицера некрасивой наружности, без всякого блеска, даже без большого состояния, одного из сыновей поэта Баратынского, к немалому удивлению всех ее поклонников. Они поселились в Петербурге, и у меня стало зимним домом больше.
В том, что теперь зовут «интеллигенцией», у меня не было еще больших связей за недостатком времени, да и вообще тогдашние профессиональные литераторы, учители, профессора, художники — все это жило очень скромно. Центра, вроде Союза писателей, не существовало. Кажется, открылся уже Шахматный клуб; но я в него почему-то не попадал; да он и кончил фиаско. Вместо объединения кружков и партий он, кажется, способствовал только тому, что все это гораздо сильнее обострилось.
В обществе чувствовалось все сильнее либеральное течение, и одним из его симптомов сделались воскресные школы. Вскоре их ограничили, но в мою первую петербургскую зиму это превратилось даже в некоторых местностях Петербурга в светскую моду. Учили чумазых сапожных и кузнечных мальчиков фрейлины, барышни, дамы, чиновники, военные, пажи, лицеисты, правоведы, разумеется, и студенты.
И меня в первый раз повезла в школу Гальванической роты (около Садовой) большая барыня (но с совершенно бытовым тоном), сестра графини Соллогуб, А. М. Веневитинова, на которой когда-то Гоголь мечтал, кажется, жениться. Она ездила туда со своей девочкой, и мы втроем обучали всякий народ обоего пола.
Там-то я и познакомился сначала с П. В. Анненковым. Преподавал ли он сам — не знаю, больше наезжал и состоял, вероятно, в одном из комитетов.
Поддерживал я знакомство и с Васильевским островом. В университет я редко заглядывал, потому что никто меня из профессоров особенно не привлекал: а время у меня было и без того нарасхват. Явился я к декану, Горлову, попросить указаний для моего экзамена, и его маленькая, курьезная фигурка в халате оставила во мне скорее комическое впечатление.
А «властителя дум» у тогдашнего студенчества почти что не было. Популярнее были Кавелин, Утин, Стасюлевич, Спасович. О лекциях, профессорах в том кружке, куда я был вхож, говорили гораздо меньше, чем о всяких злобах дня, в том числе и об ожидавшейся к 19 февраля крестьянской «воле».
В кружке, куда я попадал, главную роль играли Михаэлис и один из братьев Неклюдовых, бывших казанских студентов. Иван, старший, весь ушел в книжки и лекции и сделался потом образцовым сенатским чиновником.
Младший — Николай, перешедший также из Казани, увлекался разными веяниями, а также и разными предметами научных занятий. Он из математика превратился в юриста и скоро сделался вожаком, оратором на вечеринках и сборищах. Та зима как раз и шла перед взрывом беспорядков к сентябрю 1861 года.
Но пока еще ничего особенного не происходило. Оба эти вожака, Михаэлис и Неклюдов, выделялись больше других. Они должны были сыграть роль в массовом движении через несколько месяцев.
Двух других студентов — «деятелей» с влиянием, бывавших везде, я хорошо помню из той же эпохи. Одного из них я зазнал годом раньше. Это были Чубинский и Покровский. Оба очутились потом в ссылке.
Чубинский водил приятельство с Аполлоном Григорьевым, еще когда тот состоял одним из редакторов «Русского слова» графа Кушелева-Безбородко. Покровского я помню уже перед самым уличным движением в сентябре.
У братьев Бакст собирались часто. Там еще раньше я встречался с покойным В. Ковалевским, когда он носил еще форму правоведа. Он поражал, сравнительно со студентами, своей любознательностью, легкостью усвоения всех наук, изумительной памятью, бойкостью диалектики (при детском голосе) и необычайной склонностью участвовать во всяком движении. Он и тогда уже начал какое-то издательское дело, переводил целые учебники.
Роль «старосты» в смысле движения играл Михаэлис — натурой и умом посильнее многих, типичный выученик тогдашней эпохи, чистокровный «нигилист», каким он явился у Тургенева, пошедший в студенты из лицеистов, совершенно «опростивший» себя — вплоть до своего внешнего вида — при значительной, почти красивой наружности.
В этом кружке, кажется, он один был запросто вхож к Чернышевскому, вероятно через М. Л. Михайлова, так как, он был родной брат г-жи Шелгуновой.
Николай Неклюдов и тогда уже смотрел кандидатом в пансионеры Петропавловской крепости, куда и попал позднее. В нем температура его «разрывных» взглядов и стремлений сказывалась всегда и в приподнятом тоне его высокого певучего голоса, и в выражении красивых, темных глаз. Юноша этот легко увлекал толпу товарищей и отличался смелостью вожака и даже трибуна.
И кто бы подумал, что настанет такой момент, когда его тело (в звании товарища министра внутренних дел) вынесут из какого здания? Из бывшего Третьего отделения, куда я ходил когда-то в театральную цензуру к И. А. Нордштрему.
Несколько раньше (Неклюдов был уже не то обер-прокурор, не то товарищ государственного секретаря) судьба столкнула нас на прогулке в Киссингене.
Мы не видались более двадцати лет. Я его помнил еще молодым мировым судьею (после его студенческих передряг в крепости) и видел перед собою очень утомленного, болезненного мужчину неопределенных лет, сохранившего все тот же теноровый студенческий голос.
— Видите, Неклюдов, — сказал я ему, — какие жизнь шутки шутит.
Идя рядом по аллее, он вбок посмотрел на меня вопросительно.
— Вот хоть бы взять и нас обоих? Вы с тех пор, как мы встречались на острову, — из красного сделались розовым, а потом и совсем побелели. А я все краснел по сие время. Может быть, дойду и до густо-красного колера?
Он ничего на это не заметил.
Но и я еще тогда не ожидал, что той же судьбе угодно будет устроить вынос его тела из дома государственной полиции.
И то сказать, еще Герцен острил, что в Петропавловской крепости меняются не только «образы мыслей», но и «образы мыслителей».
Вот в таких кружках, какой я посещал, и по городу у педагогов, чиновников, неслужащих дворян (которых было больше, чем теперь) и шло движение, кроме редакции журналов, вроде «Современника». Но столичная жизнь в более осязательных своих проявлениях не давала достаточно чувствовать, что мы накануне великого дня 19 февраля. Журнальный мир не был объединен общностью своих интересов. Крепостное право, кроме «Вести», никто не поддерживал. Каждый почти журнал стоял за освобождение крестьян с землею: но это не носилось в воздухе. Да и средств не имелось еще налицо для более ярких проявлений общественного чувства.
Пишущая братия сидела по редакциям. Не устраивалось ни обедов, ни банкетов, ни чтений в известном духе. Все это было бы гораздо труднее и устраивать. Правительство, как всегда, делало из мухи слона. Неизвестно, по каким донесениям своих агентов оно вообразило себе, что ко дню объявления воли произойдут уличные беспорядки.
И оно не решилось объявить о ней в самый день подписания манифеста, а позднее, в Прощеное воскресенье на Масленице, что пришлось уже в марте.
Да никто среди молодежи и не говорил о том, что готовятся какие-нибудь манифестации. Столица жила своим веселым сезоном. То, что составляет «весь Петербург», оставалось таким же жуирным, как и сорок четыре года спустя, в день падения Порт-Артура или адских боен Ляояна и под Мукденом; такая же разряженная толпа в театрах, ресторанах, загородных увеселительных кабаках.
Кто радовался освобождению — а таких было немало, — делали это тихо, келейно.
В ту «историческую» зиму едва ли не в одном движении по воскресным школам сказался пульс либерального Петербурга… да и оно должно было стихнуть после разных полицейских репрессий.
Всего прямее следовало бы ему сказываться в общей товарищеской жизни тогдашнего писательства; но этого, повторяю, не было. Иначе в эти три месяца до 19 февраля, наверно, были бы сборища, обеды, вечера, заседания, на которые я, конечно бы, попал.
Если взять хотя бы такого писателя, как П. И. Вейнберг с его общительными и организационными наклонностями, и сравнить его жизнь теперь, когда ему минуло 76 лет, и тогда, как он был молодой человек 31 года и вдобавок стоял во главе нового, пошедшего очень бойко журнала.
Этот журнал, свои дела, женитьба поглощали его совершенно. Я видал его в конторе, на Невском, в театрах (и то редко); но не помню, чтобы он устраивал что-нибудь общелитераторское, в чем сказывалась бы близость великой исторической годовщины, расколовшей историю России на две эпохи: рабовладельчества и падения его.
Был дом литературного мецената графа Кушелева-Безбородко, затеявшего незадолго перед тем журнал «Русское слово».
Он кормил и поил пишущую братию, особенно в первые два года. Журнал (к зиме 1860–1861 года) взял уже в свои руки Благосветлов. Прежняя редакция распалась, А. Григорьев ушел к братьям Достоевским в журнал «Время».
Но разливанное море, может быть, и в ту зиму еще продолжалось. Я туда не стремился, после того как редакция «Русского слова» затеряла у меня рукопись моей первой комедии «Фразеры».
От того же П. И. Вейнберга (больше впоследствии) я наслышался рассказов о меценатских палатах графа, где скучающий барин собирал литературную «компанию», в которой действовали такие и тогда уже знаменитые «потаторы» (пьяницы), как Л. Мей, А. Григорьев, поэт Кроль (родственник жены графа) и другие «кутилы-мученики». Не отставал от них и В. Курочкин.
Вообще, я уже и тогда должен был помириться с тем фактом, что нравы пишущей братии по этой части весьма и весьма небезупречны. Таких алкоголиков — и запойных, и простых, — как в ту «эпоху реформ», уже не бывало позднее среди литераторов, по крайней мере такого «букета», если его составить из Мея, Кроля, Григорьева и Якушкина, знаменитого «ходебщика», позднее моего сотрудника.
Даже такой на вид приличный и даже чопорный человек, как Эдельсон, приятель Григорьева и Островского (впоследствии мой же сотрудник), страдал припадками жестокого запоя. Но он это усиленно скрывал, а завсегдатаи кушелевских попоек делали все это открыто и, по свидетельству очевидцев, позволяли себе в графских чертогах всякие виды пьяного безобразия.
Я счастлив тем, что инстинктивно воздерживался от прямого знакомства с такими «эксцессами» представителей литературы, которой я приехал служить верой и правдой. Сколько помню, я не попал ни на один такой безобразный кутеж.
Но распущенность писательских нравов не вела вовсе к закреплению товарищеского духа. Нетрудно было мне на первых же порах увидать, что редакции журналов (газеты тогда еще не играли роли) все более и более обособляются и уже готовы к тем ужасным схваткам, которые омрачили и скором времени петербургский журнализм небывалым и впоследствии цинизмом ругани.
Нечего, стало быть, и удивляться тому, что день, когда появился манифест 19 февраля, прошел в петербургском писательском мире без всякого торжества, как самый заурядный последний день Масленицы.
Опасения правительства до поздних часов ночи оказались пуфом.
А с утра по Невскому, по Морским, по другим улицам и в центре, и на окраинах разъезжали патрули жандармов. Этим только и отличалось масленичное воскресенье от последних дней той же кутильной недели. Те же балаганы, катанье на них, вейки-чухонцы, снованье праздного подвыпившего люда. Ничего похожего на особые группы молодежи, на какую-нибудь процессию.
Этого даже и в воздухе не было. Не помню, чтобы и на Васильевском острову собирались какие-нибудь студенческие группы.
Дообеденные часы я, как страстный любитель сцены, провел в Михайловском театре на какой-то французской пьесе, мною еще не виданной. Помню, сбор был плохой. В буфетах тогда можно было иметь блины, и я спросил себе порцию в один из антрактов.
И до театра и после него (еще засветло) я проехал по Невскому и Морским, и в памяти моей остался патруль жандармов, который я повстречал на Морской около пешеходного мостика, где дом, принадлежащий министерству внутренних дел.
И тогда же до обеда я попал в мой студенческий кружок, в квартиру, где жил Михаэлис с товарищем. Там же нашел я и М. Л. Михайлова за чаем. Они только что читали вслух текст манифеста и потом все начали его разбирать по косточкам. Никого он не удовлетворял. Все находили его фразеологию напыщенной и уродливой — весь его семинарский «штиль» митрополита Филарета. Ждали совсем не того, не только по форме, но и по существу.
Сильнее и ядовитее всех говорил Михайлов. Он прямо называл все это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения.
Тут в первый раз тон и содержание его протестов показывали, что этот человек уже «сжег свои корабли»; но и раньше я догадывался, что его считают прикосновенным к революционной организации после его поездки за границу, в Лондон.
Так оно и случилось, и вскоре по Петербургу были уже разбросаны прокламации, автором которых и оказался Михайлов.
Кажется, больше я его уже не встречал, и только после приговора мне дали взглянуть на карточку, где он снят в шинели и фуражке арестанта в ту минуту, когда его заковывали в кандалы.
Надо было окончательно с первым великопостным колоколом засесть за чтение лекций и учебников.
Раздобыться лекциями по всем главным предметам было нелегко. А из побочных два предмета «кусались» больше главных: это курсы Спасовича и Кавелина.
Николай Неклюдов свел меня в аудитории с одним вольнослушателем Неофитом Калининым. От него я и пользовался многими записками. Мне предстояло сдавать с четверокурсниками. Экзамены начинались с мая. Времени, по моему расчету, хватало. Как бывший камералист, я уже сдавал экзамены из политической экономии, слушал части статистики, финансового права, уголовных законов Российской империи. Я смотрел на себя, уже как на писателя с большим университетским прошедшим, с привычкой к более серьезной работе. То, как я делал когда-то по химии и медицинским наукам, — все это стояло гораздо выше чтения лекций по предметам, не требовавшим никакой особенной остроты памяти или специальных дарований. Словом, готовился я с полной уверенностью в успехе и даже «с прохладой», в первые недели Великого поста продолжал выезжать по вечерам; бывал в концертах и на живых картинах.
Политической экономией начинались экзамены. Прочитал я учебник Горлова и еще две-три книги. Когда-то И. К. Бабст поставил мне в Казани пять с плюсом, и его преподавание было новее и талантливее, чем у Горлова.
Настало и то «майское утро», когда надо было отправляться на Васильевский остров и начинать мытарства экзамена. Предметов одних главных оказалось чуть не десяток: политическая экономия, статистика, русское государственное право, государственное право иностранных держав, международное право, финансовое право, торговое право и еще что-то.
Некоторых профессоров — например, Ивановского, Андреевского, Михайлова — я и в глаза не видал и слышал очень мало о том, как они экзаменуют, к чему надо больше и к чему меньше готовиться.
Политическая экономия, худо ли — хорошо ли, вошла в чемодан памяти. Через день надо было отправляться.
И вдруг опять вести из Нижнего: отчаянные письма моей матушки и тетки. Умоляют приехать и помочь им в устройстве дел. Необходимо съездить в деревню, в тот уезд, где и мне достались «маетности», и поладить с крестьянами другого большого имения, которых дед отпустил на волю еще по духовному завещанию. На все это надо было употребить месяца два, то есть май и июнь.
Я сам видел необходимость ехать в Нижний, но после экзамена. А тут приходилось поставить все вверх дном.
Как быть?
Еду в университет, ищу ректора, добрейшего П. А. Плетнева, наталкиваюсь на него в коридоре, излагаю ему мое затруднительное положение, прошу разрешить мне сдать все экзамены в сентябре, когда будут «переэкзаменовки».
Он затруднился дать мне такой отпуск собственной властью, что меня несколько удивило, и тут же послал меня к попечителю.
— Иван Давыдович (Делянов) примет вас и сделает все, что можно.
Отправляюсь в дом Армянской церкви, где жил Делянов, и меня сейчас же принимают.
— Так и так — необходим отпуск и позволение держать в сентябре.
Иван Давыдович, ходивший со мною по кабинету мелкими шажками, остановился, положил руку на мое плечо и, подмигнув, сказал так сладко:
— Мой друг… у вас найдется знакомый доктор… добудьте свидетельство.
Я понял — какое.
И вот — в первый и в последний раз в моей жизни — я пошел на такую процедуру: добывание лжесвидетельства — по благосклонному наущению попечителя округа. Больше мне никогда не приводилось выправлять никаких свидетельств такого же рода.
Кто-то расписался в том, что у меня злокачественный «катар» чего-то, я представил этот законный документ при прошении и прервал экзамены, не успев даже предстать перед задорную фигурку профессора Горлова, которого так больше и не видал, даже и на сентябрьских экзаменах, когда он сам отсутствовал.
С моим благодетелем по части лекций Неофитом я условился (если он также будет почему-либо держать в сентябре) усиленно готовиться вместе денно и нощно начиная с июля, для чего и просил его подыскать мне квартирку на острову.
Приходилось поступать на амплуа хозяина и ходатая по владельческим интересам моих сонаследниц.
Глава пятая
Деревня — Мое владельчество — Возвращение в Петербург — Экзамены — Волнения в университете — История моего диплома — Постановка «Однодворца» в бенефис Павла Васильева — Столкновение с Самойловым — Ланская — Поездка в Москву — «Однодворец» в бенефис П. М. Садовского — Воспитанница Познякова — «Ребенок» в Москве и Петербурге — Ф. А. Снеткова в роли Верочки — Петербургские сезоны 1861–1862 и 1862–1863 годов — Мой дебют как фельетониста «Библиотеки для чтения» — Нигилизм — Чернышевский на эстраде дома Руадзе — Общий уровень тогдашней молодежи — Инцидент с «Искрой» — Дальнейшие знакомства с писателями
Деревню я знал до того только как наблюдатель, и в отрочестве, и студентом проводя почти каждое лето или в подгородней усадьбе деда около Нижнего (деревня Анкудиновка), или — студентом — у отца в селе Павловском Лебедянского уезда Тамбовской губернии.
Крестьянство всегда интересовало меня. Студентом я стал входить с ним в большее общение и присматриваясь к хозяйству отца и как студент медицины, когда начал полегоньку полечивать его крестьян.
Крепостное право было в полном разгаре на всем протяжении моих детских и юношеских лет — вплоть до акта эмансипации в начале 1861 года. Но я не могу сказать, чтобы я делался очевидцем самых тяжелых сторон рабовладельчества. Ни у деда — довольно-таки строгого помещика, ни еще менее у отца моего я не был свидетелем таких фактов крепостничества, которые залегают в душу на всю жизнь. Еще в городе в доме деда (со стороны матери) припоминаются сцены, где права «вотчинника» заявляли себя, вроде отдачи лакеев в солдаты и арестантские роты, обыкновенно за кражу со взломом; но дикостей крепостного произвола над крестьянами — за целых десять и более лет, особенно у отца моего — я положительно не видал и не хочу ничего прикрашивать в угоду известной тенденции.
Тогда всех нас, юношей, в николаевское время гораздо сильнее возмущали уголовные жестокости: торговые казни кнутом, прохождение «сквозь строй», бесправие тогдашней солдатчины, участь евреев-кантонистов. На все это можно было достаточно насмотреться в таком губернском городе, как мой родной город, Нижний. К счастью для меня, целых пять лет, проведенных мною в Дерпте, избавили меня почти совершенно от таких удручающих впечатлений.
Но летом 1861 года я сам должен был выступить в звании «вотчинника», наследника двух деревень, и, кроме того, принужден был взять на себя и роль посредника и примирителя между моими сонаследницами, матушкой моей и тетушкой, и крестьянским обществом деревни Обуховка (в той же местности) — крестьянами, которых дед мой отпустил на волю с землей по духовному завещанию, стало быть, еще до 19 февраля 1861 года.
Поехал я из Нижнего в тарантасе — из дедушкина добра. На второе лето взял я старого толстого повара Михаилу. И тогда же вызвался пожить со мною в деревне мой товарищ З-ч, тот, с которым мы перешли из Казани в Дерпт. Он тогда уже практиковал как врач в Нижнем, но неудачно; вообще хандрил и не умел себе добыть более прочное положение. Сопровождал меня, разумеется, мой верный famulus Михаил Мемнонов, проделавший со мною все годы моей университетской выучки.
Впервые мог я, уже в качестве владельца, ознакомиться с крестьянским бытом, и как раз в имениях, где помещики никогда не жили.
Имение Обуховка (более трехсот душ), отошедшее на волю по завещанию моего деда, было ему пожаловано (тогда еще только в количестве ста с чем-то душ) при воцарении императора Павла как «гатчинскому» офицеру, сейчас же переведенному в Преображенский полк.
Мы с детства всегда считали эту Обуховку благословенным краем. Оттуда привозили всякие поборы — хлебом, баранами, живностью, маслом, медом; там были «дремучие» (как мы думали) леса, там мужики все считались отважными «медвежатниками», оттуда взяты были в двор несколько человек прислуги. И няня моей матери была также из Обуховки, и я был с младенческих лет полон ее рассказов про ее родную деревню, ее приволье, ее урочища, ее обычаи и нравы.
Первое мое впечатление было такое: из леса, которым мы ехали довольно долго, мы попали прямо против длинного деревенского «порядка» — больше все из новых изб. Незадолго перед тем Обуховка наполовину выгорела.
Этой постройкой из леса, который ни формально, ни фактически мужикам не принадлежал, начались первые же разбирательства, в которые я был — против моего желания — втянут, как защитник интересов моих сонаследниц.
Крестьяне жили неплохо, хотя и на постоянной барщине. При мне справлялись свадьбы, стоившие всегда не меньше ста и полутораста рублей на угощенье. По завещанию деда они получили, кроме усадебной земли, по три десятины на душу, что в том крае считалось высшим наделом.
Управлял Обуховкой приказчик из бывших камердинеров моего деда, потихоня, плутоватый и тайно испивающий. Он жил в барском «флигеле» на людской половине. А комнатки на улицу пошли под меня.
Сейчас же я очутился в совершенно чуждой и жуткой для меня сфере застарелых счетов между конторой и миром, с пререканиями, наветами, обличениями и оправданиями.
Совсем вновь встал я лицом к лицу и к деревенскому парламенту, то есть к «сходу», и впервые распознал ту истину, что добиваться чего-нибудь от крестьянской сходки надо, как говорится, «каши поевши». Как бы ясно и очевидно ни было то, что вы ей предлагаете или на что хотите получить ее согласие, — мужицкая логика оказывается всегда со своими особенными предпосылками, а стало быть, и со своими умозаключениями.
Обуховские дела брали у меня всего больше времени, и, несмотря на мое непременное желание уладить все мирно, я добился только того, что какой-то грамотей настрочил в губернский город жалобу, где я был назван «малолеток Боборыкин» (а мне шел уже 25-й год) и выставлен как самый «дошлый» их «супротивник».
То же испытал я позднее и с крестьянами тех двух деревень, которые отошли мне по завещанию моего деда.
При одной из них я нашел хутор с инвентарем, довольно плохим, скотиной и запашкой, кроме леса-«заказника». Имения эти дед мой (без всякой надобности) заложил незадолго до своей смерти, и мне из выкупной ссуды досталась впоследствии очень некрупная сумма.
Тут я увидал, тоже впервые, что во мне нет никакой хозяйственной «жилки», что я не рожден собственником, что приобретательское скопидомство совсем не в моей натуре.
Как бывший студент-«камералист», я мог бы заинтересоваться агрономией. Поля, лес, быт мужиков, сельскохозяйственные порядки — все это и писателя могло в известной степени привлекать; но всему помехой было положение владельца, барина, «вотчинника». А отсутствие более сильных хозяйственных наклонностей не давало того себялюбивого, но естественного довольства от сознания, что вот у меня лично будет тысяча десятин незаложенной земли, что у меня есть лес-«заказник», что я могу хорошо обставить хутор, завести образцовый скотный двор. Словом, отсутствовало то помещичье-приобретательское чувство, которому Л. Толстой — он это говорит в своей «Исповеди» — предавался не один десяток лет.
Я был прирожденный «citadin», городской житель, то, что потом я сам в русской печати окрестил термином «интеллигент».
И меня с первых же недель потянуло назад, в Петербург, где я принужден был бросить экзамены.
Соседи мои так и посмотрели на меня. Я попал в целое «дворянское гнездо». Поблизости к Обуховке стояло большое село Ш-во, и там я нашел три помещичьих усадьбы. Один из братьев Рагозиных был и моим мировым посредником, сам хороший, рациональный агроном, мягкий, более гуманный, с оттенком либерализма, который сказывался и в том, что он ходил и у себя и в гостях в русском костюме (ополченской формы), но без славянофильского жаргона. К нему надо было обращаться по всем моим делам с крестьянами — и обуховскими, и моими временно-обязанными.
Николай Иванович помогал мне своими советами и, как посредник, считался скорее сторонником крестьян; но ему хотелось бы видеть во мне молодого владельца, который «сел бы» на землю и превратился в рационального хозяина, а потом послужил бы земству, о чем уже начали поговаривать, как о ближайшей реформе.
Дамы и девицы в трех усадьбах смотрели на меня только как на петербургского молодого человека, выбравшего себе писательскую дорогу. Это считалось не особенно привлекательным и почетным; но не было и никакой враждебности. Общий культурный уровень был не особенно выше среднего. Кое-что почитывали, занимались музыкой, говорили по-немецки и по-французски. Но даже и у самого развитого и либерального Николая Ивановича — моего посредника — не было заметно особенного желания делать что-нибудь для народа вне хозяйственной сферы. Школ и больниц я что-то во всей округе не помню в помещичьих имениях.
Мои собственные владельческие дела шли очень медленно. Хозяйничать я не сбирался; но — «пока что» — надо было как-нибудь да вести так называемое «барское» хозяйство. Барщины уже не было. Главный и неотлагательный вопрос был написание уставной грамоты. И тут я и вошел в долгие переговоры с миром. Сходка — не знаю уже на что рассчитывая — упиралась безусловно, на выкуп не шла, даже и на самых льготных условиях, и дело это тянулось до тех пор, пока я принужден был дать крестьянам обеих деревень даровой надел (так называемый «сиротский»), что, конечно, невыгодно отозвалось в ближайшем будущем на их хозяйственном положении.
Забегая вперед на целый год, я покончу здесь с моей судьбой как землевладельца. Я должен был взять приказчика; а со второго лета хозяйством моим стал заниматься тот медик З-ч — мой товарищ по Казани и Дерпту, который оставался там еще несколько лет, распоряжаясь как умел запашкой и отдачей земли в аренду. Но дефицит по изданию «Библиотеки для чтения» заставил меня к 1864 году заложить мою землю с лесом в Нижегородском дворянском банке за ничтожную сумму в 15 000 рублей (теперь она стоила бы гораздо более ста тысяч), и она пошла с аукциона менее чем за двадцать тысяч. Тогда цены на земли не были еще высоки, и один из моих соседей, брат посредника, воспользовался таким выгодным случаем и купил землю (вероятно, с переводом долга) за несколько тысяч рублей.
И вышло так, что все мое помещичье достояние пошло, в сущности, на литературу. За два года с небольшим я, как редактор и сотрудник своего журнала, почти ничем из деревни не пользовался и жил на свой труд. И только по отъезде моего товарища 3-ча из имения я всего один раз имел какой-то доход, пошедший также на покрытие того многотысячного долга, который я нажил издательством журнала к 1865 году.
Не считаю лишним сказать здесь с полной искренностью, что в те годы, когда я неожиданно стал землевладельцем и, должен был сводить свои счеты с крестьянами, я не был подготовлен в своих идеях и принципах к тому, например, чтобы подарить крестьянам полный надел, какой полагался тогда по уставным грамотам. Не знаю, сделал ли я бы это, если б имение не было заложено. Как раз три четверти выкупной ссуды, освободившей меня от долга, и представляли бы собою дополнительный надел — до полной нормы, если б я им отдал их землю даром.
Не в виде оправдания, а как фактическую справку — приведу то, что из людей 40-х, 50-х и 60-х годов, сделавших себе имя в либеральном и даже радикально-революционном мире, один только Огарев еще в николаевское время отпустил своих крепостных на волю, хотя и не совсем даром. Этого не сделали ни славянофилы, по-тогдашнему распинавшиеся за народ (ни Самарин, ни Аксаковы, ни Киреевские, ни Кошелевы), ни И. С. Тургенев, ни М. Е. Салтыков, жестокий обличитель тогдашних порядков, ни даже К. Д. Кавелин, так много ратовавший за общину и поднятие крестьянского люда во всех смыслах. Не сделал этого и Лев Толстой!
И Герцен, хотя фактически и не стал по смерти отца помещиком (имение его было конфисковано), но как домовладелец (в Париже) и капиталист-рантье не сделал ничего такого, что бы похоже было на дар крестьянам, даже и вроде того, на какой пошел его друг Огарев.
Рабовладельчеством мы все возмущались, и от меня — по счастию! — отошла эта чаша. Крепостными я не владел; но для того, чтобы произвести даровое полное отчуждение, надо и теперь быть настроенным в самом «крайнем» духе. Да и то обязательное отчуждение земли, о которое первая Дума так трагически споткнулась, в сущности есть только выкуп (за него крестьяне платили бы государству), а не дар, в размере хорошего надела, как желали народнические партии трудовиков, социал-демократов и революционеров.
Мои временнообязанные получили даровую землю, только в недостаточном количестве — разница количественная, а не по существу. Прибавлю (опять-таки не в оправдание, а как факт), что они могли тут же арендовать у землевладельца землю по цене, меньшей той, что с них потребовали бы «хорошие» хозяева, а не молодой писатель, который так скоро стал тяготиться своей ролью владельца.
Первая моя экскурсия в деревню летом 1861 года длилась всего около двух месяцев; но для будущего бытописателя-беллетриста она не прошла даром. Все это время я каждый день должен был предаваться наблюдениям и природы, и хозяйственных порядков, и крестьянского «мира», и народного быта вообще, и приказчиков, и соседей, и местных властей вроде тех, кто вводил меня во владение.
В Петербург я возвращался уже с некоторыми плюсами, в моем знакомстве с тогдашней дворянско-мужицкой жизнью. Но надо было торопиться. На подготовку к кандидатскому экзамену оставалось неполных два месяца.
И вот я опять студент, да еще житель Васильевского острова.
Вольнослушатель Неофит Калинин, с которым меня познакомил Николай Неклюдов, приготовил мне квартирку у какой-то немки в нескольких шагах от того дома, где он жил, — кажется, в 10-й линии.
И началось «зубренье». Странно выходило то, что всего сильнее мы должны были готовиться из двух побочных предметов — из уголовного права (с его теорией) и гражданского — оттого, что обоих профессоров всего больше боялись как экзаменаторов — В. Д. Спасовича и К. Д. Кавелина.
Ни того, ни другого я еще лично не знавал: Спасовича видел на «пробном» суде присяжных (когда судили студента за растрату), а Кавелина видал в аудиториях.
Курс Спасовича был двойной: право с его теорией и история судебных учреждений, начиная с древности.
Тогда уже вышел его учебник, составленный очень подробно и набитый изложением разных теорий вменения; моему коллеге Калинину все это довольно-таки туго давалось. И многое приходилось перечитывать по два и по три раза.
Читали мы целый день — до поздних часов белых ночей, часов иногда до двух; никуда не ездили за город, и единственное наше удовольствие было ходить на Неву купаться. На улицах стояло такое безлюдье, что мы отправлялись в домашних костюмах и с собственным купальным бельем под мышкой.
Иногда — к концу нашего сидения — приходили приятели Калинина из студентов или бывших студентов. У него я познакомился с В. В. Чуйко (критиком), только что вернувшимся из-за границы.
Но я все-таки не мог уйти совершенно от интересов и забот драматического писателя, у которого уже больше года его первая пьеса «Однодворец» томилась в Третьем отделении вместе с драмой «Ребенок».
Цензор потребовал от меня переделки двух актов — второго и третьего. Его смущала сцена супружеской неверности. Адюльтер считался тогда вообще запретным плодом, и тень моего Ивана Андреевича Нордштрема содрогнулась бы, если б она попала на представления некоторых нынешних пьес на казенных сценах.
Пришлось урвать у заучиванья лекций добрую неделю, чтобы вовремя представить опять «Однодворца» и добиться его разрешения к началу сезона.
Нам, «администраторам», желавшим сдавать на кандидата, дали для сдачи всех главных предметов (а их было около десятка) всего один день?
Через такой эксперимент я еще не проходил во всю мою долгую студенческую жизнь в двух университетах.
В Дерпте, когда я сдавал первую половину экзаменов («rigorosum») как специально изучающий химию, я должен был выбрать четыре главных предмета и сдать их в один день. Но все-таки это было в два присеста, по два часа на каждый, и наук значилось всего четыре, а не восемь, если не десять.
И тот дерптский экзамен был неизмеримо серьезнее, почти как магистерский, и в другой форме, не школьнически перед столом экзаменатора, стоя — студенты в мундире, — а сидя, в виде как бы продолжительной беседы.
Отправились мы в университет первого сентября. Мой коллега Калинин слушал всех профессоров, у кого ему предстояло экзаменоваться; а я почти что никого, и большинство их даже не знал в лицо, и как раз тех, кто должен был экзаменовать нас из главных предметов.
Большая аудитория (какая по счету — уже не помню), светлая, обставленная во все стороны столами. К правой стороне — целых три экзаменатора: Горлов (политическая экономия и статистика) не явился, и за него экзаменовал один из тех, кто сидел на этой стороне аудитории. Я никого не знал в лицо. Спрашиваю, кто сидит посреди — говорят мне: профессор финансового права; а вот тот рядом — Иван Ефимович Андреевский, профессор полицейского права и государственных законов; а вон тот бодрый старичок с военным видом — Ивановский, у которого тоже приходилось сдавать целых две науки разом: международное право и конституционное, которое тогда уже называлось «государственное право европейских держав».
Так и я стал обходить их по порядку.
Сейчас же мне бросилось в глаза то, что уровень подготовки экзаменующихся был крайне невысок. А сообразно с этим — и требования экзаменаторов. У И. Е. Андреевского, помню, мне выпал билет (по тогдашнему времени самый ходовой) «крестьянское сословие», и я буквально не говорил больше пяти минут, как он уже остановил меня с улыбкой и сказал: «Очень хорошо. Довольно-с». И поставил мне пять, чуть не с плюсом.
То же было и у финансиста; а Ивановский, прослушав меня так минут по пяти на темы «морских конвенций» и «германского союза», поставил мне две пятерки и, в паузу, выходя в одно время со мною из аудитории в коридор, взял меня под руку и спросил:
— А как вы, молодой человек, думаете поступить по сдаче кандидатского экзамена? Какую дорогу избираете?
Я понял это, как намек на то: «Не хотите ли быть оставленным при университете по одной из моих кафедр?»
Я ответил, что выбрал себе дорогу писателя и уже выступил на это поприще около года назад.
Ивановского любили, считали хорошим лектором, но курсы его были составлены несколько по-старинному, и авторитетного имени в науке он не имел. Говорил он с польским акцентом и смотрел характерным паном, с открытой физиономией и живыми глазами.
Так же быстро был мною сдан и экзамен из политической экономии и статистики, и, таким образом, все главное было уже помечено вожделенной цифрой 5. Оставалось только торговое право у бесцветного профессора Михайлова; и оно «проехало благополучно».
Такой экзамен напомнил мне николаевское время в Казани, а последерптской «предметной системы» и гораздо большей серьезности испытаний — казался чем-то довольно-таки школьным, гимназическим.
И не мог я не видеть резкого контраста между такой плохой подготовленностью студентов (державших не иначе как на кандидата) и тем «новым» духом, какой к 60-м годам начал веять в аудиториях Петербургского университета.
Но одно дело — увлечение освободительными протестами, другое — усидчивый труд или, по крайней мере, общая развитость и начитанность. Некоторые студенты из петербургских франтиков прямо поражали меня своей неразвитостью. Они буквально не могли грамотно построить ни одной фразы, и нет ничего удивительного, что меня остановил Андреевский после пятиминутного ответа.
И забавнее всего было то, что такие «бакенбардисты» (термин из «Гамлета Щигровского уезда») начинали сейчас же торговаться.
— Я не могу вам поставить больше трех, — деликатнейшим тоном говорил такому индивиду все тот же Андреевский.
— Нет-с, господин профессор! Я на этом помириться не могу! Мне необходима по меньшей мере четверка.
И такие спорщики преобладали.
На побочные науки были даны другие дни. Обязательным предметом стояла и русская история. Из нее экзаменовал Павлов (Платон), только что поступивший в Петербургский университет. Более мягкого, деликатного, до слабости снисходительного экзаменатора я не видал во всю мою академическую жизнь. «Бакенбардисты» совсем одолели его. И он, указывая им на меня, повторял:
— Как же мне быть, господа? Вот они (это я) как отвечали — и я ставлю им пять. Могу ли я, по совести, ставить вам столько же?
По русской истории я не готовился ни одного дня на Васильевском острову. В Казани у профессора Иванова я прослушал целый курс, и не только прагматической истории, но и так называемой «пропедевтики», то есть науки об источниках вещных и письменных, и, должно быть, этого достаточно было, чтобы через пять с лишком лет кое-что да осталось в памяти.
Из всеобщей истории отвечал я М. М. Стасюлевичу на билет об «Аугсбургском исповедании».
Оставалось два самых «страшных», хотя и побочных, предмета: гражданское и уголовное право.
Кавелин считался еще более строгим экзаменатором, чем Спасович, хотя почему-то боялись его меньше.
Экзамен происходил в аудитории, днем, и только с одним Кавелиным, без ассистента. Экзаменовались и юристы, и мы — «администраторы». Тем надо было — для кандидата — добиваться пятерок; мы же могли довольствоваться тройками; но и тройку заполучить было гораздо потруднее, чем у всех наших профессоров главных факультетских наук.
С К. Д. Кавелиным впоследствии — со второй половины 70-х годов — я сошелся, посещал его не раз, принимал и у себя (я жил тогда домом на Песках, на углу 5-й и Слоновой); а раньше из-за границы у нас завязалась переписка на философскую тему по поводу диссертации Соловьева, где тот защищал «кризис» против позитивизма.
Молодой драматург, подходивший к столу брать билет из гражданского права у профессора, считавшегося, несмотря на свою популярность, очень строгим, не мог предвидеть, что более чем через десять лет сойдется с ним как равный с равным.
Кавелин видел меня тогда, кажется, в первый раз, но фамилию мою знал и читал если не «Однодворца», то комические сцены, которые я напечатал перед тем в журнале «Век», где он был одним из пайщиков и членов редакции.
Передо мной сдавал (на пятерку) студент-юрист Скалон, впоследствии известный кавалерийский генерал. Не знаю, для чего ему понадобился кандидатский диплом, так как он тогда уже говорил товарищам, что сейчас же поступит в лейб-уланский полк.
Кавелин порядочно-таки «пронимал» его, заставил брать второй билет; прохаживался и по всему предмету. Все мы, чаявшие своей очереди, сейчас почуяли, что ответом в несколько минут тут не отвертишься.
Кавелин был тогда очень крепкий, средних лет и небольшого роста мужчина, с красными щеками, еще не седой, живой выдвижениях. Он носил — после какой-то болезни — на голове шелковую скуфью. Глаза его, живые и блестящие, зорко и экзаменаторски взглядывали на вас. Он не сидел, а двигался около стола, заложив руки в карманы панталон. Был он в вицмундире.
Впоследствии, когда я после смерти А. И. Герцена и знакомства с ним в Париже (в зиму 1868–1870 года) стал сходиться с Кавелиным, я находил между ними обоими сходство — не по чертам лица, а по всему облику, фигуре, манерам, а главное, голосу и языку истых москвичей и одной и той же почти эпохи. Кавелин рано сблизился с Герценом, и тот стал его большой симпатией до их разрыва, случившегося на почве политических взглядов и уже в шестидесятых годах: после того момента, когда я попал в аудиторию к строгому экзаменатору.
После бойкого претендента на кандидатскую отметку, собиравшегося в уланские юнкера, подошел я к столу и взял билет: «О личных отношениях супругов между собою».
Я сказал то, что вспомнил из записок, которые мы подзубривали с Неофитом Калининым.
Кавелин заметил мне — строгонько в тоне, что есть и другие виды супружеских отношений. Я ответил ему, что в записках, составленных по его лекциям, стоят только эти.
Ему такой ответ не понравился, и он заставил меня взять еще билет. Это было: «О поколенном и поголовном наследстве».
Тут он стал уже донимать меня, ловя на неточности формулировки разных определений, и кончил такой фразой:
— Господин Боборыкин, вы пишете очень милые вещи, но я больше тройки поставить вам не могу.
— Я и не требую, господин профессор, — сказал я, несколько взволнованный таким оборотом фразы. — Но позвольте вам заметить, что мое писательство не имеет никакого отношения к этому экзамену.
Он изменился в лице, но больше ничего не сказал.
Я вышел в коридор, а через несколько минут выкатил из аудитории студент — из дерптских буршей, высланный оттуда за дуэль, подбежал ко мне и, бледный, кинул мне:
— Задница! Что ты наделал?!
Он обвинил кругом меня в своем жестоком провале у Кавелина, которого я рассердил своим ответом, и он поставил ему единицу.
Предстояло идти ко второму «пугалу» тогдашних юристов и администраторов, к В. Д. Спасовичу.
Кто бы сказал мне тогда, что с этим профессором, которого на экзаменах боялись как огня, мы будем так долго водить приятельство как члены шекспировского кружка, и что он в 1900 году будет произносить на моем 40-летнем юбилее одну из приветственных речей?
Спасович тогда заболел к началу наших испытаний и явился позднее. Дело было вечером. С подвязанной щекой от сильнейшего флюса, хмурый и взъерошенный, он сидел один, без ассистента, за столом, кажется, в той самой аудитории, где он зимой был председателем студенческого суда присяжных.
Большая аудитория — в полутьме, с двумя свечами на столе. У дверей в коридоре — студенты, «идущие на пропятие», скучились и, совершенно как чиновники в «Ревизоре», смертельно боятся проникнуть в то логовище, где их пожрет жестокий экзаменатор.
Я был одним из первых смельчаков.
Спасович действительно своим тогдашним видом мог смущать даже и тех, кто оказался похрабрее Но этот устрашающий вид не помешал ему оказаться экзаменатором если и не во вкусе И. Е. Андреевского, то весьма справедливым и нисколько не придирчивым.
Мне надо было брать два билета — по двум курсам, и их содержание до сих пор чрезвычайно отчетливо сохранилось в моей памяти: «О давности в уголовных делах», и о той форме суда присяжных в древнем Риме, которая известна была под именем «Questiones perpetuae».
Хмурый экзаменатор, раздраженный зубной болью, по своей привычке все подталкивал меня своим «ну-с, ну-с», но ни к чему не придирался и по обоим ответам поставил мне по четыре, что было более чем достаточно для «администратора».
Так как по главным наукам у меня в среднем была пятерка, то я мог быть спокоен насчет приобретения кандидатского диплома.
А в самом университете как раз с первых чисел сентября началось усиленное брожение.
Я помню сцену, когда один из студенческих вожаков, Н. Неклюдов (будущий шеф государственной полиции) догонял попечителя, генерала Филипсона, во главе группы студентов, вступал с ним в переговоры и ставил свой ультиматум.
Всю эту смуту заварил новый министр Путятин со своими «матрикулами», которых русские университеты до того не знали, и студенты посмотрели на это как на что-то унизительное и архиполицейское.
Но такие самые матрикулы издавна существовали в Дерпте, и я пять лет имел у себя книжку, с которой там, у немцев, все мирились и даже считали ее совершенно необходимой в учебном быту.
Она называлась «Anmeldungsbogen» или — как студенты чаще называли — «Belegbogen». В ней прописывалась специальность студента (я, например, назывался «возделывателем химии» — chimiae cultor) и стоял перечень предметов его разряда. И так как мы там сдавали побочные предметы, когда нам вздумается, то тут же профессор и ставил отметку, а по окончании семестра делал другую отметку — о посещении студентом его предмета. Но на практике установилось так, что вы всегда получали отметку «изредка посещал» (zuweilen besucht), хотя вы и глаз никогда к нему не казали.
И вот такие-то (или вроде того) матрикулы и подняли всю академическую бурю. Мы на радостях с Неофитом Калининым вкушали сладкий отдых от зубренья и несколько дней не заглядывали в университет. Мне захотелось узнать — получил ли я действительно средний балл, дающий кандидатскую степень, и пошел, еще ничего не зная, что в это утро творилось в университете, и попал на двор, привлеченный чем-то необычайным.
Прежде всего я узнал в калитке стоявшего для наблюдения — кого же? Моего цензора Нордштрема, в шляпе и шинели, с лицом официального соглядатая. Но ведь он был чиновник Третьего отделения и получил это «особое» поручение, с драматической цензурой имевшее мало общего.
И судьба подшутила над ним: в эту минуту над тысячной толпой студентов, на лестнице, прислоненной к дровам, говорил студент Михаэлис, тот приятель М. Л. Михайлова (и брат г-жи Шелгуновой), с которым я видался в студенческих кружках еще раньше. А он приходился… чуть не племянником этому самому действительному статскому советнику и театральному цензору.
Я попал как раз в тот момент, когда с высоты этой импровизированной трибуны был поставлен на referendum вопрос: идти ли всем скопом к попечителю и привести или привезти его из квартиры его (на Колокольной) в университет, чтобы добиться от него категорических ответов на требования студентов.
Толпа решила — идти, и вся она прямо со двора двинулась в порядке через Дворцовый мост по Невскому.
Пошел и я туда же.
День был ясный, теплый, точно праздничный. Ни около университета, ни на мосту, ни на площади Зимнего дворца — никто эту процессию не останавливал. Были тут и вольнослушательницы, и немало сочувствующих в штатском платье.
По Невскому студенты шли по солнечной стороне, тихо, без пения, не вызывая никакого замешательства в движении пешеходов и экипажей.
Публика оглядывалась, больше улыбалась и расспрашивала участников процессии. Ни одна лавка не закрывалась, и на всем протяжении Невского до Владимирской и дальше до Колокольной никто не разгонял студентов.
Попечитель жил в одном из небольших домов, видных от решетки церкви. Тут я остановился, и все, что потом происходило у дома и по всей улице, с Владимирской было мне хорошо видно.
Первый приехал в карете тогдашний начальник Третьего отделения граф П. Шувалов; вышел из кареты в одном мундире и вскоре поспешно уехал. Он-то, встретив поблизости взвод (или полроты) гвардейского стрелкового батальона, приказал ему идти на Колокольную. Я это сам слышал от офицера, командовавшего стрелками, некоего П-ра, который бывал у нас в квартире у моих сожителей, князя Дондукова и графа П. А. Гейдена — его товарищей по Пажескому корпусу.
Стрелки выстроились. На балконе того дома, где жил попечитель, показалась рослая и плотная фигура генерала. Начались переговоры. Толпа все прибывала, но полиция еще бездействовала и солдаты стояли все в той же позиции. Вожаки студентов волновались, что-то кричали толпе товарищей, перебегали с места на место. Они добились того, что генерал Филипсон согласился отправиться в университет, и процессия двинулась опять тем же путем по Владимирской и Невскому.
Во всем этом на взгляд стороннего зрителя не было ничего похожего на «бунт», на «разгром» и даже на воинственную «манифестацию». Для простой публики было даже невдомек, что, собственно, тут происходит?
И когда студенческая толпа двинулась в обратный путь, вожаки — из тех, кого и я знавал в лицо, пришли в радостное возбуждение. Из них самый сильный по характеру был Михаэлис, потом Николай Неклюдов, Николай Утин, Чубинский, Покровский и др.
Подневольное следование попечителя со всей студенческой братией по Невскому было, конечно, небывалым фактом. Но победа, увы, оказалась чем-то вроде поражения, потому что дальше пошло гораздо хуже. Демонстрация из-за матрикул перед главным входом окончилась побоищем. Действовали Преображенский и Финляндский полки. Здание было занято военным постом, что я сам видел, когда пришел узнать — как стоят дела. Сени — со стороны Невы — похожи были на кордегардию. Обер-полицмейстер Паткуль хвалился, однако, что он действовал, как настоящий джентльмен, и делал «все возможное».
Началось следствие с арестами и разбирательствами, которое затянулось до половины зимы. Главная роль пришлась на долю проф. Андреевского. По его предмету, полицейскому, или (как в Московском университете проф. Лешков уже величал его тогда) «общественному», праву — я подал и диссертацию. Материал для нее доставил мне один еще дерптский мой знакомый, служивший в министерстве государственных имуществ.
Диссертация называлась так: «О мирских капиталах, вспомогательных и сберегательных кассах у государственных крестьян».
Тема, как видите, весьма далекая от всех моих тогдашних первенствующих интересов как писателя. Но материал достался мне стоящий, да вдобавок еще отвечавший общему настроению — в сторону мира, деревни, крестьянства.
Но прежде всего надо было бы еще раз повернее узнать: получим ли мы с моим Неофитом Калининым кандидатские баллы. Разброд в университете был полнейший. Фактически он не существовал. Отметки были у нас, несомненно, кандидатские. Диссертацию я быстро изготовил, уже переселившись с Васильевского острова в квартиру, где опять поместился с моими прошлогодними сожителями, в том самом квартале, где произошла студенческая манифестация, на Колокольной, также близ Владимирской церкви, в одном из переулков Стремянной.
С университетом прямая связь прервалась. Здание «Двенадцати коллегий» стояла пустое. Студенчество рассеялось. Много было «сосланных» и «высланных», разбирательство затянулось очень надолго. Кроме всяких «кар», надо было позаботиться и о материальном положении студенческой массы.
Всем этим заведовал популярный тогда «Иван Ефимыч», то есть все тот же профессор полицейского права — тоже пикантное совпадение.
Чтобы добыть кандидатский диплом, надо было получить удостоверение о том, что диссертация моя просмотрена и одобрена профессором по этому предмету, то есть опять-таки все тем же вездесущим Иваном Ефимычем.
Помнится мне мое посещение его квартиры. Это было вечером. Я нашел его в самом пекле его «административных» хлопот… Что-то вроде справочной конторы, с постоянным приходом и уходом студенческой братии. И маленькая юркая фигурка Андреевского, в беспрестанном движении, справках, ответах, распоряжениях, выслушивании всевозможных жалоб, требований, просьб.
Дошла очередь и до меня. Конечно, он не помнит, что я ему отвечал на экзамене по двум предметам.
— У вас лежит и моя диссертация, Иван Ефимович.
Он вопросительно усмехнулся.
Я постарался напомнить ему содержание ее. Он засуетился, стал искать в картонах и в полках этажерок.
Видно было, что если она и попадала ему в руки, то не оставила в его памяти никакого заметного следа.
— А как заглавие вашей диссертации? — спросил он, убедившись, что у него ее нет.
— «О мирских капиталах и вспомогательных и сберегательных кассах у государственных крестьян».
— Хорошо-с! Я так и напишу.
Хранится это злополучное рассуждение в архивах Петербургского университета или нет, — я не знаю.
Но я получил кандидатский диплом уже в январе 1862 года на пергаменте, что стоило шесть рублей, с пропиской всех наук, из которых получил такие-то отметки, и за подписью исправляющего должность ректора, профессора Воскресенского. Когда-то, дерптским студентом, я являлся к нему с рекомендательным письмом от моего наставника Карла Шмидта по поводу сделанного мною перевода учебника Лемана.
Если б какой-нибудь казуист пожелал доказывать, что у меня диплом был от фактически не существовавшего университета, ему нетрудно было бы доказать это, так как действительно тогда университет, в смысле академической деятельности, не существовал.
Я по необходимости забежал вперед. За это время университет успел перебраться отчасти в залы Думы, где открылись публичные лекции самых популярных профессоров.
Это поддерживало связь его с обществом, со всем тем Петербургом, который сочувствовал молодежи даже и в ее увлечениях и протестах. Возмездие, постигшее студентов, было слишком сильно, даже и за то, что произошло перед университетом, когда действовали войска. Надо еще удивляться тому, что лекции в Думе могли состояться так скоро.
И во мне они поддерживали связь с миром академической молодежи, и я (хоть и в самый разгар моих тогдашних писательских дебютов и всяких столичных впечатлений и испытаний) посещал эти лекции довольно усердно, и при мне разыгралась знаменитая сцена на лекции Костомарова. Но о ней я расскажу позднее в связи с другими фактами тогдашнего брожения.
Сразу к октябрю 1861 года я был охвачен широкой волной личных «переживаний» писателя.
«Однодворец» после переделки, вырванной у меня цензурой Третьего отделения, нашел себе сейчас же такое помещение, о каком я и не мечтал! Самая крупная молодая сила Александрийского театра — Павел Васильев — обратился ко мне. Ему понравилась и вся комедия, и роль гарнизонного офицера, которую он должен был создать в ней. Старика отца, то есть самого «Однодворца», он предложил Самойлову, роль старухи, жены его, — Линской, с которой я (как и с Самойловым) лично еще не был до того знаком.
Для Ф. А. Снетковой в пьесе не было роли, вполне подходившей к ее амплуа. Она вернулась из-за границы как раз к репетициям «Однодворца». Об этой ее заграничной поездке, длившейся довольно долго, ходило немало слухов и толков по городу. Но я мало интересовался всем этим сплетничаньем, тем более что сама Ф. А. была мне так симпатична, и не потому только, что она готовилась уже к роли в «Ребенке», прошедшем через цензурное пекло без всяких переделок.
Кроме Самойлова, из участников в моей вещи — рядом с бенефициантом — самый яркий талант был у Линской.
Я уже видал ее в такой «коронной» ее роли, как Кабаниха в «Грозе», и этот бытовой образ, тон ее, вся повадка и говор убеждали вас сейчас же, какой творческой силой обладала она, как она умела «перевоплощаться», потому что сама по себе была чисто петербургское дитя кулис — добродушное, веселое, наивное существо, не имеющее ничего общего со складом Кабанихи, ни с тем бытом, где родилось и распустилось роскошным букетом такое дореформенное существо.
Как начинающий автор, ставящий свою первую вещь, я нашел в Линской особенную приветливость без всяких претензий и замашек любимицы публики. Она только что перед тем вышла, уже пожилой женщиной, по любви за Аврамова, любителя из офицеров, который и добился места в труппе, и вскоре так жестоко поплатилась за свою запоздалую страсть, разорилась и кончила нищетой: четыре пятых ее жалованья отбирали на покрытие долгов, наделанных ее супругом, который, бросив ее, скрылся в провинцию, где долго играл, женился и сделался даже провинциальной известностью.
Вообще тогда начинающему автору было гораздо легче… Система бенефисов делала то, что актеры всегда нуждались в новых пьесах. А бенефисы имели почти все, кроме самых третьестепенных.
Поэтому никто с нами и не «важничал». Никто и не отказывался от ролей, потому что они получали тогда сверх жалованья «разовую плату» от трех до тридцати пяти рублей за роль. Это их заставляло браться за какую угодно роль.
А мы, когда стали писать о театре, из принципа восставали против той и другой системы — и бенефисов, и разовой платы.
Я сказал: «никто с нами не важничал» — за исключением премьера труппы, Самойлова. Он занимал совершенно особое, «генеральское» положение в труппе, и все ему сходило с рук.
И первое мое серьезное столкновение на сцене случилось именно с ним; а больше я никогда, ни в Петербурге, ни в Москве, не имел за сорок лет таких коллизий.
Роль «Однодворца» он благосклонно принял, но на считку не явился и, встретив меня на лестнице, небрежно кинул мне:
— Они там собрались для считки.
А для меня, дескать, никакой закон не писан. Я был уже предупрежден, что такое «Василий Васильевич», и уклонился от каких-либо замечаний. Но на второй или третьей репетиции он вдруг в одном месте, не обращаясь ко мне как к автору, крикнул суфлеру:
— Я это место выкидываю. Вычеркни эти строки!
И прочитал по тетради.
Оставить без протеста такую выходку я, хоть и начинающий автор, не счел себя вправе во имя достоинства писателя, тем больше что накануне, зная самойловские замашки по части купюр, говорил бенефицианту, что я готов сделать всякие сокращения в главной роли, но прошу только показать мне эти места, чтобы сделать такие выкидки более литературно.
Мой протест, который я сначала выразил Васильеву, прося его быть посредником, вызвал сцену тут же на подмостках. Самойлов — в вызывающей позе, с дрожью в голосе — стал кричать, что он «служит» столько лет и не намерен повторять то, что он десятки раз говорил со сцены. И, разумеется, тут же пригрозил бенефицианту отказаться от роли; Васильев испугался и стал его упрашивать. Режиссер и высшее начальство стушевались, точно это совсем не их дело.
Режиссером был тогда очень плохой актер, неглупый человек, с некоторым образованием, Воронов, но без всякого значения и веса, совершеннейший театральный «чинуш». А начальник репертуара, знаменитый «Губошлеп», даже и не спросил меня «конфиденциально», что у меня вышло с Самойловым.
На дальнейших репетициях я не произносил ни одного слова, и «премьер» вел себя так, точно будто никакого автора тут и не сидит. Репетировал он кое-как, без игры; и сыграл по-своему хорошо, но не «Однодворца», а просто бывшего управителя, по трафарету.
И свое поведение он завершил поступком, который дал настоящую ноту того, на что он был способен: сыграв роль, он тут же, в ночь бенефиса, отказался от нее, и начальство опять стушевалось, не сделав ни малейшей попытки отстоять права автора.
«Губошлеп» стал просить П. И. Григорьева, резонера труппы на амплуа «благородных отцов», взять на себя роль. Это прервало представление более чем на целую неделю и лишило пьесу главного исполнителя, с репутацией Самойлова.
Григорьев справился с ролью как мог, но, разумеется, никакого бытового лица он не создал.
Самым ярким пятном исполнения вышла игра Васильева. Он был «вылитый» гарнизонный офицер из кантонистов. Его фигура, тон, говор, движения, подергиванье плечами, короткое отплевыванье вбок при курении — все это была сама жизнь. Играл он свою роль с большой охотой, и ничего лучшего никакой автор, даже и избалованный, не мог бы желать и требовать.
Васильев и Линская были украшением всего персонала петербургского «Однодворца». Остальное все оказалось весьма и весьма посредственным. От исполнения тех же ролей в Москве это отстояло, как небо от земли.
В роли помещика, который выдал свою любовницу, гувернантку дочери, за офицера, Леонидов вышел каким-то ярмарочным игроком из бывших ремонтеров. Гувернантку — по-актерски выражаясь, «выигрышную» роль — я должен был по совету режиссера поручить Федоровой, сухой актрисе с высокой, сухой фигурой, низким голосом и отсутствием темперамента. Она состояла на «светском» амплуа, а карьеру свою начала в императорском цирке, куда при Николае I выпустили в наездницы «высшей школы» двух учениц Театрального училища — вот эту Федорову и еще Натарову, долго служившую в Александрийском театре на амплуа горничных и кухарок.
Умный и далеко не бездарный актер Зубров оказался карикатурным в комическом — лице помещика Жабина. Г-жа Подобедова, тогда еще очень молодая и красивая, сделала из дочери самую обыкновенную «инженю».
О теперешних требованиях, какие заявляют авторы и режиссеры, руководители театров, особенно в Москве, в Художественном театре, тогда смешно было бы и заикаться.
На большую пьесу в пяти действиях полагалась одна неделя, и порядочных репетиций шло три-четыре.
Обстановка самая заурядная, в старых декорациях, с старой бутафорией. Из-за всякого костюма выходила переписка с конторой, что и до сих пор еще не вывелось на казенных сценах. Чиновничьи порядки царили безусловно. На прессу по отделу театра надет был специальный намордник в виде особой цензуры при ведомстве императорского двора.
Но если б не инцидент с Самойловым, я как начинающий автор не имел бы повода особенно жаловаться. Публика приняла мою комедию благосклонно, поставлена она была в бенефис даровитого актера, сделавшегося к началу своего второго сезона в Петербурге уже любимцем публики.
Впервые испытал я приятное щекотанье авторского «я», когда меня стали вызывать. Тогда авторы показывались из директорской ложи. Мне был поднесен даже лавровый венок, что сконфузило меня самого. Такое подношение явилось чересчур поспешным и отзывалось слишком дешевыми лаврами. Поусердствовала, кажется, одна моя тетушка и была виновницей карикатуры в «Искре», где прошлись насчет моих ранних трофеев.
Критика тогда сводилась к двум-трем газетам. Сколько помню — рецензенты не особенно напали на «Однодворца», но и не помогли его успеху, который свелся к приличной цифре представлений. Тогда и огромный успех не мог дать — при системе бенефисов — в один сезон более двадцати спектаклей, и то не подряд. Каждую неделю появлялась новая большая пьеса.
Но моя «история» с Самойловым, совершенно неожиданно для меня, попала в заграничные газеты, сначала в «Nord», а потом в «Independence Beige», где она была рассказана в очень сочувственном мне тоне. Тогда это было совсем вновь. Я и до сих пор не знаю, кто автор этой корреспонденции. Может быть, Загуляев, который тогда уже перевел Гамлета и стал уже писать по-французски. Тогда я с ним нигде не встречался, и личное наше знакомство завязалось уже после 1875 года, то есть после моего вторичного возвращения из продолжительного пребывания за границей.
Вскоре после бенефиса Васильева, бывшего в октябре, я получил письмо от П. М. Садовского, который просил у меня мою комедию на свой бенефис, назначенный на декабрь. Это было очень лестно. Перед тем я не делал еще никаких шагов насчет постановки «Однодворца» на Московском Малом театре.
Прошло всего, стало быть, восемь лет с Масленицы 1853 года, когда меня привез дядя из Нижнего гимназистом и дал мне возможность пересмотреть в Малом театре весь тогдашний лучший репертуар с такими исполнителями, как Щепкин и Пров Михайлович Садовский в ролях Осипа и Подколесина.
Нижегородский гимназист и не мечтал тогда, что когда-нибудь будет «ставить» большую комедию на этой первой драматической сцене и сам Пров Михайлович обратится к нему с просьбою уступить ему ее на его бенефис.
Москва всегда мне нравилась. И я, хотя и много жил в Петербурге (где провел всю свою первую писательскую молодость), петербуржцем никогда не считал себя. Мне было особенно приятно поехать в Москву и за таким делом, как постановка на Малом театре пьесы, которая в Петербурге могла бы пройти гораздо успешнее во всех смыслах.
Меня привлекал и самый город, и те знакомства, которые я неминуемо должен был сделать в театральных и писательских кружках.
До того, кроме Кетчера (когда я бывал у него по делу издания моего учебника, еще дерптским студентом), я не имел еще связей ни в том, ни в другом мире.
Но я уже был знаком с издателями «Русского вестника» Катковым и Леонтьевым. Не могу теперь безошибочно сказать — в эту ли поездку я являлся в редакцию с рекомендательным письмом к Каткову от Дружинина или раньше; но я знаю, что это было зимой и рукопись, привезенная мною, — одно из писем, написанных пред отъездом из Дерпта; стало, я мог ее возить только в 1861 году.
Катков и Леонтьев жили тогда еще не в доме университетской типографии, а на частной квартире в Армянском переулке. Меня пригласили запросто отобедать, и за столом я мог на свободе рассматривать этих «сиамских близнецов русского журнализма».
Леонтьеву я привез поклон из Дерпта от С. Ф. Уварова, его товарища по Берлину в 40-х годах.
Я уже знал по рассказам Уварова, что Леонтьев — горбун с характерцем не совсем приятным; настоящий «гелертер», с которым не очень-то легко было ладить.
В кабинете редакции и за столом Леонтьев больше молчал или пускал короткие фразы, тяжело дыша, как горбоносец. Он при Каткове как бы умышленно стушевался и смахивал на родственника, живущего в доме, как это водилось так еще часто в московских домах.
Катков тогда смотрел еще совсем не старым мужчиной с лицом благообразного типа, красивыми глазами, тихими манерами и спокойной речью глуховатого голоса. Он похож был на профессора гораздо больше, чем на профессионального журналиста. Разговорчивостью и он не отличался. За столом что-то говорили об Англии, и сразу чувствовалось, что это — главный конек у этих англоманов и тогда самой чистой воды либералов русской журналистики.
Пьесу мою они обещали прочесть, но не напечатали. Я не хотел их торопить и вряд ли был у них еще раз в тот приезд, когда ставил «Однодворца».
Театр слишком меня притягивал к себе. Я попал как раз к приезду нового директора, Л. Ф. Львова, брата композитора, сочинившего музыку на «Боже, царя храни». Начальник репертуара был некто Пельт, из обруселой московской семьи французского рода, бывший учитель и гувернер, без всякого литературного прошлого, смесь светского человека с экс-воспитателем в хороших домах.
Тогда Москва имела отдельную, самостоятельную дирекцию, на одинаковом положении с Петербургом. Но общие порядки были все такие же, только в Москве драматическая труппа сложилась гораздо удачнее; был еще жив М. С. Щепкин, а с репертуаром Островского явилась целая группа талантливых бытовых исполнителей. И чиновнический гнет чувствовался гораздо меньше.
Начальник репертуара повез меня к директору, который не выехал еще в казенную квартиру и остановился в отеле Мореля, теперь уже не существующем, на углу Петровки и Кузнецкого переулка.
Начальство приняло меня любезно и тотчас же сообщило, что в выпускном классе Самарина в Театральном училище объявился большой талант — воспитанница Познякова, и Самарин разучивал с ней как раз роль героини моей драмы «Ребенок».
Это была вторая радость для молодого драматурга: появиться перед московской публикой в бенефис Садовского в главной роли комедии и найти так неожиданно «новоявленный» женский талант для лица Верочки, которое я создавал, с большим внутренним настроением, всего полтора года назад.
И. В. Самарин, с которым я только что познакомился, повез меня вечером в Театральное училище, помещавшееся тогда не в здании на Неглинной, где оно теперь, а на задах театральной конторы, с входом со двора, на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка.
В танцевальной зале с плохим освещением собралась молодая труппа, уже хорошо налаженная на предыдущих репетициях «Ребенка». Она состояла из учениц школы и двух-трех только что выпущенных актеров. Из них один, Лавров, недавно умер.
Надзирательница, встретившая нас, была чрезвычайно красивая молодая особа, и ее фигура среди воспитанниц в голубых платьях и белых пелеринах придавала этому «классу» что-то интимное, чрезвычайно женственное, точно какой репетиции домашнего спектакля.
Принесли диван, несколько стульев, стол — и расставили их посреди залы. Публика поместилась вокруг надзирательницы около тех мест, где посадили нас с Самариным. Некоторые воспитанницы уселись прямо на пол.
Самарин подвел ко мне героиню, восходящую звезду Малого театра. Ей надо было еще доучиться до выпускного экзамена весной.
Гликерии Николаевне Позняковой шел тогда шестнадцатый год. Она была ровно на десять лет моложе автора «Ребенка». Красотой она не брала. Простое милое лицо с мелким овалом и небольшим немного вздернутым носом, с ясным выражением тоже неэффектных глаз. Но во всем что-то мягкое, свое, бытовое, чрезвычайно русское и в фигуре, и в движениях, и в прическе — во всем. С первых ее слов, когда она начала репетировать (а играла она в полную игру), ее задушевный голос и какая-то прозрачная искренность тона показали мне, как она подходит к лицу героини драмы и какая вообще эта натура для исполнения не условной театральной «ingenue», а настоящей девической «наивности», то есть чистоты и правды той юной души, которая окажется способной проявить и всю гамму тяжелых переживаний, всю трепетность тех нравственных запросов, какие трагически доводят ее до ухода из жизни.
Ничего такого я еще ни на русских, ни на иностранных сценах не видал и не слыхал. Это было идеальное и простое, правдивое, совершенно реальное и свое, родное, олицетворение того, что тогда литературная критика любила выражать словом «непосредственность».
Голос этой девушки — мягкий, вибрирующий, с довольно большим регистром — звучал вплоть до низких нот медиума, прямо хватал за сердце даже и не в сильных сценах; а когда началась драма и душа «ребенка» омрачилась налетевшей на нее бурей — я забыл совсем, что я автор и что мне надо «следить» за игрой моей будущей исполнительницы. Я жил с Верочкой и в последнем акте был растроган, как никогда перед тем не приводилось в театральной зале.
Это было нечто совсем, из ряду вон, действительно открытие прирожденного таланта и такой «женственности», о какой можно было только мечтать. Точно судьбе угодно было создать для автора «Ребенка» такую актрису. Но, повторяю, я забывал о себе как авторе, я не услаждался тем, что вот, после дебюта в Москве с «Однодворцем», где будут играть лучшие силы труппы, предстоит еще несомненный успех, и не потому, что моя драма так хороша, а потому, что такая Верочка, наверно, подымет всю залу, и пьеса благодаря ее игре будет восторженно принята, что и случилось не дальше как в январе следующего, 1862 года, в бенефис учителя Позняковой — Самарина. Он тогда же попросил у меня «Ребенка», и я, конечно, был вдвойне порадован таким предложением.
Вечер в Театральном училище — во всей моей долгой драматической карьере — останется единственным. Больше, даже и в слабой степени, он нигде не повторялся.
Как все это вместе было мило, просто, молодо, трепетно! И обстановка залы, и публика, и угощение чаем нас с Самариным, и полная безыскусственность самого зрелища. Ни декораций, ни костюмов, голые стены, диван, два стула, столы. Точно в шекспировское время, когда на сцену ставили шест с надписью: «это — море» или «это — сад».
И обаяние искренности и правды было таково, что все это решительно забывалось и царила душа молодого существа, ее поэзия, ее страдания — то, что так трогательно и местами сильно прорывалось в звуках девического голоса, в слезах и возгласах.
Как бы «зачарованный» этим нежданным впечатлением, я нашел и в Малом театре то, чего в Петербурге (за исключением игры Васильева и Линской) ни минуты не испытывал: совсем другое отношение и к автору, и к его пьесе, прекрасный бытовой тон, гораздо больше ладу и товарищеского настроения в самой труппе. Только роль жены помещика, чрезвычайно удавшегося Самарину, в исполнении Рыкаловой осталась бесцветной; да она и в пьесе не особенно рельефна; все остальное «разошлось» (как говорят на сцене) прекрасно: Самарин, Садовский, молодой тогда актер Рассказов (офицер), Живокини (комическое лицо Жабина) и Ек. Васильева, которая из гувернантки сделала чудесное лицо. Оно стало ее коронной ролью в тот сезон и позднее.
Тогда она была в полном расцвете своего разнообразного таланта. Для характерных женских лиц у нас не было ни на одной столичной сцене более крупной артистки. Старожилы Москвы, любящие прошлое Малого театра, до сих пор с восхищением говорят о том, как покойница Е. И. Васильева играла гувернантку в «Однодворце».
В драме у ней с годами являлась некоторая искусственность тона, но в комедии она держалась вполне реального тона и в диалоге умела высказать большую тонкость интонации, привлекала умом и гибкостью дарования.
«Наивность» пьесы, дочь помещика, сумела выдвинуть А. И. Колосова (жена бездарного актера) — любимица публики с милой, игривой наружностью и заразительной веселостью в более комических ролях.
Старуха — жена однодворца в игре Талановой вышла посуше, чем у Линской; но зато — по бытовому тону и говору — настоящий тип из тогдашней деревенской жизни. Эта «Ханея Ивановна», как ее звали в труппе, напомнила мне мое детство. Она была из крепостной труппы князя Шаховского, открывшего в Нижнем первый публичный театр. Девицей она носила фамилию Стрелковой, и ее меньшая сестра сделалась известной актрисой в провинции. «Ханея» и на столичной сцене сохранила все повадки бывшей «вольноотпущенной», нрава была не особенно покладливого, но со мною, как с племянником моего дяди, обращалась в особенно почтительном тоне, вроде как, бывало, у нас в доме старухи, жившие на покое, из разряда так называемых «барских барынь».
Словом, труппа сделала для меня все, что только было в ее средствах. Но постановка, то есть все, зависевшее от начальства, от конторы, — было настолько скудно (особенно на теперешний аршин), что, например, актеру Рассказову для полной офицерской формы с каской, темляком и эполетами выдали из конторы одиннадцать рублей. Самарин ездил к своему приятелю, хозяину магазина офицерских вещей Живаго, просил его сделать скидку побольше с цены каски; мундира нового не дали, а приказано было перешить из старого.
Декораций ни одной новой, если не считать то, что, по ремарке автора, комнату в домике однодворца следовало обклеить старыми газетами.
Вряд ли все расходы конторы, считая декорации и костюмы, обошлись более чем в двадцать пять рублей. Но мы тогда не были так чувствительны, как теперь авторы, критика, публика. Все сводилось к игре, к тону и к кое-какой бытовой постановке, где это было безусловно нужно.
Режиссером Малого театра был тогда Богданов, старик, из отставных танцовщиков, приятель некоторых московских писателей, служивший перед тем в провинции, толковый по-старинному, но не имевший авторитета. Он совсем и не смахивал на закулисного человека, а смотрел скорее помещиком из отставных военных.
Как и в Петербурге, надо было сладить большую пятиактную вещь в одну неделю. Садовский только на предпоследней репетиции пустил в последней сцене горячие интонации, а на самой последней воздержался и, обратясь ко мне, сказал при всех:
— Сегодня я полным ходом не пущу, а то, пожалуй, завтра на спектакле и пороху не хватит.
Ничего подобного самойловским замашкам по бесцеремонному обращению с текстом Пров Михайлович не позволял себе, держался, как всегда, тихо, говорил мало, не вмешивался в мизансцены, хотя и был как бенефициант хозяином спектакля. Совсем вблизи я его видел впервые. Таким я и должен был его найти в жизни. Никто больше его не был таким бытовым типом, как он. И при этом ничего специфически актерского ни в манерах, ни в тоне, ни в обращении с людьми. Точно какой серьезный, но с юмором, московский обитатель Замоскворечья или Козихи (где он и жил в собственном домике), вряд ли имеющий что-нибудь общее с миром искусства и в то же время такой прирожденный художник сцены.
Самарина он, как и Шуйского, и тогда уже недолюбливал. Те были «ковровые» актеры на оценку таких бытовиков, как он. Репертуар Островского провел грань между «рубашечными» и «ковровыми» актерами. Самарин рядом с Провом Михайловичем представлял из себя Европу, сохранил представительность, манеры и, главное, тон и дикцию бывшего первого любовника с блестящим успехом долгие годы.
И он был типичный москвич, но из другого мира — барски-интеллигентного, одевался франтовато, жил холостяком в квартире с изящной обстановкой, любил поговорить о литературе (и сам к этому времени стал пробовать себя как сценический автор), покучивал, но не так, как бытовики, имел когда-то большой успех у женщин.
Со мною он держал себя не только без всякой претензии и рисовки, но как артист и преподаватель театрального искусства, готовый выказать мне всякого рода поддержку и внимание.
За бенефисный вечер Садовского я нисколько не боялся, предвидел успех бенефицианта, но не мог предвидеть того, что и на мою долю выпадет прием, лучше которого я не имел в Малом театре в течение целых сорока лет, хотя некоторые мои вещи («Старые счеты», «Доктор Мошков», «С бою», «Клеймо») прошли с большим успехом.
Когда прекратились вызовы актеров и дошла очередь до меня, я должен был восемь раз сряду появляться в ложе, и на этот раз не в директорской, а в министерской, в той, что слева от зрителей.
А впереди меня ждало еще первое представление «Ребенка» с такой Верочкой, как Познякова — Луша, как ее звали тогда за кулисами.
Только что я вернулся в Петербург, как надо было приступить к разучиванию «Ребенка». Но тут опять Петербург сулил мне совсем не то, что дала Москва.
Правда, Ф. А. Снеткова была даровитая артистка и прелестная женщина, но по фигуре, характеру красоты, тону, манерам — она мало подходила к той Верочке, которая рисовалась воображению автора и охарактеризована во всей пьесе. Остальной персонал был также не к выгоде пьесы. Вместо Шуйского, взявшего роль отца Верочки, — П. А. Каратыгин, совсем уже не подходивший к этому лицу ни в каком смысле. Роль учителя в Москве взял на себя Самарин, потому что он был бенефициант. Он уже отяжелел тогда для «любовников», но все-таки мог справиться с своей ролью лучше, чем совсем молодой петербургский актер Малышев.
Фанни Александровна почему-то ужасно боялась за роль Верочки. Это было первое новое лицо, в котором она выступала по возвращении из-за границы осенью. Мы с ней проходили роль у нее дома, в ее кабинетике, задолго до начала репетиций. Она очень старалась, читала с чувством, поправляла себя, выслушивала кротко каждое замечание. Но у ней не было той смеси простой натуры с порывами лиризма и захватывающей правды душевных переживаний Верочки.
В день спектакля перед поднятием занавеса, когда мы с нею ходили в глубине сцены, весьма примитивно изображавшей помещичий сад, она, поглядев на меня вбок своими чудесными глазами, сказала серьезно, почти строго:
— Не понимаю, Петр Дмитриевич, — как вы, в такую минуту, можете быть так веселы!..
Я уверил ее, что совсем не рисуюсь; но у меня совсем не было той авторской лихорадки, которая так похожа на ту, что мы в гимназии и университете называли «экзаменационной дрожью».
Снетковой роль очень нравилась; но она, вероятно, сама почуяла, что у нее не та натура и не тот вид женственного обаяния; да и внешность была уже не девушки, только что вышедшей из подростков, а молодой женщины, создавшей с таким успехом Катерину в «Грозе».
Ее и в Верочке хорошо «принимала» публика; но она все-таки не могла поддержать так пьесу, как это случилось на дебюте Позняковой; в бенефис Самарина моя драма прошла, как говорится, «по-середнему» и репертуарной не сделалась. Рецензии, кроме той, которую написал П. И. Вейнберг в «Веке» еще до появления «Ребенка» на сцене, — были строгоньки к автору. Снисходительно-барственный И. И. Панаев (я с ним не был никогда лично знаком) в фельетоне «Современника» (под псевдонимом «Новый поэт») пожалел «юного» автора за его усилия создать драму из сюжета, лишенного драматического содержания.
В этом он вряд ли был прав. Сюжет был гамлетовский, с мотивом, который вел к сильному душевному переполоху. Но «юный» автор слишком много впустил лиризма и недостаточно сгустил ход драмы, растянув ее на целых пять актов.
Когда я явился к Писемскому, то он с юмором спросил меня (уже по напечатании пьесы в «Библиотеке для чтения»):
— Да от чего, собственно, умирает ваша героиня? От какой болезни? Неужто только с горя?
Тогда я еще не настолько изучил «Гамбургскую драматургию» Лессинга, чтобы ответить ему его словами:
— Героиня умирает от пятого акта.
Да я и сам хорошенько не представлял себе, от какой собственно болезни моя Верочка ушла из жизни на сцене — от аневризма или от какого острого воспалительного недуга. Мне дороги были те слова, с какими она уходила из жизни, и Познякова произносила их так, что вряд ли хоть один зритель в зале Малого театра не был глубоко растроган.
В эволюции моего писательства, я думаю, что драма эта была единственной вещью с налетом идеалистического лиризма. Но я не с нее начал, а, напротив, с реального изображения жизни — в более сатирическом тоне — в первой моей комедии «Фразеры» и с большей бытовой объективностью — в «Однодворце».
«Ребенок» как раз написан был в ту полосу моей интимной жизни, когда я временно отдавался некоторому «духовному» настроению. Влюбленность и жизнь в семействе той очень молодой девушки, которая вызвала во мне более головное, чем страстное чувство, настраивали меня в духе резко противоположном тому научному взгляду на человека, его природу и все мироздание, который вырабатывался у меня в Дерпте за пять лет изучения естественных наук и медицины.
И на первых двух частях романа «В путь-дорогу» этот временный идеализм еще отлинял; но потом я от него совсем освободился.
Тогдашний Петербург, публика Александринского театра, настроение журналов и газетной прессы не были благоприятны такой интенсивной драме с гамлетовским мотивом, без яркого внешнего действия и занимательных бытовых картин.
К амплуа того актера, который попросил у меня «Ребенка» на свой бенефис, пьеса также не подходила.
Это был Теодор Бурдин, желавший показать этим, что он ценит дарование автора и желает поставить «вполне литературную» вещь.
Для себя он возобновил старинную пьесу Лукина «Рекрутский набор», в постановке «Ребенка» прямого участия не принимал, но, случаясь на сцене и во время репетиций, со мною бывал чрезвычайно любезен и занимал меня анекдотами и воспоминаниями из своей московской жизни и парижских похождений.
Вообще, в личных сношениях он был очень приятный человек; а с актером я никогда не имел дела, потому что с 1862 до 80-х годов лично ничего не ставил в Петербурге; а к этому времени Бурдин уже вышел в отставку и вскоре умер.
И случилось так, что я из-за репетиций «Ребенка» в Петербурге не попал на первое представление пьесы в Москве. Бенефисы Самарина и Бурдина совпали. Но я наверно бы урвался в Москву, если б не слетал туда на одну из последних репетиций — всего на двадцать четыре часа, провожая даму, у которой был роман с одним моим товарищем. Тогда на репетиции никого посторонних не пускали, так что я должен был просить директора, чтобы этой даме позволили сесть в глубине одной из лож бенуара. Репетиция была уже со всеми исполнителями бенефисного спектакля, а Познякова еще носила свое школьное голубое платье с пелериной — как нельзя более шедшее к лицу Верочки.
Но это был не единственный спектакль с Верочкой — Позняковой, на котором я присутствовал в Малом театре. В мой приезд для постановки «Однодворца» начальство так было заинтересовано талантом, открытым в школе И. В. Самариным, что устроило пробный спектакль в таком же составе, какой играл передо мной в танцевальной зале Театрального училища.
В кресла было приглашено целое общество — больше мужчины — из стародворянского круга, из писателей, профессоров, посетителей Малого театра. Там столкнулся я опять с Кетчером, и он своим зычным голосом крикнул мне:
— Это вы? После химии?
— Да, с вашего позволения, — ответил я ему в тон.
А давно ли было, что я являлся к нему с рукописью учебника по «животно-физиологической химии»? Всего каких-нибудь три-четыре года.
Представили меня и старику Сушкову, дяде графини Ростопчиной, написавшему когда-то какую-то пьесу с заглавием вроде «Волшебный какаду». От него пахнуло на меня миром «Горя от ума». Но я отвел душу в беседе с М. С. Щепкиным, который мне как автору никаких замечаний не делал, а больше говорил о таланте Позняковой и, узнав, что ту же роль в Петербурге будет играть Снеткова, рассказал мне, как он ей давал советы насчет одной ее роли, кажется, в переводной польской комедийке «Прежде маменька».
Михаила Семеновича я тогда впервые видел вне сцены и разговаривал с ним. Он еще не был дряхлым стариком, говорил бойко, с очень приятным тоном и уменьем рассказывать; на этот раз без той слезливости, над которой подсмеивались среди актеров-бытовиков с Садовским во главе. Щепкин по своему культурному складу принадлежал к той эпохе в художественно-литературной жизни Москвы, когда связь актера с интеллигенцией — какая была у него — являлась редким фактом. И все его чисто сценические заявления отличались меткостью и любовью к правде прежде всего.
Так я и не видал тогда ни в ту зиму, ни впоследствии — «Ребенка» на Малом театре. О триумфе дебютантки мне писали приятели после бенефиса Самарина, как о чем-то совершенно небывалом. Ее вызывали без числа. И автора горячо вызывали, так что и на его долю выпала бы крупная доля таких восторженных приемов.
Шуйский хоть и участвовал в пьесе в маловыигрышной и весьма несимпатичной роли отца Верочки, но, видя, какое событие вышло с дебютом Позняковой — взял «Ребенка» и в свой бенефис не дальше как через неделю.
Молодой автор не догадался условиться с этим вторым бенефициантом насчет гонорара и ничего не получил с Шуйского; а дирекция платила тогда только за казенные спектакли; да и та благостыня была весьма скудная сравнительно с тем, что получают авторы теперь. Тогда нам отчисляли пятнадцатую часть двух третей сбора, что не составляло и при полном сборе более пятидесяти — шестидесяти рублей в вечер.
Передо мною прошел целый петербургский сезон 1861–1862 года, очень интересный и пестрый. Переживая настроения, заботы и радости моих первых постановок в обеих столицах, я отдавался и всему, что Петербург давал мне в тогдашней его общественной жизни.
Закрытие университета подняло сочувствие к нему всего города. На Невском в залах Думы открылись целые курсы с самыми популярными профессорами. Начались, тогда еще совсем внове, и литературные вечера в публичных залах. В зале Пассажа, где и раньше уже состоялся знаменитый диспут Погодина с Костомаровым, читались лекции; а потом пошло увлечение любительскими спектаклями, в которых и я принимал участие.
Писемский предложил мне сделаться фельетонистом «Библиотеки для чтения». Сам он уже ленился писать свои сатирические заметки «Статского советника Салатушки», которые молодой публике не нравились.
Писать фельетонные заметки я согласился охотно. Тона моего предшественника я не хотел держаться; но не боялся быть самостоятельным в своих оценках и симпатиях. А выражать их пришлось сейчас же по поводу всяких новых течений и веяний, литературных и художественных новостей и выдающихся личностей.
Задача сложная. Можно было очень легко не угодить тем кружкам, где народившийся тогда «нигилизм» являлся уже вроде мундира.
В настоящую минуту, по прошествии почти пятидесяти лет, можно спокойно и объективно отнестись к тому, что делалось у нас тогда, и к своей тогдашней «платформе».
Из Дерпта я приехал уже писателем и питомцем точной науки. Мои семь с лишком лет ученья не прошли даром. Без всякого самомнения я мог считать себя как питомца университетской науки никак не ниже того уровня, какой был тогда у моих сверстников в журнализме, за исключением, разумеется, двух-трех, стоящих во главе движения.
В философском смысле я приехал с выводами тогдашнего немецкого свободомыслия. Лиловый томик Бюхнера «Kraft und Stoff» и «Kreislauf des Lebens» (Круговорот жизни) были давно мною прочитаны; а в Петербурге это направление только что еще входило в моду. Да и философией я, занимаясь химией и медициной, интересовался постоянно, ходил на лекции психологии, логики, истории философских систем.
И по всеобщей литературе начитанность у меня была достаточная, особенно по немецкой литературе и критике, по Шекспиру и новейшей английской литературе, не говоря уже о французской.
Все, чем наша журналистика стала жить с 1856 года, я и дерптским студентом поглощал, всему этому сочувствовал, читал жадно статьи Добролюбова и Чернышевского, сочувствовал отчасти и тому «антропологическому» принципу, который Чернышевский проводил в своих статьях по философии истории. Но во мне не было той именно нигилистической закваски, которая сказывалась в разных «оказательствах» — тона, вкусов, замашек, костюма, игры в разные опыты нового общежития.
В аудиториях университета допуск женщин был мне симпатичен; но «нигилистическим» мундиром я не восхищался: ни стрижеными волосами, ни умышленно небрежным туалетом, ни резкостью манер и жаргона.
Для того времени я имел право считать себя вполне свободомыслящим, особенно в вопросах религии, мистики, основных и всяких других предрассудков.
Но я не метил в революционеры и не уходил еще в вопросы социальные, не увлекался теориями западных искателей общественного Эльдорадо: Фурье, Кабе, Пьера Леру, Анфантена; не останавливался еще с более серьезным интересом на критике Прудона.
«Колокол» был в те годы уже на верху своего влияния. Я его читал, когда можно было достать; но не держался того обязательно восторженного тона, с каким молодежь относилась к нему, и не верил, даже и тогда, напускному радикализму петербургских чиновников, которые зачитывались лондонским изданием и — на словах — либеральничали всласть.
Я был — прежде всего и сильнее всего — молодой писатель, которому особенно дороги: художественная литература, критика, научное движение, искусство во всех его формах и, впереди всего, театр — и свой русский, и общеевропейский.
С такой платформой и с таким багажом я и стал писать фельетоны, сочинив себе псевдоним «Петр Нескажусь».
И в одном из первых я выразил свое недоумение насчет двух девиц, которых встретил на лекции в Думе, куда молодежь стала ходить очень усердно. Это были две типичных нигилистки. Можно было, конечно, оставить их в покое. Но не было преступлением и отнестись к ним с некоторой критикой.
Ведь и тогда М. Е. Салтыков занял уже положение самого радикального сатирика; а он и позднее гораздо язвительнее стал прохаживаться насчет крайностей тогдашних нигилистических нравов и повадок.
Дух независимости с юных лет сидел во мне. Я и тут не хотел поддаваться модному поветрию и, не сочувствуя нимало ничему реакционному, я считал себя вправе, как молодой наблюдатель общества, относиться ко всему с полнейшей свободой.
Представился как раз случай говорить и о Чернышевском не как о главе нового направления журналистики и политических исканий, а просто как об участнике литературного вечера в зале Кононова (где теперь Новый театр), на том самом вечере, где бедный профессор Павлов сказал несколько либеральных фраз и возбужденно, при рукоплесканиях, крикнул на всю залу: «Имея уши слышать — да слышит!»
Его сейчас же лишили места и сослали в уездный городишко Костромской губернии.
А раньше выступил Чернышевский с пространной беседой о Добролюбове, только что тогда умершем.
Добролюбов был мой земляк и однолеток. Но я его никогда не видал и в Петербурге уже не застал.
И мне было в высшей степени интересно послушать о нем, как личности и литературной величине от его ближайшего коллеги по журналу, сначала его руководителя, а потом уступившего ему первое место как литературному критику «Современника».
Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне не понравилась. Я перед тем нигде его не встречал и не видал его портрета. Он тогда брился, носил волосы «a la moujik» (есть такие его карточки) и казался неопределенных лет; одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах, не во фраке, а в пиджаке и в цветном галстуке.
И как он держал себя у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким тоном стал говорить с публикой, и даже то, что он говорил, — все это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запанибратство во всем, что он тут говорил о Добролюбове — не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто, напоминавшее те обращения к читателю, которыми испещрен был два-три года спустя его роман «Что делать?»
Главная его тема состояла в том, чтобы выставить вперед Добролюбова и показать, что он — Чернышевский — нимало не претендует считать себя руководителем Добролюбова, что тот сразу сделался в журнале величиной первого ранга.
В сущности, это было симпатично; но тон все портил.
Может быть, на меня его манера держать себя и бесцеремонность этой импровизированной беседы подействовали слишком сильно; а я по своим тогдашним знакомствам и связям не был достаточно революционно настроен, чтобы все это сразу простить и смотреть на Чернышевского только как на учителя, на бойца за самые крайние идеи в радикальном социализме, на человека, который подготовляет нечто революционное.
В ту зиму я уже мало водился с студенческой молодежью и еще не был достаточно знаком с персоналом молодых писателей.
Сколько помню, публика на том вечере не сделала Чернышевскому особенно громкой овации, и профессор Павлов имел гораздо более горячий прием, что его и загубило.
Когда впоследствии я читал о знакомстве Герцена с Чернышевским, который приехал в Лондон уже как представитель новой, революционной России, я сразу понял, почему Александру Ивановичу так не понравился Николай Гаврилович. Его оттолкнули, помимо разницы в их «платформах», тон Чернышевского, особого рода самоуверенность и нежелание ничего признавать, что он сам не считал умным, верным и необходимым для тогдашнего освободительного движения.
Ведь и Чернышевский отплачивал ему тем же. И для него Герцен был только запоздалый либерал, барин-москвич.
Как фельетонисту мне пришлось в ту же зиму говорить и о полемике, объектом которой сделался как раз тогда Чернышевский. Я держался шутливого тона и хотел выставить только его полемический темперамент; но в «Библиотеке для чтения» тотчас после «Статского советника Салатушки» мой тон мог показаться исходящим от принципиального противника всего, чем тогда «Современник» и его вдохновитель увлекали революционно настроенную молодежь.
Но этого, в сущности, не было: утверждаю это положительно.
Если я «прошелся» раз над нигилистками и их внешностью, то я совсем еще не касался тех признаков игры в социализм, какие стали вырастать в Петербурге в виде общежитии на коммунистических началах. В те кружки я не попадал и не хотел писать о том, чего сам не видал и не наблюдал.
Все же, что было в тогдашней молодежи обоего пола по части увлечения естествознанием, точной наукой, протестов против метафизики, всяких предрассудков и традиционных верований, что вскоре так талантливо и бурно прорвалось у Писарева, — все это не могло не вызывать моего сочувствия.
Я весьма своим студенческим ученьем доказал самому себе, до какой степени я высоко ставил точную науку, и к окончанию моего курса в Дерпте держался уже сам мировоззрения, за которое «Современник» и потом «Русское слово» ратовали.
Но я был уже старше той «зеленой» молодежи, которая увлекалась Бюхнером, Фохтом и Молешоттом и восторженно приняла книгу Дарвина «О происхождении видов».
Тогда и студенты и студентки повторяли в каком-то экстазе:
— Человек — червяк!
В этой формуле для них сидело все учение, которое получило у нас смысл не один только научный, а и революционный!
Тогда я еще недостаточно познал ту истину, что в России все получает такой смысл и значение, всякая книга, пьеса, роман, статья, открытие!
Так ведь идет и до сих пор, и будет так идти, пока между обществом и правящими сферами будет лежать или глубокая пропасть, или резкая демаркационная линия.
Мне как писателю, начавшему с ответственных произведений, каковы были мои пьесы, не было особенной надобности в роли фельетониста. Это сделалось от живости моего темперамента, от желания иметь прямой повод усиленно наблюдать жизнь тогдашнего Петербурга. Это и беллетристу могло быть полезным. Материального импульса тут не было… Заработок фельетониста давал очень немного. Да и вся-то моя кампания общественного обозревателя не пошла дальше сезона и к лету была прервана возвращением в деревню.
Именно оттого, что я в фельетоне «Библиотеки для чтения» был как бы преемником Писемского, я и воздерживался от всякой резкой выходки, от всего, что могло бы поставить меня в неверный и невыгодный для меня свет перед читателем, хотя бы и не радикально настроенным, но уважающим лучшие литературные традиции.
И вот случился инцидент, где я как раз рисковал повредить себе в глазах той публики, какую я всегда имел в виду, и перед персоналом своих собратов.
Писемский сильно недолюбливал «Искру» и, читая корректуру моего фельетона, вставил от себя резкую фразу по адресу ее издателей, Курочкина и Степанова, не сказав мне об этом ни слова.
Вышла книжка. Не помню, заметил ли я сразу эту редакторскую вставку в мой текст, но когда заметил — было уже поздно.
Я бросился сначала в контору, и там издатель журнала, узнав, что в «Искре» возмущены и собираются начать историю, добыл тотчас же последнюю корректуру из типографии и отдал мне ее, указав место, где рукою Писемского была вставлена та обидная для «Искры» фраза.
С этим документом я и поехал к Алексею Феофилактовичу. Нельзя же было не объясниться и не позволить мне по меньшей мере сделать оговорку, что та резкая фраза не принадлежит автору, который подписывает свои фельетоны псевдонимом «Петр Нескажусь».
У Писемского в зале за столом я нашел такую сцену: на диване он в халате и — единственный раз, когда я его видел — в состоянии достаточного хмеля. Рядом, справа и слева, жена и его земляк и сотрудник «Библиотеки» Алексей Антипович Потехин, с которым я уже до того встречался.
Писемский был в совершенном расстройстве и сейчас же жалобным тоном стал сообщать мне, что редакция «Искры» прислала ему вызов за фразу из моего фельетона.
Я вынул из кармана корректурный сверстанный лист и указал ему на то место, где вставлена была фраза его почерком. Он, конечно, не отрицал этого. Если б я сам написал это, — я, а не он должен был бы принять вызов. Он признавал вполне свою ответственность. Но дуэль ему не улыбалась. И мне было обидно за него, за то, что его передернуло, и за то, как он сейчас же прибегнул к вину и очутился в некрасивом виде. Выходило так, что эта дуэль непременно должна состояться. Но она не состоялась. В каких выражениях он извинился перед «Искрой» — я не видал; но если б он наотрез отказался от поединка и не захотел извиниться, редакция, наверное, потребовала бы тогда имя автора фельетона.
Ко мне никто оттуда не обращался. Но у «Искры» остался против меня зуб, что и сказалось позднее в нападках на меня, особенно в сатирических стихах Д. Минаева. Личных столкновений с Курочкиным я не имел и не был с ним знаком до возвращения моего из-за границы, уже в 1871 году. Тогда «Искра» уже еле дотягивала свои дни. Раньше из Парижа я сделался ее сотрудником под псевдонимом «Экс-король Вейдавут».
Мои оценки тогдашних литераторских нравов, полемики, проявление «нигилистического» духа — все это было бы, конечно, гораздо уравновешеннее, если б можно было сходиться с своими собратами, если б такой молодой писатель, каким был я тогда, попадал чаще в писательскую среду. А ведь тогда были только журнальные кружки. Никакого общества, клуба не имелось. Были только редакции с своими ближайшими сотрудниками.
К «Современнику» я ни за чем не обращался и никого из редакции лично не знал; «Отечественные записки» совсем не собирали у себя молодые силы. С Краевским я познакомился сначала как с членом Литературно-театрального комитета, а потом всего раз был у него в редакции, возил ему одну из моих пьес. Он предложил мне такую плохую плату, что я не нашел нужным согласиться, что-то вроде сорока рублей за лист, а я же получал на 50 % больше, даже в «Библиотеке», финансы которой были уже не блистательны.
От Краевского только что перешли к В. Ф. Коршу «Петербургские ведомости». С Коршем я познакомился у Писемского на чтении одной части «Взбаламученного моря», но в редакцию не был вхож. Мое сотрудничество в «Петербургских ведомостях» началось уже в Париже, в сезоне 1867–1868 года.
Но я бывал везде, где только столичная жизнь хоть сколько-нибудь вызывала интерес: на лекциях в Думе, на литературных вечерах — тогда еще довольно редких, во всех театрах, в домах, где знакомился с тем, что называется «обществом» в условном светском смысле.
Настоящих литературных «салонов» тогда что-то не водилось в свете, кроме двух-трех высокопоставленных домов, куда допускались такие писатели, как Тургенев, Тютчев, Майков и некоторые другие. Приглашали и Писемского.
Граф Кушелев-Безбородко держал тогда открытый дом, где пировала постоянно пишущая братия. Там, сначала в качестве одного из соредакторов «Русского слова», заседал и Aп. Григорьев (это было еще до моего переселения в Петербург), а возлияниями Бахусу отличались всего больше поэты Мей и Кроль, родственник графа по жене.
Туда легко было бы попасть, но меня почему-то не влекло в этот барски-писательский «кабак», как его и тогда звали многие.
Теперь я объясняю это чувством той брезгливости, которая рано во мне развилась. Мне было бы неприятно попасть в такой барский дом, где хозяин, примостившийся к литературе, кормил и поил литераторскую братию, как, бывало, баре в крепостное время держали прихлебателей и напаивали их. И то, что я тогда слыхал про пьянство в доме графа, прямо пугало меня, не потому, чтобы я был тогда такая «красная девица», а потому, что я слишком высоко ставил звание писателя. Мне было бы слишком прискорбно и обидно видать своих старших собратов — и в том числе такого даровитого поэта, как Мей, — безобразно пьяными.
Я мог бы попасть и на тот литературный вечер, где Мей должен был произнести одно стихотворение наизусть. В нем стоял стих вроде такого:
И смокла его рубашка…Поэт был уже на таком взводе, что споткнулся на этом самом стихе, дальше не пошел, а все повторял его и должен был наконец сойти постыдно с эстрады.
Из остальных именитых «питухов» кушелевских чертогов с Григорьевым я познакомился позднее, о чем расскажу ниже, а Кроля видел раз в трактире «Новый Палкин» и, разумеется, «не в своем виде».
Была еще редакция, где первым критиком состоял уже Григорьев, — журнала «Время» братьев Достоевских.
С самим издателем — Михаилом Достоевским я всего один раз говорил у него в редакции, когда был у него по делу. Он смотрел отставным военным, а на литератора совсем не смахивал, в таком же типе, как и Краевский, только тот был уже совсем седой, а этот еще с темными волосами.
До возвращения его брата Федора и издания журнала «Время» Михаила мало знали в писательских кругах. И в публике у него не было имени. Кто интересовался театром, знал, что он переводчик «Дон-Карлоса» и написал одноактную комедию «Старшая и меньшая» или что-то в этом роде. И был ли он славянофил или западник — этим тоже не интересовались. Неославянофильскую «почву» его журнал стал проповедовать, когда его брат Федор нашел себе единомышленников и вдохновителей в Ап. Григорьеве и Страхове, с тем псевдонимом «Косица», который сделался мишенью нападок радикальных журналов.
Страхова я тогда нигде не встречал и долго не знал даже — кто этот Косица. К Федору Достоевскому никакого дела не имел и редакционных сборищ не посещал. В первый раз я увидал его на литературном чтении. Он читал главу из «Мертвого дома», и публика принимала его так же горячо, как и Некрасова.
Позднее, уже в мое редакторство, я с ним познакомился, и у нас были даже деловые свидания.
Тогда публика, особенно молодежь, еще смотрела на него только как на бывшего каторжника, на экс-политического преступника. В его романе «Униженные и оскорбленные» все видели только борца за общественную правду и обличителя всего того, что давило в России всякую свободу и тушило каждый лишний луч света. «Мертвый дом» явился небывалым документом русской каторги. А то, что в нем уже находилось мистически-благонамеренного, — еще не было всеми понято, как должно, и тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером. Издание журнала, когда почвенное неославянофильство достаточно высказалось, — изменило взгляд на credo автора «Мертвого дома», но все-таки его ставили особо. В той жестокой полемике, какая завязалась между «Временем», а впоследствии «Эпохой», и радикальными журналами, Федор Достоевский весьма сильно участвовал, но не подписывал своих статей. И позднее, когда оба журнала — и «Время» и «Эпоха» — прекратились и началось печатание «Преступления и наказания», он продолжал быть любимым романистом, сильно волновал ту самую молодежь, идеям которой он нимало не сочувствовал.
И еще позднее автор «Бесов» не только заставил себе все простить, а под конец жизни стал как бы своего рода вероучителем, и его похороны показали, как он был популярен во всяких сферах и классах русского общества. Полемика тогдашних журналов, если на нее посмотреть «ретроспективно», явилась симптомом того, что после акта 19 февраля на очереди не стояло что-нибудь такое же крупное, как падение рабовладельчества. Правительство держалось еще умеренно-либерального фарватера; на очереди стояли реформы земская и судебная. Но это еще не волновало публику и не отвлекало достаточно публицистику и критику от своих счетов, препирательств и взаимных обличений.
«Библиотека» почти не участвовала в этом ругательном хоре. Критиком ее был Еф. Зарин, который, правда, вступал в полемику с самим Чернышевским. Но все-таки отличились «передовые» журналы. И то, что в «Свистке» Добролюбова было остроумно, молодо, игриво, то теперь стало тяжело, грубо и бранно. Автора «Темного царства» заменил в «Современнике» тот критик, который в начале 1862 года отличился своей знаменитой рецензией на «Отцов и детей».
Если «Петр Нескажусь» позволил себе юмористически касаться нигилисток и рассказывать о полемических подвигах Чернышевского, то он не позволил себе ничего похожего на то, чему предавались тогда корифеи передовой журналистики.
Все это не могло меня привлекать к тогдашней журнальной «левой». У меня не было никакой охоты «идти на поклон» в те редакции, где процветала такая ругань. В подобной полемике я не видел борьбы за высшие идеи, за то, что всем нам было бы дорого, а просто личный задор и отсутствие профессиональной солидарности товарищеского чувства.
Ведь все это происходило между «собратами». А я так высоко ставил звание и дело писателя. И если б не моя тогдашняя любовь к литературе, я бы, конечно, позадумался делаться профессиональным литератором, а поехал бы себе хозяйничать в Нижегородскую губернию.
Глава шестая
Лекции в Думе — История с Костомаровым — Театр — Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского» — Островский и его сверстники — Заезжие знаменитости — Музыка — Балакирев и начало «кучкизма» — Два поколения — «Отцы и дети» — Замысел романа «В путь-дорогу» — Издательство
Петербург жил (в сезон 1861–1862 года) на тогдашнюю меру очень бойко.
То, что еще не называлось тогда «интеллигенцией» (слово это пущено было в печать только с 1866 года), то есть и люди 40-х и 50-х годов, испытанные либералы, чаявшие так долго падения крепостного права, и молодежь, мои сверстники и моложе меня, придавали столичному сезону очень заметный подъем. Это сказывалось, кроме издательской деятельности, в публичных литературных вечерах и в посещении временных университетских курсов в залах Думы.
Газетное дело было еще мало развито. На весь Петербург была, в сущности, одна либеральная газета, «Санкт-Петербургские ведомости». «Очерки» не пошли. «Голос» Краевского явился уже позднее и стал чем-то средним между либеральным и охранительным органом.
Розничная продажа на улицах еще не показывалась. И вообще газетная пресса еще не волновала публику, как это было десять и более лет спустя.
Тогда первым тенором в газете был воскресный фельетонист. Это считалось самым привлекательным отделом газеты. Вся «злободневность» входила в содержание фельетона, а передовицы читались только теми, кто интересовался серьезными внутренними вопросами. Цензура только что немного «оттаяла», но по внутренней политике поневоле нужно было держаться формулы, сделавшейся прибауткой: «Нельзя не признаться, но нужно сознаться».
«Свисток» и «Искра» привили уже вкус к высмеиванию, зубоскальству, памфлету, карикатуре, вообще к нападкам на всем известные личности. И Корш в своих корректных «Петербургских ведомостях» завел себе также воскресного забавника, который тогда мог сказать про себя, как Загорецкий, что он был — «ужасный либерал». Его обличительные очерки были тогда исключительно направлены на дореформенную Россию, и никто не проявлял большей бойкости и литературного таланта среди его газетных конкурентов. Все, кто жадно читал втихомолку «Колокол», — довольствовались въявь и тем, что удавалось фельетонисту «Петербургских ведомостей» разменивать на ходячую, подцензурную монету.
Корш же дал ход (но уже позднее) и другому забавнику и памфлетисту в стихах и прозе, которым не пренебрегали и «Отечественные записки», даже к 70-м годам. Попал он и ко мне, когда я начал издавать «Библиотеку», и, разумеется, в качестве очень либерального юмориста.
Что из этих «сиамских братьев» русского острословия сделала впоследствии жизнь — всем известно; но тогда честный и корректный Корш искренне считал их за самых завзятых радикалов.
Молодая публика, принимавшая участие в судьбе петербургского студенчества — до и после «сентябрьской» истории, была обрадована открытием курсов самых известных профессоров в залах Думы.
Главный контингент аудиторий Думы были, конечно, студенты и курсистки, хотя тогда такого звания для женщин еще не существовало.
Хозяевами являлись исключительно студенты. Они составляли особый комитет, сносились с лекторами, назначали часы лекций, устанавливали плату. Их распорядители постоянно находились тут, при кассе и в разных залах.
Одним из самых деятельных распорядителей был студент Печаткин, брат издателя «Библиотеки», женатый на одной из самых энергичных тогда девиц. Впоследствии он занимался издательством, держал, если не ошибаюсь, и свою типографию.
Все шло хорошо. Курсы имели и немало сторонних слушателей. Из лекций, кроме юридических, много ходило к Костомарову.
Николай Иванович никогда не был блестящим лектором и злоупотреблял даже цитатами из летописей — и вообще более читал, чем говорил. Но его очень любили. С его именем соединен был некоторый ореол его прошлого, тех мытарств, чрез какие он прошел со студенческих своих годов.
И недавняя его «пря» (диспут) с Погодиным в зале Пассажа поднимала его популярность.
Я ходил аккуратно на несколько курсов, в том числе и к Костомарову. И мне привелось как раз присутствовать при его столкновении со студенчеством.
Боюсь приводить здесь точные мотивы этой коллизии между любимым и уважаемым наставником и представительством курсов. Но Костомаров, как своеобычный «хохол», не считал нужным уделать что-то, как они требовали, и когда раздалось шиканье по его адресу, он, очень взволнованный, бросил им фразу, смысл которой был такой: что если молодежь будет так вести себя, то она превратится, пожалуй, в «Расплюевых». Слова эти были подхвачены. Имя «Расплюевы» я слышал; но всю фразу я тогда не успел отчетливо схватить.
Это имя «Расплюевы», употребленное Костомаровым, показывало, что комическое лицо, созданное Сухово-Кобылиным, сделалось к тому времени уже нарицательным.
А «Свадьбе Кречинского» было всего каких-нибудь пять лет от роду: она появилась в «Современнике» во второй половине 50-х годов. Но комедия эта сразу выдвинула автора в первый ряд тогдашних писателей и, специально, драматургов.
Она сделалась репертуарной и в Петербурге и в Москве, где Садовский создал великолепный образ Расплюева.
На Александрийском театре Самойлов играл Кречинского блестяще, но почему-то с польским акцентом; а после Мартынова Расплюева стал играть П. Васильев и делал из него другой тип, чем Садовский, но очень живой, забавный, а в сцене второго акта — и жалкий.
Автор «Свадьбы Кречинского» только с начала 60-х годов стал показываться в петербургском свете.
Я впервые увидал его в итальянской опере, когда он в антрактах входил в ложи тогдашних «львиц». Он смотрел тогда еще молодым мужчиной: сильный брюнет, с большими бакенбардами по тогдашней моде, очень барственный и эффектный.
На нем остался налет подозрения ни больше ни меньше как в совершении убийства.
Это крупное дело сильно волновало барскую и чиновную публику обеих столиц. Оно по своему содержанию носило на себе яркий отпечаток крепостной эпохи.
О нем мне много рассказывали еще до водворения моего в Петербурге; а в те зимы, когда Сухово-Кобылин стал появляться в петербургском свете, А. И. Бутовский (тогда директор департамента мануфактур и торговли) рассказал мне раз, как он был прикосновенен в Москве к этому делу.
Он служил тогда председателем Коммерческого совета в Москве и попал как раз на тот вечер у г-жи Нарышкиной, когда в квартире Сухово-Кобылина была убита француженка, его любовница.
От Бутовского обвиненный хотел иметь на следствии показание, что он видел его еще на вечере, когда сам уезжал домой.
Такого показания Бутовский не мог дать, потому что не хотел утверждать этого положительно, а для обвиненного это нужно было, чтобы доказать свое alibi.
Француженку якобы убили повар и лакей, оба крепостные Сухово-Кобылина, и ночью свезли ее на кладбище, причем она, кажется, не была ими даже достаточно ограблена.
Вся Москва, а за ней и Петербург повторяли рассказ, которому все легко верили, а именно, что оба крепостные взяли убийство на себя и пошли на каторгу. Но и барин был, кажется, «оставлен в подозрении» по суду.
Рассказывали в подробностях сцену, как Сухово-Кобылин приехал к себе вместе с г-жой Нарышкиной. Француженка ворвалась к нему (или уже ждала его) и сделала скандальную сцену. Он схватил канделябр и ударил ее в висок, отчего она тут же и умерла.
Мне лично всегда так ярко представлялась эта, быть может, и выдуманная сцена, что я воспользовался ею впоследствии в моем романе «На суд», где фабула и психический анализ мужа и жены не имеют, однако, ничего общего с этой московской историей.
С автором «Кречинского» я тогда нигде не встречался в литературных кружках, а познакомился с ним уже спустя с лишком тридцать лет, когда он был еще бодрым старцем и приехал в Петербург хлопотать в дирекции императорских театров по делу, которое прямо касалось «Свадьбы Кречинского» и его материальной судьбы в Александрийском театре. Дирекция, по оплошности ли автора, когда комедия его шли на столичных сценах, или по чему другому — ничего не платила ему за пьесу, которая в течение тридцати с лишком лет дала ей не один десяток тысяч рублей сбору.
Состоялось запоздалое соглашение, и сумма, полученная автором «Свадьбы Кречинского», далеко не представляла собою гонорара, какой он имел бы право получить, особенно по новым правилам 80-х годов.
Сухово-Кобылин оставался для меня, да и вообще для писателей и того времени, и позднейших десятилетий — как бы невидимкой, некоторым иксом. Он поселился за границей, жил с иностранкой, занимался во Франции хозяйством и разными видами скопидомства, а под конец жизни купил виллу в Больё — на Ривьере, по соседству с М. М. Ковалевским, после того как он в своей русской усадьбе совсем погорел.
Петербургской встречей и ограничилось наше знакомство. Меня пригласил «на него» один чиновник Кабинета, которому он и был обязан успехом сделки с дирекцией. Я у этого чиновника обедал с ним, а потом навестил его в Hotel de France.
Хотя он, кажется, немного красил себе волосы, но все-таки поражал своим бодрым видом, тоном, движениями. А ему тогда было уже чуть не под восемьдесят лет.
Для меня было интересно поближе приглядеться к такому типу московского барина-писателя, когда-то светского льва, да еще повитого трагической легендой.
Фешенебля в нем уже не осталось ничего. Одевался он прилично — и только. И никаких старомодных претензий и замашек также не выказывал. Может быть, долгая жизнь во Франции стряхнула с него прежние повадки. Говорил он хорошим русским языком с некоторыми старинными ударениями и звуками, например, произносил; не «философ», а «филозоф».
И вот, когда мы с ним разговорились в его номере Hotel de France, то это и был всего больше «филозофический разговор». Впервые узнал я, что Александр Васильевич уже до 30-х годов прошлого века кончил курс по математическому факультету (тогда учились не четыре, а три года), поехал в Берлин и сделался там правоверным гегельянцем. И что замечательно: его светская жизнь, быстрая слава как автора «Кречинского», все его дальнейшие житейские передряги и долгая полоса хозяйничанья во Франции и у себя, в русском имении, не остудили в нем страсти к «филозофии». Он перевел всего подлинного Гегеля (кроме его лекций, изданных учениками, а не им самим написанных), и часть этого многолетнего труда сгорела у него в усадьбе. Но он восстановил ее и все еще надеялся, что кто-нибудь издаст ему «всего подлинного Гегеля». Он написал и философский трактат в гегельянском духе и стал мне читать из него отрывки.
Тогдашним нашим литературным и общественным движением он мало интересовался, хотя говорил обо всем без старческого брюзжанья. И театр уже ушел от него; но чувствовалось, что он себя ставил в ряду первых корифеев русского театра: Грибоедов, Гоголь, он, а потом уже Островский.
Суд над ним по делу об убитой француженке дал ему материал для его пьесы «Дело», которая так долго лежала под спудом в цензуре. Не мог он и до конца дней своих отрешиться от желания обелять себя при всяком удобном случае. Сколько помню, и тогда в номере Hotel de France он сделал на это легкий намек. Но у себя, в Больё (где он умер), М. М. Ковалевский, его ближайший сосед, слыхал от него не раз протесты против такой «клеветы».
Это черта — во всяком случае — характерная для тех, кто имел дело с обвиненными, которые в глазах общественного мнения (а тут, кажется, и по суду) оставлены «в подозрении».
В Больё я попал в ту зиму, когда он уже был очень болен. Он жил одиноко со своей дочерью и оставил по себе у местного населения репутацию весьма скупого русского. Случилось и то, что я клал за него шар, когда его баллотировали в почетные академики.
Возвращаясь к театральным сезонам, которые я проводил в Петербурге до моего редакторства, нельзя было не остановиться на авторе «Свадьбы Кречинского» и не напомнить, что он после такого крупного успеха должен был — не по своей вине — отойти от театра. Его «Дело» могло быть тогда и напечатано только за границей в полном виде.
Цензура так же сурово обходилась и с Островским.
«Свои люди — сочтемся!» попала на столичные сцены только к 61-му году. И в те зимы, когда театр был мне так близок, я не могу сказать, чтобы какая-нибудь пьеса Островского, кроме «Грозы» и отчасти «Грех да беда», сделалась в Петербурге репертуарной, чтобы о ней кричали, чтобы она увлекала массу публики или даже избранные зрителей.
Культом Островского отличался только Ап. Григорьев — в театральной критике. На сцене о пьесах Островского хлопотал всегда актер Бурдин, но дирекция их скорее недолюбливала.
У меня в памяти осталась фраза начальника репертуара Федорова. Выпячивая свои большие губы, он говорил с брезгливой миной:
— Вот нас упрекают все, что мы мало играем Островского (он произносил Островского), но он не дает сборов.
И правда: даже лучшая его вещь, «Свои люди — сочтемся!», не удержалась с полными сборами.
Мало того, позднее Литературно-театральный комитет возвратил ему даже «Женитьбу Бальзаминова», найдя, что это — фарс, недостойный его.
Но это случилось уже позднее; а пока Островский для Петербурга был еще новинкой, и очень немногие и в литературном кругу лично знали его.
А тогда он уже сошелся с Некрасовым и сделался одним из исключительных сотрудников «Современника». Этот резкий переход из русофильских и славянофильских журналов, как «Москвитянин» и «Русская беседа», в орган Чернышевского облегчен был тем, что Добролюбов так высоко поставил общественное значение театра Островского в своих двух знаменитых статьях. Островский сделался в глазах молодой публики писателем — обличителем всех темных сторон русской жизни.
В какой степени он действительно разделял, например, тогдашнее credo Чернышевского в политическом и философском смысле — это большой вопрос. Но ему приятно было видеть, что после статей Добролюбова к нему уже не относятся с вечным вопросом, славянофил он или западник.
Ап. Григорьев по-прежнему восторгался народной «почвенностью» его произведений и ставил творца Любима Торцова чуть не выше Шекспира. Но все-таки в Петербурге Островский был для молодой публики сотрудник «Современника». Это одно не вызывало, однако, никаких особенных восторгов театральной публики. Пьесы его всего чаще имели средний успех. Не помню, чтобы за две зимы — от 1861 по 1863 год — я видел, как Островский появлялся в директорской ложе на вызовы публики.
Но раньше всего я увидал его все-таки в театре, но не в ложе, а на самых подмостках, в качестве любителя.
Тогда театральное «аматерство» (любительство) было уже в большом ходу и приютилось в Пассаже, в его зале со сценой, не там, где теперь театр, а на противоположном конце, ближе к Невскому.
К этому любительству и я был привлечен. Тогда среди любительниц блистала г-жа Спорова, младшая дочь генеральши Бибиковой — курьезного типа тогдашней madame Sans-Gene. Спорова особой талантливостью не выдавалась, но брала красотой. Ее сестра, г-жа Квадри, была талантливее. Она и ее муж, офицер Квадри (недавно умерший), страстно любили театр и готовы были играть всегда, везде и какие угодно роли. К этому кружку принадлежала и даровитая Сандунова, когда-то артистка императорских театров» и писательница — в те годы, когда ее муж издавал «Репертуар и пантеон». Она была прекрасной исполнительницей бытового репертуара.
И меня втянули в эти спектакли Пассажа. Поклонником красоты Споровой был и Алексей Антипович Потехин, с которым я уже водил знакомство по дому Писемских. Он много играл в те зимы — и Дикого, и городничего. Мне предложили роль Кудряша в «Грозе», а когда мы ставили «Скупого рыцаря» для такого же страстного чтеца и любителя А-А. Стаховича (отца теперешних общественных деятелей), то я изображал и герцога.
В память моих успехов в Дерпте, когда я был «первым сюжетом» и режиссером наших студенческих спектаклей (играл Расплюева, Бородкина, городничего, Фамусова), я мог бы претендовать и в Пассаже на более крупные роли. Но я уже не имел достаточно времени и молодого задора, чтобы уходить с головой в театральное любительство. В этом воздухе интереса к сцене мне все-таки дышалось легко и приятно. Это только удваивало мою связь с театром.
Квадри в труппе Пассажа выделялся большой опытностью и способностью браться за всякие роли. Он мог бы быть очень недурным легким комиком, но ему хотелось всегда играть сильные роли. Из репертуара Потехина он выступил в роли ямщика «Михаилы» (в «Чужое добро впрок не идет»), прославленной в Петербурге и Москве игрой Мартынова и Сергея Васильева, а в те годы и Павла Васильева, — на Александрийском театре.
Пассаж оставался верен бытовому театру. И участие не только Потехина, но и самого Островского было неожиданной приманкой для той публики, которая состояла из самых испытанных театралов.
Островского я еще не слыхал как чтеца сцен из его комедий. Читал он не так, как Писемский, то есть не по-актерски в лицах, а писательски, без постоянной перемены тона и акцента, но очень своеобразно и умело.
Появление его в роли Подхалюзина — это и был «гвоздь» и для тогдашних любителей театра. Ему сделали прием с подношением венка, но в городе это прошло почти что не замеченным большой публикой.
Как актер Островский не брал ни комизмом, ни созданием типичного лица. Он был слишком крупен и тяжеловат фигурой. Сравнение с Павлом Васильевым было для него невыгодно. Но всю роль провел он умно и с верностью московскому бытовому тону.
И тогда уже и за кулисами, и в зале поговаривали, что ему не следовало бы с его именем рисковать такой любительской забавой. Красота госпожи Споровой и на него подействовала, после того как он ее видел на той же сцене в Катерине.
Мое личное знакомство с Александром Николаевичем продолжалось много лет; но больше к нему я присматривался в первое время и в Петербурге, где он обыкновенно жил у брата своего (тогда еще контрольного чиновника, а впоследствии министра), и в Москве, куда я попал к нему зимой в маленький домик у «Серебряных» бань, где-то на Яузе, и нашел его в обстановке, которая как нельзя больше подходила к лицу и жизни автора «Банкрута» и «Бедность — не порок».
Он работал тогда над своим «Мининым», отделывал его начисто; но первая половина пьесы была уже совсем готова.
Домик его в пять окон — самой обывательской внешности — окунул и меня в дореформенный московский мир купеческого и приказного люда.
В передней меня встретила еще не старая, полная женщина, которую я бы затруднился признать сразу тогдашней подругой писателя. Это была та «Федосья Ивановна», про которую я столько слыхал от москвичей, приятелей Островского, — особенно в года его молодости, его первых успехов.
Ей он — по уверению этих приятелей — был многим обязан по части знания быта и, главное, языка, разговоров, бесчисленных оттенков юмора и краснобайства обитателей тех московских урочищ.
Федосья Ивановна сейчас же стушевалась, и больше я ее никогда не видал.
В первой же комнате, служившей кабинетом автору «Минина», у дальней стены стоял письменный стол и за ним сидел — лицом к входу — Александр Николаевич в халате на беличьем меху. Такие его портреты многим памятны.
Он сейчас же начал мне говорить о своем герое, как он его понимает, что он хотел в нем воспроизвести.
Замысел его нельзя было не найти верным и глубоко реальным. Минин — по его толкованию — простой человек без всякого героического налета, без всякой рисовки, тогдашний городской обыватель с душой и практической сметкой.
В его хронике нижегородский «говядарь» сбивается с этой бытовой почвы, и автор заставляет его произносить монологи в духе народнического либерализма.
Но, судя по тем сценам, какие Островский мне прочел — а читал он, особенно свои вещи, превосходно, — я был уверен, что лицо Минина будет выдержано в простом, реальном тоне.
И тогда уже, и позднее, на протяжении более двадцати лет, я находил в Островском такую веру в себя, такое довольство всем, что бы он ни написал, какого я решительно не видал ни в ком из наших корифеев: ни у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Гончарова, ни у Салтыкова, ни у Толстого и всего менее — у Некрасова.
По этой части он с молодых годов — по свидетельству своих ближайших приятелей — «побил рекорд», как говорят нынче. Его приятель — будущий критик моего журнала «Библиотека для чтения» Е. Н. Эдельсон, человек деликатный и сдержанный, когда заходила речь об этом свойстве Островского, любил повторять два эпизода из времен их совместного «прожигания» жизни, очень типичных в этом смысле.
Когда мне лично привелось раз заметить А. Н-чу, как хорошо такое-то лицо в его пьесе, он, с добродушной улыбкой поглаживая бороду и поводя головой на особый лад (жест, памятный всем, особенно тем, кто умел его копировать), выговорил невозмутимо:
— Ведь у меня всегда все роли — превосходные!
Поэтому, когда он ставил пьесу — и на Александрийском театре, — он всегда был отменно доволен всеми исполнителями, даже и актера Нильского похваливал. Раз они играют в его пьесе — они должны быть безукоризненно хороши.
Может быть, это повышенное самосознание и давало ему нравственную поддержку в те годы (а они продолжались не один десяток лет), когда он постоянно бился из-за постановки своих вещей и дирекция держала его, в сущности, в черном теле.
Переписка А. Н., появившаяся после смерти актера Бурдина, бывшего его постоянным ходатаем, показала достаточно, как создатель нашего бытового репертуара нуждался в заработке; а ставил он обыкновенно по одной пьесе в сезон на обоих императорских театрах.
И позднее, в 70-х и 80-х годах, его новые вещи в Петербурге не давали больших сборов, и критика делалась к нему все строже и строже.
Но все это не могло поколебать той самооценки, какой он неизменно держался, и в самые тяжелые для него годы. Реванш свой он получил только перед смертью, когда реформа императорских театров при директоре И. А. Всеволожском выдвинула на первый план самых заслуженных драматургов — его и Потехина, а при восстановлении самостоятельной дирекции в Москве Островский взял на себя художественное заведование московским Малым театром.
Ему предложили и директорство, но он отказался от главного административного поста.
И поразительно скоро — как все говорили тогда за кулисами — он приобрел тон и обхождение скорее чиновника, облекся в вицмундир и усилил еще свой обычный важный вид, которым он отличался и как председатель Общества драматических писателей, где мы встречались с ним на заседаниях многие годы.
Такая писательская психика объясняется его очень быстрыми успехами в конце 40-х годов и восторгами того приятельского кружка из литераторов и актеров, где главным запевалой был Аполлон Григорьев, произведший его в русского Шекспира. В Москве около него тогда состояла группа преданных хвалителей, больше из мелких актеров. И привычка к такому антуражу развила в нем его самооценку.
Но вся его жизнь прошла в служении идее реального театра, и, кроме сценической литературы, которую он так слил с собственной судьбой, у него ничего не было такого же дорогого. От интересов общественного характера он стоял в стороне, если они не касались театра или корпорации сценических писателей. Остальное брала большая семья, а также и заботы о покачнувшемся здоровье.
Вряд ли он когда-либо пробовал себя в других родах литературы, несмотря на свой несомненный поэтический дар, что он доказал достаточно «Снегурочкой».
Художественность его писательской работы являлась естественным продуктом его объективного реализма, знания русского быта, души русского бытового человека и любви к характерным чертам русского ума, юмора, комизма и трагизма.
Едва ли не в одной комедии «Доходное место» он поддался тогдашней либеральной тенденции. Моралистом он был несомненно, но широким, иногда очень широким. Но главной его заботой оставалось жизненное творчество — язык, нравы, типичность и своеобразность лиц.
Родился ли он драматургом — по преимуществу? Такой вопрос может показаться странным, но я его ставил еще в 70-х годах, в моем цикле лекций «Островский и его сверстники», где и указывал впервые на то, что создатель нашего бытового театра обладает скорее эпическим талантом. К сильному (как немцы говорят, «драстическому») действию он был мало склонен. Поэтому большинство его пьес так полны разговоров, где много таланта в смысле яркой психики действующих лиц, но мало движения.
Островский под влиянием критических статей Добролюбова стал смотреть на себя как на изобличителя купеческого «темного царства». В первых своих вещах он был более объективным художником, склоняясь и к народническим симпатиям («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок» и в особенности драма «Не так живи, как хочется»). А позднее — в целом ряде комедий — он только смеялся над своими купцами и купчихами и редко забирал глубже. Вот почему он совсем не захватил новейшего развития нашего буржуазного мира, когда именно в Москве купеческий класс стал играть и более видную общественную роль.
Если б он к 80-м годам захотел давать нам картины этой самой буржуазии, он мог бы это делать.
То, что явилось в моем романе «Китай-город» (к 80-м годам), было как раз результатом наблюдений над новым купеческим миром. Центральный тип смехотворного «Кита Китыча» уже сошел со сцены. Надо было совсем иначе относиться к московской буржуазии. А автор «Свои люди — сочтемся!» не желал изменять своему основному типу обличительного комика, трактовавшего все еще по-старому своих купцов.
Такое добровольное пребывание в старых комических тенетах объясняется отчасти жизнью, которую Островский вел в последние двадцать лет. Наблюдательность должна питаться все новыми «разведками» и «съемками». А он стоял в стороне не только от того, что тогда всего сильнее волновало передовую долю общества, но и от писательского мира. Ни в Петербурге, ни в Москве он не был центром какого-нибудь кружка, кроме своих коллег по обществу драматургов.
Кажется, всего один раз в моей жизни я видел его на банкете, который мы устроили Тургеневу в зиму 1878–1879 года в зале ресторана Эрмитаж. А перед всей литературной Россией он едва ли не один всего раз явился на празднике Пушкина.
И я не знавал писателей ни крупных, ни мелких, кто бы был к нему лично привязан или говорил о нем иначе, как в юмористическом тоне, на тему его самооценки. Из сверстников ближе всех по годам и театру стоял к нему Писемский. Но он не любил его, хотя они и считались приятелями. С Тургеневым, Некрасовым, Салтыковым, Майковым, Григоровичем, Полонским — не случилось мне лично говорить о нем, не только как о писателе, но и как о человеке.
Критик Анненков ставил его очень высоко, даже «Минина» его находил замечательным. Но они были люди совсем разного склада, образования и литературного прошлого.
Быть может, из наших первоклассных писателей Островский оставался самым ярким, исключительным бытовиком по своему душевному складу, хотя он и был университетского образования, начитан по русской истории и выучился даже на старости лет настолько по-испански, что переводил пьески Сервантеса.
Сезон петербургской зимы 1862–1863 года (когда началась моя редакторская жизнь) был, как читатель видит, очень наполнен. Вряд ли до наступления событий 1905–1906 годов Петербург жил так полно и разнообразно.
Не надо, однако же, вдаваться в преувеличенные восторги. Выражением «шестидесятые годы» у нас ужасно стали злоупотреблять. Если прикинуть теперешний аршин к тогдашнему общественному «самосознанию», то окажется, что тогда не нашлось бы и одной десятой того количества людей и старых и молодых, участвующих в движении, какое бросилось на борьбу к осени 1905 года. Не нужно забывать, что огромный класс дворянства на две трети был против падения крепостничества; чиновничество в массе держалось еще прежнего духа и тех же нравов. Только незначительное меньшинство в столицах — и всего больше в Петербурге — жило идеями, упованиями, протестами и запросами 60-х годов.
Но в пределах тогдашних «возможностей» все: и художественная литература, и публицистика, и критика, и театр, и другие области искусства — все это шло усиленным ходом.
Мы видели сейчас, что даже такая подробность, как театральное любительство — и то привлекала тогдашних корифеев сценической литературы.
Театр по творческой производительности переживал свой героический период. Никогда позднее не действовало одновременно столько крупных писателей, из которых два — Островский и Писемский — создавали наш новый реальный, бытовой репертуар.
Пьесы Алексея Потехина отвечали тогда прямо на потребность в «гражданских» мотивах. И он выбирал все более сильные мотивы до тех пор, пока цензура не заставила его надолго отказаться от сцены после его комедии «Отрезанный ломоть».
Публика привыкла тогда к тому, чтобы ей каждую неделю давали новую пьесу. И несколько молодых писателей, вроде Дьяченко, Николая Потехина, Владыкина и других, отвечали — как могли и умели — этим бенефисным аппетитам.
Дьяченко сделался очень быстро самым популярным поставщиком Александрийского театра, и его пьесы имели больше внешнего успеха, чем новые вещи Островского, потому что их находили более сценичными.
Уровень игры стоял, если не по ансамблю и постановке, то по отдельным талантам, — очень высоко. Никогда еще в одну эпоху не значились рядом такие имена, как Сосницкий, Самойлов, Павел Васильев, Ф. Снеткова, Линская.
Если привилегия императорских театров не дозволяла в столицах никакой частной антрепризы, то это же сосредоточивало художественный интерес на одной сцене; а система бенефисов хотя и не позволяла ставить пьесы так, как бы желали друзья театра и драматурги, но этим самым драматургам бенефисная система давала гораздо более легкий ход на сцену, что испытал и я — на первых же моих дебютах.
Итальянская опера, стоявшая тогда во всем блеске, балет, французский и немецкий театр отвечали всем вкусам любителей драмы, музыки и хореографии. И мы, молодые писатели, посещали французов и немцев вовсе не из одной моды, а потому, что тогда и труппы, особенно французская, были прекрасные, и парижские новинки делались все интереснее. Тогда в самом расцвете своих талантов стояли Дюма-сын, В. Сарду, Т. Баррьер. А немцы своим классическим репертуаром поддерживали вкус к Шиллеру, Гете и Шекспиру.
Тогда и Шекспир стал проникать в Александрийский театр в новых переводах и в новом, более правдивом исполнении. Самойлов выступал в Шейлоке и Лире, и постановка «Лира» в талантливом переводе Дружинина была настоящим сценическим событием.
Тогда и западное сценическое искусство явилось к нам в лице нескольких знаменитостей, чтобы поднять интерес нашей публики к классическому репертуару, и Шекспиру отведено было первое место, хотя называть его театр классическим (как это до сих пор у нас водится) вряд ли правильно.
Американский негр из бывших невольников, Айра Ольдридж, приехал в Петербург с громкой рекламой — после турне в Америке и Англии.
Он был как бы прирожденный «мавр», и Отелло сделался его коронною ролью. Играл он с немцами, которые тогда действовали еще на Мариинском вперемежку с русской оперой, иногда с русской драмой.
Кажется, до того петербургская публика не бывала еще на таких разноязычных спектаклях, даже и в операх. Айра Ольдридж мог говорить только по-английски. Остальная труппа играла по-немецки. Выходило странно, но менее странно, чем с русскими актерами, что началось уже в Москве, где юная Познякова-Федотова играла с ним Дездемону. Потом негритянская знаменитость долго ездила по провинции, играла на Нижегородской ярмарке и в других городах. Айра сделался популярным и даже немного приелся. В провинции на него сбегались смотреть как на диковинку… Спектакли производили полукомическое впечатление. Обыкновенно после «реплики» актер или актриса щелкали пальцами или делали другой условный знак. То же проделывал и сам Айра. Уже было несколько историй. Сначала он ужасно пугал актрис, и одна из немок, игравших с ним в Петербурге, чуть не выскочила из кровати, когда он начал душить ее. Он и в жизни проявлял темперамент Отелло; но был, кажется, довольно добродушное дитя природы.
Для более развитой доли столичной публики Айра явился самым страстным и реально-страшным Отелло, какого она когда-либо видала. В двух других его ролях — в Шейлоке и в Лире — он брал тоже почти исключительно темпераментом. В этих ролях он принужден был усиленно мазать себе лицо. Шейлок выходил у него более злобным евреем, чем художественно созданным шекспировским лицом. Лиру также недоставало глубокого трагизма. Все это стояло гораздо ниже того, что много лет спустя Петербург и Москва видели у Росси и Сальвини, особенно в сальвиниевском Отелло.
Но все-таки это была не только курьезная, но и просветительная новинка. Прививая вкус к шекспировскому театру, она давала повод к сравнительному изучению ролей. Самойлов как раз выступал в Шейлоке и Лире. УАйры Ольдриджа было, конечно, вчетверо больше темперамента, чем у русского «премьера», но в общем он не стоял на высоте талантливости Самойлова.
Другой толкователь Шекспира и немецких героических лиц, приезжавший в Россию в те же сезоны, тогда уже немецкая знаменитость — актер Дависон считался одной из первых сил в Германии наряду с Девриеном.
Я его встретил раз в кабинете начальника репертуара тотчас по его приезде. Он был уже не молодой, с резко еврейским профилем и даже легким акцентом, или, во всяком случае, с особенным каким-то немецким выговором.
На этой героической знаменитости мы, тогдашние «люди театра», могли изучать все достоинства и дефекты немецкой игры: необыкновенную старательность, выработку дикции, гримировку, уменье носить костюм и даже создавать тип, характер, и при этом — все-таки неприятную для нас, русских, искусственность, декламаторский тон, неспособность глубоко захватить нас: все это доказательства головного, а не эмоционального темперамента.
По выработке внешних приемов Дависон стоял очень высоко. Его принимали как знаменитость. Немцы бегали смотреть на него; охотно ходили и русские, но никто в тогдашнем писательском кругу и среди страстных любителей сцены не восторгался им, особенно в таких ролях, как Гамлет, или Маркиз Поза, или Макбет. Типичнее и блестящее он был все в том же Шейлоке, где ему очень помогало и его еврейское происхождение.
Гораздо больше волновала Петербург — во всех классах общества, начиная с светски-чиновного, — Ристори, особенно в первый ее приезд.
После Рашели (бывшей в России перед самой Крымской кампанией и оставившей глубокую память у всех, кому удалось ее видеть) Ристори являлась первой актрисой с такой же всемирной репутацией.
Те, кто видал Рашель, находили, что она была по таланту выше итальянской трагической актрисы. Но Рашель играла почти исключительно в классической трагедии, а Ристори по репертуару принадлежала уже к романтической литературе и едва ли не в одной Медее изображала древнюю героиню, но и эта «Медея», как пьеса, была новейшего итальянского производства.
И я до ее появления у нас не видал такой живописной и внушительной наружности, такого телесного склада и поступи, таких пластических движений, всего, что требуется для создания сильно драматических и трагических ролей.
Прибавьте к этому музыкальный орган с низковатым бархатным звуком, чудесную дикцию, самую красоту итальянского языка. Ристори пленяла, а в сильных местах проявляла натиск, какого ни в ком из русских, немецких и французских актрис мы не видали.
И все-таки она больше поражала, восхищала, действовала на нервы, чем захватывала вас порывом чувства, или задушевностью, или слезами, то есть теми сторонами женственности, в каких проявляется очарование женской души. Все это, например, она могла бы показать в одной из своих любимых ролей — в шиллеровской Марии Стюарт. Но она не трогала вас глубоко; и в предсмертной сцене не одного, меня неприятно кольнуло то, что она, отправляясь на эшафот, посылала поцелуи распятию.
В других своих коронных ролях — Медее и Юдифи — она могла пускать в ход интонации ревности и ярости, силу характера, притворство. Все это проделывалось превосходно; но и тут пластика игры, декламация и условность жестикуляции были романтическими только по тону пьесы, а отзывались еще своего рода классической традицией.
О ее игре я имел разговор тогда с Писемским. Он ходил смотреть Ристори и очень метко оценивал ее игру. Он был еще строже и находил, что у нее нет настоящего темперамента там, где нужно проявлять страсть, хотя бы и бурную.
Ристори приехала и в другой раз в Петербург, привлеченная сборами первого приезда. Но к ней как-то быстро стали охладевать. Чтобы сделать свою игру доступнее, она выступала даже с французской труппой в пьесе, специально написанной для нее в Париже Легуве, из современной жизни, но это не подняло ее обаяния, а, напротив, повредило. Пьеса была слащавая, ординарная, а она говорила по-французски все-таки с итальянским акцентом.
Как первая трагическая итальянская актриса, она оставила очень определенный, выработанный образец игры, помимо своих эффектных внешних средств.
Всего сильнее действовала она на нашу публику в пьесе, изображающей жизнь английской королевы Елизаветы. Она и умирает на сцене. По созданию лица, по реализму отдельных положений это было самое оригинальное из того, что она тогда исполняла.
Пьеса эта, как и трагедия «Юдифь», была написана тогдашним поставщиком итальянских сцен (кажется, по фамилии Джакометти) в грубовато-романтическом тоне, но с обилием разных более реальных подробностей. В Елизавете он дал ей еще больше выгодного материала, чем в Юдифи. И она показала большое мастерство в постепенных изменениях посадки тела, голоса, лица, движений вплоть до момента смерти.
С тех пор я более уже не видал Ристори ни в России, ни за границей вплоть до зимы 1870 года, когда я впервые попал во Флоренцию, во время Франко-прусской войны. Туда приехала депутация из Испании звать на престол принца Амедея. В честь испанцев шел спектакль в театре «Николини», и Ристори, уже покинувшая театр, проиграла сцену из «Орлеанской девы» по-испански, чтобы почтить гостей.
Жутко было смотреть на эту почти шестидесятилетнюю женщину в костюме театральной пастушки.
Выйдя замуж за титулованного итальянского барина, она долго еще жила, как говорится, «окруженная всеобщим уважением». Ее палаццо на Арно известно многим русским, кто живал во Флоренции.
Музыка в те зимы входила уже значительно в сезонный обиход столицы. Но Петербург (как и Москва) не имел еще средств высшего музыкального образования, даже о какой-нибудь известной частной школе или курсах что-то совсем не было слышно. Общая музыкальная грамотность находилась еще в зачатке. Музыке учили в барских домах и закрытых заведениях, и вкус к ней был довольно распространен, но только «в свете», между «господ», а гораздо меньше в среднем кругу и среди того, что называют «разночинцами».
Мальчиков, воспитывавшихся в достаточных и богатых домах, часто приохочивали к фортепьяно, а девочек учили уже непременно, и в институтах они проходили довольно строгую «муштру».
Я лично, после не совсем приятных мне уроков фортепьяно, пожелал сам учиться на скрипке, и первым моим учителем был крепостной Сашка, выездной лакей и псовый охотник. В провинции симфонической и отчасти оперной музыкой и занимались только при богатых барских домах и в усадьбах. И у нас в городе долго держали свой бальный оркестр, который в некоторые дни играл, хоть и с грехом пополам, «концерты», то есть симфонии и квартеты.
Скрипку я оставил, когда к переходу в Дерпт мною овладела точная наука, но вкус к музыке остался, и я в Дерпте, в доме князей Д[ондуко]вых, постоянно слушал хорошую фортепьянную игру и пение, в котором и сам участвовал.
В Петербурге я не оставался равнодушным ко всему тому, что там исполнялось в течение сезона. Но, повторяю, тогдашние любители не шли дальше виртуозности игры и пения арий и романсов. Число тех, кто изучал теорию музыки, должно было сводиться к ничтожной кучке. Да я и не помню имени ни одного известного профессора «генерал-баса», как тогда называли теорию музыки.
Учреждений, кроме Певческой капеллы, тоже не было. Процветала только виртуозность, и не было недостатка в хороших учителях. Из них Гензельт (фортепьяно), Шуберт (виолончель) и несколько других были самыми популярными. Концертную симфоническую музыку давали на университетских утрах под управлением Шуберта и на вечерах Филармонического общества. И вся виртуозная часть держалась почти исключительно немцами. Что-нибудь свое, русское, создавалось по частной инициативе, только что нарождавшейся.
Но и тот музыкант, которому Россия обязана созданием музыкальной высшей грамотности — Антон Григорьевич Рубинштейн, — в те годы для большой публики был прежде всего удивительный пианист. Композиторский его талант мало признавался; а он уже к тому времени, кроме множества фортепьянных и концертных вещей, выступал и как оперный композитор.
Никто из заезжих иностранных виртуозов не мог помрачить его славы как пианиста; а в Петербург и тогда уже приезжали на сезон все западные виртуозы. Великопостный сезон держался тогда исключительно концертами (с живыми картинами), и никаких спектаклей не полагалось.
Рубинштейна я в первый раз увидал на эстраде, но издали, и вскоре в один светлый зимний день столкнулся с ним на Невском, когда он выходил из музыкального магазина, запахиваясь в шубу, в меховой шапке, какие тогда только что входили в великую моду.
Он уже не смотрел очень молодым; но так же брил все лицо и отличался уже сходством своих черт и всей головы с маской Бетховена.
У меня не было случая с ним познакомиться в те зимы, хотя я посещал один музыкальный салон, который держала учительница пения, сожигаемая также страстью к сцене и как актриса и как писательница. Она состояла в большой дружбе с семейством Рубинштейна (по происхождению она была еврейка); у нее часто бывал его брат, в форме военного врача; но Антон не заезжал.
Наше знакомство завязалось гораздо позднее, уже за границей, в половине 70-х годов, и продолжалось до его смерти — о чем я еще буду иметь повод и место поговорить.
А тогда я попал в кружок, где Рубинштейна ценили только как виртуоза, но на композитора смотрели свысока и вообще сильно недолюбливали как музыканта старой немецкой школы.
Тогда мой товарищ Милий Балакирев уже устроился в Петербурге, переехав туда из Казани во второй половине 50-х годов. Его покровитель Улыбышев привез его туда, представил Глинке и ввел в тогдашний музыкальный кружок.
Его сейчас же оценили и как пианиста, и как будущего композитора. Он сошелся через братьев Стасовых с нарождавшейся тогда «Кучкой» музыкантов, которые ратовали за русскую музыку, преклонялись перед Глинкой, высоко ставили Даргомыжского; а в иностранной музыке их «отцами церкви» были Шуман, Лист и Берлиоз.
По направлению это были первые, после Глинки и отчасти Даргомыжского, наши народники-реалисты, стоявшие за освобождение от традиций классических музыкантов немецкой школы, застывших на Моцарте, Бетховене, Мендельсоне и Шуберте.
Шопен был им ближе, и Балакирев всегда любил его играть. Но в Казани, где мы с ним расстались, он еще не выяснил себе своей музыкальной «платформы». Это сделалось в кружке его друзей и — на первых порах — руководителей, в кружке Стасовых.
Теории музыки ему не у кого было учиться в провинции, и он стал композитором без строгой теоретической выучки. Он мне сам говорил, что многим обязан был Владимиру Стасову. Тот знакомил его со всем, что появлялось тогда замечательного в музыкальных сферах у немцев и французов. Через этот кружок он сделался и таким почитателем Листа и в особенности Берлиоза.
Мы видались с Балакиревым в мое дерптское время каждый год. Проезжая Петербургом туда и обратно, я всегда бывал у него, кажется, раз даже останавливался в его квартире. Жил он холостяком (им и остался до большой старости и смерти), скромно, аккуратно, без всякого артистического кутежа, все с теми же своими маленькими привычками. Он уже имел много уроков, и этого заработка ему хватало. Виртуозным тщеславием он не страдал и не бился из-за великосветских успехов.
В эти четыре года (до моего водворения в Петербурге) он очень развился не только как музыкант, но и вообще стал гораздо литературнее, много читал, интересовался театром и стал знакомиться с писателями; мечтал о том, кто бы ему написал либретто.
О своих замыслах он много беседовал со мною и охотно играл свои новые вещи. Он уже заявил себя как серьезный композитор и двумя-тремя оркестровыми сочинениями и целым циклом романсов.
Без систематической школы по части теории музыки он быстро овладел этой премудростью; а своими вкусами, оценками, идеями в духе народнического реализма — также быстро поднялся до роли центрального руководителя нашей новой музыкальной школы. Тогда прозвище «Могучая кучка» не было еще пущено в ход. Оно взято было из фельетона Кюи, но уже позднее.
Как преподаватель Балакирев привык с особым интересом обращаться ко всякому дарованию. И уже с первых его годов жизни в Петербурге под его крыло стали собираться его молодые сверстники, еще никому почти неизвестные в других, более замкнутых кружках любителей музыки.
У Балакирева я в первый раз увидал и Мусоргского. Их тогда было два брата: один носил еще форму гвардейского офицера, а другой, автор «Бориса Годунова», только что надел штатское платье, не оставшись долее в полку, куда вышел, если не ошибаюсь, из училища гвардейских подпрапорщиков.
Тогда это был еще светский jeune homme'чек (молодой человечек), франтоватый, приятного вида, очень воспитанный, без военных ухваток. Он держался с Балакиревым как ученик с наставником, но без всякой лести или подслуживанья. Они при мне часто играли в четыре руки и вели разговоры на те темы, которыми весь их кружок так горячо жил. Мусоргский пробовал себя уже как композитор, но к крупным своим вещам он приступил позднее. Его новаторские идеи уже владели им, и Балакирев очень им сочувствовал. Даргомыжский задумал тогда своего «Каменного гостя». Идея полного слияния поэтического слова с музыкальным звуком была всем им дорога. Но, ратуя за нее, кружок будущих «кучкистов» совсем не увлекался Вагнером, написавшим тогда все, чем он прославился, — от «Тангейзера» вплоть до его цикла Нибелунгов и «Тристана и Изольды». Я никогда не слыхал у Балакирева разговоров о создателе «музыки будущего».
И когда сам Вагнер к зиме 1862–1863 года явился в Петербург, где дал несколько концертов под своим дирижерством, причем имел очень шумный успех, наши народники-реалисты, найдя его прекрасным капельмейстером, вовсе не преклонялись перед ним как перед композитором, не искали его знакомства, не приглашали его к себе.
В тогдашнем Петербурге вагнеризм еще не входил в моду; но его приезд все-таки был событием. И Рубинштейн относился к нему с большой критикой; но идеи Вагнера как создателя новой оперы слишком далеко стояли от его вкусов и традиций. А «Кучка», в сущности, ведь боролась также за два главных принципа вагнеровской оперы; народный элемент и, главное, полное слияние поэтического слова с музыкальной передачей его.
И все-таки соглашение не состоялось. Вагнерьянцем явился из тогдашних даровитых музыкантов один только Серов. С Серовым у кружка Стасовых (с которыми он вначале считался приятелем) завелись какие-то интимные счеты, где замешался и женский пол (о чем мне Балакирев что-то рассказывал); а потом явились и профессиональные счеты, и Серов разорвал совершенно со стасовским кружком.
Для него приезд Вагнера и личное сближение явились решающим моментом в его композиторстве. Но и такого восторженного своего поклонника Вагнер считал чем-то настолько незначительным, что в своей переписке из этой эпохи не упоминает ни о нем, ни о каком другом композиторе, — ни о Даргомыжском, ни о Балакиреве; а о Рубинштейне — в его новейшей биографии — говорится только по поводу интриги, которую якобы Рубинштейн собирался повести против него в Петербурге (?).
Будущие «кучкисты», конечно, были на его концертах; но встречи там с Балакиревым или с Вл. Стасовым (которого я уже лично знал) я что-то не помню.
Вагнер, тогда человек лет около шестидесяти, смотрел совсем не гениальным немцем, довольно филистерского типа. Но его женская нервность и крутой нрав сказывались в том, как он вел оркестр. Музыканты хотя и сделали ему овацию, но у них доходило с ним до весьма крупного столкновения.
Тогда он уже достиг высшего предела своей мании величия и считал себя не только великим музыкантом, но и величайшим трагическим поэтом. Его творчество дошло до своего зенита — за исключением «Парсиваля» — именно в начале 60-х годов, хотя он тогда еще нуждался и даже должен был бежать от долгов с своей виллы близ Вены; но его ждала волшебная перемена судьбы: влюбленность баварского короля и все то, чего он достиг в последнее десятилетие своей жизни.
Какой разительный контраст, если сравнить судьбу автора «Тристана» и «Парсиваля» с жалким концом музыкального создателя «Бориса Годунова» и «Хованщины». Умереть на солдатской койке военного госпиталя, да и то благодаря доброте доктора, который положил его, выдав за денщика.
И только в 1908 году Париж услыхал его «Бориса» в русском исполнении, с Шаляпиным, и французская критика восхищалась его оперой, признала его создателем небывалого рода реально-народной музыки.
Мусоргского я и позднее встречал, когда он входил в известность, но я не видал той полосы, когда он так нуждался и, предаваясь русской роковой страсти и разрушая свою личность, дошел до того Мусоргского, которого так высокодаровито воспроизвел Репин в знаменитом портрете.
А тем временем мой земляк и товарищ Балакирев, приобретая все больше весу как музыкальный деятель, продолжал вести скромную жизнь преподавателя музыки, создал бесплатную воскресную школу, сделался дирижером самых передовых тогдашних концертов.
Оперы он не написал, а долго мечтал об этом, искал либреттистов, совсем было сладился с поэтом Меем; но тот только забирал с него «авансы», а так ничего ему и не написал.
В психической жизни создателя русской школы произошла (это было в те годы, когда я жил за границей) резкая перемена, совпадающая с его поездкой к славянам. В юности он был далек от всякой мистики, отличался даже, бывало, в Казани охотой к вышучиванию всего церковного, но тут всплыло в нем мистическое настроение, и на почве личной огорченности (как объясняли некоторые его приятели) он совсем скрылся, разорвал надолго сношения с своим кружком, бросил музыку и очутился мелким служащим на станции железной дороги.
Это продолжалось довольно долго, и такого Балакирева я не встречал. Я жил в те годы или за границей, или подолгу в Москве. Потом он пришел в норму, принял заведование Певческой капеллой, стал опять давать уроки, но прежнего положения занимать не желал.
Таким я его видел в последний раз в доме Дм. Вас. Стасова, куда он приехал играть Шопена в день посмертного юбилея его любимого славянского композитора.
Славянофильство и национализм наложили на него свою окраску; а по музыкальному своему credo он не мог уже относиться с теми же симпатиями и к «кучкистам». Некоторые ушли далеко: и Бородин, и Римский-Корсаков, и Кюи, и все новые в той генерации, где так выделился Глазунов.
О Чайковском мне не привелось с ним беседовать. На композитора «Евгения Онегина» «кучкисты» долго смотрели как на «выученика» консерватории, созданной братьями Рубинштейн. Но позднее они к нему относились без предвзятости, оставаясь все-таки с другими музыкальными идеалами.
Серов — их антагонист и неприятная им личность — в сущности, делал их же дело. И он вдохновлялся народными сюжетами, как «Рогнеда» и «Вражья сила», и стремился к слиянию слова с мелодией, да и вагнерьянство не мешало ему идти своим путем.
В те зимы, о которых я заговорил здесь, его «Юдифь» явилась — после «Русалки» Даргомыжского — первой большой оперой, написанной музыкантом новой формации.
Тогдашний Петербург работал над созданием, с одной стороны, музыкальной школы и добился учреждения консерватории, а с другой — дал ход творческой работе и по симфонической музыке и по оперной. Кружок реалистов-народников, образовавший «Могучую кучку», отстаивая русскую своеобразность, считал своими западными руководителями таких музыкантов, как Шуман, Лист и Берлиоз. Стало быть, и «кучкисты» были западники, но в высшем смысле. Они недостаточно ценили то, что принес с собою Вагнер, но это помогло им остаться более самими собою, а это — немаловажная заслуга.
Они привлекали публику к серьезным музыкальным наслаждениям и в критике дружно ратовали за свое credo.
Когда я в 1871 году вернулся в Петербург после почти пятилетнего житья за границей, музыкальность нашей столицы шагнула вперед чрезвычайно. По общей подготовке, по грамотности и высшему обучению сделал это Антон Рубинштейн; а по развитию своего оригинального стиля в музыкальной драме — те, кто вышел из «Кучки», и те, кто был воспитан на их идеалах, что не помешало, однако, таланту, как Чайковский, занять рядом с ними такое видное и симпатичное место. И он ведь не остался узким западником, а, вызывая в иностранной публике до смерти своей всего больше сочувствия и понимания, выработал свой стиль, свое настроение и как оперный композитор и как симфонист.
В эти же зимы и наши пластические искусства получили другое направление.
«Академия» царила еще в половине 50-х годов. Приезд Ал. Иванова с его картиной «Явление Христа народу» вызвал, быть может впервые, горячий спор двух поколений. Молодежь стояла за картину, особенно студенчество. Я тогда проезжал Петербургом и присутствовал при таких схватках. Но тогдашние академические эстеты не восхищались картиной, в том числе и такие знатоки, каким уже считался тогда Григорович.
Как «кучкисты», так и новые народники реалистического направления в живописи и скульптуре нашли себе рьяного защитника и пропагандиста в Вл. Стасове.
С ним — как я уже рассказывал раньше — Балакирев познакомил меня еще в конце 50-х годов, когда я, студентом, привез в Петербург свою первую комедию «Фразеры». На квартире Стасова я ее и читал. Там же, помню, были и какие-то художники.
В 60-х годах я у Стасовых не бывал и с Владимиром в литературных кружках не встречался, но видался часто в концертах и на оперных представлениях.
И тогда он уже был такой же, только не седой — высокий, бородатый, с зычным голосом, с обрывистой и грубоватой речью, великий спорщик и «разноситель», для многих трудновыносимый, не только в личных сношениях, но и в статьях своих.
Всего резче отзывался о нем Серов, с которым я стал чаще видаться уже позднее, к 1862 году.
Раз он при мне — у Писемского — с особенным «смаком» повторял такую прибаутку, вероятно им же самим и сочиненную.
Один знакомый спрашивает другого:
— Знаете вы Стасова?
— Которого?
— Вот такой долговязый!
— Да они все — с коломенскую версту!..
— Такой глупый?
— Да они все такие!..
Немудрено, что такой тонкий и убежденный западник, как Тургенев, не мог также выносить Стасова. Он видел в его проповеди русского искусства замаскированное славянофильство, а славянофильское credo было всегда ему противно, что он и выразил так блестяще и зло в рассуждениях своего Потугина в «Дыме».
Но Стасов был поклонник не уваровской формулы — он и вовсе не дружил с тогдашними «почвенниками», вроде Ап. Григорьева, а преклонялся скорее перед Добролюбовым и — главное — перед Чернышевским, воспитал свое художественное понимание на его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» и держался весьма либеральных взглядов. Его русофильство было скорее средством проповеди своего, самобытного искусства, протест против подражания иностранной «казенщине» — во всем: в музыке и в изобразительных искусствах.
Как он ругал «итальянщину» в опере, так точно он разносил и академию, и посылку ее пенсионеров в Италию, и увлечение старыми итальянскими мастерами.
Это был своего рода нигилизм на национальной подкладке. Нечто в том же роде происходило в литературной критике, где несколько позднее раздались чисто иконоборческие протесты против изящных искусств и поэзии, лишенной гражданских мотивов.
Стасов не проповедовал отрицания искусства, но его эстетика была узкореалистическая. Он признавал безусловную верность одного из положений диссертации Чернышевского, что настоящее яблоко выше нарисованного. Поэтому, ратуя за русское искусство, он ставил высоко идейную живопись и скульптуру, восхвалял литературные сюжеты на «злобы дня» и презирал чистое искусство не менее самых заядлых тогдашних нигилистов.
Но никто до него так не распинался за молодые русские таланты. Никто так не радовался появлению чего-либо своеобразного, не казенного, не «академического». Только бы все это отзывалось правдой и было свое, а не заморское.
И как проповедь театрального нутра в половине 50-х годов нашла уже целую плеяду московских актеров, так и суть «стасовщины» упала на благодарную почву. Петербургская академия и Московское училище стали выпускать художников-реалистов в разных родах. Русская жизнь впервые нашла себе таких талантливых изобразителей, как братья Маковские, Прянишников, Мясоедов, потом Репин и все его сверстники. И русская природа под кистью Шишкина, Волкова, Куинджи стала привлекать правдой и простотой настроений и приемов.
Столичная публика только к началу 60-х годов стала так посещать выставки, а любители с денежными средствами так охотно покупать картины и заказывать портреты.
Общество «передвижников» — прямое создание этого народно-реалистического направления.
Это был вызов, брошенный впервые казенной академии, не в виде только разговоров, споров или задорных статеек, а в виде дела, общей работы, проникнутой хотя и односторонним, но искренним и в основе своей здоровым направлением.
Стало быть, и мир искусства в разных его областях обновился на русской почве именно в эти годы. Тогда и заложено было все дальнейшее развитие русского художественного творчества, менее отрешенного от жизни, более смелого по своим мотивам, более преданного заветам правды и простоты.
То же случилось и со скульптурой. У Антокольского были уже предшественники к 60-м годам, хотя и без его таланта. И опять все тот же «долговязый» и «глупый» Стасов (по формуле Серова), все тот же несносный крикун и болтун (каким считал его Тургенев) открыл безвестного виленского еврейчика, влюбился в его талант и ломал потом столько копий за его «эпоху делающее» произведение «Иоанн Грозный».
Все это было очень искренно, горячо, жизненно — и в то же время, однако, слишком прямолинейно и преисполнено узкоидейного реализма. Таким неистовым поборником русского искусства оставался Стасов до самой своей смерти. И мы с ним — в последние годы его жизни — имели нескончаемые споры по поводу книги Толстого об искусстве.
Стасов оказывался толстовцем если не в отрицании искусства, то в отстаивании морального его значения и в нападках на все, что ему было не по душе в западном искусстве, в том числе и на оперы Вагнера.
Таким полутолстовцем он и должен был кончить… и старцем восьмидесяти лет от роду, таким же неистовым, как и сорок лет перед тем.
Тогда только и проявился во всех сферах мысли, творчества и общественного движения антагонизм двух поколений, какого русская жизнь до того еще не видывала. В литературной критике и публицистике самую яркую ноту взял Писарев, тотчас после Добролюбова, но он и сравнительно с автором статьи «Темное царство» был уже разрушитель и упразднитель более нового типа. Он попал в крепость за политические идеи. Но его «нигилизм» заявлял себя гораздо сильнее в вопросах общественной и частной морали, в освобождении ума от всяких пут мистики и метафизики, в проповеди самого беспощадного реализма, вплоть до отрицания Пушкина и Шекспира.
Все возрастающая распря между «отцами» и «детьми» ждала момента, когда художник такого таланта, как Тургенев, скажет свое слово на эту первенствующую тему.
Создателя «Отцов и детей» я в ту зиму не видал, да, кажется, он и не был в Петербурге при появлении романа в январе 1862 года.
И даже в том, как оценен был Базаров двумя тогдашними критиками радикальных журналов, сказались опять две ступени развития в молодом поколении.
«Нигилисты» постарше зачитывались статьей Антоновича, где произведение Тургенева сравнивалось с «Асмодеем» тогдашнего обскуранта-ханжи Аскоченского; а более молодые упразднители в лице Писарева посмотрели на тургеневского героя совсем другими глазами и признали в нем своего человека.
«Современник» и его главный штаб с особенной резкостью отнеслись к роману Тургенева, и Герцен (на первых порах) отрицательно отзывался о Базарове, увидав в своем тогдашнем приятеле Тургеневе «зуб» против молодежи.
Все крепостническое, чиновничье, дворянско-сословное и благонамеренное так и взглянуло на роман, и сам Иван Сергеевич писал, как ему противны были похвалы и объятия разных господ, когда он приехал в Россию.
Он не мог заранее предвидеть, что его роман подольет масла к тому, что разгорелось по поводу петербургских пожаров. До сих пор легенда о том, что подожгли Апраксин двор студенты вместе с поляками, еще жива. Тогда революционное брожение уже начиналось. Михайлов за прокламации пошел на каторгу. Чернышевский пошел туда же через полтора года. Рассылались в тот сезон 1861–1862 года и подпольные листки; но все-таки о «комплотах» и революционных приготовлениях не ходило еще никаких слухов.
Пожары дали материал, предлог — и этого было достаточно. И молодежь — та, которая не додумалась до писаревской оценки Базарова, и та часть «отцов», которая ждала от Тургенева чего-нибудь менее сильного по адресу «нигилизма», не могла оценить того, что представляют собою «Отцы и дети».
Уже одно то, что роман печатался у Каткова, журнал которого уже вступал в полемику с «Современником» и вообще поворачивал вправо, вредило автору.
В настоящий момент мне трудно ответить и самому себе на вопрос: отнесся ли я тогда к «Отцам и детям» вполне объективно, распознал ли сразу огромное место, какое эта вещь заняла в истории русского романа в XIX веке?
За одно могу ответить и теперь, по прошествии целых сорока шести лет, — что мне рецензия Антоновича не только не понравилась, но я находил ее мелочной, придирчивой, очень дурного тона и без всякого понимания самых даровитых мест романа, без признания того, что я сам чувствовал и тогда: до какой степени в Базарове уловлены были коренные черты русского протестанта против всякой фразы, мистики и романтики. Этот склад ума и это направление мысли и анализа уже назревали в студенческом мире и в те годы, когда я учился, то есть как раз во вторую половину 50-х годов.
Много было разговоров и споров о романе; но я не помню, чтобы о нем читались рефераты и происходили прения на публичных вечерах или в частных домах. Бедность газетной прессы делала также то, что вокруг такого произведения раздавалось гораздо меньше шуму, чем это было бы в начале XX века.
Но вот что тогда наполняло молодежь всякую — и ту, из которой вышли первые революционеры, и ту, кто не предавался подпольной пропаганде, а только учился, устраивал себе жизнь, воевал со старыми порядками и дореформенными нравами, — это страстная потребность вырабатывать себе свою мораль, жить по своим новым нравственным и общественным правилам и запросам.
Этим было решительно все проникнуто среди тех, кого звали и «нигилистами». Движение стало настолько же разрушительно, как и созидательно. Созидательного, в смысле нового этического credo, оказывалось больше. То, что потом Чернышевский в своем романе «Что делать?» ввел как самые характерные черты своих героев, не выдуманное, а только разве слишком тенденциозное изображение, с разными, большею частию ненужными разводами.
Контраст с нынешними протестами наших крайних индивидуалистов — разительный. Эти чуть не обоготворяют свое «я», отрицают всякую мораль, жаждут только «оргиастических» ощущений и наитий. А те свое «я» приносили в жертву идее даже и тогда, когда ратовали за полную свободу своей личности и не хотели ничего признавать, что считали неподходящим для себя. В их нигилизме сидел даже аскетический элемент, и все их «эксцессы», в смысле чувственных наслаждений, сводились к таким вольностям, которые теперешним оргиастам мистического толка и всяких других толков показались бы детскими забавами.
Затевались, правда, разные коммунистические общежития, на брак и сожительство стали смотреть по-своему, стояли за все виды свободы, но и в этой сфере чувств, понятий и правил тогда и слыхом не слыхать было об умышленном цинизме, о порнографии, о желании вводить в литературу разнузданность воинствующего эротизма.
Правда, в печать тогдашняя цензура ничего такого и не пустила бы, но ведь цензура в 40-х годах и в начале 50-х годов была еще строже; а это не мешало «отцам» любить скоромное в непечатной литературе стишков, анекдотов, целых поэм.
Такая целомудренность — и при нигилистических протестах против закрепощения мужчин и женщин в прежнем браке — прямое доказательство того, что все тогда было проникнуто серьезным служением «делу» и высшими задачами прогресса, и шабаш теперешнего эротизма был бы немыслим.
Какую же вся эта интенсивная жизнь тогдашнего центра русского движения вызвала во мне, посвятившем себя бесповоротно писательскому поприщу, дальнейшую «эволюцию»?
Драматическим писателем я уже приехал в Петербург и в первый же год сделался фельетонистом. Но я не приступал до конца 1861 года ни к какой серьезной работе в повествовательном роде.
В Казани и Дерпте я пробовал себя как автор рассказов. В Дерпте, в нашей русской корпорации, мой юмористический рассказ «Званые блины» произвел даже сенсацию; но доказательством, что я себя не возомнил тогда же беллетристом, является то, что я целых три года не написал ни одной строки, и первый мой более серьезный опыт была комедия в 1858 году. Тогда драматическая форма привлекала меня настолько сильно, что я с того времени стал мечтать о литературном «призвании», и литература одолела чистую науку, которой я считал себя до того преданным.
Какой контраст с тем, что мы видим (в последние 20 лет в особенности) в карьере наших беллетристов. Все они начинают с рассказов и одними рассказами создают себе громкое имя. Так было с Глебом Успенским, а в особенности с Чеховым, с Горьким и с авторами следующих поколений: Андреевым, Куприным, Арцыбашевым.
А тут вот что вышло с молодым писателем после одного столичного сезона.
В нем «спонтанно» (выражаясь научно-философским термином) зародилась мысль написать большой роман, где бы была рассказана история этического и умственного развития русского юноши, — с годов гимназии и проведя его через два университета — один чисто русский, другой — с немецким языком и культурой.
И вот он берет десть бумаги и на первом листе пишет:
В путь-дорогу.
Роман в шести книгах.
Почему в шести? Потому, что на каждый период: гимназия — Казань — Дерпт — надо было дать по крайней мере около двадцати печатных листов.
Такой замысел смутил бы теперь даже и не начинающего. Роман в шестьдесят печатных листов! И с надеждой, почти с уверенностью, что я его доведу до конца, что его непременно напечатают.
Тогда это не было так фантастично. Журналы любили печатать большие романы, и публика их всегда ждала.
Но все-таки замысел был смелый до дерзости. И в те месяцы (с января 1861 года до осени) я не попробовал себя ни в одном, хотя бы маленьком, рассказе — даже в фельетонном жанре, ни в «Библиотеке», ни у П. И. Вейнберга в «Веке».
И такая большущая «махинища» была действительно «пробой пера» начинающего романиста.
В рассказчики я попал уже гораздо позднее (первые мои рассказы были «Фараончики» и «Посестрие» — 1866 и 1871 годы) и написал за тридцать лет до ста и более рассказов. Но это уже было после продолжительных работ, после больших и даже очень больших вещей.
В тогдашней литературе романов не было ни одной вещи в таком точно роде. Ее замысел я мог считать совершенно самобытным. Никому я не подражал. Теперь я бы не затруднился сознаться в этом. Не помню, чтобы прототип такой «истории развития» молодого человека, ищущего высшей культуры, то есть «Ученические годы Вильгельма Мейстера» Гете, носился предо мною.
В Дерпте я больше любил Шиллера и романистом Гете заинтересовался уже десятки лет спустя, особенно когда готовил свою книгу «Европейский роман в XIX столетии».
Конечно, я и тогда имел понятие о Вильгельме Мейстере, но, повторяю, этот прототип не носился предо мною.
Здесь будет кстати задать вопрос первой важности: чье влияние всего больше отлиняло на мне как писателе по содержанию, тону, настроению, языку?
В нашей критике вопрос этот вообще до сих пор недостаточно обработан, и только в самое последнее время в этюдах по истории нашей словесности начали появляться более точные исследования на эту тему.
Меня самого — на протяжении целых сорока с лишком лет моей работы романиста — интересовал вопрос: кто из иностранных и русских писателей всего больше повлиял на меня как на писателя в повествовательной форме; а романист с годами отставил во мне драматурга на второй план. Для сцены я переставал писать подолгу, начиная с конца 60-х годов вплоть до-80-х.
В моих «Итогах писателя», где находится моя авторская исповедь (они появятся после меня), я останавливаюсь на этом подробнее, но и здесь не могу не подвести таких же итогов по этому вопросу, важнейшему в истории развития всякого самобытного писателя: чистый ли он художник или романист с общественными тенденциями.
Всего лишь один раз во все мое писательство (уже к началу XX века) обратился ко мне с вопросными пунктами из Парижа известный переводчик с русского Гальперин-Каминский. Он тогда задумывал большой этюд (по поводу пятидесятилетней годовщины по смерти Гоголя), где хотел критически обозреть все главные этапы русской художественной прозы, языка, мастерства формы — от Гоголя и до Чехова включительно.
На вопрос: кого из молодых считаю я беллетристом, у которого чувствуется в манере письма мое влияние, — я ответил, что мне самому трудно это решить. На вопрос же: чрез какие влияния я сам прошел, — ответить легче; но и тут субъективная оценка не может быть безусловно верна, даже если писатель и совершенно спокойно и строго относится к своему авторскому «я».
О моей писательской манере, о том, что французы стали называть художественным почерком, начали говорить в рецензиях только в 80-е годы, находя, что я стал будто бы подражать французским натуралистам, особенно Золя.
Испытание самому себе я произвел тогда же, и для этого взял как раз «В путь-дорогу» (это было к 1884 году, когда я просматривал роман для «Собрания» Вольфа) и мог уже вполне объективно судить, что за манера была у меня в моем самом первом повествовательном произведении.
Роману тогда минуло уже ровно двадцать лет, так как он писался и печатался в 1861–1864 годах.
И что же?
С первых строк первой главы я имел перед собою свой язык с своим ритмом, выбором слов и манерой описаний, диалогов, характеристик.
Ни Золя, ни его сверстниками тут и не «пахло». Я их, по появлению в литературе, был старше на много лет, и когда Золя и Доде (и даже братья Гонкур) стали известны у нас, «В путь-дорогу» давно уже печатался.
Но все это относится к тем годам, когда я был уже двадцать лет романистом. А речь идет у нас в настоящую минуту о том, под каким влиянием начал я писать, если не как драматург, то как романист в 1861 году?
Гимназистом и студентом я немало читал беллетристики; но никогда не пристращался к какому-нибудь одному писателю, а так как я до 22 лет не мечтал сам пойти по писательской дороге, то никогда и не изучал ни одного романиста, каковой образец. Студентом (особенно в Дерпте, до 1857 года) я вообще мало читал беллетристики — я был слишком увлечен точной наукой. Моя тогдашняя начитанность по изящной литературе была по другим отделам ее: Шиллер, Гете («Фауст»), Гейне и Шекспир. Романы, главным образом французские, читал я всегда у отца в усадьбе на летних вакациях. Но никто из французских романистов, даже и Бальзак и Жорж Занд, не делался «властителем моих дум», никто из них не доставлял мне такого духовного удовлетворения и так не волновал меня, как с половины 50-х годов наши беллетристы, а раньше, в годы отрочества и первой юности — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Кольцов и позднее Островский.
Конечно, в том кризисе, который произошел во мне в Дерпте, наша беллетристика дала самый сильный импульс. Но это все-таки не то, что прямое влияние одного какого-нибудь писателя, своего или иностранного.
Даже английские романисты, как Диккенс и Теккерей, которыми у нас зачитывались (начиная с 40-х годов), не оставили на мне налета, когда я сделался романистом, ни по замыслам, ни по тону, ни по манере. Это легко проследить и фактически доказать.
Думаю, что Тургенев за целое десятилетие 1852–1862 годов был моим писателем более Гончарова, Григоровича (он мне одно время нравился), Достоевского и Писемского, который всегда меня сильно интересовал. Но опять-таки тургеневский склад повествования, его тон и приемы не изучались мною «нарочито», с определенным намерением достичь того же, более или менее.
Я еще не мечтал о повествовательной беллетристике даже и тогда, когда очутился опять в Петербурге по возвращении из деревни. Это случилось как бы неожиданно для меня самого.
Но влияние может быть и скрытое. Тургенев незадолго до смерти писал (кажется, П. И. Вейнбергу), что он никогда не любил Бальзака и почти совсем не читал его. А ведь это не помешало ему быть реальным писателем, действовать в области того романа, которому Бальзак еще с 30-х годов дал такое развитие.
Может быть, в романе «В путь-дорогу» найдутся некоторые ноты в тургеневском духе, и некоторые «тирады» я в 1884 году уничтожил, но вся эта вещь имеет свой пошиб.
Еще менее повлияли на меня и тогда и позднее — манера, тон и язык Гончарова или Достоевского. Автора «Мертвого дома» я стал читать как следует только в Петербурге и могу откровенно сказать, что весь пошиб его писательства меня не только не захватывал, но и не давал мне никакого чисто эстетического удовлетворения.
Моя писательская дорога сложилась так, что я, с первых же шагов и впоследствии, непрерывно и неизменно стоял один, без всяких руководителей, без какого-либо литературного патрона, без дружеских или кружковых влияний, ни в идейном, ни в чисто художественном смысле.
Когда я приехал в Петербург, мои обе пьесы были уже приняты и напечатаны. Писемский никогда не руководил мною, не давал мне никаких советов и указаний. Я не попал ни в какой тесный кружок сверстников, где бы кто-нибудь сделался моим не то что уже советником, а даже слушателем и читателем моих рукописей.
Не могу сказать, чтобы меня не замечали и не давали мне ходу. Но заниматься мною особенно было некому, и у меня в характере нашлось слишком много если не гордости или чрезмерного самолюбия, то просто чувства меры и такта, чтобы являться как бы «клиентом» какой-нибудь знаменитости, добиваться ее покровительства или читать ей свои вещи, чтобы получать от нее выгодные для себя советы и замечания.
Да если бы я и хотел этого (а такого желания у меня решительно не было), то мне и некогда было бы в такой короткий срок (от января до октября 1861 года) при тогдашней моей бойкой и разнообразной жизни устроить себе такой патронат.
Может показаться даже маловероятным, что я, написав несколько глав первой части, повез их к редактору «Библиотеки», предлагая ему роман к январской книжке 1862 года и не скрывая того, что в первый год могут быть готовы только две части. Тогда редакторы были куда покладливее и принимали большие вещи по одной части. Так я печатал в 1871–1873 годах и «Дельцы» у Некрасова. Но с конца 1873 года я в «Вестнике Европы» прошел в течение 30 лет другую школу, и ни одна моя вещь не попадала в редакцию иначе, как целиком, просмотренная и приготовленная к печати, хотя бы в ней было до 35 листов, как, например, в романе «Василий Теркин».
Замысел романа «В путь-дорогу» явился как бы непроизвольным желанием молодого писателя произвести себе «самоиспытание», перед тем как всецело отдать себя своему «призванию».
За два с лишком года, как я писал роман, он давал мне повод и возможность оценить всю свою житейскую и учебную выучку, видеть, куда я сам шел и непроизвольно и вполне сознательно. И вместе с этим передо мною самим развертывалась картина русской культурной жизни с эпохи «николаевщины» до новой эры.
То, что я взял героем молодого человека, рожденного и воспитанного в дворянской семье, но прошедшего все ступени ученья в общедоступных заведениях, в гимназии и в двух университетах, было, по-моему, чрезвычайно выгодно. Для культурной России того десятилетия — это было центральное течение.
В нашей беллетристике до конца XIX века роман «В путь-дорогу», по своей программе, бытописательному и интеллигентному содержанию, оставался единственным. Появились в разное время вещи из жизни нашей молодежи, но все это отрывочно, эпизодично.
Но таких «Годов ученья» не появлялось. Только Гарин (Михайловский) напечатал роман «Студенты»; но в нем действуют воспитанники инженерного института, а не университетские студенты. Истории же гимназиста и картины двух университетов — не имеется и до сих пор.
В какой степени «В путь-дорогу» автобиографический роман? Когда я вспоминал свое отрочество и юность, вплоть до вступления на писательское поприще, — я уже оговаривался на этот счет.
Весь быт в губернском городе, где родился, воспитывался и учился Телепнев, а потом в Казани и Дерпте, — все это взято из действительности. Лица — на две трети — также; начальство и учителя гимназии, профессора и товарищи — почти целиком.
Но Телепнева нельзя отождествлять с автором. У меня не было его романической истории в гимназии, ни романа с казанской барыней, и только дерптская влюбленность в молодую девушку дана жизнью. Все остальное создано моим воображением, не говоря уже о том, что я, студентом, не был богатым человеком, а жил на весьма скромное содержание и с 1856 года стал уже зарабатывать научными переводами.
Умственная и этическая эволюция Телепнева похожа и на мою, но не совпадает с нею. В нем последний кризис, по окончании курса в Дерпте, потянул его к земской работе, а во мне началась борьба между научной дорогой и писательством уже за два года до отъезда из Дерпта.
Как я сказал выше, редактор «Библиотеки» взял роман по нескольким главам, и он начал печататься с января 1862 года. Первые две части тянулись весь этот год. Я писал его по кускам в несколько глав, всю зиму и весну, до отъезда в Нижний и в деревню; продолжал работу и у себя на хуторе, продолжал ее опять и в Петербурге и довел до конца вторую часть. Но в январе 1863 года у меня еще не было почти ничего готово из третьей книги — как я называл тогда части моего романа.
Конечно, такая работа позднее меня самого бы не удовлетворяла. Так делалось по молодости и уверенности в своих силах. Не было достаточного спокойствия и постоянного досуга при той бойкой жизни, какую я вел в городе. В деревне я писал с большим «проникновением», что, вероятно, и отражалось на некоторых местах, где нужно было творческое настроение.
Об «успехе» первых двух частей романа я как-то мало заботился. Если и появлялись заметки в газетах, то вряд ли особенно благоприятные. «Однодворец» нашел в печати лучший прием, а также и «Ребенок». Писемский, по-видимому, оставался доволен романом, а из писателей постарше меня помню разговор с Алексеем Потехиным, когда мы возвращались с ним откуда-то вместе. Он искренно поздравлял меня, но сделал несколько дельных замечаний.
В «Отечественных записках», уже к следующему, 1863 году, появилась очень талантливо написанная рецензия, где самого Телепнева охарактеризовали как «чувствительного эгоиста», но к автору отнеслись с большим сочувствием и полным признанием.
Эта рецензия появилась под каким-то псевдонимом. Я узнал от одного приятеля сыновей Краевского (тогда еще издателя «Отечественных записок»), что за псевдонимом этим скрывается Н. Д. Хвощинская (В. Крестовский — псевдоним). Я написал ей письмо, и у нас завязалась переписка, еще до личного знакомства в Петербурге, когда я уже сделался редактором-издателем «Библиотеки» и она стала моей сотрудницей.
Я не принадлежал тогда к какому-нибудь большому кружку, и мне нелегко было бы видеть, как молодежь принимает мой роман. Только впоследствии, на протяжении всей моей писательской дороги вплоть до вчерашнего дня, я много раз убеждался в том, что «В путь-дорогу» делалась любимой книгой учащейся молодежи. Знакомясь с кем-нибудь из интеллигенции лет пятнадцать — двадцать назад, я знал вперед, что они прошли через «В путь-дорогу», и, кажется, до сих пор есть читатели, считающие даже этот роман моей лучшей вещью.
Я был удивлен (не дальше как в 1907 году, в Москве), когда один из нынешних беллетристов, самой новой формации, приехавший ставить свою пьесу из еврейского быта, пришел ко мне в номер «Лоскутной» гостиницы и стал мне изливаться — как он любил мой роман, когда учился в гимназии.
Теперь «В путь-дорогу» в продаже не найдешь. Экземпляры вольфовского издания или проданы, или сгорели в складах. Первое отдельное издание из «Библиотеки» в 1864 году давно разошлось. Многие мои приятели и знакомые упрекали меня за то, что я не забочусь о новом издании… Меня смущает то, что роман так велик: из всех моих вещей — самый обширный; в нем до 64 печатных листов.
Он был еще до 70-х годов издан по-немецки в Германии, в извлечении, но я никогда не держал в руках этого перевода; знаю только, что он был сделан петербуржцем, который должен был удалиться за границу.
Четыре остальные книги писались в 1863 и 1864 годах — уже среди редакционных и издательских хлопот и мытарств, о чем я расскажу в следующей главе.
Могло, однако, случиться так, что я не только не завяз бы в самую гущу журнального дела, но, быть может, надолго бы променял жизнь петербургского литератора на жизнь в провинции.
Часть лета 1862 года я провел в имении. Крестьяне мои уперлись насчет большого надела, и возня с ними взяла много времени. Мой товарищ З-ч оставался у меня на хуторе с приказчиком. Мне за вычетом крестьянского надела приходилась с лишком тысяча десятин земли, в том числе лес-заказник; все это чистое от банковского долга. Хозяйничать было бы можно, если б во мне билась «хозяйственная жилка». А пока имение приносило кое-какой доход, который шел «между пальцев», и жил я почти исключительно на свой писательский заработок.
В деревне я отдохнул от Петербурга, там хорошо писалось, но не тянуло устраиваться там самому, делаться «земским» человеком, как захотел мой Телепнев, когда уезжал из Дерпта.
Я испытал на себе ту особенную «тягу», которую писательство производит на некоторые интеллектуально-эмоциональные натуры, к которым и я себя причисляю.
«Народника», в тогдашнем смысле, во мне не сидело; а служба посредником или кем-нибудь по выборам также меня не прельщала. Моих соседей я нашел все такими же. Их жизнь я не прочь был наблюдать, но слиться с ними в общих интересах, вкусах и настроениях не мог.
Наследство мое становилось мне скорее в тягость. И тогда, то есть во всю вторую половину 1862 года, я еще не рассчитывал на доход с имения или от продажи земли с лесом для какого-нибудь литературного дела. Мысль о том, чтобы купить «Библиотеку», не приходила мне серьезно, хотя Писемский, задумавший уже переходить в Москву в «Русский вестник», приговаривал не раз:
— Что бы вам, Боборыкин, не взять журнала?! Вы в нем — видный сотрудник, у вас есть и состояние, вы молоды, холосты… Право!..
Но тогда я еще на это не поддавался.
Зимой в 1863 году поехал я на свидание с моей матерью и пожил при ней некоторое время. В Нижнем жила и моя сестра с мужем. Я вошел в тогдашнее нижегородское общество. И там театральное любительство уже процветало. Меня стали просить ставить «Однодворца» и играть в нем. Я согласился и не только сыграл роль помещика, но и выступил в роли графа в одноактной комедии Тургенева «Провинциалка».
Жизнь с матушкой вызвала во мне желание поселиться около нее, и я стал тогда же мечтать устроиться в Нижнем, где было бы так хорошо писать, где я был бы ближе к земле, если не навсегда, то на продолжительный срок.
Мое желание я высказывал матушке несколько раз, но она, хоть и была им тронута, — боялась за меня, за то, как бы провинция не «затянула меня» и не отвлекла от того, что я имел уже право считать своим «призванием».
Я уехал в Москву и в Петербург по журнальным и театральным делам, но с определенным намерением вернуться еще той же зимой.
Было это, сколько помню, в конце января 1863 года, а через месяц я сделался уже собственником «Библиотеки для чтения».
Как могло это случиться?
Меня стали уговаривать Писемский и некоторые сотрудники, а издатель усиленно предлагал мне журнал на самых необременительных, как он уверял, условиях.
Литературная жилка задрожала. Мне и раньше хотелось какого-нибудь более прочного положения. Службу я — принципиально — устранял из своей карьеры. Журнал представился мне самым подходящим делом. По выкупу я должен был получить вскоре некоторую сумму и в случае надобности мог, хоть и за плохую цену, освободиться от своей земли.
Был и еще — тоже не новый уже для меня — мотив: моя влюбленность и мечта о женитьбе на девушке, отец которой, вероятно, желал бы видеть своего будущего зятя чем-нибудь более солидным, чем простым журнальным сотрудником.
Так я сделался, довольно-таки экспромтом, двадцати шести лет от роду, издателем-редактором толстого и старого журнала.
Глава седьмая
Издательство и редакторство «Библиотеки для чтения» (1863–1865 годы) — Ядро материальной неудачи — Разорение — Мои цензоры — Старые и новые сотрудники — Эдельсон — Щеглов и Воскобойников — Генслер, граф Салиас, князь А. И. Урусов, Лесков, Левитов, Глеб Успенский, Помяловский, П. Ткачев — Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов, П. Л. Лавров, А. Энгельгардт, графиня Е. В. Салиас (Евгения Тур), Н. Д. Хвощинская (В. Крестовский — псевдоним), сестра ее — «Весеньев», Марко Вовчок, Я. П. Полонский, Н. И. Костомаров, проф. Щапов — Встречи с Тургеневым, Григоровичем, Островским, Писемским, Плещеевым — Светские знакомства — Петербургские сезоны 1863–1865 годов — Работа беллетриста — Издательские тиски — Ликвидация журнала — Первая поездка за границу осенью 1865 года
«Библиотека для чтения» сыграла в моей жизни во всех смыслах роль того сосуда, в котором производится химическая сухая перегонка.
Если взять еще образ: мое редакционное издательство явилось пробным камнем для всего того, что во мне, как человеке, писателе, сыне своей земли, значилось более ценного и устойчивого.
Скажу без ложной скромности: не всякому из моих собратов — и сверстников, и людей позднейших генераций — выпал на долю такой искус, такой «шок», как нынче выражаются, и вряд ли многие выдержали бы его и — к концу своего писательского пятидесятилетия — стояли бы по-прежнему «на бреши» все такими же работниками пера.
Помню, на одном чествовании, за обедом, который мне давали мои собраты, приятели и близкие знакомые, покойный князь А. И. Урусов сказал блестящий и остроумный спич: «Петра Дмитриевича его материальное разорение закалило, как никого другого. Из барского «дитяти», увлекшегося литературой, он сделался настоящим писателем и вот уже не один десяток лет служит литературе».
Такова была его тема, которую он развил не только как прекрасный оратор, но и как человек, который с 1863 года сошелся со мною, сделавшись, еще студентом, сотрудником «Библиотеки для чтения».
В начале 1863 года, приехав к матушке моей в Нижний, я вовсе еще не собирался приобретать журнал, хотя Писемский и сам издатель Печаткин склоняли меня к этому.
Сделаться собственником и главным редактором большого литературного органа — в этом было все-таки и для меня много привлекательного.
Что я был еще молод — не могло меня удерживать. Я уже более двух лет как печатался, был автором пьес и романа, фельетонистом и наблюдателем столичной жизни. Издание журнала давало более солидное положение, а о возможности неудачи я недостаточно думал. Меня не смущало и то, что я — по тогдашнему моему общественно-политическому настроению — не имел еще в себе задатков руководителя органа с направлением, которое тогда гарантировало бы успех.
Одно могу утверждать: денежные расчеты ни малейшим образом не входили в это. У меня было состояние, на которое я прожил бы безбедно, особенно с прибавкой того, что я начал уже зарабатывать. Но я, конечно, не думал, что журнал поведет к потере всего, что у меня было как у землевладельца.
Живя у матушки моей, еще в январе 1863 года, я предлагал ей поселиться в Нижнем. Тогда сестра моя оставалась подолгу в деревне с своим мужем, и мне искренно хотелось остаться на неопределенное время при моей старушке.
Ей это предложение не могло не прийтись по душе; но она увидала в нем слишком большую жертву для меня как писателя, который вместо столичной жизни обрек бы себя на житье в провинции. Если б она предвидела, что принесет мне издательство «Библиотеки для чтения», она, разумеется, не стала бы меня отговаривать.
И я вернулся в Петербург, а к половине февраля уже подписал контракт с издателем «Библиотеки» и вступил фактически в заведование и хозяйством и редакцией журнала.
У меня не сохранилось никаких записей, где бы я отмечал ход переговоров, где я мог бы найти теперь тот решающий факт, который подтолкнул меня слишком скоро к такому шагу.
Кажется, я получил в Нижнем письмо (но от кого — тоже не помню), где мне представляли это дело как самое подходящее для меня — во всех смыслах. Верно и то, что я рассчитывал получить выкупную ссуду раньше того, как она была мне выдана, соображая, что такую сумму я, во всяком случае, должен буду употребить целиком на журнал.
Ничто меня не заставляло решиться на такой шаг. И никто решительно не отсоветовал. Напротив, Писемский и те, кто ближе стояли к журналу, не говоря уже о самом издателе, выставляли мне дело весьма для меня если не соблазнительным, то выполнимым и отвечающим моему положению как молодого писателя, так преданного интересам литературы и журнализма.
Не хочу никого ни обвинять без основания, ни в чем-либо умышленном подозревать. Вряд ли кто из моих собратов, начиная с тогдашнего редактора «Библиотеки», знал подлинную правду о состоянии подписки журнала к февралю 1863 года, не исключая и самого Писемского. А издатель представил мне дело так, что журнал имел с лишком тысячу подписчиков (что-то около 1300 экземпляров), что по тогдашнему времени было еще неплохо, давал мне смотреть подписную книгу, в которой все было в порядке, предлагал необременительные условия.
Разумеется, будь другой на моем месте — он бы произвел настоящую анкету и прежде всего навел бы справку в газетной экспедиции о числе экземпляров и подверг бы самую эту подписную книгу более тщательному осмотру.
И ничего этого я не знал, потому что был слишком «барское дитя», хотя и прошедшее долгую выучку студенческого учения. Доверчивость и вообще-то в моей натуре, а тут все-таки было многое заманчивое в перспективе сделаться хозяином «толстого журнала», как тогда выражались. Входила сюда, конечно, и известная доля тщеславия — довольно, впрочем, понятного и извинительного.
Издатель предложил: до осени платить мне ежемесячно определенную сумму. Стало быть, я не обязан был сейчас же выкладывать капитал. И по типографии я мог сразу пользоваться кредитом. А со второго года издания я обязан был выплачивать род аренды на известный срок. В случае нарушения с моей стороны контракта я должен был заплатить неустойку в десять тысяч рублей.
Контракт этот я составлял сам. Хотя и носил звание «кандидата» и приобрел его на юридическом факультете, но впоследствии оказалось, что вся петля была на мне, и я ничего не мог бы добиться, если бы и доказал, что число подписчиков было гораздо меньше, чем то, в котором меня уверили.
Через год, когда подписка 1864 года, в сущности, увеличилась на несколько сот (на что я и рассчитывал), цифра была все такая же, какую я номинально принял годом раньше.
Тогда только я через посредство одного помощника присяжного поверенного обратился к знаменитому адвокату С-му, возил ему вещественное доказательство, то есть подписную книгу (после того как с великим трудом добыл ее) и контракт, и он мне категорически заявил, что я процесса бы не выиграл, если б начал дело, и с меня все-таки присудили бы неустойку в десять тысяч рублей.
А проект контракта я никакому юристу не показывал, да у меня тогда и не было никаких связей с деловым миром. Кажется, я не был еще знаком лично ни с одним известным адвокатом.
Эта роковая неустойка и была главной причиной того, что я был затянут в издательство «Библиотеки» и не имел настолько практического навыка и расчета, чтобы пойти на ее уплату, прекратив издание раньше, например, к концу 1864 года. Но и тогда было бы уже поздно.
Выходило, однако ж, так, что, будь цифра, якобы переданная мне при заключении контракта, и в действительности такая, я бы мог, по всей вероятности, повести дела не блестяще, но сводя концы с концами, особенно если б, выждав время, продал выгодно свою землю.
Каждый, читающий это, вправе сказать; «Да как же было не знать подлинной цифры подписчиков (даже и с даровыми экземплярами) с первого же месяца своего издательства?»
Очень просто: контора журнала была при магазине, принадлежавшем бывшему хозяину, и вся подписка шла в его карман до конца года; следовательно, у меня не было фактической возможности ничего проверить.
И фантастическая основа моего расчета выведена была на чистую воду уже слишком поздно, когда надо мной висела петля неустойки.
Я нарочно забегу здесь вперед, чтобы покончить с историей моего злополучного издательства и всего того, что оно за собою повело для меня по своим материальным последствиям.
Даже и в денежном смысле пустился я слишком налегке. Надо было, во всяком случае, приготовить свой, хотя бы небольшой, капитал. На тысячерублевую выдачу, которую производил мне бывший издатель, трудно было вести дело так, чтобы сразу поднять его. Приходилось ограничивать расходы средними гонорарами и не отягчать бюджета излишними окладами постоянным сотрудникам.
Но как бы ни велось хозяйство, в основе его лежал фиктивный расчет, и невыгодность контракта с крупной неустойкой заранее парализовала дело.
Оно шло еще без особых тисков и денежных треволнений до начала 1864 года и дальше, до половины его. Но тогда уже выкупная ссуда была вся истрачена и пришлось прибегать к частным займам, а в августе 1864 года я должен был заложить в Нижегородском Александровском дворянском банке всю землю за ничтожную сумму в пятнадцать тысяч рублей, и все имение с торгов пошло за что-то вроде девятнадцати тысяч уже позднее.
Долги росли — и процентщикам, и тем, кто давал мне взаймы, желая поддержать меня, и за типографскую работу, и за бумагу.
История, слишком хорошо знакомая всем, кто надевал на себя ярмо издателя журнала или газеты.
Теперь, в начале XX века, каждая газета поглощает суммы в несколько раз большие и в такие же короткие сроки. Мое издательство продолжалось всего два года и три месяца, до весны 1865 года, когда пришлось остановить печатание «Библиотеки».
Познал я тогда, в последние полгода, через какое пекло финансовых затруднений, хлопот, страхов должен проходить каждый, когда дело обречено на погибель и нет ни крупного кредита, ни умения найти вовремя денежного компаньона, когда контракт затягивает вас вроде как в азартной игре.
Как бы я строго теперь ни относился сам к тому, как велось дело при моем издательстве, но я все-таки должен сказать, что никаких не только безумных, но и вообще слишком широких трат за все эти двадцать восемь месяцев не производилось. Я взял очень скромную квартиру (в Малой Итальянской — теперь улица Жуковского, дом графа Салтыкова), в четыре комнаты с кухней, так же скромно отделал ее и для себя и для редакции, дома стола не держал, прислуга состояла из того же верного слуги Михаила Мемнонова и его племянника Миши, выписанного из деревни. Единственный экстренный расход состоял в найме помесячного извозчика — да и то в первый только год. Вряд ли я проживал много больше того, что получал бы как постоянный сотрудник и редактор. Думаю, что мои личные расходы (вызванные на одну треть жизнью хозяина толстого журнала) едва ли превышали четыре, много пять тысяч в год.
Когда денежные тиски сделались все несноснее и «не давали мне времени писать, я сдал всю хозяйственную часть на руки моего постоянного сотрудника Воскобойникова, о роли которого в журнале буду говорить дальше. А теперь кратко набросаю дальнейшие перипетии моей материальной незадачи.
Когда сделалось ясно, в первой же трети 1865 года, что нельзя дойти и до второй половины года, я решился ликвидировать. Были сделаны попытки удовлетворить подписчиков каким-нибудь другим журналом. Но тогда не к кому было и обратиться в Петербурге, кроме «Отечественных записок» Краевского. Перед тем мы в 1864 году вошли в такое именно соглашение с Ф. Достоевским, когда его журнал должен был прекратить свое существование. Но нам это не удалось. Обращался я, уже позднее, к издателю «Русского вестника» в Москве, но и это почему-то не состоялось.
Пришлось расплачиваться за все и со всеми — и с денежными заимодавцами, и с моим контрагентом, и по типографии, и по бумаге, и с сотрудниками, и с подписчиками — моими личными ресурсами.
Тогда именье мое еще не было продано, и на нем лежал незначительный долг, и только по тогдашнему отсутствию цен оно пошло окончательно за бесценок.
Мне оставалось предложить всем моим кредиторам — взять это имение. Но и эта комбинация не осуществилась, несмотря на то что я печатно обратился к ним и к публике с особенным заявлением, которое появилось в «Московских ведомостях», как органе всего более подходящем для такой публикации.
Измученный всеми этими мытарствами, я дал доверенность на заведование моими делами и на самые небольшие деньги, взятые в долг у одной родственницы, уехал за границу в сентябре 1865 года, где и пробыл до мая 1866 года.
Тогда я и предложил заимодавцам воспользоваться моим имением, которое продано еще не было. И вот, со второй половины 1865 вплоть до 1886, стало быть свыше двадцати лет, я должен был нести обузу долгов, которые составили сумму больше чем тридцать тысяч рублей. По всем взысканиям, какие на меня поступили в разное время, я платил, вплоть до тех гонораров, на которые были выдаваемы долговые документы. Со стороны подписчиков были также представляемы отдельные претензии, но какого-либо общего протеста в печати я не помню.
С 1867 года, когда я опять наладил мою работу как беллетриста и заграничного корреспондента, часть моего заработка уходила постоянно на уплату долгов. Так шло и по возвращении моем в Россию в 1871 году и во время нового житья за границей, где я был очень болен, и больной все-таки усиленно работал.
Бывали минуты, когда я терял надежду сбросить с себя когда-либо бремя долговых обязательств. Списывался я с юристами, и один из них, В. Д. Спасович, изучив мое положение, склонялся к тому выводу, что лучше было бы мне объявить себя несостоятельным должником, причем я, конечно, не мог быть объявлен иначе как «неосторожным». Но я не согласился, и как мне ни было тяжело — больному и уже тогда женатому, я продолжал тянуть свою лямку.
В 1873 году скончался мой отец. От него я получил в наследство имение, которое — опять по вине «Библиотеки» — продал. По крайней мере две трети этого наследства пошли на уплату долгов, а остальное я по годам выплачивал вплоть до 1886 года, когда наконец у меня не осталось ни единой копейки долгу, и с тех пор я не делал его ни на полушку.
Расплата с главным виновником моего злосчастного предприятия произошла в мое отсутствие через одного доброго знакомого, покойного Е. Рагозина. Уступки сделал мой главный заимодавец весьма малые. Давность контракту еще не вышла. Даже, сколько я помню (и хотел бы ошибиться), по одному и тому же документу пришлось мне, уже лично, по приезде в Петербург в 1875 году заплатить два раза. И мой кредитор не захотел и тут сделать уступку, хотя и знал, что этот долг был уже уплачен, и я тут сделался жертвой одной только оплошности.
Вот какое искупление пережил я за издательство, продолжавшееся всего два года с четвертью.
Если я легкомысленно пустился на этой «галере» в широкое море, то и был примерно наказан. И отец мой был вправе попенять мне за то, что он еще в 1862 году предлагал мне на выкупную ссуду поднять его хозяйство и вести его сообща. Мать моя не отговаривала меня, не желая обрезывать мне крылья, и даже не хотела, чтобы я оставался при ней в провинции.
Кроме денежных средств, важно было и то, с какими силами собрался я поднимать старый журнал, который и под редакцией таких известных писателей, как Дружинин и Писемский, не привлекал к себе большой публики. Дружинин был известный критик, а Писемский — крупный беллетрист. За время их редакторства в журнале были напечатаны, кроме их статей, повестей и рассказов, и такие вещи, как «Три смерти» Толстого, «Первая любовь» Тургенева, сцены Щедрина и «Горькая судьбина» Писемского.
Но направление журнала — недостаточно радикальное, его старая форма, напоминавшая барона Брамбеуса, — не привлекало молодежи.
На большой карикатуре, где изображен был весь тогдашний петербургский журнализм, меня нарисовали юным рыцарем, который поднимает упавшего коня: «Библиотеку для чтения».
Вот эта старость журнала и должна бы была воздержать меня. А к тому же решился я слишком быстро, и тогда, когда Новый год уже прошел и подписка выяснилась.
Не мог я, разумеется, и подготовить новый персонал сотрудников. По необходимости я должен был ограничиться тем, что состояло уже при редакции и в «портфелях» редакции.
В портфелях я не нашел ничего сколько-нибудь выдающегося, а один рассказ навлек на меня вскоре (по выходе апрельского номера) обличение: оказалось, что автор переделал какой-то французский рассказ на русские нравы и выдал свою вещицу за оригинальную.
Писемский перешел в Москву к Каткову в «Русский вестник» и вскоре уехал из Петербурга. В качестве литературного критика он отрекомендовал мне москвича, своего приятеля Е. Н. Эдельсона, считавшегося знатоком художественной литературы. Он перевел «Лаокоона» Лессинга и долго писал в московских журналах и газетах о беллетристике и театре.
Я и раньше встречал его у Писемского.
Он мне нравился своим тоном, верностью своих оценок, большой порядочностью. Тогда я еще не знал, что он подвержен периодическому алкоголизму. Но я никогда не видал его в нетрезвом виде. И никто бы не подумал, что он страдает запоем, — до такой степени он выделялся своим джентльменством и даже некоторой щепетильностью манер.
Мы условились, что он будет получать сверх полистной платы ежемесячное содержание и поведет отдел критики.
Отношения у нас установились деловые, а не товарищеские. Он был гораздо старше меня летами, да и вообще не склонен был к скорому товарищескому сближению, и только со своими москвичами — «кутилами-мучениками», как Якушкин и Ап. Григорьев, водил дружбу и был с ними на «ты».
Влиять я на него не мог: он слишком держался своих взглядов и оценок. «Заказывать» ему статьи было нельзя по той же причине. Работал он медленно, никогда вперед ничего не сообщал о выборе того, о чем будет писать, и о программе своей статьи. Вот почему он не к каждой книжке приготовлял статьи на чисто литературные темы.
В числе его первых этюдов была рецензия «Казаков» Толстого. И в ней он выказал свое чутье, вкус, понимание того, что это была за вещь как художественное произведение.
А не нужно забывать, что «Казаки» не вызвали в петербургской радикальной критике энтузиазма и даже просто таких оценок, каких они заслуживали. На них посматривали как на что-то почти реакционное, так как автор восторгался дикими нравами своих казаков и этим самым как бы восставал против интеллигенции и культуры.
Эдельсон был очень серьезный, начитанный и чуткий литературный критик, и явись он в настоящее время, никто бы ему не поставил в вину его направления. Но он вовсе не замыкался в область одной эстетики. По университетскому образованию он имел сведения и по естественным наукам, и по вопросам политическим, и некоторые его статьи, написанные, как всегда, по собственной инициативе, касались разных вопросов, далеких от чисто эстетической сферы.
Он переехал на житье в Петербург, давно обзаведясь семьей, и оставался членом редакции журнала вплоть до самого конца.
Когда к 1864 году он узнал, в каких денежных тисках находилось уже издание, он пришел ко мне и предложил мне сделать у него заем в виде акций какой-то железной дороги. И все это он сделал очень просто, как хороший человек, с соблюдением все того же неизменного джентльменства.
Долг этот был рассрочен на много лет, и я его выплачивал его семейству, когда его уже не было на свете. Со второй половины 1865 года я его уже не видал. Смерть его ускорил, вероятно, тот русский недуг, которым он страдал.
Когда-нибудь и эта скромная литературная личность будет оценена. По своей подготовке, уму и вкусу он был уже никак не ниже тогдашних своих собратов по критике (не исключая и критиков «Современника», «Эпохи» и «Русского слова»). Но в нем не оказалось ничего боевого, блестящего, задорного, ничего такого, что можно бы было противопоставить такому идолу тогдашней молодежи, как Писарев.
И журналу он придавал слишком серьезный, спокойный, резонерский тон.
В «Библиотеке для чтения» при Писемском присяжным критиком считался Еф. Зарин. И его я получил вместе с журналом. Но я ему не предложил литературно-критического отдела. Он писал по публицистике, по тогдашним злобам дня. У него завязалась перед тем полемика с Чернышевским. Это тоже не могло поднимать престиж журнала у молодой публики. И его «направление» не носило на себе достаточно яркой окраски. Да и сама личность отзывалась, когда я к нему стал присматриваться, чем-то не тогдашним, не Петербургом и Москвой 60-х годов, а смесью некоторого либерализма с недостаточным пониманием того, к чему льнуло тогда передовое русское общество.
Кажется, он происходил из духовного звания, воспитался и учился в провинции, в Пензе, вряд ли прошел через университет, держался особняком, совсем не был вхож в тогдашние бойкие журнальные кружки.
Через него я не мог бы расширить круг талантливых и смелых сотрудников.
Но он был хотя и кропотливый, но дельный работник. И если б не его, быть может, слишком высокое мнение о себе, он мог бы выработаться в хорошего публициста.
Его статья о проекте земских учреждений считалась замечательной, и он при мне в конторе «Библиотеки для чтения» сообщал с гордостью, что этой статьи потребовали пятнадцать оттисков в Государственный совет.
У нас с ним, сколько помню, не вышло никаких столкновений, но когда именно и куда он ушел из журнала — не могу точно определить. Знаю только то, что не встречался с ним ни до 70-х годов, ни позднее. И смерть его прошла для меня незамеченной. Если не ошибаюсь, молодой писатель с этой фамилией — его сын.
Во всяком случае, Еф. Зарин не участвовал в дальнейшей судьбе журнала. Но если б он стал в нем играть первенствующую роль, то вряд ли бы от этого дело пошло в гору.
С журналом получил я еще двух сотрудников, постоянно печатавшихся в «Библиотеке», — Щеглова и Воскобойникова.
Щеглов писал по разным вопросам и стал известным своими статьями о системах социалистов и коммунистов — разумеется, в духе буржуазной критики.
До того я с ним не встречался. Он мне не нравился всем своим видом и тоном. От него «отшибало» семинаристом, и его литературная бойкость была на подкладке гораздо больше личного задора и злобности, чем каких-либо прочных и двигательных принципов.
Я сразу почувствовал, что это — «не мой человек» и что его бойкость и некоторая начитанность идут в сторону, которая может вредить журналу, какой я хотел вести, то есть орган широко либеральный, хотя и без революционно-социалистического оттенка.
Щеглов служил преподавателем (кажется, истории) в одной из петербургских гимназий, и в нем была какая-то смесь «семинара» с учителем, каких я помнил еще из моих школьных годов.
Пока не было еще повода устранять его; но к концу года он уже не состоял ни в членах редакции, ни в постоянных сотрудниках.
И с ним, как и с Еф. Зариным, никакого резкого столкновения у меня не вышло. Мое внутреннее чутье подсказывало мне, что скорее рано, чем поздно, придется вступить с ним в борьбу и пререкания.
Самый тип такого господина говорил о том, что он должен в скором времени очутиться в чиновничьем стане, что и случилось. И по министерству народного просвещения он стал служить с отличием и, начав критикой С. Симона, Оуэна, Кабе и П. Леру, кончил благонамеренным и злобным консерватизмом ученого «чинуша» в каком-то комитете.
Его дальнейшая судьба меня ни малейше не интересовала.
По своему обличию, тону, манерам, жаргону он мог служить крайней противоположностью с Эдельсоном. Насколько первый был «хамоват», настолько второй — джентльмен, с неизменной корректностью тона, языка и манеры одеваться.
С Воскобойниковым у меня вышли, напротив, продолжительные сношения, и он, быть может и против воли, сделался участником той борьбы, которую «Библиотека» должна была вести с «равнодушием публики», употребляя знаменитую фразу, которою пустила редакция московского журнала «Атеней», когда прекращала свое существование.
В «Библиотеке» он выступал как полемист и в полемике с Чернышевским оказался не в авантаже. Как фельетонист, до моего редакторства, я говорил в шутливом тоне об этих полемических победах Чернышевского.
Воскобойников как будто водил приятельство с Щегловым, но заглазно любил пройтись насчет его язвительно. Как тип тогдашнего интеллигента, попавшего в журнализм, он представлял из себя довольно своеобразную фигуру.
По внешности имел он совершенно штатский вид, а незадолго перед тем он носил еще военную форму инженера путей сообщения, то есть каску, аксельбанты и шпоры. Тогда «путейцы» считались офицерами и воспитание получали кадетское.
Воображаю, каким комическим рыцарем смотрел он в полной форме и в каске с черным султаном из конского волоса! Он был малого роста, неловкий в движениях, чрезвычайно нервный, всегда небрежно одетый, с беспорядочной бородкой и длинной шевелюрой.
Насчет длинных волос он сам рассказывал, бывало, в редакции, как тогдашний начальник путей сообщения раз, когда он дежурил у него в приемной, подвел его к зеркалу и сказал поучительно:
— Господин поручик! Полюбуйтесь вашими волосами. Рекомендую вам обстричь их!..
Тон у него был отрывистый, выговор с сильной картавостью на звуке «р». С бойким умом и находчивостью, он и в разговоре склонен был к полемике; но никаких грубых резкостей никогда себе не позволял. В нем все-таки чувствовалась известного рода воспитанность. И со мной он всегда держался корректно, не позволял себе никакой фамильярности, даже и тогда — год спустя и больше, — когда фактическое заведование журналом, особенно по хозяйственной части, перешло в его руки.
В нем сидела, в сущности, как поляки говорят, «шляхетная» натура. Он искренно возмущался всем, что делалось тогда в высших сферах — и в бюрократии, и среди пишущей братии — антипатичного, дикого, неблаговидного и произвольного. Его тогдашний либерализм был искреннее и прямолинейнее, чем у Зарина и, тем более, у Щеглова. Идеями социализма он не увлекался, но в деле свободомыслия любил называть себя «достаточным безбожником» и сочувствовал в особенности польскому вопросу в духе освободительном.
Журнал попал в мои руки как раз к тому моменту, когда польское восстание разгорелось и перешло в настоящую партизанскую войну.
Польской литературой и судьбой польской эмиграции он интересовался уже раньше и стал писать статьи в «Библиотеке», где впервые у нас знакомил с фактами из истории польского движения, которые повели к восстанию. Он читал по-польски. Его интересовала личность Мерославского и других лидеров эмиграции. Он дельно и в хорошем тоне составлял ежемесячное обозрение с такими подробностями и цитатами с польского, каких нигде в других журналах не появлялось, даже и в тех, которые считались радикальнее во всех смыслах, чем наш журнал.
Когда я много лет спустя просматривал эти статьи в «Библиотеке», я изумлялся тому, как мне удавалось проводить их сквозь тогдашнюю цензуру. И дух их принадлежал ему. Я ему в этом очень сочувствовал. С студенческих лет я имел симпатии к судьбам польской нации, а в конце 60-х годов в Париже стал учиться по-польски и занимался и языком и литературой поляков в несколько приемов, пока не начал свободно читать Мицкевича.
Такая черта в духовной физиономии моего постоянного сотрудника способствовала нашему сближению, но только до известного предела. Мне не нравилось в нем то, что он не свободен был от разных личных счетов и, если б я его больше слушал, способен был втянуть меня полегоньку в тот двойственный вид полулиберализма, полуконсерватизма, который в нем поддерживался его натурой, раздражительной и саркастической, больше, чем твердо намеченным credo.
У него не было литературного таланта, но некоторый темперамент и способность задевать злободневные темы. Писал он неровно, без породистой литературности и был вообще скорее «литератор-обыватель», чем писатель, который нашел свое настоящее призвание.
И к 1863 году, и позднее у него водилось немало знакомств в Петербурге в разных журналах, разумеется, не в кружке «Современника», а больше в том, что собирался у братьев Достоевских.
Не знаю, хитрил он или нет, но московского славянофильства я в нем тогда не замечал, или увлечения той разновидностью славянофильства, которую проповедовал журнал Достоевских, Аполлон Григорьев и «Косица» — псевдоним, под которым долго скрывался Н. Н. Страхов.
Но он со всеми ними водился и довольно-таки язвительно рассказывал о жизни братьев Достоевских.
Тогда автор «Карамазовых» хоть и стоял высоко как писатель, особенно после «Записок из мертвого дома», но отнюдь не играл роли какого-то праведника и вероучителя, как в последние годы своей жизни.
Будь я как издатель состоятельнее и как редактор постарше и поавторитетнее, такой сотрудник, как Воскобойников, вставленный в известные рамки, мог бы быть очень и очень полезным делу.
Несомненно, он с первого же года входил все больше и больше в интересы журнала. И когда я, к концу 1864 года попав в тиски, поручил ему главное ведение дела со всеми его дрязгами, хлопотами и неприятностями, чтобы иметь свободу для моей литературной работы, он сделался моим «alter ego», и в общих чертах его чисто редакционная деятельность не вредила журналу, но и не могла его особенно поднимать, а в деловом смысле он умел только держаться кое-как на поверхности, не имея сам ни денежных средств, ни личного кредита, ни связей в деловых сферах.
Он же нес на себе и обузу ликвидации в 1865 году и позднее, вплоть до конца 1886 года. Я выдал ему полную доверенность, и много векселей, счетов, расписок были им подписаны без моего ведома. Но я никогда не сомневался в его честности. И было бы с моей стороны невеликодушно и непорядочно теперь, задним числом, в чем-либо пенять ему.
Из всех сотрудников он только и втянут был по доброй воле в эту «галеру», и другой бы на его месте давным-давно ушел, тем более что у нас с ним лично не было никаких затянувшихся счетов. Он не был мне ничего должен, и я ему также. Вся возня с журналом в течение более полутора года не принесла ему никаких выгод, а, напротив, отняла много времени почти что даром.
То, что в его натуре было консервативного и несколько озлобленного, сказалось в его дальнейшей карьере. Он попал к Каткову в «Московские ведомости», где вскоре занял влиятельное положение в редакции. Он оказался публицистом и администратором, которым хозяин газеты очень дорожил, и после смерти Каткова был в «Московских ведомостях» одним из первых номеров.
Бремя заведования и хозяйственного ведения журнала я в первый год, то есть до начала 1864-го, нес еще «с легким сердцем».
Я очень скоро осмотрелся и вошел в свою роль, не предаваясь никаким преждевременным тревогам.
Устроился я недорого; излишнего штата в редакции не заводил, взял себе только личного секретаря из мелких чиновников, П-ского, рекомендованного мне моим приятелем Дондуковым, с которым я два года прожил вместе на трех квартирах: сначала на Литейной, потом в Поварском переулке, а в зиму 1862–1863 года — у Красного моста.
Открыл я приемные дни по средам; но на первых порах редакционных собраний еще не устраивал.
Сейчас же начались мытарства с цензурой.
И чтобы быть утвержденным в редакторстве, я должен был доставить особую рекомендацию двух известных и высокопоставленных лиц. Одним из них подписался сенатор Буцковский — самое тогда влиятельное лицо в Комиссии, которая вырабатывала новые судебные уставы.
Цензура только что преобразовывалась, и в мое редакторство народилось уже Главное управление по делам печати. Первым заведующим назначен был чиновник из Третьего отделения Турунов; но я помню, что он некоторое время носил вицмундир народного просвещения, а не внутренних дел.
Вместе с журналом получил я и цензора, знаменитого своим обскурантизмом, — Касторского, бывшего профессора русской истории.
С ним не было никакого сладу! Он придирался ко всему и везде видел тлетворные идеи, особенно по части социализма и революции.
По поводу одной какой-то невинной статьи он мне сказал, нахмурив брови:
— Не мог-с! Эта статья полна мизерабельности и социабельности.
На его жаргоне это значило, что автор сочувствует пролетариату и вообще социальному движению.
Это был какой-то «шут гороховый», должно быть, из «семинаров», с дурашливо-циническим тоном. Правда, его самого можно было отделывать «под воск» и говорить ему какие угодно резкости. Но от этого легче не было, и все-таки целые статьи или главы зачеркивались красными чернилами; а жаловаться значило идти на огромную проволочку с самыми сомнительными шансами на успех.
Но не думайте, что дело сводилось только к этой цензуре. Цензур совершенно самостоятельных было несколько. Театральная цензура находилась в Третьем отделении. Кроме того, значились еще три отдельные цензуры, с которыми надо было постоянно возиться.
Во-первых, духовная. Ни одна статья философского (а тем паче религиозного) содержания к простому цензору не шла, а была отсылаема в лавру, к иеромонаху (или архимандриту), и, разумеется, попадала в Даниилов львиный ров.
Наш цензор считался самым суровым, да вдобавок невежественным и испивающим. Чтобы дать образчик изуверства и тупости этой духовной цензуры, выбираю один случай из дюжины. Когда вышла брошюра Дж. — Ст. Милля «Утилитаризм» и получена была в Петербурге, я тотчас же распорядился, чтобы она как можно скорее была переведена, и поручил перевод молодому студенту (это был не кто иной, как Ткачев, впоследствии известный эмигрант), и он перевел ее чуть ли не в одни сутки.
И она — погибла! Ту же участь имело и все сколько-нибудь свободомыслящее все время, пока существовала эта духовная цензура — не для богословских только, а для всяких сочинений философского содержания.
Во-вторых, цензура императорского двора для всего, что писалось о театрах; а тогда они все были императорские.
И всякий отчет о бенефисах, о пьесе, об игре актеров надо было отсылать в эту специальную цензуру.
Если вы позволили себе сказать, что у актера Яблочкина были слишком резкие «комические» панталоны, а комик Марковецкий плохо знал свою роль — все это вычеркивалось.
У меня нашлись ходы к тогдашнему директору канцелярии министра двора (кажется, по фамилии Тарновский), и я должен был сам ездить к нему — хлопотать о пропуске одной из моих статей. По этому поводу я попал внутрь Зимнего дворца. За все свое пребывание в Петербурге с 1861 года, да и впоследствии, я никогда не обозревал его зал и не попадал ни на какие торжества.
В-третьих, была еще специальная военная цензура.
Вы, быть может, полагаете, что эта цензура требовала к себе статьи по военному делу, все, что говорилось о нашей армии, распоряжениях начальства, каких-нибудь проектах и узаконениях? Все это, конечно, шло прямо туда, но, кроме того, малейший намек на военный быт и всякая повесть, рассказ или глава романа, где есть офицеры, шло туда же.
И на первых же порах в мое редакторство попалась повесть какого-то начинающего автора из провинции из быта кавалерийского полка, где рассказана была история двух закадычных приятелей. Их прозвали в полку «Сиамские близнецы». Разумеется, она попала к военному цензору, генералу из немцев, очень серьезному и щекотливому насчет военного престижа.
Он уперся и ни за что не хотел пропустить заглавия, находя его унизительным для офицерской чести. Как молодой редактор ни убеждал его, как ни успокаивал — пришлось все-таки изменить заглавие. Вместо «Сиамские близнецы» поставил я «Инсепарабли». Это строгий генерал из немцев допустил, хотя так называется порода попугаев.
Возня с цензурой входила тогда в самый главный обиход редакционного дела, и я с первых же дней проходил всегда через эти мытарства сам, никому не поручая, до той полосы моего редакторства, когда я сдал ведение дела Воскобойникову.
После «третьеотделенческого» Турунова заведующим Главным управлением был назначен сенатор Цеэ, с которым я встречался в одном знакомом доме.
Этот бюрократ по воспитанию из лицеистов, щеголявший латинскими цитатами из Горация и из новых европейских поэтов, держал себя с редакторами — и в том числе со мною — весьма доступно и постоянно старался уверить вас, что он, сам по себе, стоит за свободу печатного слова, но что высшее начальство требует строгого надзора.
— Я вам назначу цензором милейшего господина… Вы им будете довольны.
И действительно, после допотопного Касторского я получил только что поступившего на цензурную службу де Роберти. Они с Цеэ были, кажется, женаты на двух родных сестрах.
В нем я нашел очень мягкого, воспитанного человека, попавшего в цензоры совсем с другой службы где-то в Западном крае, человека светски воспитанного, с хорошими средствами по жене, псковской помещице.
Мы с ним ладили все время, пока я лично занимался возней с цензурой. Он многое пропускал, что у другого бы погибло. Но даже когда и отказывался что-либо подписать, то обращал вас к своему свояку, и я помню, что раз корректуру, отмеченную во многих местах красным карандашом, сенатор подмахнул с таким жестом, как будто он рисковал своей головой.
Над ним стоял тогдашний quasi-либеральный министр внутренних дел П. А. Валуев.
Его либерализм и к тому времени уже сильно позапылился. По цензурному ведомству порядки все-таки в общем оставались старые или с некоторыми поблажками, при полном отсутствии какой-либо ясной и честной программы.
Валуев ни в чем не проявлял желания познакомиться с редакторами журналов и газет. Не помню никакого совещания в таком роде; не было и особенных приемов для представителей печати.
Мы были так стеснены, что, например, не имели права без особого разрешения министра выписывать для редакции самые невинные иностранные газеты.
Когда для моего хроникера иностранной политики понадобилась газета «Temps», я должен был ехать на прием министра в дом позади Александровского театра дожидаться вместе с другими просителями его выхода — и на мою невинную просьбу получил от министра стереотипный ответ:
— Будет поступлено, соображаясь с бывшими примерами.
Это было первый раз, когда я вблизи видел благообразного Петра Александровича, с его внешностью английского лорда и видной фигурой. Другой еще раз встретил я его в Париже, на выставке 1867 года.
И «Библиотеке» было отказано в таком «праве», как получение газеты «Temps». А журнал не мог быть на особенно дурном счету у начальства.
Сенатора Цеэ я не встречал целые десятки лет и вдруг как-то, уже в начале XX века, столкнулся с ним у знакомых. Он сейчас же узнал меня, наговорил мне разных любезностей и поразил своей свежестью. А он был по меньшей мере старше меня на пятнадцать — восемнадцать лет.
— Как видите, жив, жив курилка! — возбужденно повторил он.
Если он еще здравствует, когда я пишу эти строки, то ему должно быть столько, сколько было перед смертью другому старцу, лично мне знакомому, покойному папе Льву XIII.
Так я (больше года) и отправлялся по нескольку раз в неделю к цензору, неизменно по утрам, с одного конца города на другой, из Малой Итальянской в какую-то линию Васильевского острова.
Но молодость вынесла бы и не такие мытарства. Потребность деятельности удовлетворялась и этой стороной редакторской обязанности, и чувством ответственности и сознанием, что ты как-никак стоишь во главе большого журнала.
Жизнь редактора совсем не тяготила меня до тех дней, когда начались денежные затруднения и явилось ожидание неизбежного краха.
Как бы я теперь, по прошествии сорока с лишком лет, строго ни обсуждал мое редакторство и все те недочеты, какие во мне значились (как в руководителе большого журнала — литературного и политического), я все-таки должен сказать, что я и в настоящий момент скорее желал бы как простой сотрудник видеть во главе журнала такого молодого, преданного литературе писателя, каким был я.
Сколько мне на протяжении сорока пяти лет привелось работать в журналах и газетах, по совести говоря, ни одного такого редактора я не видал, не в смысле подготовки, имени, опытности, положения в журнализме, а по доступности, свежей отзывчивости и желанию привлечь к своему журналу как можно больше молодых сил.
Разве не правда, что до сих пор водятся редакторы, которые считают ниже своего достоинства искать сотрудников, самим обращаться с предложением работы, а главное, поощрять начинающих, входить в то, что тот или иной молодой автор мог бы написать, если б его к тому пригласить?
И сколько каждый из нас (даже и тогда, когда имел уже имя) натерпелся от чиновничьего тона, сухости, генеральства или же кружковщины, когда сотрудника сразу как бы «закабаляют» в свою лавочку, с тем чтобы он нигде больше не писал.
Ничем этим я не страдал; а, напротив, выказывал скорее слишком большое рвение в деле приобретения сотрудников.
Такая репутация очень скоро распространилась между тогдашней пишущей братией, и на мои редакционные среды стало являться много народа. И никто не уходил безрезультатно, если в том, что он приносил, было что-нибудь стоящее, живое, талантливое.
Слухи обо мне окрашивались еще и в особый привлекательный колорит. Про меня стали толковать как об очень богатом человеке и чрезвычайно тороватом насчет «авансов»; а они и тогда составляли главный жизненный нерв для литературных пролетариев.
Эта репутация была преувеличенная. Лишних денег у нас в кассе никогда не было, даже и в первый год издания. Но пока была возможность, мы охотно давали и вперед. Гонорар платили не меньше, чем и в богатых журналах. Да тогда и не существовало еще таких полистных плат, как в конце XIX века или теперь для любимцев публики в разных сборниках и альманахах. Тогда только Тургенев получал 400 рублей за лист, Толстой — вроде этого; а все остальные знаменитости, не исключая и Ф. Достоевского, и Щедрина, и Островского, и Писемского, — гораздо меньше.
Сторублевая плата считалась прекрасным гонораром. Ее получал, например, один из самых выдающихся беллетристов, В. Крестовский — псевдоним, то есть Н. Д. Хвощинская. Такую же сторублевую плату имела она у нас в 1864 году.
Мне с первых же дней моего редакторства хотелось направлять моих молодых сотрудников, предлагать им темы статей, но никак не затем, чтобы им что-нибудь навязывать, стеснять их собственный почин.
И никогда я не мудрил над рукописями, ничего не вычеркивал, не придирался к языку, не предъявлял никаких кружковых и партийных требований, не вводил никаких счетов; да мы ни с кем никогда принципиально и не воевали.
Возьму случай из моего писательства за конец XIX века. Я уже больше двадцати лет был постоянным сотрудником, как романист, одного толстого журнала. И вот под заглавием большого романа я поставил в скобках: «Посвящается другу моему Е. П. Л.». И как бы вы думали? Редакция отказалась поставить это посвящение из соображений, которых я до сих не понимаю.
Такое гувернантство показалось бы мне, тогда двадцатисемилетнему редактору, чем-то чудовищным! А оно было возможно еще несколько лет назад и с писателем, давно сделавшим себе имя.
Словом, моя редакторская совесть в этом смысле могла считать себя спокойной.
Несмотря на то что в моей тогдашней политико-социальной «платформе» были пробелы и недочеты, я искренно старался о том, чтобы в журнале все отделы были наполнены. Единственный из тогдашних редакторов толстых журналов, я послал специального корреспондента в Варшаву и Краков во время восстания — Н. В. Берга, считавшегося самым подготовленным нашим писателем по польскому вопросу. Стоило это, по тогдашним ценам, не дешево и сопряжено было с разными неприятностями и для редакции и для самого корреспондента.
Точно так же — более, чем в других журналах, старался я о статьях и обозрениях по иностранной литературе и едва ли не первый тогда имел для этого специального сотрудника и в Петербурге, и в Париже — П. Л. Лаврова и Евгению Тур (графиню Е. В. Салиас). Это показывало несомненную склонность к редакторской инициативе и отвечало разносторонности образования, какое мне удалось получить в трех университетах за целых семь с лишком лет.
Сам я не вспомнил о себе сразу, что я критик и публицист, изредка только печатал статьи не беллетристического содержания и делал исключения для театра, где считал себя более компетентным. Да и тут я на первых порах давал писать и о театрах моим молодым сотрудникам. И только что я сделался редактором, как заинтересовался тем, кто был автор статьи, напечатанной еще при Писемском о Малом театре и г-же Позняковой (по поводу моей драмы «Ребенок»), и когда узнал, что этот был студент князь Урусов, — сейчас же пригласил его в сотрудники по театру, а потом и по литературно-художественным вопросам.
И никогда мы не стесняли никого обязательностью направления, хотя я лично всегда отклонял от журнала все, что пахло реакцией какого бы то ни было рода, особенно в деле свободы мышления и религиозного миропонимания.
Журнал наш одинаково отрицал всякую не то что солидарность, но и поблажку тогдашним органам сословной или ханжеской реакции, вроде газеты «Весть» или писаний какого-нибудь Аскоченского. Единственно, что недоставало журналу, это — более горячей преданности тогдашнему социальному радикализму. И его ахиллесовой пятой в глазах молодой публики было слишком свободное отношение к излишествам тогдашнего нигилизма и ко всяким увлечениям по части коммунизма.
Но надо помнить, что и в «Современнике» (а потом в «Отечественных записках») сам тогдашний первый радикальный сатирик — М. Е. Салтыков — весьма жестоко «прохаживался» над теми же увлечениями.
Ни я и никто из моих постоянных сотрудников не могли, например, восхищаться теми идеалами, какие Чернышевский защищал в своем романе «Что делать?», но ни одной статьи, фельетона, заметки не появилось и у нас (особенно редакционных), за которую бы следовало устыдиться.
Даже и тогда, когда начались денежные тиски, я старался всячески оживить журнал, устроил еженедельные беседы и совещания и предложил, когда журнал стал с 1865 года выходить два раза в месяц, печатать в начале каждого номера передовую статью без особого заглавия. Она заказывалась сотруднику и потом читалась на редакционном собрании.
Имей я больше удачи, наложи я руку с самого начала на критика или публициста с темпераментом и смелыми идеями (каким, например, был Писарев), журнал сразу получил бы другой ход.
А с таким уравновешенным эстетом, как Эдельсон, это было немыслимо. И я стал искать среди молодых людей способных писать хоть и не очень талантливые, но более живые статьи по критике и публицистике. И первым критическим этюдом, написанным по моему заказу, была статья тогда еще безвестного учителя В. П. Острогорского о Помяловском.
Один этот факт показывает, как мы далеки были от всякой кружковщины. Помяловский считался самым первым талантом из людей его генерации и украшением беллетристики «Современника» — стало быть, прямой расчет состоял в том, чтобы его замалчивать. А я стал усиленно искать кого-нибудь из молодых, кто бы оценил его на страницах моего журнала.
И позднее я познакомился с автором «Молотова», и он обещал мне свое сотрудничество. Смерть помешала его осуществлению.
Денежные мытарства слишком скоро утомили меня настолько, что я к концу 1864 года ушел от более энергического и ответственного заведования делом.
Но на это была и другая причина, кроме непривычки к практическим хлопотам и отвращения ко всему, что отзывается «делячеством», сделками, исканием денег, возней с процентщиками и маклаками всякого сорта.
Эта другая причина та, что я был как бы обязательный сотрудник собственного журнала по беллетристике.
Роман «В путь-дорогу» был начат в 1862 году, при Писемском. И в течение того года были напечатаны две книги, а их значилось целых шесть.
В начале 1863 года, когда я сделался издателем-редактором «Библиотеки», у меня еще ничего готового не было, и я должен был приготовить «оригиналу» еще на две части, а в следующем 1864 понадобились еще две.
Из-за редакторских забот и хлопот я оттягивал работу беллетриста до конца года. И, увидав невозможность работать как романист, я даже взял себе комнату (на Невском, около Знамения) и два месяца жил в ней, а в редакции являлся только изредка.
Вся обуза издательства и денежных хлопот лежала уже отчасти на Воскобойникове, отчасти на секретаре, моем товарище по гимназии, враче Д. А. Венском, которому я предложил это место несколько месяцев спустя после перехода журнала в мои руки.
С ним я работал и над романом. Каждый вечер он приходил ко мне в мой студенческий номер и писал под мою диктовку почти что стенографически.
И дальше работа романиста — так же интенсивно — захватывала меня. Подходил новый год! Надо было запастись каким-нибудь большим романом. А ничего стоящего не имелось под руками. Да и денежные дела наши были таковы, что надо было усиленно избегать всякого крупного расхода.
И мы в редакции решили так, что я уеду недель на шесть в Нижний и там, живя у сестры в полной тишине и свободный от всяких тревог, напишу целую часть того романа, который должен был появляться с января 1865 года. Роман этот я задумывал еще раньше. Его идея навеяна была тогдашним общественным движением, и я его назвал «Земские силы».
Если беллетрист верой и правдой служил журналу, погибавшему от недостатка денежных средств, то он же превратил редактора в сотрудника, который запирался по целым месяцам и даже уезжал в провинцию, чтобы доставить как можно больше дарового материала.
Но даровым он вполне не был. Хоть я и сократил свои расходы донельзя, но все-таки должен был тратить и на себя.
И раз выпустив из своих рук ведение дела, я уже не нашел в себе ни уменья, ни энергии для спасения журнала. Он умер как бы скоропостижно, потому что с 1865 года, несомненно, оживился; но к маю того же года его не стало.
Прошло три с лишком года после прекращения «Библиотеки». В Лондоне, в июне 1868 года, я работал в круглой зале Британского музея над английской статьей «Нигилизм в России», которую мне тогдашний редактор «Fortnightly Review» Дж. Морлей (впоследствии министр в кабинете Гладстона) предложил написать для его журнала.
Мне понадобилось сделать цитату из моей публицистической статьи ««День» о молодом поколении», которую я, будучи редактором, напечатал в своем журнале.
Я затребовал себе номер журнала и тотчас же получил его.
Это дало мне мысль просмотреть все книжки «Библиотеки» за время моего издательства.
Я не имел времени все их прочесть (их было больше двух дюжин); но я просмотрел содержание всех этих номеров и припоминал при этом разные эпизоды моего редакторства.
Меня приятно удивило множество имен сотрудников, принадлежавших к лучшей доле нашей интеллигенции. Умирающий, дряхлый орган не мог собрать на свои страницы такого писательского персонала!
И тогда я ясно увидел, что неудача моего предприятия сидела не в том, что журнал был бесцветен, бессодержателен, сух, скучен или ретрограден, а от совпадения и многих других причин.
В списке сотрудников за эти с небольшим два года я увидел имена очень и очень многих беллетристов (некоторые у меня и начинали), ученых, публицистов, которые и позднее оставались на виду.
Сколько новых знакомств и сношений принесло мне редакторство в нашей тогдашней интеллигенции! Было бы слишком утомительно и для моих читателей говорить здесь обо всех подробно; но для картины работы, жизни и нравов тогдашней пишущей братии будет небезынтересно остановиться на целой серии моих бывших сотрудников.
На вопрос: кто из тогдашних первых корифеев печатался в «Библиотеке», я должен, однако ж, ответить отрицательно. Вышло это не потому, что у меня не хватило усердия в привлечении их к журналу. Случилось это, во-первых, оттого, что мое редакторство продолжалось так, в сущности, недолго; а главное — от причин, от моей доброй воли не зависящих.
Перечислю здесь всех тогдашних «генералов от литературы».
Толстой тогда в Петербурге не жил; кажется, совсем и не наезжал туда; по крайней мере, с 1861 по 1865 год не привелось нигде там с ним встретиться.
Я тотчас же написал ему письмо с просьбою о сотрудничестве и получил от него вежливый ответ, но без всякого обещания.
Тургенев приехал в Петербург в зиму 1863–1864 года. Я явился к нему в Hotel de France, где он останавливался, и повторил ему мою просьбу, с которой уже обращался к нему письменно за границу.
Он переживал тогда полосу своего первого отказа от работы беллетриста. Подробности этого разговора я расскажу ниже, когда буду делать «resume» моей личной жизни (помимо журнала за тот же период времени). А здесь только упоминаю о чисто фактической стороне моих сношений с тогдашними светилами нашей изящной словесности.
К Гончарову считалось тогда совершенно бесполезным обращаться. Он ничего не печатал, и его «Обрыв» стал появляться в «Вестнике Европы» несколько лет спустя, в 1869 году.
С ним лично никаких встреч у меня не было. Я бы затруднился сказать, в каких литературных домах можно было его встретить. Скорее разве у Краевского, после печатания «Обломова»; но это относилось еще к концу 50-х годов.
Федор Достоевский работал на свой журнал и нигде больше не появлялся.
В кружок его журналов (сначала «Время», потом «Эпоха») я вхож не был, и наше личное знакомство состоялось уже позднее, по поводу прекращения его журнала, когда «Библиотека» удовлетворяла его подписчиков.
Салтыков точно так же печатал тогда свои вещи исключительно у Некрасова и жил больше в провинции, где служил вице-губернатором и председателем казенной палаты. Встречаться с ними в те года также не приводилось, тем более что я еще не был знаком с Некрасовым и никто меня не вводил в кружок редакции его журнала и до прекращения «Современника», и после того.
О своих встречах и беседах с Островским я рассказывал в предыдущей главе. Я ездил к нему в Москве и как редактор; но он в те годы печатал свои вещи только у Некрасова и редко давал больше одной вещи в год.
Григоровича я не просил о сотрудничестве, хотя и был с ним немножко знаком. В то время его имя сильно потускнело, и напечатанная им у Каткова повесть «Два генерала» (которую я сам разбирал в «Библиотеке») не особенно заохочивала меня привлекать его в сотрудники.
В Москве же, в 1864 году, Писемский предлагал мне одну пьесу; но я нашел ее нестоящей того высокого гонорара, который он за нее назначил.
Из поэтов того же поколения — Полонский у меня печатался.
От старой редакции «Библиотеки» перешли ко мне два молодых беллетриста с талантом: Генслер и граф Салиас.
Генслера я раньше видел, кажется, мельком в конторе журнала на Невском; но знакомство произошло уже у меня на редакционной квартире в Малой Итальянской.
Перед тем он при Писемском напечатал ряд очерков «Гаванские чиновники» и обратил на себя внимание изображением курьезных нравов, юмором, веселостью, языком.
Мне достались его «Записки кота» и продолжение «Гаванских чиновников». Но ни в той, ни в другой вещи уже не было яркости и новизны первых очерков.
Личность этого юмориста чисто петербургского пошиба и бытового склада не имела в себе по внешности и тону ничего ни художественного, ни вообще литературного. Генслер был званием врач, из самых рядовых, обруселый немец, выросший тут же, на окраинах Петербурга, плотный мужчина, без всяких «манер», не особенно речистый, так что трудно было бы и распознать в нем такого наблюдательного юмориста.
Видел я его летом два-три раза. Он если и не принадлежал к тогдашней «богеме», то, во всяком случае, был бедняк, который вряд ли мог питаться от своей медицинской практики. Долго ли он жил — не помню; но еще до конца моего издательства прекратилось его сотрудничество.
У графа Салиаса принята была Писемским повесть. Его я встречал в конторе журнала еще до моего редакторства.
Он был тогда красивый юноша, студент, пострадавший за какую-то студенческую историю. Кажется, он так и не кончил курса из-за этого. Он жил в Петербурге, но часто гостил у своей родной сестры, бывшей замужем за Гурко, впоследствии фельдмаршалом, а тогда эскадронным или полковым командиром гусарского полка. Мать его проживала тогда за границей, в Париже, и сделалась моей постоянной сотрудницей по иностранной литературе.
Она печатала у меня изложение наделавшей тогда шуму политической сатиры Лабуле «Париж в Америке» и много других таких же извлечений.
Сын ее смотрел очень воспитанным, франтоватым молодым человеком, скорее либерального образа мыслей. В «Библиотеке» он не удержался и позднее стал более известен своими письмами из Испании в газете «Голос», прежде чем стал печатать в «Русском вестнике» своих «Пугачевцев».
Я его не встречал очень давно и раз обедал с ним, уже в 90-х годах, у издателя «Нивы» Маркса, когда тот пригласил на обед своих сотрудников — исключительно романистов (в их числе Григоровича), и нас оказалось семь человек.
Новым для журнала и для меня из молодых же писателей (но уже старше Салиаса) был Н. Лесков, который тогда печатался еще под псевдонимом «Стебницкий». Чуть ли не у меня он и стал подписываться своей подлинной фамилией.
Этот сотрудник сыграл в истории моего редакторства довольно видную роль и для журнала довольно злополучную, хотя и непреднамеренно. Он вскоре стал у меня печатать свой роман «Некуда», который всего более повредил журналу в глазах радикально настроенной журналистики и молодой публики.
Привел его ко мне Воскобойников или Щеглов, во всяком случае один из них. Он был автор повести, которая мне понравилась; и сам он показался мне человеком оригинальным, очень бывалым, наблюдательным, с хлестким, бытовым умом. Но сразу же я начал распознавать в его личности и разные несимпатичные черты характера. Человека с университетским образованием я в нем не чувствовал. Он совсем не был начитан по иностранным литературам, но отличался любознательностью по разным сферам русской письменности, знал хорошо провинцию, купечество, мир старообрядчества, о котором и стал писать у меня, и в этих, статьях соперничал с успехом с тогдашним специалистом по расколу П. И. Мельниковым.
Он много перед тем вращался в петербургском журнализме, работал и в газетах, вхож был во всякие кружки. Тогдашний нигилизм и разные курьезы, вроде опытов коммунистических общежитий, он знал не по рассказам. И отношение его было шутливое, но не особенно злобное. Никаких выходок недопустимого у меня обскурантизма и полицейской благонамеренности он не позволял себе.
Он только что тогда пожил в Париже (хотя по-французски, кажется, не говорил), где изучал тамошнюю русскую колонию, бывшую уже довольно значительной, после того как дешевые паспорта и выкупные свидетельства позволили очень многим «вояжировать»; да и курс наш стоял тогда прекрасный.
Я ему предложил записать свои парижские впечатления, и он выполнил эту работу бойко и занимательно. Русских парижан он разделил на два лагеря: «елисеевцы», то есть баре, селившиеся в Елисейских полях, и «латинцы», то есть молодежь и беднота Латинского квартала.
Нетрудно было оценить в нем очень полезного сотрудника и по части вот таких очерков, и как беллетриста.
С замыслом большого романа, названного им «Некуда», он стал меня знакомить и любил подробно рассказывать содержание отдельных глав. Я видел, что это будет широкая картина тогдашней «смуты», куда должна была войти и провинциальная жизнь, и Петербург радикальной молодежи, и даже польское восстание. Программа была для молодого редактора, искавшего интересных вкладов в свой журнал, очень заманчива.
В первой части романа, весьма обширной, не было еще ничего, что сделалось бы щекотливым в смысле либерального направления.
Тогда все редакторы — самые опытные, как, например, Некрасов, — не требовали от авторов, чтобы вся вещь была приготовлена к печати. Так и я стал печатать «Некуда», когда Лесков доставил мне несколько глав на одну, много на две книжки.
«Некуда» сыграло почти такую же роль в судьбе «Библиотеки», как фельетон Камня Виногорова (П. И. Вейнберга) о г-же Толмачевой в судьбе его журнала «Век», но с той разницей, что впечатление от романа накапливалось целый год и, весьма вероятно, повлияло уже на подписку 1865 года. Всего же больше повредило оно мне лично, не только как редактору, но и как писателю вообще, что продолжалось очень долго, по крайней мере до наступления 70-х годов.
Я не перечитывал «Некуда» после тех годов.
Смешно вспомнить, что тогда этот роман сразу возбудил недоверчивое чувство в цензуре. Даже мягкий де Роберти с каждой новой главой приходил все в большее смущение. Автор и я усиленно должны были хлопотать и отстаивать текст.
И кончилось это чем же?
Беспримерным эпизодом в истории русской журналистики, по крайней мере я лично ничего подобного никогда не слыхал.
Когда я увидал, что одному цензору не справиться с этим заподозренным — пока еще не радикальной публикой, а цензурным ведомством — романом, я попросил, чтобы ко мне на редакционную квартиру, кроме де Роберти, был отряжен еще какой-нибудь заслуженный цензор и чтобы чтение произошло совместно, в присутствии автора.
Так это и состоялось. В воскресное утро в моей маленькой голубой гостиной, где я обыкновенно принимал даже с рукописями, сидели мы несколько часов над этой работой. В антракты я предложил цензорам легкий завтрак.
С цензором Веселаго (впоследствии член совета) я тут только ближе познакомился.
Это был, как народ называет, «тертый калач», умный, речистый, веселый человек, бывший моряк, к литературе имевший некоторое «касательство» как автор статей по морским вопросам.
Он считался среди редакторов и авторов все-таки более покладистым, хотя очень большой поблажки от него трудно было ждать.
Сидели мы, сидели, слушали, судили, спорили. Кое-что удалось спасти; но многое погибло.
Никто бы не поверил из тех, кто возмущался романом, что его роды были так тягостны.
Веселаго держался благодушного тона и старался все уверить нас, что он вовсе не обскурант и не гасильник.
Когда за завтраком разговор сделался менее официальным, я ему сказал:
— Федосей Федорович! Цензорам история приготовила свое место. Напрасно вы так оправдываетесь! Он обратил это в шутку и весело воскликнул:
— Что поделаешь с Петром Дмитриевичем! Это у нас enfant terrible!
И через такие мытарства роман «Некуда» проходил до самого конца, и его печатание задерживалось часто только из-за цензуры.
Наконец, не в виде запоздалого самооправдания, а как положительный факт, прибавлю здесь, что с тех пор как я устранился от заведования журналом, я сам не просматривал рукописи последней части «Некуда» и даже не читал корректуры.
Конечно, публики и критики это не касалось; но личной ответственности перед самим собой я и задним числом взять не могу.
С Лесковым мы, в общем, ладили. Но, к сожалению, он вошел и в мои денежные затруднения. Когда ему стало известно более точно и от Воскобойникова и от меня о положении дел, он все повторял, что «с кредиторами надо ладиться» и «изыскивать новые источники».
Как автор «Некуда», которому приходилось много платить, он выказывал себя довольно покладистым, и долг ему за гонорар начал расти к концу 1864 года. Он достал нам и небольшую сумму (что-то вроде тысячи рублей или немного больше), и этот долг, на который я выдал документ, сделался источником весьма неприятных отношений. Он и позднее не прижимал, не затевал дела; но на него в редакции ложилась некоторая тень — не он ли сам наш заимодавец, уж не по гонорару только, а по документу, по которому надо было выплачивать и проценты? Сколько я помню, он постоянно говорил, что деньги — его жены или кого-то из родственников.
Как сотрудник он продолжал после «Некуда» давать нам статьи, больше по расколу, интересные и оригинальные по языку и тону. Тогда он уже делался все больше и больше специалистом и по быту высшего духовенства, и вообще по религиозно-бытовым сторонам великорусской жизни.
Мы с ним вели знакомство до отъезда моего за границу. Я бывал у него в первое время довольно часто, он меня познакомил со своей первой женой, любил приглашать к себе и вести дома беседы со множеством анекдотов и случаев из личных воспоминаний. К его натуре у меня никогда не лежало сердце; но между нами все-таки установился такой тон, который воздерживал от всего слишком неприятного.
Кто-то потом, вспоминая про Лескова из того времени, называл его злым духом «Библиотеки для чтения».
Его роман повредил нам — это неоспоримо; но если бы журнал удержался, такой сотрудник, как Лесков, даже и по беллетристике, не мог бы только своей личностью вредить делу.
С ним и по гонорару и как с заимодавцем я рассчитался после 1873 года. Доверенное лицо, которое ладило и с ним тогда (я жил в Италии, очень больной), писало мне, а потом говорило, что нашло Лескова очень расположенным покончить со мною совершенно миролюбиво. Ему ведь более чем кому-либо хорошо было известно, что я потерял на «Библиотеке» состояние и приобрел непосильное бремя долгов.
В Петербурге в начале 70-х годов мы возобновили знакомство, но поводом к тому — для меня по крайней мере — было то, что оставалось еще что-то ему заплатить.
Он в это время устроился более на семейную ногу; дети его подросли. Не помню, жива ли была его жена; но он жил в одной квартире с какой-то барыней, из помещиц.
Помню и то, что Лесков звал меня на целых трех архиереев; но, кажется, вечер этот не состоялся.
Тогда он писал в «Русском вестнике» и получил новую известность за свои «Мелочи архиерейской жизни», которые писал в какой-то газете. Он таки нашел себе место и хороший заработок; но в нем осталась накипь личного раздражения против радикального лагеря журналистики.
И в самом деле, ему слишком долго и упорно мстили как автору «Некуда». Да и позднее в левой нашей критике считалось как бы неприличным говорить о Лескове. Его умышленно замалчивали, не признавали его несомненного таланта, даже и в тех его вещах (из церковного быта), где он поднимался до художественности, не говоря уже о знании быта.
А тем временем и в его направлении произошла значительная эволюция. Он стал увлекаться учением Толстого и все дальше отходил от государственной церкви. Это начало сказываться в тех его вещах, которые стали появляться в «Русской мысли» у Гольцева.
Тогда произошла его реабилитация. Московский журнал принадлежал к той же радикально-народнической фракции, как и «Отечественные записки», где все-таки продолжали иметь против него «зуб» как против автора «Некуда».
Со второй половины 70-х годов и до его смерти жизнь нас не сталкивала. Может быть, он считал себя задетым тем, что я в Петербурге не поддавался на его приглашения. Это сказалось, как мне кажется, в том, как он заговорил со мною на обеде, который петербургская литература давала Шпильгагену. Он без всякого повода стал говорить ненужные резкости. Правда, он тогда выпил лишнее, и всем памятно то его русское обращение к Шпильгагену, которое так любил вспоминать покойный П. И. Вейнберг, бывший распорядителем на этом обеде.
Лесков, подойдя к тому месту, где сидел Шпильгаген, обратился к нему в чисто российском вкусе.
Но тот же П. И. Вейнберг сообщал мне по смерти Лескова, что, когда они с ним живали на море (кажется, в Меррекюле) и гуляли вдвоем по берегу, Лесков всегда с интересом справлялся обо мне и относился ко мне как к романисту с явным сочувствием, любил разбирать мои вещи детально и всегда с большими похвалами.
Он высказывался так обо мне в одной статье о беллетристике незадолго до своей смерти. Я помню, что он еще в редакции «Библиотеки для чтения», когда печатался мой «В путь-дорогу», не раз сочувственно отзывался о моем «письме». В той же статье, о какой я сейчас упомянул, он считает меня в особенности выдающимся как «новеллист», то есть как автор повестей и рассказов.
Из новых критиков Волынский занялся Лесковым как крупным дарованием и, по мнению некоторых, даже слишком поднял его.
Так или иначе, но мне как редактору «Библиотеки» нечего, стало быть, сожалеть, что я дал главный ход автору «Некуда», хотя он так и повредил журналу этой вещью.
Теперь, когда и этот автор давно уже отошел к праотцам, какие же могут быть у нас счеты?
И я был искренно доволен тем, что «Русская мысль» наконец «реабилитировала» Лескова и позволила ему показать себя в новой фазе его писательства. Этого немногим удается достичь на своей писательской стезе. Рядом с фигурой Лескова как нового сотрудника «Библиотеки» выступает в памяти моей другая, до сих пор полутаинственная личность.
Это был А. И. Бенни. Мне привел его Лесков, и они постоянно оставались в приятельских отношениях.
После смерти Бенни Лесков выпустил, как известно, брошюрку, где он рассказал правду о своем покойном собрате и старался очистить его от подозрений… ни больше ни меньше как в том, что он был агент-провокатор, выражаясь по-нынешнему.
Когда Бенни впервые попал в редакцию, я почти ровно ничего не знал об его прошлом. И Лесков и Воскобойников (уже знакомый с Бенни) рассказывали мне только то, что не касалось подпольной его истории.
А подпольность эта заключалась в том, что Бенни (Бениславский), сын англичанки и польского реформатского пастора еврейского происхождения, как молодой энтузиаст, стал объезжать выдающихся русских общественных деятелей (начиная с Каткова и Аксакова) для подписания адреса о даровании конституции.
Сам Бенни бывал со мною очень сдержан и говорил только о том, что не касалось интимной стороны его жизни. В нем я увидал сразу очень образованного европейца, бывалого, с большим интересом к общественным политическим вопросам. Он уже работал в русских газетах (в том числе вместе с Лесковым), по-русски говорил хорошо, с легким, более польским, чем английским акцентом, писал суховато, но толково и в передовом духе. Беседа его была всегда занимательна. Но — это правда! — было всегда что-то в его тоне, усмешке, разных недосказах полутаинственное. Оно-то и повредило ему всего больше.
Он приносил свои статьи, захаживал и просто, к себе не приглашал, много говорил про заграничную жизнь, особенно про Англию. Никогда он не искал со мною разговоров с глазу на глаз, не привлекал ни меня, ни кого-либо в редакции к какой-нибудь тайной организации, никогда не приносил никаких прокламаций или заграничных брошюр.
Такой «провокатор» был бы крайне курьезен.
Но у него и тогда уже были счеты с Третьим отделением по сношениям с каким-то «государственным преступником». Вероятно, он жил «на поруках». И его сдержанность была такова, что он, видя во мне человека, явно к нему расположенного, никогда не рассказывал про свое «дело». А «дело» было, и оно кончилось тем, что его выслали за границу с запрещением въезда в Россию.
Тургенев, когда я с ним познакомился, был также вызван в Петербург Третьим отделением для дачи каких-то показаний.
И вот он раз, когда речь зашла о Бенни (он его знавал еще с тех дней, когда тот объезжал с адресом), рассказал мне, что дело, по которому он был вызван, ему дали читать целиком в самом Третьем отделении. Он прочитал там многое для него занимательное.
— И показания Бенни, — сказал он мне — отличаются необыкновенной порядочностью. Ни единого оговора, ничего такого, что показывало бы желание выгородить только самого себя. А другие тут же повели себя совсем не так!
Мне было особенно приятно это слышать. И я никогда не хотел иметь против Бенни никакого предубеждения.
Он уехал за границу, стал печатать английские статьи. Но участвовал ли в каких русских газетах, я не знаю.
Наше свидание с ним произошло в 1867 году в Лондоне. Я списался с ним из Парижа. Он мне приготовил квартирку в том же доме, где и сам жил. Тогда он много писал в английских либеральных органах. И в Лондоне он был все такой же, и так же сдержанно касался своей более интимной жизни. Но и там его поведение всего дальше стояло от какого-либо провокаторства. А со мной он вел только такие разговоры, которые были мне и приятны и полезны как туристу, впервые жившему в Лондоне.
За дальнейшей его судьбой за границей я не следил и не помню, откуда он мне писал, вплоть до того момента, когда я получил верное известие, что он, в качестве корреспондента, нарвался на отряд папских войск (во время последней кампании Гарибальди), был ранен в руку, потом лежал в госпитале в Риме, где ему сделали неудачную операцию и где он умер от антонова огня.
Все это было рассказано в печати г-жой Пешковой (она писала под фамилией Якоби), которая проживала тогда в Риме, ухаживала за ним и по возвращении моем в Петербург в начале 1871 года много мне сама рассказывала о Бенни, его болезни и смерти. Его оплакивала и та русская девушка, женихом которой он долго считался.
Из его родных я раз видел мельком его сестру, а в Париже познакомился с его братом, Шарлем Бенни, который учился там медицине, а потом держал на доктора в Военно-медицинской академии и сделался известным практикантом в Варшаве.
Этот Шарль очень офранцузился, по-русски говорил с сильным акцентом, и в его типе сейчас же сказывалась еврейская кровь. Артур (то есть наш Бенни) только цветом рыжеватой бородки и остротой взгляда выдавал отчасти свою семитическую расу.
За еврея никто из нас не имел права его считать; да и он был настолько щекотлив по этой части, что ему нельзя было бы предложить вопроса — какой он расы. Он, видимо, желал, чтобы его считали скорее англичанином.
И вот тот факт, что он как бы скрывал происхождение свое от отца, ополяченного еврея-протестанта, навлекло на него и после смерти опять новые нарекания и по этой части.
В Лондоне в 1867 году, когда он был моим путеводителем по британской столице, он тотчас же познакомил меня с тем самым Рольстоном (библиотекарем Британского музея), который один из первых англичан стал писать по русской литературе.
Мы и жили с Бенни очень близко от его квартиры. И вот, когда я в следующем, 1868 году, приехал в Лондон на весь сезон (с мая по конец августа) и опять поселился около Рольстона, он мне с жалобной гримасой начал говорить о том, что Бенни чуть не обманул их тем, что не выдал себя прямо за еврея.
У таких респектабельных британцев еврейская раса — все еще клеймо. А требовать от Бенни, чтобы он всем докладывал: «Отец мой еврейской расы», — было бы слишком.
Но так как в его манере и тоне было всегда что-то недосказанное и как бы полузагадочное, то такое умолчание и могло сойти за умышленный обман.
Самая ужасная — это доля тех, кого вдруг, неизвестно почему, начнут подозревать. Пример Бенни — не единственный в истории нашей интеллигенции 60-х годов.
Вспомните, как известный ученый и издатель научных сочинений Ковалевский, бывший одно время приятелем семейства Герцена, был заподозрен в шпионстве. И русские, в согласии самого Герцена, произвели в отсутствие Ковалевского у него домашний обыск и ничего не нашли. Мне это рассказывал один из производивших этот обыск, Николай Курочкин, брат Василия, тогда уже постоянный сотрудник «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова.
Так и бедный Артур Иванович сошел в могилу с таким пятном, от которого Лесков в память их приятельства пожелал очистить его в своей брошюре. В какой степени это ему удалось, я не знаю; но мне, да и всем, кто знал ближе Бенни, было приятно читать такую защиту.
Какую бы тайну он ни унес с собою в могилу, но разве не характерен тот факт, что он погиб от пули папского зуава в качестве корреспондента английской либеральной газеты, и тогда, когда въезд в Россию был ему запрещен Третьим отделением?
Он легко находил работу в английских журналах. Его печатали в таких солидных и передовых органах, как «Fortnightly Review» и «Observer». По-английски он писал легко, интересно, но без выдающегося таланта, как и по-русски.
Как публицист он и «Библиотеке» не мог придавать блеска и по всему своему складу держался всегда корректного тона, гораздо умереннее своих политических принципов. Был он и хороший переводчик. У нас он переводил начало романа Диккенса «Наш общий друг».
Статьи свои в «Библиотеке» он писал больше анонимно и вообще не выказывал никаких авторских претензий при всех своих скудных заработках, не отличался слабостью к «авансам» и ладил и со мною, и с теми, кто составлял штаб редакции.
Таких джентльменов после не было у нас среди пишущей братии. Из него романисту нетрудно бы было сделать полутаинственное лицо в каком-нибудь международном политическом романе.
Лесков еще при жизни его как бы напророчил ему трагическую смерть, взяв его моделью для героического лица своего Райнера, являющегося во второй половине «Некуда» как один из пришельцев, увлеченных польским восстанием.
Это одно показывает, что он не считал и тогда Бенни способным на темную роль, а, напротив, человеком, который готов был бы пострадать за правое дело.
Как политический деятель и как публицист, Бенни явился на сорок лет раньше, чем следовало.
Целый ряд «начинающих» пришли в «Библиотеку». Некоторые и начинали именно у меня. Почти все составили себе имя, если не на чисто писательском поприще, то в других областях умственного труда и общественной деятельности.
Одним из самых молодых, явившихся ко мне с своей первой рукописью, был юморист Лейкин, впоследствии сделавшийся очень популярным беллетристом и умерший богатым человеком от экономии из своих писательских заработков.
Помню, ко мне в гостиную вошел брюнетик, франтовато одетый, в красном галстуке, тогда еще худощавый, приятной наружности и совсем еще не хромой.
Он смотрел контористом и действительно был купеческого звания и служил в какой-то иностранной экспортной конторе.
Эта служба дала ему богатый материал для изучения нравов нашего мелкого купечества.
Он и написал свои очерки «Господа апраксинцы» и принес их редактору «Библиотеки», про которого пошла молва, что он хорошо платит, а главное, дает авансы.
Про то рассказывал сам Лейкин незадолго до смерти в своих воспоминаниях.
Я сейчас же, не отдавая рукописи Эдельсону, распознал живую наблюдательность и бойкий жаргонный язык начинающего гостинодворца и стал печатать его «Апраксинцев» в первых же книжках, вышедших под моей редакцией.
С тех пор Лейкин, сколько помню, долго не приносил нам ничего. Но эта первая его вещь, напечатанная в большом журнале, дала ему сразу ход, и он превратился в присяжного юмориста из купеческого быта в органах мелкой прессы, которая тогда только начала складываться в то, чем она стала позднее.
И Лейкин умер первым сюжетом увеселительной газетной беллетристики, сумевшим свою купеческую смекалку пустить в оборот с чрезвычайной плодовитостью и доходностью. Про него можно было сказать не только: «nulla dies sine linea» (ни дня без строчки), но и «ни одного дня без целого нового рассказа».
Встретился я с ним уже много лет спустя, когда он потолстел и стал хромать, был уже любимцем Гостиного двора, офицеров и чиновников, писал кроме очерков и рассказов и бытовые пьески, сделал себе и репутацию вивёра, любящего кутнуть, способного произвести скандалец где-нибудь у немцев, в Шустер-клубе.
Но он «рассудку» не терял, нажил себе доходный дом и дачу, где пристрастился к разведению редких пород кур, которые и посылал на выставки.
Всего раз привелось мне, уже в конце XIX века, быть у него в его собственном доме и видеть его обстановку.
Это было по поводу нашего совместного участия в ревизионной комиссии одного писательского общества.
Он и дома, в обширном кабинете, забавлял себя всякими юмористическими выдумками.
У него были целых четыре моськи. Он приучил их лежать у четырех ножек стола и, указывая мне на них, говорил:
— Прозвал я их, Петр Дмитриевич, «поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще».
Так и прожил свой удачный писательский век благообразный конторист в красном галстуке, явившийся ко мне с «Апраксинцами», которых он потом столько лет всячески забавлял.
Новым для меня лично был и князь А. И. Урусов, хотя я его и нашел уже в числе сотрудников «Библиотеки».
Я уже говорил, как я в Москве разыскивал, кто скрывается под псевдонимом «Александр Иванов» — автор статей о Позняковой, ее дебюте в моем «Ребенке» и самой драме.
Это оказался студент второго курса на юридическом факультете Урусов. И я, как только сделался редактором, сейчас же написал ему в Москву и просил о продолжении его сотрудничества по театру и литературной критике.
О своей связи с молодым Урусовым и дальнейших наших приятельских отношениях (когда он сделался адвокатской знаменитостью) я уже говорил и в тех воспоминаниях, которые дал в сборнике, посвященном ему, и в других местах.
Не желая повторяться, я остановлюсь здесь на том, как Урусов, именно в «Библиотеке» и у меня в редакционной квартире, вошел в жизнь писательского мира и стал смотреть на себя как на литератора, развил в себе любовь к театру, изящной словесности и искусству вообще, которую без участия в журнале он мог бы и растратить гораздо раньше.
По своей «литературности» он и тогда выделялся из всех моих молодых сотрудников, даже и тех, у кого было больше таланта, кто выработал из себя беллетристов и публицистов.
Наше тогдашнее сближение произошло в два приема в течение моего редакторства: сначала в его первый приезд в Петербург вместе с матерью, а потом, когда он гостил у меня в квартире и пробыл вместо одной недели целых шесть и больше — с Масленицы до начала мая.
Несмотря на разницу лет (ему было 21, а мне уже и целых 28), мы сошлись совершенно как студенты, оба преданные литературе, с очень сходными вкусами, идеями, любимыми авторами, любимыми артистами и с общностью всей нашей бытовой культуры.
И он был «барское дитя», типичный москвич; но его детство, отрочество и первая юность прошли в более привольной и пестрой светской и товарищеской жизни.
У меня с детства была некоторая связь и с фамилией Урусовых. Его родной дядя, князь М. А. Урусов, был долго у нас в Нижнем губернатором. С его сыновьями я танцевал мальчиком на детских балах, а потом, студентом, и с их матерью.
Кажется, ни с кем из моих начинающих сотрудников я не был так близок и так долго не сохранил этой связи.
Она продолжалась и за границей в первую мою поездку (сентябрь 1865 — май 1866 года) и закрепилась летом, когда я гостил у Урусовых в Сокольниках, и потом прожил в отечестве до конца этого года. Переписка наша возобновилась и с новым моим отъездом в Париж и продолжалась, хотя и с большими перерывами, до моего возвращения в Россию к январю 1871 года.
В это время Урусов из студента и сотрудника «Библиотеки» превратился в знаменитость адвокатуры. Таким он со мною и встретился в Петербурге в первую же мою там зиму.
Того прежнего Урусова в нем я уже не нашел. Слава, большой заработок, успех у женщин, щекотание тщеславия отвели его совсем в другую область.
И только в ссылке и потом на службе в Петербурге он опять сделался тем любителем изящной литературы и театра, который так привлекал меня в дни его первой молодости.
В «Библиотеке» он писал письма на художественные темы; не только о театре, но и по вопросам искусства. В работе он был ленивенек, и его надо было подталкивать; но в нем дорог был его искренний интерес к миру изящного слова, какого я не видал в такой степени в его сверстниках.
Ему недоставало серьезности настоящего работника. Он слишком отдавался всем приманкам жизни, но жилка литературности никогда в нем не переставала биться.
И все, что он впоследствии и в Риге, и в Петербурге, и в Москве (когда переехал туда доживать) писал о театре, о книгах, об искусстве — во всем этом он уже пробовал себя в «Библиотеке».
Практика адвоката, забота о материальном достатке, семейные дела, долгие любовные увлечения, великосветские знакомства — ничто не охладило его любви к изящной литературе — и русской и, в особенности, французской.
К тем годам, когда мы с ним были членами петербургского Шекспировского кружка (конец 80-х и начало 90-х годов), Урусов уже был фанатическим поклонником Бодлера, а потом Флобера и до смерти своей оставался все таким же «флоберистом».
Но этот культ великого французского реалиста не помешал ему сыграть роль и в нашем декадентстве. Он первый начал поощрять таких поэтов, как Бальмонт, и дружил с первоначальными кружками тогдашних «модернистов».
Но его увлекало всегда поклонение форме, искренность и оригинальность настроения. Поэзию он действительно любил, хотя как критик ценил гораздо больше внешнюю отделку, чем глубину мысли.
Он же несколько ранее влюбился в талант Чехова, когда тот только что стал печатать свои рассказы в «Новом времени».
И к нашим классикам — к Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Островскому — он относился как безусловный поклонник, изучал их детально, почти педантически. Одно время по его совету кружок его приятелей и приятельниц начал составлять словарь всех пушкинских слов.
Только к Толстому относился он с большими оговорками, недостаточно ценил его творческую силу и не прощал ему его нехудожественного языка.
В Москве, когда ужасная болезнь лишила его слуха и превратила почти что в руину, он не перестал читать своих любимых авторов, и, уже совсем глухим и павшим на ноги, он еще выступал на публичных чтениях с беседами на литературные темы.
Останься он только писателем с тех самых годов, когда он работал у меня в «Библиотеке», из него не вышло бы ни Тэна, ни даже Брандеса, но он выработал бы из себя одного из самых разносторонних и живых «эссеистов» по беллетристике, театру, искусству.
Но беллетристического таланта у него не было. Молодые его статьи написаны языком более простым и искренним, чем то, что он печатал двадцать лет позднее.
Из Москвы пришел к нам и Левитов, тогдашний соратник Слепцова и Николая Успенского в реалистическом изображении всякой «меньшей братии».
Это был типичный «богема» 60-х годов, родом семинарист, тоном и всем своим побытом московский неудачник, с неотделанным талантом и особенным пролетарски-народническим лиризмом.
У меня он печатал свои «Московские комнаты снебилью». В них он явился предтечей не только Глеба Успенского, но и Горького — сорок лет раньше появления его «босяков», но без его босяческого революционного субъективизма.
Еще ближе к нему стоял другой реалист-лирик, явившийся раньше Горького, — Альбов.
Тогда, то есть в начале 60-х годов, Левитов был несомненно инициатор этого настроения, этого усиленного сочувствия к мелкому, темному, порочному, бьющемуся люду.
И сам он представлял собою в полном смысле литературного пролетария и притом с особенной горечью и жалобами на свою горькую долю.
Всегда без копейки, в долгах, подверженный давно «горькому испитию», Левитов в трезвом виде мог быть довольно занимательным собеседником, но с годами делался в тягость и тем, кто в нем принимал участие, в том числе и князю А. И. Урусову.
Сотрудник он был желательный, и я очень ценил его талант и даже манеру писать, его язык, по-своему весьма своеобразный и действующий на душу читателя. Но, разумеется, он отличался беспорядочностью работы и без «аванса» писать не мог.
Я потерял его из виду к концу моего редакторства и уже по возвращении из-за границы в 1871 году слышал о его злосчастном доживании от москвичей.
Участие в «Библиотеке» лириков-реалистов, как Левитов, давших окраску тогдашней демократической беллетристике, показывает, до какой степени мы в журнале сочувствовали и такому течению, ценя, конечно, прежде всего талант и художественность исполнения.
Можно прямо сказать, что у нас были такие же точно сотрудники, как и в тогдашних более радикальных журналах, особенно по беллетристике.
Первой молодой силой «Современника» считался ведь Помяловский; а с ним я вступил в личное знакомство и привлекал его к сотрудничеству. Он положительно обещал мне повесть и взял аванс, который был мне после его скорой смерти возвращен его товарищем и приятелем Благовещенским.
Помяловский заинтересовал меня, когда я еще доучивался в Дерпте, своими повестями «Мещанское счастье» и «Молотов». Его «Очерки бурсы», появлявшиеся в журнале Достоевских, не говорили еще об упадке таланта, но ничего более крупного из жизни тогдашнего общества он уже не давал.
И мы знаем, что помехой была, главным образом, его кутильная жизнь.
Его раньше меня знал Воскобойников, и, кажется, он и способствовал привлечению ею к «Библиотеке».
У меня в редакции он был раза два-три, и мне, глядя на этого красивого молодого человека и слушая его приятный голос духовного тембра, при его уме и таланте было особенно горько видеть перед собою уже неисправимого алкоголика.
Раз мой верный служитель Михаил Мемнонов докладывает мне конфиденциально:
— Господин Помяловский пришли.
— В каком виде? — спрашиваю я.
— Совсем не годятся, Петр Дмитриевич.
И таким он бывал целыми неделями.
Вскоре он заболел, и его в клинике лечили от белой горячки. Лежал он вместе с приятелем своим Щаповым, о котором я еще буду говорить, в клинике Военно-медицинской академии, и я их обоих там навещал. Тогда он уже оправился, и я никак не думал, что он близок к смерти. Но у него сделалось что-то, потребовавшее операции, и кончилось это антоновым огнем и заражением крови.
В его лице безвременно погибла крупнейшая жертва русской действительности, ужасных привычек, грубости и дикости. И надо удивляться, как из своей жестокой «бурсы» он вынес столько свежего дарования, наблюдательности и знания совсем не одной семинарской и поповской жизни. Он это блистательно доказал такой вещью, как его «Молотов».
С Левитовым попал в редакцию и Глеб Успенский. Его двоюродного брата Николая я помню тоже в редакционном кабинете; но сотрудником журнала он, кажется, не сделался.
«Глебушку» привели москвичи. Он еще ничего не печатал в Петербурге, и у меня появился первый его рассказ «Старьевщик», прежде чем он стал печатать у Некрасова.
Он не был уже тогда очень юн, но смотрел еще юношей. Я уже имел случай вспоминать о моем первом знакомстве с этим милым человеком и даровитейшим писателем, который кончил так печально.
Тогда я его после появления в редакции с рассказом «Старьевщик» что-то мало помню в Петербурге. Больше он у меня, если не ошибаюсь, не печатал ничего.
Наше дальнейшее знакомство относится уже к 70-м годам. Мы тогда вспоминали про «Старьевщика» и про его дебюты. Он уже получил известность, но все-таки не мог устроить своего материального положения сколько-нибудь прочно.
Все та же срочная и спешная работа, все те же долги редакторам, а когда обзавелся семьей — усилившаяся нужда, хотя ему хорошо платили и охотно покупали у него право отдельных изданий.
Тип перебивающегося с «хлеба на квас» писателя и сложился в 60-х годах. Прежде редкий писатель — даже и с крупным дарованием — жил только на гонорар. Такие таланты, как Гончаров, Салтыков, были десятки лет чиновниками.
А тут народилась «богема», и как раз к той полосе, когда мы выступали в литературе.
Под моим редакторством начинал и Антропов, впоследствии известный автор пьесы «Блуждающие огни». Его ввел Воскобойников, который был с ним очень близок и заботился о нем с отеческим чувством. Теперь он забыт, и только любители театра помнят его «Блуждающие огни». Эту пьесу до сих пор еще играют в провинции.
В журнале он еще не пробовал себя как беллетрист, а писал статьи и фельетоны очень бойким и изящным языком. Да и весь он был тогда чрезвычайно красивый и приятный брюнет, живой, пылкий, влюбчивый, возбуждавший в женщинах волнение, куда бы он ни появлялся. Он учился в Петербургском университете, литературу любил искренно. Но работника из него не вышло. Позднее, уже к 70-м годам, он после успехов как драматург превратился также в «богему» и прожигал жизнь, предаваясь тем же излишествам, которые стольких писателей свели в преждевременную могилу.
В нашем редакционном кружке он давал молодую, изящную ноту; но тогдашними разрывными идеями не увлекался и был чрезвычайно предан культу «чистого искусства».
В. П. Острогорский, сделавшийся популярнейшей личностью в петербургской интеллигенции, начинал в «Библиотеке» и дебютировал статьей, написанной по моему предложению и настоянию.
Он не был словесником по университетскому учению, а студентом-юристом; не знаю, кончил ли курс, и сделался потом учителем русской словесности.
В редакцию он попал, вероятно, с какой-нибудь небольшой статейкой. Он мне понравился, и я, разговорившись с ним о Помяловском, которого он любил и, кажется, был лично знаком с ним, предложил ему попробовать себя в критическом этюде.
Он справился с ним неплохо, но разбор вышел, конечно, в более публицистическом духе, как тогда требовалось. Я лично был бы гораздо довольнее этюдом, где талант и язык Помяловского стояли бы на первом плане.
Мы сохранили с Острогорским очень хорошие отношения, и каждый раз, когда он (особенно под веселый час) вспоминал о 60-х годах, он непременно указывал на меня бывшим тут общим знакомым и своим удушливо-зычным голосом восклицал:
— Петр Дмитриевич пустил меня в ход! Он мне предложил писать о Помяловском!
Такому и тогда искреннему и пылкому поборнику освободительных идей, как этому «Виктору» (так его мы все звали за глаза), в «Библиотеке для чтения» было бы очень привольно. Но он и тогда уже пустился для добывания себе средств к жизни в учительство, где очень скоро выдвинулся среди петербургских более рутинных и малодаровитых педагогов.
Одной из последних наших встреч была в день его юбилея. Я приехал к нему уже после депутаций и застал его за столом, где стояли обильные закуски, и, разумеется, в весьма возбужденном настроении от винных паров.
Он увел меня в кабинет, показал все подарки, адреса, венки и с юмором старого поклонника Бахуса сказал:
— Вот, Петр Дмитриевич, больше четверти века пью, а, как видите, ничего! Все еще жив курилка!
«Страшный заговорщик» Ткачев был тогда очень милый, тихонький юноша, только что побывавший в университете, где, кажется, не кончил, и я ему давал переводы; а самостоятельных статей он еще не писал у нас. Я уже рассказывал, как он быстро перевел «Утилитаризм» Дж. Ст. Милля, который цензура загубила.
Вспоминается мне и одна подробность из времени работы Ткачева в «Библиотеке».
Я поручил моему секретарю свезти ему гонорар. Он застал не его, а мать его, и она, благодаря его, сказала ему:
— Передайте Петру Дмитриевичу, что мой Петя уж так для него старается, так старается!
И этот «Петя» еще до превращения своего в эмигранта, когда сделался критиком, разбирал в снисходительном тоне одну из моих повестей, которая, кажется, появилась в том самом «Деле», где он состоял одно время рецензентом.
Тогда в «Библиотеке» ни он, ни мои ближайшие сотрудники, конечно, не могли бы себе представить этого тихого, улыбающегося юношу в роли эмигранта, который считался вожаком целой партии. За границей я его никогда не встречал ни в первые годы его житья там, ни перед его концом.
Из Петербургских начинающих литераторов попал к нам и Пятковский, впоследствии постоянный сотрудник некрасовских «Отечественных записок» и издатель «Наблюдателя».
Я с ним сдавал экзамен в Петербургском университете в знаменитые сентябрьские дни. Он быт юрист, а может быть, и «администратор», как я по программе моего кандидатского экзамена.
В «Библиотеку» он явился после своей первой поездки за границу и много рассказывал про Париж, порядки Второй империи и тогдашний полицейский режим. Дальше заметок и небольших статей он у нас не пошел и, по тогдашнему настроению, в очень либеральном тоне. Мне он тогда казался более стоящим интереса, и по истории русской словесности у него были уже порядочные познания. Он был уже автором этюда о Веневитинове.
В 70-х годах я его нашел сотрудником «Отечественных записок» по библиографии, и он везде выставлял радикализм своих взглядов, что плохо вязалось с некоторыми его душевными свойствами. Он держался кружка «Отечественных записок», и я у него на вечеринках находил Н. Курочкина и Деммерта.
Сделавшись присяжным педагогом и покровителем детских приютов, он дослужился до генеральского чина и затеял журнал, которому не придал никакой физиономии, кроме крайнего юдофобства. Слишком экономный, он отвадил от себя всех более талантливых сотрудников и кончил жизнь какого-то почти что Плюшкина писательского мира. Его либерализм так выродился, что, столкнувшись с ним на рижском штранде (когда он был уже издатель «Наблюдателя»), я ему прямо высказал мое нежелание продолжать беседу в его духе.
Но тогда, в 60-х годах, этот молодой литератор не посмел бы давать ход своему смешному и антипатичному юдофобству. Тогда этого совсем не было в воздухе; а мой журнал отличался, напротив, самым широким отношением к полякам и ко всем вообще инородцам и жителям окраин.
Евреев было тогда еще очень мало в журналах и газетах. Их всех можно бы было пересчитать по пальцам.
Кажется, П. И. Вейнберг направил ко мне весьма курьезного еврея, некоего Оренштейна, которому я сам сочинил псевдоним «Семен Роговиков» — перевод его немецкой фамилии. Он был преисполнен желания писать «о матерьях важных», имел некоторую начитанность по-немецки и весьма либеральный образ мыслей и долго все возился с Гервинусом, начиная о нем статьи и не кончая их.
Он все почти время моего редакторства состоял при «Библиотеке» ходил в нее ежедневно с всевозможными проектами — и статей, и разных денежных комбинаций, говорил много, горячо, как-то захлебываясь, с сильным еврейским прононсом. И всегда он был без копейки, брал авансы, правда по мелочам, и даже одно время обшивался на счет редакции у моего портного.
Эту подробность проведали другие сотрудники, и она перешла в анекдот следующих генераций.
«Семен Роговиков» видался часто с Вейнбергом и, приходя в мой кабинет или в редакционную, где стояли шкапы и большой стол, на котором правились корректуры, неизменно начинал свои ламентации фразой:
— Положение Петра Исаича (Вейнберга) — не блестящее; но мое положение — ужасное!
Или переставлял половины этой фразы и говорил с той же жалостной миной:
— Мое положение — не блестящее; но положение Петра Исаича — ужасное.
А тогдашнее положение П. И. Вейнберга было действительно «не блестящее». Издательство «Века» наделило его большим долгом; он как-то сразу растерял и работу в журналах; а женитьба наградила его детьми, и надо было чем-нибудь их поддерживать.
Тогда-то он и был вынужден поступить на службу столоначальником в военное министерство и бился до назначения его в Варшаву профессором в главную школу, потом в университет, и получения места редактора «Варшавского дневника» с хорошим окладом и огромной казенной квартирой. Но это случилось уже к 70-му году.
Пикантно и то, что два «нововременца» начинали также в «Библиотеке для чтения», один почти исключительно, а другой отчасти.
Это были М. П. Федоров и Буренин.
Бывший впоследствии ответственным редактором «Нового времени», Федоров (которого все звали «Эм-пе-фё») перешел в «Библиотеку» с самой своей первой статейки о французском театре и продолжал давать некоторое время отчеты и при мне.
С ним я был в личном знакомстве и через него сходился тогда (кажется, и до своего редакторства) с братьями Краевскими, сыновьями Андрея Александровича, и Евгением Утиным — его товарищем по Петербургскому университету.
Тогда, то есть в первую половину 60-х годов, он представлял из себя молодого барича благообразной наружности и внешнего изящества, с манерами и тоном благовоспитанного рантье. Он и был им, жил при матери в собственном доме (в Почтамтской), где я у него и бывал и где впервые нашел у него молодого морского мичмана, его родственника (это был Станюкович), вряд ли даже где числился на службе, усердно посещал театры и переделывал французские пьесы.
Эта беспечная жизнь внезапно прекратилась. Из-за долгов его брата дом надо было продать и превратиться в литератора, живущего на гонорар с прибавкой какой-то службы.
В годы моей «Библиотеки» он был дилетант, любитель театра и беллетристики, без всякой политической окраски, но — как все тогда — с либеральным образом мыслей, хотя и был сыном бессарабского генерал-губернатора, генерала Федорова, одного из администраторов николаевского типа.
Ему и под старость, когда он состоял номинальным редактором у Суворина, дали прозвище: «Котлетка и оперетка». Но в последние годы своего петербургского тускло-жуирного существования он, встречаясь со мною в театрах, постоянно повторял, что все ему приелось, — сонный, тучный и еще более хромой, чем в те годы, когда барски жил в доме своей матери на Почтамтской.
Буренин приехал из Москвы. Там он как стихотворец сошелся с Плещеевым и, вероятно, от него и был направлен ко мне. А с Плещеевым я уже был знаком по Москве.
Он уже помещал сатирические стихотворения в «Искре», но, живя подолгу в Петербурге, еще не распрощался с Москвой, где он учился в школе живописи и ваяния и вышел оттуда со званием архитекторского помощника.
По тогдашнему тону он совсем не обещал того, что из него вышло впоследствии в «Новом времени». Он остроумно рассказывал про Москву и тамошних писателей, любил литературу и был, как Загорецкий, «ужасный либерал». Тогда он, еще не проник к Коршу в «Петербургские ведомости», где сделался присяжным рецензентом в очень радикальном духе. Мне же он приносил только стихотворные пьесы.
По критике он еще ничего не писал у меня, но я относился к нему всегда весьма благожелательно, и личные наши отношения были самые мирные и благодушные.
И по возвращении моем в Петербург в 1871 году я возобновил с ним прежнее знакомство и попал в его коллеги по работе в «Петербургских ведомостях» Корша; но долго не знал, живя за границей, что именно он ведет у Корша литературное обозрение. Это я узнал от самого Валентина Федоровича, когда сделался в Париже его постоянным корреспондентом и начал писать свои фельетоны «С Итальянского бульвара». Было это уже в зиму 1868–1869 года.
С удовольствием упомяну еще об одном сотруднике, который только у меня, в «Библиотеке», стал вырабатывать себя как своеобразною умственную физиономию.
Это был некто Варнек, более случайный, чем профессиональный писатель, уже не первой молодости, когда я с ним познакомился, имевший какие-то занятия вне журнала, кажется, по педагогической части.
У него я никогда не бывал. Жил он на Васильевском острове; по своему физическому складу, тону, языку, манерам смахивал на совсем обруселого инородца.
Он писал на оригинальные темы, по вопросам общественной психологии, и своим очень характерным языком, немножко расплывчато, но умно, наблюдательно, радикально — в смысле этического критерия.
Одна из пущенных мною в 1865 году передовых статей «Библиотеки» (которые появлялись всегда без подписей авторов) была написана им.
Что он писал впоследствии — я не знаю; если он уже умер, то в последнее время. И помнится мне, что только всего один раз судьба столкнула нас в Петербурге, и он тогда смотрел уже стариком. Он, во всяком, случае, был старше меня.
Мне остается остановиться здесь на некоторых из сотрудников журнала, уже имевших тогда имя.
П. И. Вейнберг (как я сейчас упомянул) в эти годы ушел из журнализма, и я не помню, чтобы он в течение этих двух с лишком лет обращался ко мне с предложением участвовать в журнале в качестве заведующего отделом или одного из главных сотрудников. В «Библиотеку», еще при Писемском, прошел его перевод одной из драм Шекспира; но печатался он при мне.
Вероятно, он давал нам и стихотворения, но постоянного сотрудничества по какому-нибудь отделу что-то не помню.
Евгения Тур, то есть графиня Салиас (сестра Сухово-Кобылина), работала в «Библиотеке» довольно долго; но до смерти ее я никогда ее не видал. Она жила тогда постоянно в Париже и очень усердно делала для нас извлечения из французских и английских книг. От нее приходили очень веские пакеты с листами большого формата, исписанными ее крупным мужским почерком набело.
Как сотрудница она была идеальная. И выбор того, что она предлагала мне, показывал, что она держалась либеральных симпатий.
Лесков видал ее в Париже и рассказывал мне много и про нее, и про ее тамошний кружок. Она дружила с польской эмиграцией и возмущалась нашим режимом в Варшаве и Вильне.
Раз она, на первых порах ее сотрудничества, прислала мне с каким-то поручением Суворина, которого я тогда в первый раз и увидал.
Он работал уже в то время у Корша, исполнял секретарские обязанности и вырабатывал из себя того радикального «Незнакомца», который позднее приводил в восхищение тогдашнюю оппозиционную публику.
У графини Салиас он и начинал в Москве, в ее журнале, который должен был так скоро прекратиться. К ней он явился еще совсем безвестным провинциалом из народных учителей, вышедших из воронежского кадетского корпуса.
Польские дела (как я упомянул и выше) сблизили меня с Н. В. Бергом — тоже москвичом с головы до пяток, из гоголевской эпохи.
Те, кто хорошо знал Николая Васильевича (как, например, Вейнберг или наш общий приятель проф. И. И. Иванюков), считали его одним из типичнейших представителей полосы 40—50-х годов.
Таких писателей теперь уже и совсем нет, да и тогда было немного.
Родом он из обруселой баронской семьи, но уже дворянин одной из подмосковных губерний, он сложился в писателя в Москве в тогдашних кружках, полюбил рано славянскую поэзию, как словесник водился много с славянофилами, но не сделался их выучеником, не чурался и западников, был близок особенно с графиней Ростопчиной»
В его характере сидела всегда наклонность к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему чрезвычайному, живописному и тревожному.
Он приобрел известность своими записками о Севастопольской осаде, потом ездил к Гарибальди, когда тот действовал в Ломбардии и на итальянских озерах. Не мог он не заинтересоваться и польским восстанием. По-польски он давно выучился и переводил уже Мицкевича.
В «Библиотеку», сколько я помню, он попал через Эдельсона, также москвича той эпохи.
Но я воспользовался его сотрудничеством и, как говорил выше, первый из редакторов журналов предложил ему роль специального корреспондента по польскому восстанию.
Он жил сначала в Варшаве, а потом в австрийской Польше, откуда должен был выехать, потому что тамошний жонд заявил ему требование о выезде.
Когда он жил в Варшаве, в том самом коридоре, где был его номер, убили поляка, которого жонд заподозрил в шпионстве, и никогда никто не был арестован по этому делу.
Корреспонденции Берга были целые статьи, в нашем журнализме 60-х годов единственные в своем роде. Содержание такого сотрудника было не совсем по нашим средствам. Мы помещали его, пока было возможно. Да к тому же подавление восстания пошло быстро, и тогда политический интерес почти что утратился.
Наши личные отношения остались очень хорошими. Через много лет, в январе 1871 года, я его нашел в Варшаве (через которую я проезжал тогда в первый раз) лектором русского языка в университете, все еще холостяком и все в тех же двух комнатах «Европейской гостиницы». Он принадлежал к кружку, который группировался около П. И. Вейнберга.
С поляками он всегда ладил, хорошо владел их языком и тогда уже готовил к печати отдельные песни «Пана Тадеуша».
Он был необычайно словоохотливый рассказчик, и эта черта к старости перешла уже в психическую слабость. Кроме своих московских и военных воспоминаний, он был неистощим на темы о женщинах. Как старый уже холостяк, он пережил целый ряд любовных увлечений и не мог жить без какого-нибудь объекта, которому он давал всякие хвалебные определения и клички. И почти всякая оказывалась, на его оценку, «одна в империи».
Это женолюбие не носило, однако же, никакого цинического оттенка, а скорее отзывалось чувственной сентиментальностью, какую мы знаем, например, из биографии Бейля-Стендаля или Сент-Бева.
В Варшаве он сделался, разумеется, восторженным любителем польского балета и кончил тем, что уже очень пожилым человеком женился на кордебалетной танцовщице — польке.
У меня есть повесть «Поддели», написанная мною в Петербурге в 1871 году. Там является эпизодическое лицо одного московского холостяка. Наши общие знакомые находили, что в нем схвачены были характерные черты душевного склада Берга, в том числе и его культ женского пола.
Разговорный язык его, особенно в рассказах личной жизни, отличался совсем особенным складом. Писал он для печати бойко, легко, но подчас несколько расплывчато. Его проза страдала тем же, чем и разговор: словоохотливостью, неспособностью сокращать себя, не приплетать к главному его сюжету всяких попутных эпизодов, соображений, воспоминаний.
Как частный человек, собрат, товарищ он был высокой порядочности и деликатности, до педантизма аккуратный и исполнительный, добрый товарищ, безупречный во всяком деле, особенно в денежных делах.
Увы! Такой тип среди пишущей братии никогда не преобладал.
Все Москва же доставила еще одного, уже прогремевшего когда-то сотрудника, знаменитого Павла Якушкина.
Он был приятель Эдельсона; но наше знакомство произошло не у него и не в редакции.
На Невском около подъезда ресторана «Ново-Палкин» (он помещался тогда напротив, на солнечной стороне улицы), куда я заезжал иногда позавтракать или пообедать, меня остановил человек чрезвычайно странного вида, соскочивший с дрожек.
Черноволосый, очень рябой, с мужицким лицом, в поношенной поддевке и высоких сапогах, бараньей шапке и в накинутом на плечи мужицком кафтане из грубого коричневого сукна.
Но на носу торчали очки.
— Вы Боборыкин? — окликнул он, воззрившись в меня. — А я — Якушкин. Павел Якушкин.
И стал он похаживать в редакцию, предлагал статьи, очень туго их писал, брал, разумеется, авансы, выпивал, где и когда только мог, но в совершенно безобразном виде я его (по крайней мере у нас) не видал.
Из него наши журналы сделали знаменитость в конце 50-х годов. У Каткова в «Русском вестнике» была напечатана его псковская эпопея, которая сводилась в сущности к тому, что полицмейстер Гемпель, заподозрив в нем не то бродягу, не то бунтаря, продержал его в «кутузке».
Его история подала повод к первому взрыву общественных протестов после николаевского бесправия.
Сам по себе он был совсем не «бунтарь»; даже и не ходок в народе с целью какой бы то ни было пропаганды. Он ходил собирать песни для П. Киреевского, а после своей истории больше уже этим не занимался, проживал где придется и кое-что пописывал.
Мне было занимательно поближе присмотреться к нему. Сквозь его болтовню, прибаутки, своего рода юродство сквозил здравый рассудок, наблюдательность, юмор и довольно тонкое понимание людей.
Славянофилов — тех, коренных, Киреевских и Аксаковых — он понимал без всякого увлечения и любил повторять про них:
— Читали книжки, немецкие!
Этим он хотел сказать, что свою теорию русского народа они вычитали у философов-немцев, что и было на самом деле.
В Якушкине вы чувствовали «интеллигента» с университетским образованием и литературными традициями, но тон и жаргон он себе «натаскал» мужицкие, по произношению южнее от Москвы, как народ говорит в Орловской или Рязанской губерниях.
Он обладал юмором и мог довольно тонко оценивать людей. Но отчасти потому, что был всегда «в легком подпитии», а главное, от долгой привычки к краснобайству слишком много болтал, напуская на себя балагурное юродство.
Свою мужицкую «сбрую» он никогда и нигде не снимал. Поддевку и шаровары (часто плисовые) носил неряшливо, больше при красной рубахе, и вообще отличался большим неряшеством и нечистоплотностью.
Где он жил — мне было неизвестно. Только раз я попал к нему, да и то потому, что он гостил у Эдельсона.
Насчет работы с ним была всегда возня. Свои статьи он носил в кармане шаровар, в виде замусоленных кусочков бумаги.
Взявши аванс (правда, всегда умеренный), он долго растабарывал про свое писание, но вовремя доставить статьи никогда не мог.
То, что появилось в первое время в «Библиотеке», носило общее заглавие: «Велик Бог земли русской». Подошел август 1864 года. Якушкин запросился со мною в Нижний на ярмарку.
Я ехал туда по делу заклада моего имения. Поехал он на мой счет, но демократически, в третьем классе. Дорогой, разумеется, выпивал и на ярмарке поселился в каких-то дешевых номерах и стал ходить по разным тамошним трущобам для добычи бытового материала.
У него была намечена «богатая» программа «Очерков Макарьевской», как ярмарку еще до сих пор называют нижегородцы.
Заполучив от меня некоторую «толику» денег, он вскоре нарвался на историю вроде той, какая его прославила в Пскове с полицмейстером Гемпелем.
В ресторане нашего знаменитого буфетчика Никиты Егорова он подтрунил над жандармским офицером Перфильевым у буфета. Тот его заметил и донес о нем как о подозрительном индивиде.
Его призвали к тогдашнему ярмарочному генерал-губернатору генералу Огареву. Тот стал на него кричать, и дело кончилось его высылкой.
С Огаревым я тогда же имел случай говорить о Якушкине. Генералу сделалось немножко совестно передо мною, и он стал отзываться о нем в шутливом тоне как о беспорядочной личности, на которую серьезно смотреть нельзя.
Когда Якушкин к нему явился в «Главный дом», Огарев спросил его:
— Что вы тут делаете?
— Работаю для Боборыкина.
Такой ответ не особенно-таки удовлетворил администратора. Но зная, что Якушкин передаст мне этот диалог, Огарев стал все-таки извиняться, что не помешало ему удалить Якушкина, а редакция лишилась статьи.
Так из этой экспедиции ничего и не вышло. Погиб, разумеется, и аванс.
Раньше, в Петербурге, Якушкина тоже потревожила полиция, и на вопрос, чем он занимается и какие у него знакомые, ответил:
— Хожу в гости к графу Строганову, в его дом у Полицейского моста.
И он действительно ходил к этому бывшему попечителю Московского университета, и тот любил с ним беседовать.
О последней полосе жизни Якушкина я что-то не помню. Знаю только, что мы с ним уже не встречались до моего отъезда за границу. Не помню, чтоб он писал мне откуда-нибудь.
Свою когда-то славу он пережил уже и тогда, когда работал в «Библиотеке».
Не в пример моим тогдашним коллегам, редакторам старше меня и опытом и положением в журналистике, с самого вступления моего в редакторство усиленно стал я хлопотать о двух отделах, которых при Писемском совсем почти не было: иностранная литература и научное обозрение.
Кроме того, что мне доставляла Евгения Тур, я обратился к П. Л. Лаврову с предложением вести постоянный отдел иностранной литературы по разным ее областям, кроме беллетристики.
Он на это охотно пошел и несколько месяцев занимался этим, хотя, сказать правду, слишком спешно. Книжные магазины доставляли в редакцию каждый месяц вороха новых книг. Лавров заезжал, пересматривал их, некоторые брал с собою и присылал свое обозрение.
Если оно составлялось не совсем так, как я мечтал, вина была не моя. А мой выбор остановился на нем потому, что он считался тогда в Петербурге самым замечательным энциклопедистом и по философии, и по истории точных знаний, и по общей истории, и по общественным наукам.
С этим тогда артиллерийским полковником я уже давно был знаком. Студентом Дерптского университета я при нем на вечере читал свою первую комедию «Фразеры» в зиму 1858–1859 года.
И в начале 60-х годов Петр Лавров был все такой же рослый, полный, с огненными бакенбардами, сильно картавый, речистый, веселый, полный сил.
О нем как о профессоре Михайловской артиллерийской академии мне много рассказывал и мой сожитель по квартире (до моего редакторства) граф П. А. Гейден, тогда еще слушатель Петербургского университета, после того как он из Пажеского корпуса поступил в Артиллерийскую академию, где Лавров читал теоретическую механику.
Его любили слушатели-офицеры, и Гейден умел представлять его манеру преподавать и рассказывал разные о нем истории, всегда в сочувственном тоне.
Как писатель я возобновил с Петром Лавровым знакомство и бывал у него, знавал его супругу и одного из племянников, правоведа, впоследствии крупного судейского чиновника. Эти Лавровы — все псковские, из тамошнего дворянства.
У себя дома он всегда очень радушно принимал, любил разговор на тогдашние злобы дня, но революционером он себя тогда не выказывал ни в чем. Все это явилось позднее. Даже и в мыслительном смысле он не считался очень радикальным. В нем еще чувствовалась гегельянская закваска. Воинствующей публицистикой он в те годы не занимался и к редакции «Современника» близок не был.
Его всего сильнее интересовали тогда философские вопросы, эволюция идей и культурное развитие общества.
Меня как редактора он ни во что не втягивал — противоправительственное, не давал читать никаких прокламаций или запрещенных листков, никогда не исповедовал меня насчет моих идей.
Но я помню, что в нем и тогда мне что-то казалось не то что двойственным, а прикрывающим гораздо более «разрывное» содержание.
Все это ждало момента, чтобы прорваться, а остальное доделали его ссылка и бегство за границу. Но все это случилось уже по прекращении «Библиотеки».
Как сотрудник он не внес в журнал яркой окраски. Ему просто было некогда давать нам что-нибудь более крупное и самостоятельное. Он слишком тогда был занят и преподаванием и сотрудничеством в разных других журналах и изданиях.
Мои дальнейшие встречи с Лавровым относятся уже к заграничной полосе, когда я видал его в Париже.
Научное обозрение поручил я другому «артиллеристу» — А. Н. Энгельгардту, тогда профессору химии.
Он ездил в редакцию забирать книги, производил всегда очень приятное впечатление своей наружностью, тоном и добродушием. Домами я не был с ним знаком.
Тогда никак нельзя было бы подумать, что из него выйдет тот агроном-народник, который выказал в своих письмах в «Отечественных записках» столько таланта, особенно в своем языке.
Степень его тогдашнего политического радикализма трудно было разглядеть; но он, без сомнения, был далек от той народнической концепции агронома, какая явилась у него в деревне.
И на него ссылка — хотя только в свое имение — сильно повлияла, но не сделала из него революционного вожака, как его коллегу по артиллерии Лаврова, а напротив, превратила его в агронома, далекого от всякого бунтарского радикализма.
История не была забыта в «Библиотеке». Я свел знакомство с Н. И. Костомаровым и был истинно доволен, что мог приобрести от него «Ливонскую войну». Тогда гонорар (за исключением таких беллетристов, как Тургенев, Толстой, Гончаров и отчасти Островский) не был еще очень высок. Ученому с именем и талантом Костомарова полистная плата была семьдесят пять — восемьдесят рублей. Сто рублей за статью тогда вряд ли кто получал.
Николая Ивановича я навещал в его квартире на Васильевском острове, помню его голос, произношение с южнорусским оттенком, искренность и даже пылкость его тона, когда он вспоминал что-нибудь из своей молодости или характеризовал те исторические лица, какими особенно интересовался в то время.
Иван Грозный был как раз личность, которую он изучал как психолог и писатель. Его взгляд казался многим несколько парадоксальным; но несомненно, что в Иване сидела своего рода художественная натура на подкладке психопата и маньяка неограниченного самодержавия. Оценка москвичей, слишком преклонявшихся перед государственным значением Грозного, не могла удовлетворять Костомарова с его постоянным протестом и антипатией к московскому жестокому централизму.
По бытовой истории старого русского общества и раскола мы приобрели тогда в профессоре Щапове очень ценного сотрудника. Но это было уже слишком поздно: он был близок к административной ссылке и лежал в клинике в одном корпусе с Помяловским, где я его и посещал.
У него была запущенная болезнь, которая безобразила его лицо, да и общее его физическое состояние было крайне расшатано, опять-таки от российского недуга — алкоголизма.
Обошлись с ним жестоко: сослали на место его родины, то есть в Восточную Сибирь. Этот переезд убийственно подействовал на него.
У него я находил молодую девушку (кажется, церковного происхождения), которая и разделила с ним ссылку, сделавшись его женой.
Щапов сохранял тон и внешность человека, прикосновенного к духовному сословию; дух тогдашних политических и общественных протестов захватил его всецело. В его лице по тому времени явился один из самых первых просвещенных врагов бесправия и гнета. Если он увлекался в своих оценках значения раскола и некоторых черт древнеземского уклада, то самые эти увлечения были симпатичны и в то время совсем не банальны.
Из писательниц уже с именем я постарался о привлечении таких беллетристов, как Марко Вовчок (г-жа Маркович), В. Крестовский — псевдоним (то есть Н. Д. Хвощинская) и ее сестра, писавшая под псевдонимом Весеньев.
С Марко Вовчок у меня не было личного знакомства. Она проживала тогда больше за границей, и от нее являлся всегда с рукописью молодой человек, фамилию которого не вполне тоже припоминаю; кажется, г-н Пассек. Она дала нам несколько рассказов, но уже не из лучшего, что она писала.
С Хвощинской у меня вышла интересная переписка, прежде чем она стала сотрудницей «Библиотеки».
Тогда в «Отечественных записках» Краевского стали появляться в 60-х годах критические заметки (под мужским именем), где разбирались новости журнальной беллетристики, и когда в начале 1863 года появилась рецензия на две первых части моего романа «В путь-дорогу», я стал разыскивать, кто этот критик, и чрез М. П. Федорова, приятеля сыновей Краевского, узнал, что это давнишняя сотрудница «Отечественных записок» Н. Д. Хвощинская. Она еще не была тогда замужем и давно уже, с первых своих вещей, подписывалась «В. Крестовский»; и слово «псевдоним» стала прибавлять к этому имени с тех пор, как появился подлинный В. (то есть Всеволод) Крестовский, поэт, тогда еще студент Петербургского университета.
Автор рецензии очень сочувственно отнесся ко мне как молодому беллетристу; но самую личность героя она подвергла довольно строгому моральному анализу, найдя, что он только «сентиментальный эгоист».
По тону этой оценки я уже предчувствовал, что эго писала женщина, но не подозревал, что это Хвощинская. Она до того не печатала никогда критических статей под своим известным псевдонимом.
Я написал ей письмо в Рязань, где она всегда жила еще при своей покойной матери.
Ни в Москве, ни в Петербурге я ее никогда и нигде не встречал; знал только, что она уже старая девица и очень дурна собою, хотя и имела роман в писательском мире.
Надежда Дмитриевна ответила мне очень милым письмом, написанным с ее обычной теплотой приподнятого стиля и блестками проницательного ума.
Сделавшись редактором, я сейчас же написал сам небольшую рецензию по поводу ее прекрасного рассказа «За стеной», появившегося в «Отечественных записках». Я первый указал на то, как наша тогдашняя критика замалчивала такое дарование. Если позднее Хвощинская, сделавшись большой «радикалкой», стала постоянным сотрудником «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова, то тогда ее совсем не ценили в кружке «Современника», и все ее петербургские знакомства стояли совершенно вне тогдашнего «нигилистического» мира.
Мне было особенно приятно высказаться о ней, что я сделал вполне бескорыстно, не желая вовсе привлечь ее во что бы то ни стало к журналу.
Когда она приехала пожить в Петербург, и мы с ней лично познакомились и сошлись, она написала для «Библиотеки» прелестный рассказ «Старый портрет — новый оригинал», навеянный посещением Эрмитажа и портретом работы Рембрандта, моделью которого послужила ему будто бы родная мать, что, кажется, оказалось неверно.
Она меня познакомила с своей сестрой (тоже тогда пожилой девицей, но моложе ее), уже писавшей под псевдонимом Весеньева.
Это была очень талантливая девушка, и из нее вышла бы крупная писательница, если б смерть вскоре не унесла ее.
В «Библиотеку» она дала блестящий рассказ из того переходного времени, когда дворяне-рабовладельцы стали задумываться над вопросом: как же им теперь быть, что делать и как удержать свое прежнее, уже невозвратное прошлое.
Мои знакомства в Петербурге за эти два сезона, 1863–1865, не исчерпывались одним лишь составом наших, и начинающих и старых, известных писателей.
О знакомстве в зиму 1861–1862 года с Островским и наших дальнейших встречах я уже говорил и ничего особенно выдающегося добавить не имею. А то, что я помню из встреч наших в 70-х годах, я расскажу в других местах.
Тургенева я не приобрел в сотрудники в 1864 году, но мой визит к нему и разговор по поводу моей просьбы о сотрудничестве остались в моей памяти, и я уже имел случай вспоминать о них в печати в другие годы — и до кончины его, и после.
Меня до сих пор удивляет тот тон откровенности, С какой Иван Сергеевич мне, незнакомому человеку, чуть не на двадцать лет моложе его, стал говорить, как он должен будет отказаться от писательства главным образом потому, что не «свил своего собственного гнезда», а должен был «примоститься к чужому», намекая на свою связь с семейством Виардо. А живя постоянно за границей, ой по свойству своего дарования не в состоянии будет ничего «сочинять из себя самого».
Мне и тогда такая, хотя бы и несколько «деланная», простота скорее понравилась. Но я знал, как и все тогда знали, что Тургенев был огорчен той коллизией с молодой публикой и критикой, какая произошла после «Отцов и детей».
В ту зиму он ведь и читал «Довольно», где его пессимизм впервые принял такую острую форму.
Вообще же я не скажу, чтобы тогдашний Иван Сергеевич мне особенно полюбился. Впоследствии он стал в своем обхождении и тоне гораздо проще. Отсутствие этой простоты всего больше мешало поговорить с ним «по душе». А я тогда очень и очень хотел бы побеседовать с ним, если не как равный с равным, то по крайней мере как молодой беллетрист и журналист с таким старым и заслуженным собратом, как он.
Первое впечатление от Тургенева многие и кроме меня получали точно такое же, даже и позднее, например, в конце 70-х годов, особенно если видели его впервые в обществе.
У сестер Хвощинских в ту самую петербургскую зиму я с ним провел вечер в номере гостиницы («Знаменской») за самоваром.
Туда он явился очень франтоватым, в светло-сиреневых (gris perle) перчатках, которые долго не снимал, сидел за столом, тонко беседовал, но оставался слишком «барином» с оттенком западноевропейского джентльмена.
То, что я видел в Тургеневе и слышал от него более простого и характерного, относится уже к следующим полосам моей жизни.
Когда была издана его переписка после его смерти, то в ней нашлись фразы, в которых он довольно злобно «прохаживался» на мой счет… Это не мешало ему в разные моменты своей заграничной жизни обращаться ко мне с письмами в весьма любезном и даже прямо лестном для меня тоне.
Но он был человек изменчивых симпатий и антипатий вне своего «однолюбия» к Виардо. Когда он умер, и готовился к печати том его переписки, то его приятель Григорович говорил мне в 1883 году:
— Жду очень неприятных карамболяжей. Ведь милейший Иван Сергеевич часто в письмах к третьим лицам жестоко отделывал своих приятелей и даже самых близких.
С Григоровичем до 1867 года, то есть до Парижской выставки, я очень редко встречался в Петербурге и в сотрудники его не просил.
Когда вышел в печати его плоховатый роман «Два генерала» (в «Русском вестнике»), то я сам написал рецензию без подписи, где высказался об этой вещи совсем не хвалебно.
Я уже сказал выше, что других знаменитостей того времени, как Некрасова, Гончарова, Салтыкова, я в те годы, 1863–1865, лично еще не знал, и наше знакомство пошло уже после возвращения моего в Петербург, к 1871 году.
Федора Достоевского я в гостиных или редакционных кружках не встречал, но слыхал о нем и его жизни в Петербурге довольно много от Воскобойникова, который был вхож к Достоевским.
Когда стряслась беда с их журналом «Время», мы с ним видались у него по поводу того соглашения, в которое «Библиотека» вошла с редакцией «Время» насчет удовлетворения подписчиков.
Достоевский не был еще тогда женатым во второй раз, жил в тесной квартирке, и в памяти моей удержался довольно отчетливо тот вечер, когда мы у него сидели в его кабинетике, и самая комната, и свет лампы, и его лицо, и домашний его костюм.
В тот вечер он не произвел на меня впечатления мистика и неврастеника, говорил очень толково, на деловую тему, своим тихим, нутряным и немножко как бы надорванным голосом.
Сближаться с ним мне не было повода. Его талантливость я вполне признавал, но от его мистического славянофильства был далек. Даже и половина того, что стоит в «Преступлении и наказании», было мне совсем не по вкусу; таким осталось и по сей час.
С ним мы после того столкнулись всего два раза: в Петербурге, в магазине Базунова на Невском, и в Москве, в фойе Малого театра.
К Базунову он зашел купить какую-то духовную книжку, которая заинтересовала его своим заглавием; а в фойе Малого театра он чем-то был очень недоволен — своим местом или чем другим — уже не припомню, но каким-то вздором. И его раздражение выказывало в нем слишком очевидно совершенно больного человека, который не мог себя сдерживать никогда.
Это было, кажется, уже после его мытарств за границей, азартной игры в Баден-Бадене и той сцены, которую он сделал там Тургеневу, и того письма, где он так публично напал на него не только за «Дым», но и за все, что тот якобы говорил ему про Россию и русских.
К счастью, у нас с ним не выходило никогда ничего подобного, вероятно оттого, что я не имел с ним никаких прений и принципиальных разговоров.
В журналах Достоевских критическими силами были Аполлон Григорьев и Страхов (Косица).
И с тем и с другим я вступил в знакомство. Но ни тот, ни другой не успели попасть в мои сотрудники: один преждевременно умер, а другой — за прекращением «Библиотеки».
Григорьев всегда и давно интересовал меня. Его славянофильство не отнимало у него в моих глазах ни талантливости, ни ума, ни замечательных критических способностей. Я читал все, что он печатал и по общей критике, и как театральный рецензент.
И самая его личность, по рассказам его приятеля Эдельсона и других москвичей, интересовала меня.
Мне не случилось с ним столкнуться до того любительского спектакля, где я играл Чацкого в Кронштадте.
Спектакль был устроен группой писателей с какой-то благотворительной целью. Софью играла молодая актриса Гринева (тогда уже жена писателя Всеволода Крестовского), я — Чацкого, известный тогда любитель из чиновников военного министерства — Фамусова; а Григорьев должен был исполнять Репетилова.
Тогда-то вот в Кронштадте, в гостинице «Вена» (где мы ночевали) и произошло наше знакомство.
Он, как я и ожидал, оказался интересным собеседником, много мне рассказывал о Флоренции, где жил в одном барском семействе в качестве преподавателя уже в последние годы.
Наружность у него была прекрасная, с старорусским пошибом, и манера говорить — привлекательная, с его характерным жаргоном московского литератора еще 40-х годов.
Наша беседа происходила в бильярдной гостиницы. Григорьев казался еще трезвым, но перед ним уже стояла бутылка чего-то.
Я как Чацкий должен был идти в театр репетировать. Но к четвертому акту, где появляется Репетилов, прибежал гонец из «Вены» сообщить, что Григорьев уже лежит на бильярде мертвецки пьяный.
Вышел переполох. К счастью, нашелся какой-то ретивый любитель, который с грехом пополам справился с ролью Репетилова.
Так я и на другой день не видал Григорьева. Но потом возобновил наше знакомство, и он предложил мне какую-то статью, которую только еще задумал; но взял аванс, который так и ушел с ним в могилу. Вскоре он попал за долги в долговое отделение и, когда его оттуда выкупили, вскоре скоропостижно умер.
С двумя молодыми писателями — Вс. Крестовским и Дм. Аверкиевым, его приятелями, я очень редко встречался. Вс. Крестовский тогда уже был женат и, кажется, уже задумывал поступить в уланские юнкера и сделать себе карьеру.
Я его помнил еще с студенческих кружков, несколькими годами раньше. Тогда его товарищи носили его на руках за его стихи, в особенности за те, где нищая кому-то «грешным телом подала».
Я слыхал тогда, как он декламировал свои вещи на вечеринках, очень фатоватый, в белом жилете с золотыми пуговицами и в расстегнутом сюртуке.
Когда я встретился с ним в Кронштадте и играл с его женой Чацкого, — он уже был автор «Петербургских трущоб», которыми заставил о себе говорить. Он усердно изучал жизнь столичных подонков и умел интересовать менее взыскательных читателей фабулой своего романа с сильным романтическим привкусом.
Ни студентом, ни женатым писателем с некоторым именем он мне одинаково не нравился. И его дальнейшая карьера показала, на что он был способен, когда стал печатать обличительные романы на «польскую справу» и, дослужившись до полковничьего чина, стал известен высшим сферам своей патриотической преданностью.
Аверкиева я чаще видал. Он тогда уже попал в славянофильский кружок Ап. Григорьева и Достоевского и начал писать пьесы вроде своего «Мамаева побоища». По университетскому учению он был «естественник», но потом, сделавшись драматургом и критиком, отличался большой начитанностью, выучился по-английски, знал хорошо Шекспира, щеголял обширной памятью, особенно на стихи, вообще выдавался своей литературностью, но и тогда уже было в нем что-то неуравновешенное, угловатое, какая-то смесь идеализма с разными охранительными вожделениями.
С Григорьевым они водили приятельство по части выпивки. Шутники рассказывали тогда, что они с Григорьевым способны были, за неимением водки, пить чистый спирт, одеколон и даже керосин!
Дальнейшие его успехи на сцене (актеры звали его Дмитрий Перековеркиев), начиная с «Каширской старины», относятся к той полосе, когда меня уже не было в Петербурге.
И вот мы узнаем, что Аполлон Григорьев скоропостижно умер, только что выйдя из долгового отделения, которое помещалось тогда в Измайловском полку, где теперь сад Тумпакова. Он и тогда уже существовал как увеселительное место, и девицы легкого поведения из немок называли его «Тарасов сад».
Эта «Яма» (как в Москве еще тогда называли долговое отделение) была довольно сильным пугалом не только для несостоятельных купцов, но и для нашего брата писателя.
Было что-то унизительное в этом лишении свободы из-за какого-нибудь векселька, выданного хищному ростовщику.
Григорьев тоже оказался жертвой своего хронического. безденежья. У него уже не было такого положения, как в журнале графа Кушелева и у Достоевских. Он вел жизнь настоящего богемы. А выручить его в трудную минуту никто не умел или не хотел. «Фонд» и тогда действовал; но, должно быть, не дал ему ссуды, какая была ему нужна.
«Выкупила» его (не совсем с бескорыстной целью) известная всему Петербургу «генеральша» (вдова адмирала) Бибикова, мать красавицы Споровой, ставшей женой В. В. Самойлова.
Она внесла за Григорьева его долг с расчетом на приобретение дешевой ценой его сочинений. Но когда мы шли с нею с похорон Григорьева, она мне рассказала историю своего «благодеяния», уверяя меня, что когда она выкупила Григорьева, то он, идя с ней по набережной Фонтанки, бросился перед ней на колени.
Эти писательские похороны и памятны мне как нечто глубоко печальное. Я их отчасти описал в моей позднейшей повести «Долго ли?», где я коснулся тяжелой доли пишущей братии.
На похороны Григорьева, самые бедные и бездомные, явились его приятели Достоевский, Аверкиев, Страхов, Вс. Крестовский, композитор Серов, вот эта матрона генеральша Бибикова и несколько его сожителей из долгового отделения. Между ними выделялся своей курьезной фигурой Лев Камбек, стяжавший себе в начале 60-х годов комическую репутацию. Он был одет в поддевку из бурого верблюжьего сукна и смотрел настоящим «мизераблем», но все еще разглагольствовал и хорохорился. Был тут и художник Бернардский, когда-то талантливый рисовальщик, которому принадлежат иллюстрации в «Тарантасе» графа Соллогуба и «Путешествии madame де Курдюков».
Эти выходцы из царства теней придавали похоронам Григорьева что-то и курьезное и очень, очень печальное.
По дороге с Митрофаньевского кладбища мы зашли в какую-то кухмистерскую, и там состоялся обед со спичами. Говорили его приятели, говорили и «узники» дома Тарасова, предлагали более или менее хмельные здравицы.
А в городе, в литературном мире, в театре смерть Григорьева прошла очень холодно. И в театре его не любили за критику игры актеров. Любил его только П. Васильев, бывший на похоронах. Из актрис одна только Владимирова (о которой он говорил сочувственно за одну ее роль), не зная его лично, приехала в церковь проститься с ним.
Самый первый друг Григорьева из Петербургских писателей — Н. Н. Страхов ценил его очень высоко и после смерти хлопотал об издании его сочинений. С Григорьевым трудно было водить закадычную дружбу, если не делать возлияний Бахусу, но Страхов совсем не отличался большой слабостью к крепким напиткам.
Страхова я больше узнал уже позднее, к 70-м годам, но и тогда видал его и беседовал всегда с интересом.
Из специалиста по зоологии (он защищал даже диссертацию на магистра) он тоже, как и его приятель Аверкиев, превратился в словесника и, конечно, из тогдашних критиков был одним из самых начитанных, с солидным философским образованием.
По внешности он сразу выдавал свое духовное происхождение: благообразный и всегда благодушно улыбающийся «батюшка», а впоследствии «владыка».
Мне нравился его ум, тонкость вкуса, его язык и манера; но славянофильский налет его идей лишал его полной свободы в оценках и выводах.
Продолжай «Библиотека» существовать и сделайся он у нас главным сотрудником, он стал бы придавать журналу маложелательный оттенок, или мы должны были бы с ним разойтись, что весьма вероятно, потому что если некоторые мои сотрудники «правели», то я, напротив, все «левел».
«Как жил Петербург за эти два сезона: 1863–1864 и 1864–1865? И вообще, каково было общественное настроение?» — спросят меня.
Мне в эти годы, как журналисту, хозяину ежемесячного органа, можно было бы еще более участвовать в общественной жизни, чем это было в предыдущую двухлетнюю полосу. Но заботы чисто редакционные и денежные хотя и расширяли круг деловых сношений, но брали много времени, которое могло бы пойти на более разнообразную столичную жизнь у молодого, совершенно свободного писателя, каким я был в два предыдущих петербургских сезона.
После акта 19 февраля либеральное направление правительства стало подаваться все правее и правее.
Процессы М. Л. Михайлова и потом Чернышевского уже наложили на общее настроение тогдашней либеральной доли общества траурный налет. Приговор Михайлова и его отправление на каторгу в кандалах (карточки продавались под спудом), а потом публичная казнь Чернышевского после долгого сиденья в крепости усиливали еще минорное настроение.
Подробности этой казни передавал нам в редакции «Библиотеки» не кто иной как Буренин, тогдашний мой сотрудник. Он видел, как Чернышевский был взведен на эшафот, как над ним переломили шпагу в знак лишения прав, и он несколько минут был привязан. Буренин подметил, что тот сенатский секретарь, который читал его долгий приговор, постоянно произносил его фамилию «Чернышовский» вместо «Чернышевский».
Манифестаций, разумеется, не было таких, которые вызвали бы беспорядки. Но радикальная молодежь ожесточилась, и к 1865 году усилилось подпольное движение, которое и вызвало в следующем, 1866 году, покушение Каракозова.
Огромный успех среди молодежи романа «Что делать?», помимо сочувствия коммунистическим мечтаниям автора, усиливался и тем, что роман писан был в крепости и что его автор пошел на каторгу из-за одного какого-то письма с его подписью, причем почти половина сенатских секретарей признала почерк письма принадлежащим Чернышевскому.
И тогда и позднее много говорили в городе о том, как это Чернышевский был осужден на каторгу за письмо к Плещееву в Москву, а сам Плещеев хоть и допрашивался, но остался цел.
Это до сих пор многим кажется странным и малопонятным. Адресатом Чернышевского считали, несомненно, Плещеева. У него была одно время в Москве и типография. Известно было, что Всеволод Костомаров выдал Чернышевского.
В настоящую минуту, когда я пишу эти строки (то есть в августе 1908 года), за такое письмо обвиненный попал бы много-много в крепость (или в административную ссылку), а тогда известный писатель, ничем перед тем не опороченный, пошел на каторгу.
Один такой приговор показывал, как власть хочет расправляться с теми, кого считали крамольниками.
И журналы в первую голову пострадали от перемены ветра сверху. Журнал Достоевского был запрещен за весьма невинную статью Н. Н. Страхова о польском вопросе, а «Современник» и «Русское слово» — вообще за направление.
Польское восстание дало толчок патриотической реакции. Оно лишило и Герцена обаяния и моральной власти, какую его «Колокол» имел до того времени, когда Герцен и его друзья стали за поляков.
В Москве Катков перешел в лагерь охранителей и в «Московских ведомостях» круто повернул фронт в национально-государственном духе.
Литературный, то есть писательский, мир лишен был возможности как-нибудь протестовать. Та скандальная перебранка, которой осрамили себя журналы в 1863 году, не могла, конечно, способствовать единению работников пера.
По-прежнему не существовало никакого общества или союза, кроме «Фонда» чисто благотворительного и притом совсем не популярного среди пишущей братии. Если б было иначе, я тогда, как редактор-издатель большого журнала конечно, принял бы участие в каждом таком товарищеском начинании.
И вся литературная жизнь столицы сводилась за весь этот двухлетний период к нескольким публичным чтениям, где публика могла слышать Некрасова, Тургенева («Довольно»), Достоевского, Полонского, Майкова, некоторых менее известных литераторов.
Даже то театральное любительство, о котором я говорил в предыдущей главе, стало банальнее и тусклее. В театрах ни одного нового сильного дарования; а приезды иностранных знаменитостей относятся опять-таки к предыдущей полосе.
Реформы, в виде предварительных работ, и земская и судебная, продолжались. Их обсуждали в журналах и газетах; но земство было сведено к очень тесным сословным рамкам. Судебные уставы явились в 1864 году; но новый суд начал действовать уже позднее, к 1866 году, когда меня уже не было в России.
Газетная пресса в те годы стала уже играть некоторую роль. Явился такой газетный публицист, как Катков; а в Петербурге «Санкт-Петербургские ведомости», теснимые цензурой, все-таки выдерживали свое либеральное обличье.
Тогда в газетном деле и у Корша и, позднее, у Краевского в «Голосе» амплуа воскресного фельетониста попало в особую честь.
Суворин (под псевдонимом «Незнакомца») казался тогда настоящим радикалом. Остальные фельетонисты были тусклее его.
Тогда же стала развиваться и газетная критика, с которой мы при наших дебютах совсем не считались. У Корша (до приглашения Буренина) писал очень дельные, хотя и скучноватые, статьи Анненков и писатели старших поколений. Тон был еще спокойный и порядочный. Забавники и остроумы вроде Суворина еще не успели приучить публику к новому жанру с личными выходками, пародиями и памфлетами всякого рода.
В толстых журналах уровень критики понизился. Добролюбова не мог заменить такой писатель, как Антонович. Да вскоре замолк и «Современник». Аполлон Григорьев при всех своих славянофильских увлечениях все-таки головой стоял выше тогдашнего уровня рецензентов — и общих и театральных.
О театре он писал горячо, стоял горой за Островского, за бытовую правдивую игру, поддерживал такое крупное дарование, как Павел Васильев, преклонялся перед Садовским.
Петербург впервые увидал тогда Садовского на Александринском театре в лучших его ролях. Там он явился и в новой для него роли Подхалюзина в «Свои люди — сочтемся!».
Литературно-художественная критика в журналах, несомненно, стояла не на высоте уровня самого творчества. Ведь только что минул год с тех пор, как появились «Отцы и дети». Тургенев хоть и решил было удалиться совсем с писательской арены, но все-таки дал «Призраки» и «Довольно». Некрасов был еще в полном расцвете своего таланта, так же как и Салтыков, который тогда только и начал давать меру своего сатирического дарования и беспощадного обличения тогдашней русской жизни. Да и поэты: Полонский, Фет, Майков, Тютчев — еще не замолкли. Достоевский только что явился с такой вещью, как «Преступление и наказание».
Словесность, изящная литература, невзирая на цензуру, все-таки продолжала дело 60-х годов, и — повторяю — критика не была с нею на одном уровне.
После долгого закрытия университета молодежь вернулась в него еще в 1862 году. Но я не помню, чтобы она заявляла себя в двухлетний период 1863–1865 годов чем-нибудь выдающимся. Не было «историй», но академическая жизнь вошла в другую колею, гораздо более тусклую. Университет разом лишился своих лучших профессоров еще в 1861 году из-за столкновения с начальством: Кавелина, Костомарова, Спасовича, Утина, Пыпина, Стасюлевича; а профессор П. Павлов попал в ссылку за одно восклицание с эстрады: «Имеющие уши слышать — да слышат!»
С какой стороны ни взглянуть, предыдущий период, 1860–1863 годов, и в Петербурге и в Москве был гораздо ярче, живее, полнее новыми движениями и крупными фактами общественного и литературного характера.
А через год, с лета 1866 года, началась уже та длинная полоса реакции, которая разрешилась 1 марта 1881 года и перекинулась через все царствование Александра III — до половины 90-х годов.
Мне остается, чтобы закончить эту главу, поговорить о своей личной жизни молодого человека и писателя, вне моего чисто издательского дела.
Но и это я обозрю здесь только в общем интересе, чтобы припомнить, какая жизнь за эти два сезона доставляла материал и частному лицу, члену общества, и профессиональному писателю.
Материал этот не был разнообразнее, чем в предыдущую полосу. Конечно, я знал больше народа и должен был войти с ним в более жизненные сношения; но все это касалось главным образом (если не исключительно) моего журнала.
Вне его моя столичная жизнь сводилась к некоторым выездам в светские круги, к зрелищам, к тем знакомствам в литературном мире, которые интересовали меня и помимо редакторско-издательских интересов и забот.
Но в моей интимной жизни произошло нечто довольно крупное. Та юношеская влюбленность, которая должна была завершиться браком, не привела к нему. Летом 1864 года мы с той, очень еще молодой девушкой, возвратили друг другу свободу. И моя эмоциональная жизнь стала беднее. Одиночество скрашивалось кое-какими встречами с женщинами, которые могли бы заинтересовать меня и сильнее, но ни к какой серьезной связи эти встречи не повели.
Тогда в Петербурге процветали маскарады. На них ездил весь город, не исключая и двора. Всего бойчее считались те, которые бывали в Большом театре и в Купеческом клубе, где теперь Учетно-ссудный банк. Тогда можно было целую зиму вести «интригу» с какой-нибудь маской, без всяких чувственных замыслов, без ужинов в ресторанных кабинетах.
В театр я ездил и как простой слушатель и зритель, например в итальянскую оперу, и как рецензент; но мои сценические знакомства сократились, так как я ничего за этот период не ставил, и начальство стало на меня коситься с тех пор, как я сделался театральным рецензентом. Ф. А. Снеткова, исполнительница моей Верочки в «Ребенке», вскоре вышла замуж, покинула сцену и переселилась в Москву, где я всего один раз был у нее в гостях.
Дела по журналу и имению вызывали ежегодно поездки в Нижний. Но я не мог оставаться там подолгу, а в деревню незачем было ездить. До продажи земли там хозяйничал мой товарищ З-ч.
Когда мои денежные тиски по журналу стали лишать меня возможности работать — как беллетриста, я на шесть недель зимой в конце 1863 года уехал в Нижний и гостил там у сестры моей.
Там я запирался и диктовал первую часть моего нового романа «Земские силы» (не предвидя еще, что он останется неоконченным за прекращением журнала), по вечерам ездил в гости и в клуб, где присматривался к местному обществу.
Писал под мою диктовку местный семинарист из богословского класса, курьезный тип, от которого я много слышал рассказов о поповском быте. Проработав до вечерних часов, я отвозил его в семинарию, где отец ректор дал ему дозволение каждый день бывать у меня.
В Москву я попадал часто, но всякий раз ненадолго. По своему личному писательскому делу (не редакторскому) я прожил в ней с неделю для постановки моей пьесы «Большие хоромы», переделанной мной из драмы «Старое зло» — одной из тех четырех вещей, какие я так стремительно написал в Дерпте, когда окончательно задумал сделаться профессиональным писателем.
Ее взяла в 1864 году Ек. Васильева для своего бенефиса. Пьеса имела средний успех. Труппа была та же, что и в дни постановки «Однодворца», с присоединением первого сюжета на любовников — актера Вильде, из любителей, которого я знал еще по Нижнему, куда он явился из Петербурга франтоватым чиновником и женился на одной из дочерей местного барина — меломана Улыбышева.
Главную женскую роль, актрисы из дворовых, играла Колосова, ее отца-музыканта — Садовский. Васильева взяла себе эпизодическую роль, так же как и Федотова-Познякова.
Вильде играл соблазнителя и негодяя этой обличительной вещи из крепостной эпохи.
Драма и в переделке оказалась слишком эпизодичной. И после первого спектакля я нашел нужным переставить последние две картины, что тогдашний рецензент одной из петербургских газет нашел странным.
С московским писательским миром, в лице Островского и Писемского, я прикасался, но немного. Писемский задумал уже к этому времени перейти на службу в губернское правление советником, и даже по этому случаю стал ходить совсем бритый, как чиновник из николаевской эпохи. Я попадал к нему и в городе (он еще не был тогда домовладельцем), и на даче в Кунцеве.
В Москве с ним на первых порах очень носились, и он сделался опять большим театралом и даже имел роман в мире любительниц. Но вскоре стал находить, что в Москве скучно и совсем нет «умных людей».
Тогда еще не существовало «Артистического кружка», и интеллигенции негде было собираться, и Москва вообще в каждый мой приезд все больше и больше казалась мне огромным губернским городом.
Тогда же я видал и Плещеева, еще молодого, женатого на очень милой женщине, жившего в собственном небольшом доме, еще не пустившегося в мытарства литераторского необеспеченного существования, какое начал, овдовев, в Петербурге, куда перебрался позднее.
К моей личной жизни относится и мое собственное писательское развитие, и работа за эти два сезона 1863–1865 годов.
Редакторство и хозяйственные хлопоты и заботы должны были бы совсем отвлекать меня от писательского труда. Но этого не случилось. Напротив, журнал как бы побуждал меня очень много работать.
Вне беллетристики я писал с первых же месяцев своего издательства критические статьи, публицистические этюды, а потом театральные рецензии и очерки бытовой жизни («Нижний во время ярмарки») и многое другое.
Необходимо было и продолжать роман «В путь-дорогу». Он занял еще два целых года, 1863 и 1864, по две книги на год, то есть по двадцати печатных листов ежегодно. Пришлось для выигрыша времени диктовать его и со второй половины 63-го года, и к концу 64-го. Такая быстрая работа возможна была потому, что материал весь сидел в моей голове и памяти: Казань и Дерпт с прибавкой романических эпизодов из студенческих годов героя.
К 1865 году (когда «Библиотека» уже висела на волоске) хорошего романа в портфеле редакции не было. И я уехал в Нижний писать «Земские силы». Их содержание из тогдашней провинциальной жизни показывало, что я достаточно в эти четыре года (1861–1864) видел людей и новых порядков.
Точно так же и петербургские зимы за тот же период сказались в содержании первого моего романа, написанного в Париже уже в 1867 году, «Жертва вечерняя». Он полон подробностей тогдашней светской и литературной жизни.
Но как драматург (то есть по моей первой, по дебютам, специальности) я написал всего одну вещь из бытовой деревенской жизни: «В мире жить — мирское творить». Я ее напечатал у себя в журнале. Комитет не пропустил ее на императорские сцены, и она шла только в провинции, но я ее никогда сам на сцене не видал.
Таковы итоги этой полосы моей жизни, бурной не по внешним фактам, а по внутренней борьбе с успехом по тем ударам, которые закалили меня как писателя.
Без поездки за границу я бы не выдержал такого урока. В конце сентября 1865 года, очутившись в Эйдкунене, в зале немецкого вокзала, я свободно вздохнул, хотя и тогда прекрасно знал, что моя трудовая доля, полная мытарств, будет продолжаться очень долго, если не всю жизнь.
Глава восьмая
Необходимая оговорка — «Исход» русских за границу с 60-х годов — Отъезд из России — Знакомство с Г. Н. Вырубовым — Первое обаяние Парижа — Женева — Пьеса «Иван да Марья» — А. И. Герцен — Жизнь в Латинском квартале — Лекции — Позитивная философия — Свобода театров — Оперетка — Серьезный репертуар — Уровень игры — «Французская комедия» — Консерватория — Декламация — Старик Обер — Литтре — Драма «Скорбная братия» — Временное возвращение в Россию — Москва конца 1866 года — Роман «В чужом поле» — Париж 1867–1868 годов — Франциск Сарсе — Мой учитель Рикур — Всемирная выставка — Русский отдел — Григорович — Императорская чета — Съезд венценосцев — Выстрел Березовского — Русские на выставке — Первая поездка в Лондон — Бенни — Рольстон — Нормандия — Опять Париж — Роман «Жертва вечерняя» — Гамбетта и тогдашняя оппозиция — Министр Руэр — Журнал Литтре и Вырубова «Philosophic Positive» — Моя статья о театре — Дюма-сын — College de France — У Лабуле — Сорбонна — Ренан — Тэн и его курсы — Студенчество тех годов — Пресса — Эмиль де Жирарден — Вильмессан, создатель «Фигаро» — Рошфор — Лондонский сезон 1868 года — Французские эмигранты: Луи Блан и Ледрю-Роллен — Дж. Морлей — Дж. — Ст. Милль — Герберт Спенсер — Джордж Элиот — Льюис, — Фр. Гаррисон — Парламент — Дизраэли, Гладстон, Брайт — Клубная жизнь — Театры — Фехтер — Итоги Лондона
Кто не был так издерган за целый год издательского существования, как я, тот не поймет, чем явилась для меня хотя бы краткая поездка за границу, где я мог прийти в себя, одуматься, осмотреться, восстановить свои силы. А я — за вычетом первого возвращения в мае 1866 года (которое длилось с полгода) — провел «в чужих краях» более пяти лет, с сентября 1865 по январь 1871 года.
Начиная эту главу, я должен сейчас же оговориться. Итоги моих западноевропейских наблюдений и пережитков вошли уже, в значительной доле, в целую книгу, которою я озаглавил «Столицы мира», написал еще в 1897 году и продал петербургской издательской фирме (Маркса). Она появилась в печати лишь в начале 1912 года — не по моей вине. В ней главное содержание составляют итоги за тридцать лет о двух «столицах мира» — Париже и Лондоне, с 1865 по 1895 год. Туда вошли и мои личные воспоминания. Туда занесены и мои встречи со всеми выдающимися иностранцами. Их наберется там, пожалуй, не меньше сотни.
Мне никак не хотелось бы, в этих чисто личных итогах русского писателя повторять и многое такое — из той книги, что было бы, однако, уместно привести и в этой главе. Но будут и здесь неизбежные дополнения.
Здесь я имел главным своим объектом мои испытания и наблюдения как русского писателя все то, чем и заграничная жизнь могла действовать на каждого из моих «собратов», на каждого русского моего умственного развития и житейского опыта — до переселения «за рубеж». На таких чисто русских итогах я, главным образом, и буду останавливаться в этой главе. А картина западной жизни будет только сложить фоном. В книгу «Столицы мира» я, главным образом, занес мои встречи и знакомства с западными выдающимися деятелями политики, литературы, искусства, общественного движения. Здесь же первенствующий интерес получат общие итоги и оценки моих пережитков, а выдающиеся иностранцы будут появляться лишь попутно, в прямой связи с теми новыми сферами жизни, идей и всяких духовных приобретений, через которые я проходил за целых пять лет житья на западе.
«За границу» кинулись к 60-м годам все, кто только мог. Рухнули николаевские порядки, когда паспорт стоил пятьсот рублей, да и с таким неслыханным побором вас могли — и очень! — не пустить.
Теперь это сделалось банально. А надо было в 40-х годах состоять русским «интеллигентом», как Герцен, Огарев, Тургенев и их друзья, чтобы восчувствовать, что такое значило: иметь в кармане заграничный паспорт. Герцен после своих мытарств не помнил себя от радости. Но он все-таки поехал без твердого намерения сделаться изгнанником, скоротать свой век на чужбине. Так вышло, и должно было выйти, особенно после февральской революции, которая так напугала и озлобила николаевский режим.
Люди герценского поколения попадали за границу вообще с большей подготовкой, чем та масса, которая кинулась туда с 60-х годов. Конечно, в этой «массе» было уже гораздо больше, чем прежде, молодых людей, ехавших учиться с университетским дипломом, с более определенной программой дальнейших «штудий». Но сколько же тронулось тогда всякого шляющегося народа!
Выкупные свидетельства после 1861 года зудели в руках дворян-помещиков. Где же легче, быстрее и приятнее можно было их спустить, как не за границей, «дан летранже» — как выражалась несравненная «дама Курдюкова». Та ездила по немецким курортам еще в 40-х годах, но, право, между нею и большинством наших соотечественников, бросившихся «а л'етранже» в 60-х годах, разница была малая — более количественная, чем качественная.
Тургенев в своем «Дыме» (значит, уже во второй половине 60-х годов) дал целую галерею русских из Баден-Бадена: и сановников, и генералов, и нигилистов, и заговорщиков, и «снобов» тогдашнего заигрыванья с наукой. На него тогда все рассердились, а ведь он ничего не выдумывал. Его вина заключалась лишь в том, что он не изобразил и тех, более серьезных, толковых и работящих русских, какие и тогда водились в заграничных городах, особенно в немецких университетских центрах.
Ниже я дам и свои итоги по этой части за целых пять лет и вперед говорю, что для тех городов, где я живал, они совсем не блистательны ни в количественном, ни в качественном смысле. А я ведь живал (и подолгу, до нескольких сезонов и годов) в таких центрах Европы, как Париж, Лондон, Берлин, Рим, Вена, Мадрид, не считая других крупных городов и центров западной науки.
Я упомянул сейчас о «Дыме» Тургенева. Его автор может (рядом и с Герценом) служить крупнейшим примером русского западника, который с юных лет стремился в Европу, там долго учился, там много писал в самый решающий период его творчества, там остался на весь конец своей жизни не как эмигрант, не по политическим причинам, а по чисто личным мотивам. Но если б он и не примостился «к чужому гнезду» (как он сам любил выражаться), то и тогда бы он, более чем вероятно, прожил половину своей жизни за границей. Слишком уже претили ему русские порядки, не одни только государственные, но и общественные: и нравы и повадки коренной Руси — и сословно-барской, и чиновничьей, и разночинской, и крестьянской, и нигилистической!
Мне было не до того, чтобы отправляться за границу с определенной программой и на долгий срок. Я жаждал только отдохнуть, «найти самого себя», «сделать передышку» и размыслить, как окончательно ликвидировать свои материальные дела.
Часть лета я провел в усадьбе отца и потом лечился на Липецких водах. Средств — даже и небольших — хотя бы и на короткую заграничную поездку у меня не было никаких. В Москве одна родственница (жена дяди, со стороны матери моей), старушка, жившая на свою ренту, сама предложила мне шестьсот рублей, тогдашними шестипроцентными билетами. Это был мой первый и единственный долг на личную надобность. Я его покрыл через несколько лет, уплачивая старушке ежегодные проценты, и возвратил ей занятую сумму теми же процентными бумагами.
На характер моего первого пребывания за границей значительно повлияло знакомство, совершенно случайное, сделанное мною в Липецке, с двумя молодыми русскими — москвичами. Это были Г. Н. Вырубов (впоследствии издатель в Париже журнала «Philosophic Positive») и его приятель магистрант ботаники, А. Н. Петунников, еще недавно здравствовавший, как член Московской городской управы. Вырубов тогда собирался защищать диссертацию по минералогии. Он был из петербургских лицеистов, где перед тем кончил курс; но по родству — москвич, из дворянского старого общества, а как помещик — тамбовец. Он разъезжал по губернии с научной целью и остановился в Липецке на несколько дней.
Оба эти москвича меня очень заинтересовали. И когда я им назвал себя, они оказались зрителями «Однодворца» и «Ребенка» и были на дебютах Позняковой. Это сейчас же придало нашей встрече более теплый и молодой оттенок. Тогда я уже мечтал, хотя и очень смутно, о заграничной поездке. Когда я сказал им, что, «может быть», в конце сентября попаду туда, они мне сообщили, что едут оба из Москвы прямо в Париж, где и останутся весь сезон. Петунников отправлялся за границу в первый раз, а Вырубов был уже жителем Парижа, много там учился, сошелся с Литтре — тогдашним самым выдающимся последователем Огюста Конта, и думал совсем там основаться.
Перспектива — для меня — была самая заманчивая. Во мне опять воскрес «научник», и сближение с таким молодым сторонником научно-философской доктрины (которую я до того специально не изучал) было совершенно в моих нотах. Мы тут же сговорились: если я улажу свою поездку — ехать в одно время и даже поселиться в Париже в одном месте. Так это и вышло в конце сентября 1865 года по русскому стилю.
Пикантна маленькая подробность, пришедшая мне сейчас на память, о которой я не упоминал в главе, где были рассказаны мои столичные сезоны до «Библиотеки для чтения». Тогда я совсем было собрался ехать за границу, выправил себе паспорт (стоивший уже всего пять рублей) и приготовил целую тысячу рублей, на что (по тогдашним заграничным ценам и при тогдашнем русском курсе) можно было прожить несколько месяцев. Но какие-то случайности и соображения (во всяком случае, не очень серьезные) задержали меня на некоторое время. Тот приятель, с которым я жил в одной квартире, попросил у меня эту сумму — для своего отца. Я не мог отказать, и тысяча рублей исчезла из моего бумажника, и я ее получил обратно уже гораздо позднее. Так я и не попал тогда за границу.
А тут вот, в самых крутых обстоятельствах, нашлась добрая душа, которая сама предложила мне, правда очень скромную, сумму. Но я решил жить на самые малые деньги, и всего несколько месяцев, так чтобы к весне вернуться домой, для окончательной ликвидации моего издательского дела.
Опытный парижанин Вырубов уверял меня, что в Париже, устроившись в Латинском квартале, я могу жить очень сносно на каких-нибудь двести пятьдесят франков; а это составляло только около семидесяти рублей по тогдашнему курсу. Меня совсем не пугал такой бюджет. Я с полной решимостью и даже с внутренним удовольствием переходил с ежегодного расхода тысячи в четыре рублей на расходы в каких-нибудь восемьсот рублей, а может быть, и меньше.
Определенного, хотя бы и маленького, заработка я себе не обеспечил никакой постоянной работой в журналах и газетах. Редакторство «Библиотеки» поставило меня в двойственный свет в тогдашних более радикальных кружках, и мне трудно было рассчитывать на помещение статей или даже беллетристики в радикальных органах. Да вдобавок тогда на журналы пошло гонение; а с газетным миром у меня не было еще тогда никаких личных связей.
После Берлина, где я сейчас же встретил каких-то кутильных петербуржцев, мы с Петунниковым поехали вместе в Париж, а Вырубов должен был завернуть в Ганновер, где его товарищ по лицею служил секретарем миссии. (Ганновер был тогда еще самостоятельным королевством до австро-прусской войны.) И вот мы — в Париже, как в темном лесу. Но это нас не смутило. Запасшись планом и кратким гидом, мы в первый день с раннего утра до поздней ночи пешком и на империалах омнибусов «вкушали» столицу мира. И, возвращаясь домой в Латинский квартал, никак не могли найти нашего отельчика, долго блуждали вокруг да около и должны были обратиться к полицейскому сержанту. А этот дешевый отельчик (рекомендованный нам Вырубовым) стоит и теперь в совершенно том же виде на углу улицы Racine и бульвара St. Michel, главной артерии «Латинской страны».
В 1900 году во время последней Парижской выставки я захотел произвести анкету насчет всех тех домов, где я жил в Латинском квартале в зиму 1865–1866 года, и нашел целыми и невредимыми все, за исключением того, где мы поселились на всю зиму с конца 1865 года. Он был тогда заново возведен и помещался в улице, которая теперь по-другому и называется. Это тотчас за музеем «Cluny». Отель называется «Lincoln», а улица — Des Matturiens St. Jacques.
Трое суток беготни и езды по Парижу, проделанных нами с московским ботаником, были чем-то никогда и нигде не испытанным.
Париж в светлую осеннюю погоду, со всем своим историческим прошлым, с кипучей уличной жизнью, красивостью, грацией, тысячью оригинальных картинок, штрихов, деталей, оставлял позади все, что было пережито и в России, и по дороге до Франции. Потом, даже и с неослабевшим интересом и симпатией к Парижу, уже нельзя было воскресить настроений этих первых трех суток Они были похожи на какое-то сладкое опьянение. И адская усталость ощущалась только тогда, когда мы еле живые поднимались в свои комнатки — очень высоко, раздевались и кидались в постель.
Париж сразу проникает вас чувством вашей связи со всей своей историей и с мировой культурой, которой вы у себя дома желали всегда служить. Он делает вас еще более «западником», чем вы были у себя дома. Надо быть не знаю каким закорузлым «русофилом» (на славянофильской подкладке или без оной), чтобы не испытать от Парижа таких именно настроений.
Но я знавал и славянофилов, и охранителей в нынешнем «истинно русском» духе, которые «пасовали» перед Парижем и, ругая все остальное в Европе (в особенности Лондон и Англию), делали всегда исключение для Парижа.
А с меня, точно по мановению какой-то благодетельной феи, в эти блаженные дни беганья по Парижу слетели все печальные и тревожные итоги моей Петербургской «незадачи». Сейчас же явилось гораздо более молодое самочувствие. Любознательность, прелесть новизны, обилие впечатлений — и все высшего порядка — производили небывалый душевный подъем.
Не знаю, долго ли мы с Петунниковым так наслаждались бы первым знакомством с Парижем, если б по приезде Вырубова не узнали (у него были знакомства в медицинском мире), что в Париж пожаловала незваная гостья — холера.
Я с детства был привычен к ожиданиям холеры и пережил несколько эпидемий; в Нижнем в 1853 году тотчас по поступлении в Казанский университет болел даже слабой формой эпидемии, которую называли тогда «холериной».
Но в Париже холеры очень боялись. И мы через несколько дней решили переждать до ослабления эпидемии и куда-нибудь переехать. Самым подходящим найдена нами была Женева. Туда мы и отправились, жили там в одном недорогом отеле и пробыли добрых шесть недель, до обратного переезда в Париж.
В Женеву мы с Петунниковым попадали впервые, но Вырубов уже хорошо знал Швейцарию, особенно Французскую.
Это женевское «сидение» не представляло собою ничего особенно интересного и нового. Погода скоро испортилась, дула холодная «биза». Самый город довольно скоро приелся. Театр был плоховатый, с опереточным репертуаром. Теперешнего университета еще не существовало, а только «Академия», где по вечерам читались кое-какие публичные лекции. Мы вели очень тихую и, поневоле, однообразную жизнь. И я тотчас же почувствовал в себе опять драматурга и стал работать над бытовой пьесой, которую задумал еще в России. У меня была возможность поставить ее в бенефис Павла Васильева. Она называлась «Иван да Марья», из крестьянской жизни, с комическим лицом барина на постоялом дворе. Мне было то приятно, что я так скоро после петербургских мытарств мог отдаться писательскому труду, и связь с Россией, с родной литературой как бы делалась новым живительным элементом, не допускала хандры, которая, весьма вероятно, и подкралась бы.
Тогда (то есть в самом конце 1865 года) в Женеве уже поселился А. И. Герцен, но эмиграция (группировавшаяся около него) состояла больше из иностранцев. Молодая генерация русских изгнанников тогда еще не проживала в Женеве, и ее счеты с Герценом относятся к позднейшей эпохе.
Вырубов не был до того знаком с Герценом. Он по приезде в Женеву послал ему свой перевод одной брошюры Литтре. Завязалось знакомство. Герцен стал звать его к себе. Он там несколько раз обедал и передавал потом нам — мне и москвичу-ботанику — разговоры, какие происходили за этими трапезами, где А. И. поражал и его своим остроумием.
Из всех троих русских, попавших в Женеву из-за холеры, мне как писателю и бывшему редактору журнала всего прямее было бы познакомиться с издателем «Колокола», который тогда еще печатался, позднее — уже по-французски. Но я не представлялся Герцену и так до нашего возвращения в Париж и не бывал у него. Наша встреча в отеле была случайная. Герцен зашел раз к Вырубову, в сумерки, и просидел с полчаса. Я даже не видал его, а только слышал из своего номера его голос. Он что-то говорил о Краевском и его газете. Через пять почти лет, в Париже, я сошелся с Герценом и всю зиму 1869—1870-года, до его кончины, постоянно с ним видался, был вхож в его дом и проводил его в могилу. Обо всем этом я буду говорить дальше. А теперь отмечу здесь главный мотив: почему я тогда в Женеве как бы уклонялся от знакомства с ним?
Во мне не было и тогда никакого революционного настроения, как читатель этих воспоминаний уже знает. Но это одно не явилось бы достаточной причиной того, что я не искал знакомства с Герценом, «не представлялся» ему, даже не просил Вырубова свести нас у себя. Мне не хотелось являться только «на поклон» к знаменитости, так, как это делали до того десятки русских. Я не считал себя достаточно солидарным с направлением, которое публицистика Герцена, под влиянием Огарева и Бакунина, получила тогда. Искать же знакомства из-за тщеславных мотивов, из-за любопытства я считал банальным. Я ждал других времен и других мотивов знакомства и сближения, и судьба меня не обманула, хотя это и случилось слишком поздно.
Возвращение в Париж, в тот же Латинский квартал (где знакомый Вырубову француз приготовил нам несколько номеров в отеле «Линкольн»), опять сразу окунуло меня в такую жизнь, которая положительно сделалась для меня в своем роде «купелью паки бытия».
Я превратился как бы в студента, правда весьма «великовозрастного», так как мне тогда уже шел тридцатый год. Но нигде, ни в каком городе (не исключая и немецких университетских городов), я так скоро не стряхнул бы с себя того, что привез с собою после моих издательских мытарств.
Начать с того, что переход от обстановки и неизбежных расходов редактора-издателя с бюджетом не в одну тысячу рублей к «пайку» французского студента, то есть к двумстам пятидесяти франкам в месяц, не вызывал ни малейшего чувства лишений и «умаления» жизни. Напротив! Мне стало житься необычайно легко. Небольшая веселая комната в четвертом этаже (с платой сорок пять франков в месяц), пансион тут же, в отеле, в обществе приятных мне русских (за что хозяйка взимала сто франков) и сто франков на «лжерасходы» (faux feces), как называют французы, а они сводились к очень немногому.
Разумеется, я на этот ежемесячный бюджет не мог позволять себе каждый вечер удовольствий «по ту сторону Сены», то есть на больших бульварах, театров и разных других увеселений. Но я все-таки не был их лишен. Я в зиму 1865–1866 года видел много новых пьес, посещал концерты, даже публичные балы. А в Латинском квартале были свои зрелища: «Одеон», и маленький театр «Bobino» (теперь уже несуществующий), и бал «Бюллье», тогда еще не утративший своего студенческого пошиба. Но главная привлекательность квартала была для меня доступность всяких лекций, и в Медицинской школе (куда я заглядывал по старой памяти), и в Сорбонне, и в юридической Ecole de droit, и в College de France — этом единственном в Европе народном университете, существующем для слушателей с улицы, без всяких дозволений, билетов и без малейшей платы.
А тогда в College de France было несколько лекторов, придававших своим курсам большой интерес, в особенности публицист-писатель Лабуле, теперь забытый, а тогда очень популярный, имя которого гремело и за границей. Мы в «Библиотеке» давно уже перевели его политико-социальную сатиру «Париж в Америке». Он разбирал тогда «Дух законов» Монтескье, и его аудитория (самая большая во всем здании) всегда была полна.
В College de France и при Второй империи не только допускались всюду женщины, но дамам отводили даже лучшие места — на эстраде, вокруг кафедры.
Это постоянное посещение самых разнообразных лекций необыкновенно «замолаживало» меня и помогало наполнять все те пробелы в моем образовании, какие еще значились у меня. И тогда я, под влиянием бесед с Вырубовым, стал изучать курс «Положительной философии» Огюста Конта. Позитивное миропонимание давало как бы заключительный аккорд всей моей университетской выучке, всему тому, что я уже признавал самого ценного в выводах естествознания и вообще точных наук.
В Петербурге (особенно если б журнал пошел бойко и стал давать доход) я решительно не нашел бы досугов для такого дальнейшего «самообразования», другими словами для возведения целого здания своего мыслительного и социально-этического credo. Этим я, безусловно, обязан Парижу и жизни в «Латинской стране», и моя благодарность до сих пор жива во мне, хотя я с годами и сделался равнодушнее к Парижу, особенно в самые последние годы. Никогда, даже и в студенческое время, я не жил так молодо, содержательно, с такой хорошей смесью уединения, дум, чтений и впечатлений от «столицы мира», которыми я не злоупотреблял, почему все, что я видел «по ту сторону реки», делалось гораздо ярче и ценнее: начиная с хранилищ искусства и памятников архитектуры, кончая всякими зрелищами, серьезными или дурачливыми.
Париж второй половины 60-х годов был, без всякого сомнения, самым блестящим, даровитым и интересным городом за все царствование того «узурпатора», которого мы презирали и тогда от всего сердца.
Но бонапартовский режим тогда уже значительно поддался либеральным влияниям. В Палате действовала уже оппозиция. Правда, она состояла всего из маленькой кучки в семь-восемь человек, да и в ней не все были республиканцы (а самый знаменитый тогда оратор Беррье так прямо легитимист); но этого было достаточно, чтобы поддерживать в молодежи и в старых демократах дух свободы и позволять мечтать о лучших временах.
Прессу все еще держали в наморднике, с системой предостережений и фискальных мер; но все-таки либеральный «дух» давал себя чувствовать. Новые газеты нарождались. Уже Рошфор готовился к своей беспощадной кампании против бонапартизма. В Латинском квартале появлялись брошюры «бунтарского» оттенка.
И сцена стала служить новым идеям, в серьезной драме и комедии ушла дальше скрибовских сюжетов, в сторону более смелого реализма, а шутка, смех, сатира и то, что французы называют «высвистыванием» (persiflage), получило небывалый успех в форме тогда только что народившейся оперетки.
Театры так оживились и потому, что Наполеон III декретом 1864 года (стало, всего за полтора года до моего приезда в Париж) уничтожил казенную привилегию и создал «свободу театров», то есть сделал то, что император Александр III у нас к 1882 году для обеих наших столиц. До тех пор, и при либеральной Июльской монархии, и при Февральской республике, и во все время Второй империи, с 1851 по 1864 год, на открытие какого бы то ни было зрелища необходима была концессия, особый правительственный патент, с определением условий и того рода зрелищ, какие театру разрешалось давать. Это вызывало ряд курьезов, любопытных для того, кто интересуется историей театров. Так, например, в пьесе Дюма-сына «Дама с камелиями», то есть в настоящей драме, в первом акте поют куплеты. Почему? Потому что пьеса дана была в театре «Водевиль», а по его концессии он мог давать только пьесы с куплетами.
До второй половины 60-х годов и такой род представлений, как оперетка, не получил бы такого развития, не имел бы в себе такого «духа». Дух этот проникнут был высмеиваньем разных общих мест по истории человечества, древней и новой культуры. Не имея еще возможности выводить на свежую воду господствовавший режим, остроумные и даровитые либреттисты — Мельяк и Галеви, найдя себе такого высокоталантливого композитора, как Оффенбах, стали смеяться над чем можно. Прошли вереницей в течение нескольких лет и боги Греции, и гомеровский мир героев, и средневековый мир, и придворная солдатчина Европы в XVIII веке. И оперетка заставила всю Европу и Америку устремляться в Париж — смотреть «Орфея в аду» и все другие вещи, вышедшие из-под пера такого трио, как Мельяк, Галеви и Оффенбах.
Как раз к разгару успеха «Прекрасной Елены» мы и вернулись из Женевы. Эта прекрасная Елена — Шнейдер, кажется, еще жива. По крайней мере я не читал нигде ее некролога. Ей должно теперь (в 1910 году) быть сильно за семьдесят. Она не гремела красотой. Голос был приятный — и только, но без всяких претензий и на вокальную красоту. Когда я впервые увидал ее в театре «Varietes» в декабре 1865 года, она при своем появлении показалась мне белокурой, уже полнеющей женщиной «на возрасте» — и только. Но она первая создала тот жанр, который тогдашние парижане определяли словами: «Le sublime du canaille». И в самом деле, это был «верх канальства», но умного, по-своему очень стильного, смесь жаргонного говора с полуциничными интонациями и своего рода искренностью во всех лирических местах.
Так уже никто и ни в какой стране Европы не играл и не пел, как эта бывшая палерояльская субретка. Все, даже знаменитые исполнительницы «Прекрасной Елены» (Гейстингер в Вене, у нас — Кронеберг) были или слишком торжественны, или пресно фривольны, без грации, без юмора, без тех гримасок, которыми Шнейдер так мастерски владела. Те, кто видал у нас Лядову (она умерла без меня, и я ее помню только как танцовщицу), говорили, что у нее было что-то по-своему «шнейдеровское».
Режим Наполеона III, одобрительно относясь к оперетке, не понимал, что она являлась «знамением времени». Этот сценический «persiflage» перешел и в прессу и через два года породил уже такой ряд жестоких памфлетов, как «Фонарь» Рошфора и целый ряд других попыток в таком же роде.
И вся дальнейшая оперетка за целых сорок лет уже никогда не имела «афинской соли» оффенбаховской эпохи.
Но не одна оперетка царила тогда в Париже и не один канкан, хоть он и процветал везде на публичных балах — от студенческой «Closerie des Lilas» до интернационального «Мабиля». Театр, в более реальной и смелой комедии, давал импульс всей тогдашней западной драматургии. Только разве наш русский театр стоял особо в своем бытовом репертуаре Островского и его сверстников. Но и у нас влияние мотивов парижской драматургии и, главное, тона и постройки пьес точно так же чувствовались. А немцы, англичане, итальянцы — так те прямо обворовывали Париж.
Такие писатели, как Александр Дюма-сын — в полном расцвете таланта — двигали комедию самостоятельно и, по тогдашнему времени, очень смело. Такая, например, вещь, как его «Полусвет», на огромное расстояние отстояла от слащаво-буржуазного склада скрибовского театра. И Сарду, тогда уже вошедший в славу, хоть и был более сценический мастер, чем глубокий наблюдатель нравов и психики его соотечественников, все-таки давал каждый сезон остроумные, меткие картины нравов. И вот на самый громкий успех его комедии «Семья Бенуатон» я попал в сезон 1865–1866 года в тогдашнем (вскоре разрушенном) старом «Водевиле». Пьеса шла круглый год. Ее комические лица и смелое высмеивание культа моды, шика и делячества в прекрасном исполнении труппы представляли собою вполне литературное, интересное зрелище. И в жанровом театре «Gymnase» шла другая пьеса Сарду — «Старые холостяки» с таким же почти, как ныне выражаются, «фурорным» успехом.
На всех четырех-пяти лучших театрах Парижа (а всех их и тогда уже было более двух десятков) играли превосходные актеры и актрисы в разных родах. Теперь все они — уже покойники. Но кто из моих сверстников еще помнит таких артистов и артисток, как Лафон, старик Буффе, Арналь, Феликс, Жоффруа, Брассер, Леритье, Иасент, Фаргейль, Тьерре и целый десяток молодых актрис и актеров, тот подтвердит то, что тогда театральное дело стояло выше всего именно в Париже.
И особое место привилегированной, национальной (по-тогдашнему «императорской») сцены занимала Comedie Francaise, повитая славными традициями вековой славы. И самой твердой «традицией» была обязанность национального театра (получающего субсидию) играть классический репертуар — трагиков и комиков XVII и XVIII столетий:
Корнеля, Расина, Вольтера, Мольера, Ренара, Бомарше. И это выполнялось весьма строго. То же обязательство лежало и на втором французском театре — на «Одеоне». Но он тогда никакими талантами не выделялся.
В тогдашней «Французской комедии» для трагического репертуара не было сильных дарований ни в мужском, ни в женском персонале. Мунэ-Сюлли дебютировал позднее. Из женщин никто не поднимался выше приличных «полезностей». Но ансамбль комедии, в особенности мольеровской, был в полном смысле блестящий, такой, какого уже не было впоследствии ни в одно десятилетие, вплоть до настоящей минуты.
Имена таких актеров и актрис, как Ренье, Брессан, Делоне, сестры Броган, Виктория Лафонтен, принадлежат истории театра. С ними ушли и та манера игры, тон, дикция, жестикуляция, какие уже нельзя (а может, и не нужно?) восстановлять. В тот же сезон (или одной зимой раньше) дебютировал и Коклен, любимый ученик Ренье, и сразу занял выдающееся место. Я тогда уже видал его в такой роли, как Фигаро в «Женитьбе Фигаро», и в мольеровских типах.
И что было для каждого из нас, иностранцев с маленькими средствами, особенно приятно — это тогдашняя умеренность цен. За кресло, которое теперь в любом бульварном театре стоит уже десять — двенадцать франков, мы платили пять, так же как и в креслах партера «Французской комедии», а пять франков по тогдашнему курсу не составляло даже и полутора рублей. Вот почему и мне с моим ежемесячным расходом в двести пятьдесят франков можно было посещать все лучшие театры, не производя бреши в моем бюджете.
И бульварные сцены по преимуществу, то есть театр мелодрам, могли, и очень, интересовать. Я всегда любил хорошую мелодраму и до сих пор того мнения, что для народной массы такие зрелища весьма пригодны. Они вызывают в наивных зрителях целую гамму великодушных чувств. Разумеется, их форма была устарелой даже и тогда, во второй половине 60-х годов; но в них надо было (да и теперь следует) различать две стороны: условный, подвинченный язык в героических местах действия и бытовую сторону — часто с настоящими реальными чертами парижской жизни и с удачными типами.
Не нужно забывать и того, что на таких театрах, как «Porte St. Martin» и «Ambigu», развился и исторический театр с эпохи В. Гюго и А. Дюма-отца. Все эти исторические представления — конечно, невысокого образца в художественном смысле; но они давали бойкие и яркие картины крупнейших моментов новой французской истории. В скольких пьесах Дюма-отца и его сверстников (вплоть до конца 60-х годов) великая революция являлась главной всепоглощающей темой.
В Бонапартово время, даже и к концу Второй империи, такие пьесы привлекали не одних мелких лавочников из того квартала Парижа, который давно прозван «Бульваром преступлений» (Boulevard du crime). Все главные фигуры той эпохи перебывали на подмостках; Людовик XVI, Мария-Антуанетта, Дантон, Робеспьер, Марат, Камилл Демулен, Сен-Жюст, Бонапарт и все тогдашние полководцы-герои, вроде Марсо и Гоша. Тут звучала не одна узкопатриотическая жилка, а вспоминались дни великих событий и всемирной славы того города, откуда пошло в Европу великое освободительное движение.
Да и мелодрамы из современной жизни далеко не все были проникнуты буржуазной моралью. Еще наш Герцен перед самой февральской революцией с великим сочувствием разбирал в своих письмах из Парижа (появлявшихся в «Современнике») такие мелодрамы, как «Парижский ветошник» тогдашнего республиканца и социалиста Феликса Пиа, впоследствии заговорщика и изгнанника. В таких пьесах заложены были и «разрывные» идеи. Во Вторую империю им уже не было такого свободного доступа на подмостки, но мелодрама продолжала, удерживая свой подвинченно-сентиментальный строй, давать бытовые картинки из разных углов и подполий парижской бедноты с прибавкою интересной уголовщины.
На сценах «Porte St. Martin» и «Ambigu» нам удалось захватить еще игру ветеранов романтической эпохи, таких актеров, как знаменитый когда-то Мелэнг и «великий» (так его называют и до сих пор) Фредерик Леметр, или просто «Фредерик» — как французы говорят всегда «Сара», а не «Сара Бернар».
Мелэнг (Melingue) оставался долгие годы героем пьес «плаща и шпаги» — драм из истории Франции, особенно эпохи Возрождения и XVII века. Главным поставщиком таких спектаклей был Дюма-отец. И вот, в одной из его прославленных драм «La Tour de Nesle» («Нельская башня») мне еще привелось видеть Мелэнга, тогда уже старого, в роли героя. Для меня, тогда так любившего театр и его историю, такие спектакли являлись чистым кладом. В них вы воочию видели и чувствовали целую эпоху: дух репертуара, манеру исполнения, дикцию, костюмировку, декоративную «mise en scene» — все.
Фредерика Леметра мне привелось видеть несколько позднее. Он уже сошел со сцены за старостью, но решился для последнего прощания с публикой исполнить ряд своих «коронных» ролей. И я его видел в «Тридцать лет, или Жизнь игрока» — мелодраме, где у нас Каратыгин и Мочалов восхищали и трогали наших отцов.
Было немного жутко смотреть на него в первом акте; в конце он еще потрясал, хотя и говорил со старческим шамканьем. Но вы опять-таки воспринимали уже исчезнувший пошиб игры и понимали, чем «Фредерик» трогал и поражал залу 40-х годов. В нем тогда, быть может впервые, явился настоящий реалист мелодрамы. Вам становились понятны восторженные оценки всех лучших знатоков театра той эпохи. Но он остался и старцем с этой основой реалистического трагизма. Для его прощаний с публикой написана была и новая драма, где он, и по пьесе старик, пораженный ударом судьбы, сходит мгновенно с ума и начинает, в припадке безумия, танцевать по комнате со стулом в руках.
Другой обломок той же романтической полосы театра, но в более литературном репертуаре, Лаферрьер, еще поражал своей изумительной моложавостью, явившись для прощальных своих спектаклей в роли дюмасовского «Антони», молодого героя, которую он создал за тридцать лет перед тем. Напомню, что этот Лаферрьер играл у нас на Михайловском театре в николаевское время.
С годами, конечно, парижские театры драмы приелись, но я и теперь иногда люблю попасть на утренний спектакль в «Ambigu», когда удешевленные цены делают театральную залу еще более демократичной. А тогда, в зиму 1865–1866 года, эта публика была гораздо характернее. Теперь и она стала более чинной и мещански чопорной.
Тогдашний партер, и ложи, и галереи в антрактах гудели от разговоров, смеха и возгласов. Продавцы сластей и газет выкрикивали свой товар. В воздухе носились струи запаха апельсин. Гарсоны театральных кафе, пронизывая общий гул, выкрикивали: «Оршад, лимонад, пиво!» Тогда соседи непременно заговаривали с вами первые; а теперь — никогда. Да и отделка зал, дорогие, сравнительно с прежними, цены — все это сделало и «Бульвар преступлений» совсем другим. Тогда сверху то и дело слетали негодующие возгласы зрителей, возмущенных преступностью и коварством главного злодея: «Каналья! Убийца! Негодяй!» А когда, в заключительной сцене, невинность пьесы спасалась от ков этого злодея и герой произносил: «Спасена! Благодарю тебя, господь!» — весь театр плакал чуть не навзрыд.
Многим сторонам жизни Парижа и я не мог еще тогда отдаться с одинаковым интересом. Меня тогда еще слишком сильно привлекал театр. А в следующем году я производил экскурсии в разные сценические сферы, начиная с преподавания театрального искусства в консерватории и у частных профессоров.
И в журнализм, в писательские сферы я еще не проникал. Не привлекала меня особенно и политическая жизнь, которая тогда сводилась только к Палате. Париж еще не волновался, не происходило еще ни публичных митингов, ни таких публичных чтений, где бы бился пульс оппозиции. Все это явилось позднее.
Мне хотелось прожить весь этот сезон, до мая, в воздухе философского мышления, научных и литературных идей, в посещении музеев, театров, в слушании лекций в Сорбонне и College de France. Для восстановления моего душевного равновесия, для того, чтобы почувствовать в себе опять писателя, а не журналиста, попавшего в тиски, и нужна была именно такая программа этого полугодия.
Через Вырубова я сошелся с кружком молодых французов, образовавших общество любителей естественных наук. У нас были заседания, читались рефераты; с наступлением весны мы производили экскурсии в окрестностях Парижа — оживленные и веселые.
Русских тогда в Латинском квартале было еще очень мало, больше все медики и специалисты — магистранты. О настоящих политических «изгнанниках» что-то не было и слышно. Крупных имен — ни одного. Да и в легальных сферах из писателей никто тогда не жил в Париже. Тургенев, может быть, наезжал; но это была полоса его баденской жизни. Домом жил только Н. И. Тургенев — экс-декабрист; но ни у меня, ни у моих сожителей не было случая с ним видеться.
В России все казалось тихо и невозмутимо.
И вдруг — каракозовский выстрел!
О нем я узнал в нашем отеле, на лестнице, возвращаясь откуда-то. Мой сосед, француз-адвокат, очень умный и начитанный малый, который с нами и обедал за табльдотом, — остановил меня и сообщил:
— Стреляли в императора, в каком-то публичном саду!
Но я не могу сказать, чтобы это произвело тогда особую сенсацию. Скорее удивление. Никто на Западе еще не предвидел, что Россия вступит в период глухого политического брожения. Конечно, возмущались и тем, что «царь-освободитель» мог сделаться жертвой покушения.
Так как я уехал в Париж без всякой работы в газете или журнале как корреспондент, то я и не должен был бегать по редакциям, отыскивать интересные сюжеты для писем. И, повторяю, это было чрезвычайно выгодно для моего самообразования и накопления сил для дальнейшей писательской дороги.
Пришла весна, и Люксембургский сад (тогда он не был урезан, как впоследствии) сделался на целые дни местом моих уединенных чтений. Там одолевал я и все шесть томов «Системы позитивной философии», и прочел еще много книг по истории литературы, философии и литературной критике. Никогда в моей жизни весна — под деревьями, под веселым солнцем — не протекала так по-студенчески, в такой гармонии всех моих духовных запросов.
Париж я полюбил. Он тогда не был так шумен и громаден, как теперь, но милее, наряднее, гораздо чище, с некоторым аристократическим пошибом. И то, что тогда мыслило и чувствовало с более серьезными запросами, надеялось на лучшие времена. Было в воздухе нечто, что потом, при Третьей республике, утратилось, когда настало царство довольной массы, более грубой погони за деньгами, тщеславием и чувственными утехами.
Хоть тогда и царствовал «Наполеонтий», как мы презрительно называли его, но все-таки и тогда из Парижа шло дуновение освободительных идей. Если у себя дома Бонапартов режим все еще давал себя знать, то во внешней политике Наполеон III был защитник угнетенных национальностей — итальянцев и поляков. Италия только что свергнула с себя иго Австрии благодаря французскому вмешательству. Итальянская кампания довершила то, что начал легендарный герой Италии — Гарибальди.
Поляки начали эмигрировать в Париж после восстания 1863 года. Да и прежде, после революции 1831 года, они удалялись сюда же. Здесь, в отеле «Ламбер», жил при нас и их «круль», то есть князь Чарторыйский. У них был в Париже особый патриотический фонд, и правительство Наполеона III давало им субсидию. Существовал уже и их «Коллегий св. Станислава».
В последнее восстание они мечтали о вмешательстве Наполеона III. И вообще у них был культ «наполеоновской идеи». Они все еще верили, что «крулевство» будет восстановлено племянником того героя, под знаменем которого они когда-то дрались в Испании, в Германии, в России в 1812 году.
После Парижского мира во всей Западной Европе (а тем паче в Париже) держалась легенда о том, что от России было потребовано освобождение крепостных. Если это и вздор, то она прямо показывает, что Наполеона III считали способным на такую роль. Хоть он в глазах демократов и даже умеренных либералов и считался «злодеем», изменнически нарушившим свою присягу конституции как президент республики, но у него самого были (как выразился при мне старик Литтре) «des prejuges liberaux» — «либеральные предрассудки». И даже больше: он всегда имел склонность к социализму и еще до своего заключения в крепость Гам выпустил в свет брошюру «Об искоренении нищеты» и даже просил правительство Луи-Филиппа дозволить ему в крепости свидание с тогдашним вожаком французских социалистов Луи Бланом. Когда я дойду до знакомства моего с Луи Бланом (в Лондоне в 1868 году), я приведу и его мнение о тогдашнем гамском узнике, сделавшемся императором после переворота 2 декабря.
В Париже и после тогдашнего якобы либерального Петербурга жилось, в общем, очень легко. Мы, иностранцы, и в Латинском квартале не замечали никакого надзора. По отелям и меблировкам ходили каждую неделю «инспекторы» полиции записывать имена постояльцев; но паспорта ни у кого не спрашивали, никогда ни одного из нас не позвали к полицейскому комиссару, никогда мы не замечали, что нас выслеживают. Ничего подобного!
И французам жилось куда вольнее, чем жителям Петербурга и Москвы. На улице, в кафе, в театре, на публичном балу вы себя чувствовали совсем легко, и вот эта-то легкость жизни в публике и составляла главную прелесть Парижа.
Да и над литературой и прессой не было такого гнета, как у нас. Предварительной цензуры уже не осталось, кроме театральной. Система предостережений — это правда! — держала газеты на узде; но при мне в течение целого полугодия не был остановлен ни один орган ежедневной прессы. О штрафах (особенно таких, какие налагаются у нас теперь) не имели и понятия.
Привлекательность Парижа заключалась и в том, что вы видели всюду картины довольства, во всех слоях общества, в бедном люде, в рабочих, в ремесленниках. Все это пользовалось жизнью гораздо легче, веселее, чем у нас, имело более крупный заработок, тратило гораздо меньше, чем у нас в обеих столицах. Тогда действительно было дешево жить в Париже, даже и не по сравнению с нашей дороговизной. Хорошенькая годовая квартира стоила каких-нибудь пятьсот франков в год, даже и дешевле. В Латинском квартале бедные студенты находили обеды (с вином!) за франк и даже за девяносто сантимов. Существовали уже и «бульонные заведения» с маленькими ценами на все — на тридцать и более процентов дешевле теперешних цен в таких же «Etablissements du bouillon». Стакан красного вина в кабачке стоил десять-пятнадцать сантимов. В маленьких закусочных бедная молодежь находила все, что ей нужно: молоко, кофе, бульон, бифштекс, жареный картофель — по самым микроскопическим ценам.
Вы видели вокруг себя, что, несмотря на водворение империи, вы живете в демократическом государстве, где и трудовой люд не чувствует себя отверженными париями и где, кроме того, значилось и тогда до семи миллионов крестьян-собственников.
Моя «студенческая» жизнь в Латинском квартале за все эти полгода не нарушалась никакими неприятными инцидентами, текла мирно, разнообразно и с чрезвычайным подъемом всех душевных сил. Из Петербурга я получал деловые письма и знал вперед, что моему парижскому блаженному житию скоро настанет конец и надо будет вернуться домой — окончательно ликвидировать злосчастную антрепризу «Библиотеки для чтения».
А пока я сидел под тенистыми каштанами Люксембургского сада и впитывал в себя выводы положительной философии. Этот склад мышления вселял особенную бодрость духа. Все в природе и человеческом обществе делалось разумным и необходимым, проникнутым бесконечным развитием, той эволюцией, без которой потом в науке и мышлении нельзя уже было ступить ни единого шага.
А мудреца позитивизма я видел в старике Литтре, с которым меня еще тогда познакомил Вырубов, через год задумавший издавать вместе с ним журнал «Philosophic Positive».
Литтре уже и тогда смотрел стариком, но без седины, с бритым морщинистым лицом старой женщины, малого роста, крепкий, широкий в плечах, когда-то считавшийся силачом. Он смахивал скорее на провинциального учителя или врача, всегда в черном длинноватом сюртуке, скромный, неловкий в манерах, совсем не красноречивый, часто молчаливый, с незвучным произношением отрывистой речи. Никто бы из иностранцев не подумал, что перед ним парижанин. Таких я уже потом не встречал в Париже ни в каких сферах — ни в прессе, ни среди поэтов и писателей, ни среди профессоров, адвокатов, медиков.
Жил он тогда около Люксембургского сада, в тесноватой квартире, с женой и дочерью, стареющей девицей. Мне уже было известно через Вырубова, что у этого позитивиста, переводчика книги Штрауса об Иисусе Христе, жена и дочь — ярые клерикалки. Но у мудрецов всегда так бывает. И у Сократа была жена Ксантиппа. А эти по крайней мере не ссорились с ним и оберегали его спокойствие и материальное довольство. Но и требовательность его была самая философская. Он работал целыми днями в крошечном кабинете, и тут же, на маленьком столике, ему ставили завтрак, состоявший из самой скудной пищи. Работоспособность в этом уже 60-летнем старике была изумительная. Он мог без устали, изо дня в день работать до шестнадцати часов и никуда не ходил, кроме заседаний «Института», где был уже членом по разряду «Надписей и литературы» (и где его приятелем был Ренан), и визитов к вдове Огюста Конта — престарелой и больной; к ней и наш Вырубов являлся на поклон и, как я позднее узнал, поддерживал ее материально.
Литтре, при научно-философском свободомыслии, не был равнодушен к общественным и политическим вопросам. В нем сидел даже немножко инсургент революции 1848 года, когда он с ружьем участвовал в схватке с войсками и муниципальной стражей.
Предметом его ненависти оставался Наполеон III. И эту нелюбовь к Бонапартову режиму распространял он и на великого главу династии. Это был род его «пунктика». Он не только оценивал «корсиканца» как хищного себялюбца с манией величия, но отрицал и его военный гений. По этой части они могли бы подать друг другу руку с Л. Толстым, который как раз в эти годы писал «Войну и мир». Необычайных административных способностей он не отрицал у Наполеона I, а только его военный гений. Литтре молодым человеком состоял секретарем у одного из бывших министров Бонапарта. И тот рассказывал ему постоянно, какой изумительный работник был император и как был одарен для всего, что входит в машину управления.
Судьбе угодно было побаловать Литтре свержением наполеоновской династии 4 сентября 1870 года. Он попал даже и в депутаты.
Но писатель снова заговорил во мне. И опять в драматическую форму вылились оба моих замысла, комедия «Иван да Марья» и драма «Скорбная братия».
Я писал их в часы отдыха от чтений и экскурсий по Парижу. Ни та, ни другая вещь не появились даже в печати. «Иван да Марья» была дана в следующий сезон (как я уже упоминал) в мое отсутствие на Александрийском театре — и без всякого успеха. А драма «Скорбная братия» была скорее повесть в диалогах на тему злосчастной судьбы «братьев писателей». В герое я представлял себе бедного Помяловского, безвременно погибшего от роковой страсти к «зелену вину». Рукопись этой вещи у меня зачитал один бывший московский студент, и я не знаю, сохранилась ли черновая в моих бумагах, хранящихся в складе в Петербурге.
Писал я ее под конец моего житья в Париже. И когда кончил, то пригласил Вырубова и Петунникова, моих сожителей, в ресторан Пале-Рояля, в отдельный кабинет, и там до поздних часов ночи читал им драму. Она им очень понравилась. Но я и тогда не мечтал ставить ее.
В мае по письмам из Петербурга выходило так, что следует ускорить ликвидацию. Мне сделалось самому жутко заживаться за границей, когда надо идти на все те, хотя бы и очень тяжкие, последствия, которые ликвидация могла повести за собою.
Меня начало усиленно тянуть в Россию. Последние деньги, какие у меня еще оставались, я расчел так, чтобы успеть доехать до Петербурга, заехав на два дня в Гейдельберг, где тогда жило семейство той девушки, с которой я мечтал еще так недавно обвенчаться.
Жаль мне было Парижа, почти до слез жаль. Помню, как последний вечер я до поздней ночи бродил по улицам и бульварам, усталый, очутился около церкви Мадлены, сел на скамью и глубоко загрустил. Но ехать было надо. И я поехал.
Мои кредиторы тем временем не дремали. Тотчас по приезде я испытал даже некоторое предвкушение долговой тюрьмы, потому что на полусуток должен был высидеть в канцелярии какой-то части.
Все полгода, с мая по конец декабря, проведенные мною в Москве, я причисляю к моему первому парижскому периоду. О том, что я сделал для удовлетворения моих кредиторов, я уже рассказал в предыдущей главе, но писательская моя жизнь, сначала в Сокольниках, где я гостил в семействе князя А. И. Урусова, потом в Москве, полна была Парижем, тамошними моими «пережитками». Летом и к началу зимы я приготовил к печати две вещи: одну по сценической критике, другую — роман «В чужом поле». И то и другое дано было исключительно моей парижской жизнью. В романе я создал лицо молодого русского, увлеченного Парижем и жадного до всяких наслаждений, влюбчивого, самолюбивого и настолько богатого, чтобы вести более широкую роль «знатного иностранца». Фабула была мною сочинена, но подробности быта в «Латинской стране» и некоторые лица французов и француженок были выхвачены из реальной жизни. Большая статья точно так же заполнена была одним Парижем театров и озаглавлена «Мир успеха». Посвятил я ее памяти М. С. Щепкина. В этом роде у нас еще не появлялось тогда журнальных этюдов.
Сезон в Москве шел бойко. Но к Новому году меня сильно потянуло опять в Париж. Я снесся с редакторами двух газет в Москве и Петербурге и заручился работой корреспондента. А газетам это было нужно. К апрелю 1867 года открывалась Всемирная выставка, по счету вторая. И в конце русского декабря, в сильный мороз, я уже двигался к Эйдкунену и в начале иностранного января уже поселился на самом бульваре St. Michel, рассчитывая пожить в Париже возможно дольше.
Париж еще сильно притягивал меня. Из всех сторон его литературно-художественной жизни все еще больше остального — театр. И не просто зрелища, куда я мог теперь ходить чаще, чем в первый мой парижский сезон, а вся организация театра, его художественное хозяйство и преподавание. «Театральное искусство» в самом обширном смысле стало занимать меня, как никогда еще. Мне хотелось выяснить и теоретически все его основы, прочесть все, что было писано о мимике, дикции, истории сценического дела.
Из Москвы я поехал даже с мечтой… быть может, самому подготовить себя к сцене. До того (хотя я еще в Дерпте считался очень выдающимся любителем) мне сколько-нибудь серьезно не приходила эта мысль.
Для поправления своего материального положения я мог бы выбрать тогда адвокатскую деятельность (к сему меня сильно склонял Урусов, только что поступивший в окружной суд), но я смотрел тогда (да и впоследствии) совсем не сочувственно на профессию адвоката. А она, конечно, дала бы мне в скором времени хороший заработок — я имел все данные и все права, чтобы сделаться «присяжным поверенным». Мечта о сцене была совершенно бескорыстна. Расчеты на выгодную карьеру в нее абсолютно не входили.
Половина зимы в Москве держала меня все-таки в воздухе сцены. Только что был открыт Художественный кружок, который в зиму 1866–1867 года скромно помещался еще на Тверском бульваре. Там каждый почти вечер я находил писательское и актерское общество: Островский, Плещеев (с ним мы тут ближе и сошлись); все корифеи Малого театра: Садовский, Живокини, Самарин, Ек. Васильева, Косицкая, Вильде, который начал уже играть роль в дирекции. Там я на одном из вечеров прочел и свою пьесу «Иван да Марья». Но ставить я ее в Москве не собирался, да, кажется, она и не особенно понравилась артистам, которые слушали ее на том вечере.
Вероятно, воздух Малого театра, пахнув опять на меня, вызвал во мне более глубокую и искреннюю думу о нашем сценическом искусстве и нашем избранном репертуаре. Факт тот, что я взял с собою в Париж маленькую библиотеку, и лицо Чацкого захватывало меня так, как никогда раньше.
Я стал даже мечтать о комедии, которая бы через сорок с лишком лет была создана на такую же почти идею. Помню, что в Париже (вскоре после моего приезда) я набросал даже несколько монологов… в стихах, чего никогда не позволял себе. И я стал изучать заново две роли — Чацкого (хотя еще в 1863 году играл ее) и Хлестакова. Этого мало — я составлял коллекцию костюмов для Чацкого по картинкам мод 20-х годов и очень сожалею, что она у меня затерялась.
Моя мечта о сцене как новой художественной дороге не осуществилась. Но интерес к театру, в самом обширном значении и содержании, не пропадал. А Париж, особенно тогда, представлял собою самое обширное поле для изучений всякого рода, начиная с вопроса о преподавании театрального искусства. И по этой части единственно во Франции было национальное учреждение. Консерватория не только «музыки», но и «декламации», даровая высшая школа, предоставленная всем, у кого окажутся способности к делу драматического артиста.
Я уже сказал, что приехал в Париж, заручившись и работой корреспондента. Первая газета, с которой я условился по этой части, была «Москва» (потом «Москвич») — орган Ивана Аксакова. Я в Москве поехал к нему и сговорился. Тогда я его и видел поближе и помню отчетливо его квартиру и тесноватый кабинетик, куда надо было (как это бывает в московских домах) спускаться вниз одну ступеньку. Раньше я его видал и слышал издали. Он меня принял ласково и согласился печатать письма и о парижской общей жизни, и о политике, литературе и выставке, когда она весной откроется.
А уже из Парижа я списался с редакцией газеты «Русский инвалид». Редактора я совсем не знал. Это был полковник генерального штаба Зыков, впоследствии заслуженный генерал. Тогда газета считалась весьма либеральной. Ее постоянными сотрудниками состояли уже оба «сиамских близнеца» тогдашнего радикализма (!) Суворин и Буренин как фельетонисты.
У Аксакова я подписывался буквами, а для «Инвалида» сочинил псевдоним «Авенир Миролюбов».
Так я обставил свой заработок в ожидании того, что буду писать как беллетрист и автор более крупных журнальных статей. Но прямых связей с тогдашними петербургскими толстыми журналами у меня еще не было.
Поселился я опять в Латинском квартале, на самом Boulevard St. Michel — главной артерии «квартала школ», как парижане до сих пор зовут эту часть города.
Тогда из студенческих кафе одним из самых бойких было Кафе молодой Франции, и теперь еще существующее, хотя и в измененном виде. Верхний над ним этаж занимали меблированные комнаты, довольно чистенькие, содержимые «мадамой» с манерами и тоном светской женщины. Было это уже подороже того, что мы с москвичами платили в Hotel Lincoln. Из них ботаник Петунников вернулся в Россию, а Вырубов совсем устроился в Париже, взял квартиру, отделал ее и стал поживать, как русский парижанин. Он продолжал свои работы по химии и минералогии, интересовался и медициной и расширял свое знакомство в научных сферах. Тогда уже он задумывал издавать с Литтре философский журнал. У него стали собираться позитивисты. А к следующему сезону он назначил дни — сколько помню, по четвергам, и через три года в один из них состоялось и мое настоящее знакомство с А. И. Герценом.
Программа моего парижского дня делалась гораздо разнообразнее, а стало быть, и пестрее. Я уже был корреспондент и обязан был следить за всякими выдающимися сторонами парижской жизни.
До открытия Всемирной выставки на Марсовом поле, в апреле, я имел достаточно досуга, чтобы отдаться моему специальному интересу к театру.
Познакомился я еще в предыдущий сезон с одним из старейших корифеев «Французской комедии» — Сансоном, представителем всех традиций «Дома Мольера». Он тогда уже сошел со сцены, но оставался еще преподавателем декламации в Консерватории. Я уже бывал у него в гостях, в одной из дальних местностей Парижа, в «Auteuil». Тогда он собирал к себе по вечерам своих учеников и бывших сослуживцев. У него я познакомился и с знаменитым актером Буффе, тогда уже отставным.
Для меня Сансон, вся его личность, тон, манера говорить и преподавать, воспоминания, мнения о сценическом искусстве были ходячей летописью первой европейской сцены. Он еще не был и тогда дряхлым старцем. Благообразный старик, еще с отчетливой, ясной дикцией и барскими манерами, живой собеседник, начитанный и, разумеется, очень славолюбивый и даже тщеславный, как все сценические «знаменитости», каких я знавал на своем веку, в разных странах Европы.
Сансон выпустил тогда в свет целую теорию сценического искусства в стихах, вроде «Эстетики» Буало. Книга называется «Театральное искусство». В ней александрийским размером преподаются разные афоризмы и правила и приведены случаи и анекдоты из истории, главным образом «Французского театра». Но эта книга (в своем роде единственная в литературе педагогической драматургии давала мне толчок к более серьезному знакомству с литературой предмета на разных языках. Тогда я стал собирать и выписывать книги теоретического характера, и мемуары знаменитых артистов, и специальные сочинения по разным отделам театрального искусства.
Как преподаватель в классе Консерватории, Сансон держался тона учителя «доброго старого времени», всем говорил «ты», даже и женщинам, покрикивал на них весьма бесцеремонно и частенько доводил до слез своих слушательниц.
Преподавание драматического искусства находилось при мне в руках четырех «сосьетеров»: (постоянных членов труппы) Сансон, Ренье, Брессан и посредственный актер Тальбо. Отдел этот составлял маленькое «государство в государстве». Главное начальство в лице директора, композитора Обера, ни во что не входило. Но я все-таки должен был явиться и к Оберу — попросить позволения посещать классы декламации, которое он мне сейчас же и дал.
Обер и в то время был уже старенький старичок, «в прошедшем веке запоздалый», употребляя стих Пушкина. Всякий принял бы его у нас за чиновника, состарившегося на департаментской службе: небольшого роста, худощавый, бритый, с седым старомодным хохлом и такими же «височками» и бакенбардами.
Принял он меня в салоне своей казенной квартиры в здании Консерватории, в зимнее пасмурное утро, очень рано. В салоне стоял старенький «фишель», покрытый суконным чехлом. На нем он сочинял, вероятно, свою «Немую из Портичи» и «Фра-Дьяволо». Но и тогда еще, во второй половине 60-х годов, он только что поставил новую оперу на театре Opera Comique свою последнюю вещь. Она и названа им была «Первый день счастья». И главную роль он писал для хорошенькой певицы, бывшей воспитанницы Консерватории и его любимицы — Marie-Rose. Парижская стоустая молва повторяла, что эта молоденькая и чрезвычайно красивая девица была его возлюбленной! Это в возрасте-то сильно за семьдесят лет! Хоть бы впору олимпийцу Гете, который страстно влюбился на 75-м году и совсем было собрался жениться на девице Леветцов!
Консерваторская выучка имела очень сильные пробелы в своей программе. Начать с того, что разучиванья целых пьес, то есть создания ролей на настоящих ученических спектаклях, вовсе не полагалось. В зале классов имелась, правда, сцена, и вся она была устроена в виде театра. Но на этой сцене никогда не давали спектаклей. Ученики и ученицы выходили на подмостки и исполняли отдельные места из трагедий и комедий «классического» репертуара — и только. Стало быть, ни гримировки, ни костюмов, ни создания ролей, ни ансамбля — ничего. То же продолжается, кажется, и теперь. Французы — чрезвычайные рутинеры во всем, что отзывается «традицией», и до сих пор пресса не поднимала протеста против такой рутинной системы обучения.
Тогда, то есть во второй половине 60-х годов, не было никаких теоретических предметов: ни по истории драматической литературы, ни по истории театра, ни по эстетике. Ходил только учитель осанки, из танцовщиков, да и то никто не учился танцам. Такое же отсутствие и по части вокальных упражнений, насколько они необходимы для выработки голоса и дикции.
Занимались исключительно дикцией. И до сих пор это — главная забота французских профессоров и всего французского сценического дела. В дикции, в уменье произносить стихи и прозу, в том, что немцы называют «Vortrag», a русские неправильно «читкой» — альфа и омега французского искусства.
При традиционном, обязательном исполнении на двух национальных театрах («Французской комедии» и «Одеоне») классического репертуара выработка дикции делалась первенствующей заботой. Но слушатели и слушательницы Консерватории усваивали себе слишком условную манеру произносить стихи и прозу. Более реальная манера говорить, разные оттенки светского и бытового разговора совсем не преподавались, не говоря уже о том, что создание характеров и проведение роли через всю пьесу и ансамбль оставались в полном забросе, что, как слышно, продолжается и до сих пор.
Но в тех условиях, в какие преподавание было поставлено в Консерватории, все-таки в Париже оно велось как нигде. Довольно было и того, что лучшие силы Comedie Francaise назначались из сосьетеров. И каждый из них представлял собою особый род игры, особое амплуа; следовательно, достигалось разнообразие приемов, дикции и мимики.
Сансон был слуга мольеровской комедии, перешедший потом на амплуа «благородных отцов». Но он и по трагедии считался хорошим преподавателем. Он был учитель Рашели, о которой он мне немало рассказывал. В смысле «направления» он стоял за простоту, правду, точность и ясность дикции и был врагом всякого «романтического» преувеличения, почему и не очень высоко ставил манеру игры «Фредерика» (Леметра) и раз даже передразнил мне его жестикуляцию и его драматические возгласы.
Рядом с Сансоном действовали Ренье, Брессан и позднее — Огюстина Броган, одна из сестер, считавшихся и тогда «украшением» «Французской комедии». Она была превосходная актриса для комедии — по-старинному «субретка».
Ренье, даровитейший актер для комического репертуара, считался таким же даровитым профессором. Он выпустил Коклена. Класс свой вел он живо, горячо, держался с учениками мягкого тона, давал много превосходных толкований и сам в лицах изображал то, что нуждалось в практическом примере.
Брессан, уже стареющий, но еще моложавый «первый любовник», давал своему классу благородный, светский тон с оттенком изящной дикции и опять-таки, в общем, тон простоты, без аффектации и ходульности.
Тогдашний обычай позволял ученикам и ученицам выбирать себе профессора и, ходя на уроки других преподавателей, держаться преподавания одного профессора. Меня свободно допускали в классы, и даже служители каждый раз ставили мне кресло около столика, за которым сидели профессора.
Никаких лекций или даже просто бесед на общие темы театрального искусства никто из них не держал. Преподавание было исключительно практическое. Но при огромных пробелах программы — из Консерватории даже и те, кто получал при выходе первые награды (prix), могли выходить весьма невежественными по всему, чего не касалась драматическая литература и история театра или эстетика.
По этой части ученики Ecole des beaux-arts (по-нашему Академии художеств) были поставлены в гораздо более выгодные условия. Им читал лекции по истории искусства Ипполит Тэн. На них я подробнее остановлюсь, когда дойду до зимы 1868–1869 года. Тогда я и лично познакомился с Тэном, отрекомендованный ему его товарищем — Франциском Сарсе. Тогда Сарсе считался и действительно был самым популярным и авторитетным театральным критиком.
В Париже и тогда драматическая критика играла первенствующую роль в газетной прессе. Иметь даровитого и авторитетного фельетониста по театральному отделу — считалось самой важной статьей. На сценических рецензиях составляли себе исключительно писательскую репутацию. Так случилось и с знаменитым когда-то Жюлем Жаненом, который тогда уже доживал свой век.
В те же годы, о которых я здесь вспоминаю, рядом с Сарсе действовали и другие бойкие и любимые рецензенты, вроде Лапомерэ, Поль де Сен-Виктор и других. Но все они привыкли писать больше по поводу пьес и спектаклей, чтобы нанизывать красивые фразы или развивать свои любимые темы. А Сарсе начал писать «по существу». Он был влюблен в театр, в сцену, в жизнь театральной публики и всегда за или против чего-нибудь ломал копья. Из тогдашних драматургов он стоял горой за Дюма-сына. Его пьесы, вроде «Полусвета» (а впоследствии «Идей госпожи Обре») надо было еще защищать перед чопорной светской и буржуазной залой, а также и от нападок слишком узких моралистов из его тогдашних сверстников-рецензентов.
Тогда в газетах сохранялся прекрасный обычай — давать театральные фельетоны только один раз в неделю. Поэтому критика пьес и игры актеров не превращалась (как это делается теперь) в репортерские отметки, которые пишут накануне, после генеральной репетиции или в ту же ночь, в редакции, второпях и с одним желанием — поскорее что-нибудь сказать о последней новинке.
Сарсе так и умер (уже в конце века), верный своим еженедельникам в газете «Temps», где оставался бессменным фельетонистом.
К нему я обратился с письмом как к человеку всего более компетентному в театральном деле. Он принял меня очень радушно и сейчас же пригласил меня бывать на его понедельниках — ранние завтраки в половине двенадцатого, куда являлись его приятели из литераторов, профессоров, актеров и актрис.
Сарсе был то, что парижане называют «uri normalien», то есть бывший воспитанник «Высшей нормальной школы». Бульварные литераторы недолюбливали этих «нормальцев», считая их педантами. Но они были просто более знающие люди, с прекрасной подготовкой, какую дает воспитанникам «Высшая нормальная школа», откуда выходят преподаватели средних заведений и университетских факультетов. Но в том выпуске, к которому принадлежал Ф. Сарсе, оказалось несколько чрезвычайно одаренных молодых людей, и они променяли учительскую карьеру на писательскую. Однокурсниками его были Ип. Тэн, Прево-Парадоль, Эдмон Абу, Вейссе.
Сарсе прямо с учительской кафедры, да еще в провинции, попал в парижские рецензенты, и первое время ему стоило огромных усилий написать самую банальную фразу об игре такого-то актера или актрисы. Но он полюбил театр и сроднился с ним как никто из его парижских сверстников.
Когда я к нему явился с просьбою ввести меня в театральный мир, он остановил меня игривым вопросом:
— А вы можете много проживать?
И сделал еще более игривый намек на закулисные нравы женского персонала. Я искал совсем не этого. Мое личное знакомство с актрисами не помешало мне в течение четырех сезонов изучить театральное дело в направлениях.
Сарсе тогда был здоровенный толстяк, брюнет, ужасно близорукий, веселый, шумный, без всякого внешнего лоска, любящий «la petite parole», то есть скоромные разговоры.
На завтраках у него я не видал тогдашних «тузов» репертуара и даже театральной критики. Кое-кто из романистов, несколько педагогов и журналистов, изредка актриса или крупный актер, вроде, например, Го, тогда уже в полном блеске своего таланта. Он был с ним на «ты».
Тон за этими понедельниками отличался крайней бесцеремонностью по части анекдотов и острот. Мать его не присутствовала на них, а сидела в своей комнатке. Раз в присутствии известной актрисы «Одеона» Жанны Эслер, очень порядочной женщины, один романист, рассказывая скабрезный анекдот, стал употреблять такие цинические слова, что я, сидевший рядом с этой артисткой, решительно не знал, куда мне деваться.
Такой «моветонной» бесцеремонности я никогда не слыхал у нас даже и в пьяных писательских компаниях в присутствии женщин. Ничего подобного не видал и не слыхал впоследствии ни у немцев, ни у англичан, ни у испанцев, ни у итальянцев. Это происходило оттого, что «интеллигенция» была по рождению и домашнему быту весьма мало воспитана — в известном смысле. Да тогда и вообще скоромные разговоры были в ходу. Этим зашибались и наши литературные генералы 60-х годов; но — повторяю — не в присутствии женщин, занимающих на сцене известное положение.
Но все-таки эти сборища у Сарсе были мне полезны для дальнейшего моего знакомства с Парижем. У него же я познакомился и с человеком, которому судьба не дальше как через три года готовила роль ни больше ни меньше как диктатора французской республики под конец Франко-прусской войны. А тогда его знали только в кружках молодых литераторов и среди молодежи Латинского квартала. Он был еще безвестный адвокат и ходил в Палату простым репортером от газеты «Temps». Сарсе говорит мне раз:
— Тут есть очень умный и талантливый малый (garcon)… южанин, некто Леон Гамбетта. Он очень интересуется внутренними делами вашего отечества, и ему хотелось бы поговорить с вами как с русским писателем. Я его приглашу в следующий понедельник… Хотите?
Я, конечно, согласился. И это был действительно Гамбетта — легендарный герой освободительного движения, что-то вроде французского Гарибальди, тем более что он попал даже в военные министры во время своего турского «сидения». О знакомстве с Гамбеттой (оно продолжалось до 80-х годов) я поговорю дальше; а теперь доскажу о моих драматических экскурсиях.
По части тогдашних «императорских» театров (то есть получавших государственную субсидию) я обратился было к Камиллу Дусе, чиновнику театрального «интендантства»; но от него я мало добился толку. Этот посредственный театральный писатель превратился совсем в «чинушку», давал мне уклончивые ответы и проговорился даже, что если б я имел письмо от какого-нибудь официального лица, тогда разговор со мною был бы другой. А я не хотел обращаться к нашему посольству. И за все свое долгое пребывание за границей я избегал наших «посольских», зная, как все посольства и консульства отличались тогда своей отчужденностью от всего русского и крайней неприветливостью. Обошелся я и без всего этого, особенно в изучении сценической педагогии.
После консерваторских классов напал я на самого выдающегося в ту пору частного преподавателя декламации, Ашилля Рикура, имевшего свой курс при ученической сцене в Rue de la Tour d'Auvergne, где как раз квартировал и Фр. Сарсе.
Рикур был крупный тип француза, сложившегося к эпохе Февральской революции. Он начал свою карьеру специальностью живописца, был знаком с разными реформаторами 40-х годов (в том числе и с Фурье), выработал себе весьма радикальное credo, особенно в направлении антиклерикальных идей. Актером он никогда не бывал, а сделался прекрасным чтецом и декламатором реального направления, врагом всей той рутины, которая, по его мнению, царила и в «Comedie Francaise», и в Консерватории.
Меня привели к нему два студента-юриста, изучавшие дикцию в целях приобрести приемы судебного красноречия. Из них один и теперь еще мэр одного из округов Парижа, а другой умер вице-директором одного из департаментов министерства внутренних дел.
Рикур в то время представлял собою крупную фигуру старика с орлиным носом и значительным тембром низкого голоса, в неизменном длинном сюртуке и белом галстуке.
Курсы его бывали по нескольку раз в неделю, в фойе ученического театра, а кто хотел заниматься посерьезнее, тот брал у него и уроки на его квартире, в той же части — города. Ходил к нему разный «сбродный» народ: молодые люди из Комедии или без всякого еще положения, девицы неизвестно какой профессии, в том числе и с замашками недорогих куртизанок. Почти всем им Рикур (как и Сансон) говорил «ты», но обращался все-таки менее бесцеремонно. С мужчинами (и в особенности со мною) тон его был благодушный и совсем не учительский. В общем, его аудитория была не такого уровня, на который могли бы претендовать преподаватели, как он.
Играть он почти и не учил, а только давал образцы прекрасного исполнения отдельных сцен и монологов из трагедий и комедий, а также и отдельных стихотворений.
Самое ценное для меня в его классах и на частных уроках и было исполнение им самим лучших отрывков французской драматической и лирической поэзии. Так произносить тирады из «Мизантропа», как он умел это делать, не слыхал я ни у кого с тех пор, как знаком с французской сценой. Дикция у него была без всякой аффектации и без подчинения «традициям» французской комедии. Истинное наслаждение испытывал я и тогда, когда, бывало, у него на дому в конце моего урока я просил его продекламировать какую-нибудь вещь В. Гюго, или Ламартина, или тогда мне малоизвестного поэта Эжезиппа Моро.
Рассказы и воспоминания Рикура сами по себе представляли для меня крупный интерес. В революции 1848 года он очутился в рядах самых ярых поборников не только политических, но и социальных реформ. Недаром он посещал даже лекции Фурье.
— Вот что надо было тогда сделать, — любил он повторять, — и что я говорил тогдашним вожакам движения: закрыть все церкви, положить предел всем этим притворствам. Меня не слушались. И вот теперь опять мы в окружении попов.
На курсах Рикура (где мне приводилось исполнять сцены с его слушательницами) испытал я впервые то, как совместная работа с женским полом притупляет в вас (а я был ведь еще молодой человек!) наклонность к ухаживанью, к эротическим замашкам. Все эти девицы, настоящие и поддельные, делались для вас просто «товарками», и не было никакой охоты выказывать им внимание как особам другого пола. Только бы она хорошо «давала вам реплики» и не сбивала вас с тона неумелой игрой или фальшивой декламацией.
С Рикуром я долго водил знакомство и, сколько помню, посетил его и после войны и Коммуны. В моем романе «Солидные добродетели» (где впервые в нашей беллетристике является картина Парижа в конце 60-х годов) у меня есть фигура профессора декламации в таком типе, каким был Рикур. Точно такого преподавателя я потом не встречал нигде: ни во Франции, ни в других странах, ни у нас.
Он сам хорошо сознавал, что не такую ему нужно аудиторию. Но надо было кормиться, и его курсы и уроки поддерживали его достаток. Он, бывало, говорит:
— Пускай правительство даст мне кафедру в College de France и содержание в десять тысяч франков! Тогда я сейчас же закрою мою «лавочку» (boite).
И в College de France такая кафедра была открыта для престарелого Легуве! Но куда же ему было до Рикура!
Близилось открытие Всемирной выставки, по счету второй, в Париже. Она открылась, как обещано было, 1 апреля, но на две трети еще стояла неготовой и незаполненной во всех отделах.
Я должен был приступить к своей роли обозревателя того, что этот всемирный базар вызовет в парижской жизни. Но я остался жить в «Латинской стране». Выставка оказалась на том же левом берегу Сены, на Марсовом поле. В моем «Квартале школ» я продолжал посещать лекции в Сорбонне и College de France и жить интересами учащейся молодежи.
В первый раз пришлось мне обратиться к заведующему русским отделом — моему старшему собрату Д. В. Григоровичу, которого я уже встречал в Петербурге, но особого знакомства с ним не водил.
Как корреспондент я надеялся иметь даровой вход на выставку, но мне в нем отказали, и я принужден был заплатить за сезонный билет сто франков, что для меня как для трудового человека было довольно-таки чувствительно. Этот стофранковый билет не предоставлял никаких особенных льгот, кроме права присутствовать при открытии с расчетом на появление императора с императрицей и на торжественное заседание, где Наполеон III должен был произносить речь.
До тех пор мне случалось видеть императора только издали, когда он проезжал по бульварам и в Елисейских полях, всегда окруженный экипажами, в которых сидели полицейские агенты, а сзади скакали в своих светло-голубых мундирах лейб-кирасиры, известные тогда под кличкой «гвардейская сотня».
В день открытия публику, имевшую сезонные билеты, не пускали всюду, а только туда, где пройдет процессия, то есть ей предоставлялось ждать на проходах, за веревками, которыми эти проходы были оцеплены. Зато тем, кто явился пораньше и стал тотчас за веревки, можно было хорошо рассмотреть императорскую чету.
Наполеон выступал уже замедленной походкой человека, утомленного какой-то хронической болезнью. Его длинный нос, усы в ниточку, малый рост, прическа с «височками» — все это было всем нам слишком хорошо известно. Величественного в его фигуре и лице ничего не значилось. Евгения рядом с ним весьма выигрывала: выше его ростом, стройная женщина моложавого вида, с золотистой шевелюрой испанки, очень элегантная, с легкой походкой, но без достаточной простоты манер и выражения лица.
Помню, что императорская чета двигалась слишком быстро, точно они боялись, что кто-нибудь на перекрестках выстрелит в них. Энтузиазма в публике не замечалось. Не помню, чтобы раздавались повсюду клики: «Да здравствует император!» или «Да здравствует императрица!» И тогда еще чувствовалось, что Париж все-таки не помирился с переворотом 2 декабря.
На торжестве открытия в особой зале, где собралась многотысячная толпа, император в парадной генеральской форме произнес аллокуцию (краткую речь). Тогда я мог хорошо слышать его голос и даже отметить произношение. Он говорил довольно быстро, немного в нос, и его акцент совсем не похож был на произношение коренного француза, и еще менее парижанина, а скорее смахивал на выговор швейцарца, бельгийца и даже немца, с детства говорившего по-французски.
Выставка была для меня, как и для многих за границей и в России, внове. Она возбуждала любопытство… показывала, кроме Франции, и другие страны в разнообразном виде. Но я не скажу и теперь, по прошествии с лишком сорока лет, чтобы ей можно было увлекаться.
Вопроса о значении и пользе выставок вообще я здесь решать не стану. Конечно, они имеют (или имели тогда) свой смысл. Но для людей не специальных сведений и интересов — каждая выставка превращается, более или менее, в базар, в ярмарку, в грандиозную «толкучку». Так вышло и с выставкой 1867 года, и с последующими: в 1878, в 1889 и в 1900 годах.
Но те делались все живописнее и богаче по своей архитектурной обстановке, красивее и ярче по отделке своих частей. А главное здание выставки 1867 года сами французы называли «газовым заводом» — «usine a gaz».
Надо, однако, отметить, что система распределения по нациям и по отделам была в этом «газовом заводе» весьма удачная, гораздо больше помогавшая посетителю найти все, что ему было нужно.
И тогда, как и в последующие три выставки, художественный отдел был для публики самый привлекательный.
Снаружи эллипса, изображавшего собою главное здание, устроены были и потребительные заведения разных народов, попросту рестораны и кафе.
И России впервые пришлось щегольнуть своими московскими трактирами и чайными. Купец Корещенко прославил себя на оба полушария. Его ресторан торговал бойко. И русских наезжало очень много в Париж; да и посетителей других национальностей влекло кулинарное и этнографическое любопытство. Во-первых — еда; во-вторых — цветные шелковые рубашки московских половых; в-третьих — две «самоварницы», в сарафанах и кокошниках. Из них Авдотья стала быстро очень популярной, особенно между французскими любителями женского пола.
Ресторан Корещенко сделался местом сбора русских. Тут можно было встретить всякий народ, начиная с наших сановников (Валуева я видал на выставке в сопровождении своих сыновей-подростков) и вплоть до самых первобытных купцов из глухих приволжских городов.
Русская интеллигенция не имела никакого другого пункта сбора. Тогда в Париже русские жили вразброд, эмигрантов еще почти что не водилось, молодые люди из Латинского квартала не знакомились с семейными домами на правом берегу Сены.
Мне по обязанности корреспондента следовало бывать всюду. И выставка в первые два месяца отнимала много времени. На одну езду взад и вперед тратилось его немало.
Увеселительная часть выставки не имела в себе ничего особенно привлекательного. Ни зала для концертов, ни театр не могли соперничать с тем, что город давал приезжим на бульварах.
Тогда это был кульминационный пункт внешнего успеха Второй империи, момент высшего обаяния Франции, даже и после того, как Пруссия стала первым номером в Германии. Никогда еще не бывало такой «выставки» венценосцев, и крупных, и поменьше, вплоть до султана Абдул Азиса. И каждый венценосец сейчас же устремлялся на Бульвары смотреть оффенбаховскую оперетку «Герцогиня Герольштейнская» и в ней «самое» Шнейдершу, как называли русские вивёры.
По той же программе проделал свой первый вечер в Париже и Александр II. Ему заказана была ложа в театре Varietes, а после спектакля он ужинал с Шнейдер. Париж много острил тогда на эту тему. А самую артистку цинически прозвали «бульваром государей», как назывался пассаж, до сих пор носящий это имя, на Итальянском бульваре. Позднее от старого писателя Альфонса Руайе (когда-то директора Большой Оперы) слышал пересказ его разговора с Шнейдер о знакомстве с Александром II и ужине. По ее уверению, ей, должно быть, забыли доставить тот ценный подарок, который ей назначался за этот ужин.
Национальная самовлюбленность французов достигла тогда «белого каления». Даже эмиграция, в лице «поэта-солнца» — Виктора Гюго, воспела величие Парижа. В его статье (за которую ему заплатил десять тысяч франков издатель выставочного «Путеводителя») Париж назван был ни больше ни меньше как «город-свет» — «ville-lumiere».
Для нас, более спокойных и объективных наблюдателей, Париж совсем не поднял своего мирового значения тем, что можно было видеть на выставке. Но он сделался тогда еще популярнее, еще большую массу иностранцев и провинциалов стал привлекать. И это шло все crescendo с каждой новой выставкой. И ничто — ни война, ни Коммуна, ни политическое обессиление Франции — не помешало этой «тяге» к Парижу и провинций, и остальной Европы с Америкой.
Но на первых же порах съезд венценосцев был смущен выстрелом поляка Березовского в русского императора.
Не скажу, чтобы у нас в «Латинской стране» это произвело особенно сильное впечатление. Тогдашние радикалы и даже либералы-бонапартисты Парижа недолюбливали русских и русское правительство. Это осталось еще после Крымской кампании, а польское восстание и муравьевские репрессии усиливали эти неприязненные настроения. Гораздо больше оживленных толков вызвала у нас сцена во Дворце юстиции, где молодой адвокат Флоке (впоследствии министр) перед группой своих товарищей выдвинулся вперед и громко воскликнул, обращаясь к русскому царю:
— Да здравствует Польша, сударь!
Эта маленькая фраза содержала в себе два главных мотива настроений тогдашней радикальной молодежи: демократизм в республиканском духе (Monsieur!) и сочувствие раздавленной Польше.
Каких-нибудь проявлений патриотизма (по поводу покушения Березовского) среди тех русских, с какими я тогда сталкивался, что-то тоже я не помню.
Всякого сорта соотечественников встречал я на Марсовом поле, у Корещенко и в других местах: компанию молодых чиновников министерства финансов и их старосту Григоровича, некоторых профессоров, художников и всего меньше литераторов.
Приехал от Аксакова москвич-техник для специального отчета о выставке (фамилии его не помню); но этот москвич, направленный ко мне, оказался совсем неподготовленным, если не по части техники, то по всему — что Франция и Париж, не умевший почти что «ни бельмеса» по-французски.
Кто был постоянным корреспондентом от «Санкт-Петербургских ведомостей», я не знал. Но если б встречал его, то наверно бы заметил. В «Голос» и «Московские ведомости» писал Щербань, давно живший в Париже и даже женатый на француженке. С ним мы познакомились несколько позднее.
Из наших литературных «тузов», перворазрядных беллетристов или редакторов журналов и газет, я никого что-то не встречал в первые месяцы выставки — ни Тургенева, ни Достоевского, ни Гончарова, ни Салтыкова. С редакторами — Краевским, Коршем, Благосветловым — встречи произошли позднее. У Корша я стал писать как постоянный сотрудник с следующего сезона 68-го года, когда я перебрался на другой берег Сены и поселился поблизости от Бульваров, в Rue Lepeletier, наискосок старой (сгоревшей) Оперы. Поэтому моим двухнедельным фельетонам (сверх политических писем) я и дал общую рубрику: «С Итальянского бульвара».
На мое писательство, в тесном смысле, пестрая жизнь корреспондента, разумеется, не могла действовать благоприятно. Зато она расширила круг всякого рода наблюдений. И знакомство с русскими дополняло многое, что в Петербурге (особенно во время моих издательских мытарств) я не имел случая видеть и наблюдать. Не скажу, чтобы соотечественники, даже из «интеллигенции», особенно чем-нибудь выдавались, но для беллетриста-бытописателя — по пословице — «всякое лыко в строку».
Курьезные типы попадались и среди художников, и среди чиновников и посольских, и среди молодых полуобразованных купчиков. У Вырубова между чиновниками министерства финансов оказался товарищ по лицею Н-ин, добрейший малый, получивший потом в Петербурге известность своей благотворительной и просветительной деятельностью. Тогда же, в Париже, впервые встретил я у Вырубова (он у него и гостил) Е. В. де Роберти, еще очень молодого и франтоватого, любившего и тогда «французить», убежденного позитивиста, очень решительного в своих оценках и философских идей, и политических учений, и книг, и людей. Из русских интеллигентов он все-таки выделялся.
На выставке познакомился я и с г. Онегиным, только что кончившим курс. Он тогда еще носил немецкую фамилию Отт, которую впоследствии переделал на имя героя пушкинского романа и превратился в библиофила-собирателя с собственным «музеем» в Париже. Его я встречал и впоследствии, в Петербурге, где он долго жил домашним наставником в одном богатом доме до окончательного переселения в Париж. Сносился с ним я и в дни болезни Тургенева (в лето его кончины), когда г. Онегин находился почти бессменно при умирающем в Буживале и надо было обращаться к нему.
Весь этот русский образованный люд ничто тогда не объединяло, кроме разве благодушества в трактире и чайной Корещенко. Исключения не составляли и ученые по разным специальностям.
Простой народ был характернее: сначала плотники, строившие русскую избу, потом половые, артельщики, мастеровые нашего отдела и весь хор кавалергардского полка, приехавший на всемирное состязание полковых оркестров, где рекорд побили немцы и, главное, австрийцы.
Плотников я посещал не раз во время самой стройки, еще до открытия выставки (1 апреля). И около избы у меня вышел забавный разговор с четой французов, пришедших также поглазеть на этих «moujiks». Эта чета оказалась: комик Лемениль и его жена, оба бывшие артисты труппы Михайловского театра. Я сейчас же узнал их и воспользовался случаем высказать мое уважение таланту и мужа и жены — превосходной комической «старухи».
— Разве вы не можете сказать мне несколько слов по-русски? — спросил я.
— О, боже мой! — откликнулась первая жена. — Мой муж шестнадцать лет прожил в Петербурге и, вот видите, ничему не научился.
— Это правда, — подтвердил комик с веселой усмешкой. — Но я еще мог сказать извозчику: «Pajalst (пожалуйста) Gastinai Dvor, dvatsat kopeks!» A madame Лемениль и того не может.
— А кто виноват? — подхватила она. — Вы… вы… господа русские! Вы нас так балуете! Все говорите с нами по-французски.
— Этого мало, — добавил Лемениль. — И с прислугой нам не надо учиться говорить по-русски. Горничных и кухарок мы, актеры Михайловского театра, передаем одни другим. И все они нас понимают и говорят… кое-как.
Плотники слушали, ухмыляясь, как мы «балакали», в то время как они обрубали брусья и обтесывали доски, сидя на них верхом… как, бывало, «галки» (плотники Галичского уезда Костромской губернии), которые приходили летом работать к нам на двор в Нижнем Новгороде.
Мы расстались с четой Лемениль добрыми друзьями. Она начала дотягивать свое пенсионное существование. Ни на какую сцену Парижа они больше уже не поступили.
Выставочная служба вызвала во мне желание отдыха. Мне захотелось, к августу, проехаться. И я прежде всего подумал о Лондоне. Там уже жил изгнанником из России мой бывший сотрудник, А. И. Бенни, о котором я говорил в предыдущей главе. Он меня звал и обещал устроить в одном доме с собою.
Из Англии я думал проехать в Нормандию, куда к началу сентября меня звал студент Шевалье, один из членов нашего кружка любителей естествознания, сын нормандской помещицы. Он пригласил меня в свою усадьбу, в местности невдалеке от Руана. А после угощения у него предполагалась поездка в первых числах сентября по морским курортам: Этрета, Фекань, Трувиль (тогда только что вошедший в моду), Гавр.
К настоящей осени, то есть к октябрю (по новому стилю), я уже рассчитывал вернуться в Париж и опять в любезный мне Латинский квартал.
Прожить в Лондоне меньше месяца — значит ограничиться только его осмотром с Бедекером в руках.
Но можно уже получить довольно верное представление об этой второй столице мира, если считать законной претензию Парижа быть первой. И тогда же я сразу увидал, что по грандиозным размерам и такому же грандиозному движению Лондон занимал, конечно, первое место, особенно рядом с тогдашним Парижем — элегантным, привлекательным, центральным для материка Европы, но гораздо менее внушительным и обширным. А с тех пор Лондон еще разросся до населения (с пригородами) в семь миллионов жителей.
Кроме Бедекера печатного, у меня оказался и живой путеводитель — А. И. Бенни, который нашел мне комнату в том доме, где и он квартировал, в квартале Британского музея, около самой бойкой и шумной Oxford Street.
Обыкновенно утром за кофеем мы обсуждали с Бенни, какой мне программы держаться в этот день, чтобы «работать в монументах», как острят парижане («travailler dans les monuments»). Его указания были для меня драгоценны и сделали то, что я в одну какую-нибудь неделю успел с толком «обработать» целую треть того, что действительно было стоящего изучения. Сам Артур Иванович редко ходил со мною по утрам. Он был занят своей газетной работой. Жил он в двух комнатках: уютно, с большой чистотой, экономно, завтракал и пил вечерний чай по-английски, с едой, всегда дома, часто и меня приглашал на эти скромные трапезы.
Он познакомил меня тотчас же с тогдашним главным любителем русского языка и литературы — Рольстоном, библиотекарем Британского музея. Рольстон жил тут же, где-то поблизости. В следующий мой приезд в Лондон (когда я прожил в нем весь season с мая по конец августа) он был мне очень полезен и для моих занятий в читальне музея, и по тем экскурсиям, какие мы предпринимали по Лондону вплоть до трущоб приречных кварталов, куда жутко ходить без полисмена. Тогда Рольстон еще плоховато знал по-русски, говорить и совсем не решался. Вероятно, он многим был по этой части обязан Бенни.
Лондон в августе 1867 года, особенно после 15-го, уже затихал во всем, что составляет жизнь «сезона», но для туриста, попадавшего туда впервые, трудно было подметить, что сезонная жизнь притихает.
Кто в первый раз попадал в City на одну из улиц около Британского банка, тот и сорок один год назад бывал совершенно огорошен таким движением. И мне с моей близорукостью и тогда уже приходилось плохо на перекрестках и при перехождении улиц. Без благодетельных bobby (как лондонцы зовут своих городовых) я бы не ушел от какой-нибудь контузии, наткнувшись на дышло или на оглобли.
Ни один город в Европе не дает этого впечатления громадной материальной и культурной мощи, как британская столица.
После лондонских уличных «пережитков» и парижское движение в самых деловых кварталах кажется «средней руки». И этот «контраст» с десятками лет вовсе не уменьшился. Напротив! Двадцать восемь лет спустя, в третье мое пребывание в Лондоне, он сделался еще грандиознее и красивее — с новыми набережными. И опять, попадая прямо оттуда в Париж, и во второй половине 90-х годов вы не могли не находить, что он после Лондона кажется меньше и мельче, несмотря на то что он с тех пор (то есть с падения империи) увеличился в числе жителей на целых полмиллиона!
Как я сказал в самом начале этой главы, я не буду пересказывать здесь подробно все то, что вошло в мою книгу «Столицы мира».
В моих заграничных экскурсиях и долгих стоянках я не переставал быть русским писателем. Лондон сыграл немаловажную роль в моем общем развитии в разных смыслах. Но это вышло ужо в следующем году. А пока он только заохотил меня к дальнейшему знакомству с ним.
По-английски я стал учиться еще в Дерпте, студентом, но с детства меня этому языку не учили. Потом я брал уроки в Петербурге у известного учителя, которому выправлял русский текст его грамматики. И в Париже в первые зимы я продолжал упражняться, главным образом, в разговорном языке. Но когда я впервые попал на улицы Лондона, я распознал ту давно известную истину, что читать, писать и даже говорить по-английски — совсем не то, что вполне понимать всякого англичанина.
В первые дни говор извозчиков, кондукторов в омнибусах (трамваев тогда еще не было), полисменов повергал меня в немалое недоумение. И всем им надо произносить так, как они сами произносят, а то они вас не поймут. И вообще по этой части английский простой (да и пообразованнее) люд весьма туповат, гораздо менее понятлив, чем итальянцы, немцы, французы и русские. А лондонский простолюдин (в особенности извозчик) произносит на свой лад. Для них придыхательный звук «h» не существует. Когда кебмен предлагал нам прокатиться и, указывая на свою лошадь, говорит «Хорошая лошадь, сэр!», то слово horse выходит у него орс, а не хорс.
С образованными англичанами другая беда — их скороговорка (она еще сильнее у барынь и барышень) и глотание согласных и целых слов. Вас они понимают больше, чем вы их. Но у тех, кто хоть немножко маракует по-французски, страсть говорить с иностранцами непременно на этом языке. Для меня это до сих пор великое мучение.
И я помню, что в Лондоне в одном светском салоне одна титулованная старушка — без всякой надобности — заговорила со мною по-французски и начала мне рассказывать историю о кораблекрушении, где она могла погибнуть. Я только и понял, что, кажется, это происходило на море; но больше ровно ничего!
Манера англичан и англичанок мямлить и искать слов может на нервного человека действовать прямо убийственно. Но все-таки в три недели, проведенные мною в постоянной беготне и разъездах по Лондону, я значительно наладил свое ухо. С уха и должен каждый приступающий к изучению английского начинать и проходить сейчас же через чисто практическую школу.
Я знавал русских ученых, журналистов, педагогов, которые хорошо знали по-английски, переводили Шекспира, Байрона, Шелли, кого угодно и не могли хоть сколько-нибудь сносно произнесть ни одной фразы. Есть даже среди русских интеллигентов в последние годы такие, кто очень бойко говорит, так же бойко понимает всякого англичанина и все-таки (если они не болтали по-английски в детстве) не могут совладать с неизбежным и вездесущим английским звуком «the», которое у них выходит иногда как «зэ», а иногда как «тце».
В Лондоне испытал я впервые чувство великой опасности быть брошену как в море тому, кто не может произнесть ни одного слова по-английски. Теперь еще больше народу, маракующего крошечку по-французски или по-немецки, но тогда, то есть сорок один год назад, только особенная удача могла вывести из критического, безвыходного положения всякого, кто являлся в Лондон, не позаботившись даже заучить несколько фраз из диалогов.
Из Англии я попал в Нормандию.
В первый раз попадал я в настоящую нормандскую деревню и к местным помещикам.
Мой сотоварищ по кружку «любителей природы» (по имени и фамилии Эводь Шевалье) был еще то, что называется «un gamin», несмотря на свой порядочный возраст — школьник, хохотун, затейник, остряк и, разумеется, немножко циник. Он пригласил к 1-му сентября, кроме своих коллег по нашему кружку, еще двух-трех парижских приятелей. И все мы сначала объехали морские купанья нормандского прибрежья: Гавр, Фекань, Этрета, модный и тогда уже Труйиль, Довиль… В воздухе молодости, с шутками и смехом, произвели мы наш объезд. Такие поездки более знакомят иностранцев с характером, нравами, всякими особенностями и своих знакомых и туземцев, чем житье многих тысяч туристов по заграничным столицам и курортам.
Тогда стояли годы самого высшего подъема Бонапартова режима и его престижа на всю Европу. И в Трувиле — на обширном пляже — мы нашли все элементы тогдашнего парижского придворно-вивёрского «монда». Трувиль был тогда самое модное морское купанье.
Гораздо занимательнее было для меня посещение чудесных памятников города Руана, его готических церквей и целых уличек, полных домов, уцелевших от XVII и даже XVI столетий.
Такие церкви, как St. Ouen и St. Maclou, относят вас к живописному средневековью и считаются прекрасными образцами французской готики. И как противоречит таким готическим базиликам и старинным домам Руана монумент в виде конной статуи, воздвигнутый Наполеону I, который к жизни Руана и всей Нормандии не имел никакого «касательства», кроме разве тех административных распоряжений, в которых сказывалась его забота о поднятии материального благосостояния этого края.
В усадьбе французской помещицы средней руки было весьма способно присмотреться к деревне и быту самих помещиков.
Мать моего жизнерадостного парижанина была полная, рыхлая, нервная и добродушная особа, вдова, живущая постоянно в своей усадьбе, в просторном, несколько запущенном доме и таком же запущенном саде. Всем гостям ее сына нашлось помещение в доме и флигеле. Сейчас же мы вошли в весь домашний обиход, в жизнь их прислуги, в нравы соседней деревни.
Нашим сборным пунктом была ранним утром, особенно перед нашими экскурсиями по окрестностям, кухня — низкая, просторная комната, с большим окном архаического типа. Кухарку все полюбили; а молодого «барина» она трактовала как бы своего питомца и говорила ему «ты». Постоянным предметом разговоров был ее сын, молодой, красивый малый, исполнявший должности и кучера, и садовника, и привратника. Он очень заботил и ее, и самих его господ своим импульсивным нравом. С ним уже случались истории весьма неприятного свойства. В кого-то он даже стрелял из ружья.
А когда на него не находил «стих», он казался веселым, вежливым малым, умел обходиться с белой, старой и доброй лошадью по прозвищу Кокотка, которая и возила нас в небольшом шарабане.
Я любил бродить и пешком по деревням. В эту пору года после уборки хлебов происходит уборка плодов. Нормандия славится своими грушами и яблоками; а виноград в ней не может дозревать как следует, и местного вина нет.
Не знаю, как теперь, но тогда, то есть сорок один год назад, встречать по дороге крестьян (и старых, и молодых, и мужчин, и женщин) было очень приятно. Всегда они первые вам кланялись и не просто кивали головой, а с приветствием, глядя по времени дня. Случалось нам возвращаться домой, когда совсем ночь. Вам попадается группа крестьян, и только что они вас завидят в темноте, они, не зная, кто вы именно, крикнут вам:
— Доброй ночи, сударь!
И в те годы я уже не находил там народных головных уборов доброго старого времени, больших белых чепчиков и остальных частей костюма. Крестьянки — и старые и молодые — носили темные, плоские чепчики и одевались по-городскому, в капотцы, с платками и кофточками.
Говор истых нормандцев — не диалект, а настоящая французская речь, но деревенская, с необычайно певучими переливами голоса и своеобразными звуками в двугласном «oi», которое они произносят не «уа», а «уэ-э», так что, например, слово «avoine» (овес) выходит у них «avouene».
У моих помещиков справлялся день открытия охоты, 1 сентября, что приходится на день Св. Жилля. Раньше закон строго запрещает идти на охоту. Приехали еще несколько человек гостей из Руана и из Парижа, в том числе и зять госпожи Шевалье. И все мужчины с раннего утра отправились в большом возбуждении на охоту. Кругом какие есть леса — все это уже на откупе, для больших охот. Надо довольствоваться только дорогами, полянами, да и то не чужими. Поэтому во Франции привезти с охоты одного зайца или двух куропаток — это уже большой триумф. И обычай для гостей таков, что их добыча идет на обед, что было и у нас. Сели позднее, но еще засветло, на воздухе, в саду, под большим навесом. По тогдашнему русскому стилю, это было всего только 20 августа.
Вот тогда я воочию убедился в том, как в Нормандии, в таких вот помещичьих и зажиточных крестьянских домах, едят. Мы, русские, славимся нашим многоедением, но нормандцы нас заткнут за пояс.
В саду за обедом сидели добрых три часа, и блюдам не было конца. Я насчитал их до тринадцати, не считая десерта, то есть сыров, фруктов, печенья, конфект, варенья, бисквитов. Это было что-то поистине во вкусе Рабле, из его «Gargantua». И тот заяц, которого застрелил зять хозяйки, был уже превращен в вкусный пирог — паштет из зайца. И все куропатки, дрозды, кулики и другие пичужки были также поданы к концу этой гомерической трапезы.
Посредине стола возвышалась широкая, плотная и плечистая фигура местного «батюшки», веселого и речистого «сиге», который напоминал собою самого Рабле. Он ел и пил за троих и каждого ему незнакомого неизменно спрашивал — «какого он прихода?» По-французски, на его жаргоне, вопрос этот звучал так:
— Sous quelle paroisse est Monsieur или Madame?
Дошла очередь и до меня. Я должен был огорчить его, ответив, что я ни к какому приходу не принадлежу, что я иностранец да еще «схизматик», как считают православных все добрые католики.
Вот так и «благодушествовали» мы в благословенной Нормандии, вдали от столичной, политической и всякой другой злобы дня.
Но надо было подумать и о возвращении в Париж.
Я хотел остаться верным Латинскому кварталу, но взял себе меблированную квартирку из двух комнат в более тихом месте, чем центр бульвара St. Michel, где я прожил с января до отъезда в Лондон. Этот отельчик нашел я во всей его «непосредственности» и в 1900 году, когда производил анкету насчет всех отелей, где я живал. Он называется Hotel Montesquieu и находится в той улице, где помещались и курсы Русской школы после выставки 1900 года. У них был № 16, а мой отельчик носил, кажется, № 8 или 10. На этой улице всю левую сторону занимает здание университета (Сорбонны), и только правая состоит из обывательских домов.
Там я, кроме очередной работы как корреспондент, приступил и к моему роману «Жертва вечерняя». Но его первоначальный замысел пришел мне не в Париже, а в Лондоне, и совершенно так, как должно по теории «непроизвольного творчества» всегда происходить, то есть неожиданно.
Я шел по Regent-Street в обществе А. И. Бенни и Рольстона и не знаю, какая внезапная ассоциация идей привела меня к такому же внезапному выводу о полной моральной несостоятельности наших светских женщин. Но это явилось мне не в виде сентенции, а в образе молодой женщины из того «круга», к которому я достаточно присмотрелся в Петербурге в сезоны 1861–1865 годов.
Про меня рано сложилась легенда, что я все мои романы не написал, а продиктовал. Я уже имел повод оговариваться и поправлять это — в общем неверное — сведение. До 1873 года я многое из беллетристики диктовал, но с того года до настоящей минуты ни одна моя, ни крупная, ни мелкая вещь, не продиктована, кроме статей. «Жертва вечерняя» вся целиком была продиктована, и в очень скорый срок — в шесть недель, причем я работал только с 9 до 12 часов утра. А в романе до двадцати печатных листов.
Эмигрант из московских студентов, поляк Г. (явившийся под другой фамилией Л.) ходил ко мне каждое утро, садился к столу, писал очень скоро на четвертушках с большими краями и за работу свою получал пять франков, клал их в карман и уходил. Он был в большой нужде, и такой заработок (при тогдашней дешевизне) свалился ему прямо с неба. А я был доволен его работой, доволен и тем, что даю ему заработок на порядочный срок. Работа не шла бы так споро, если б вещь эта не имела формы дневника героини — того, что немцы на их критическом жаргоне называют: «Tee — Romane».
Да и весь фон этой вещи — светский и интеллигентный Петербург — был еще так свеж в моей памяти. Нетрудно было и составить план, и найти подробности, лица, настроение, колорит и тон. Форма интимных «записей» удачно подходила к такому именно роману. И раз вы овладели тоном вашей героини — процесс диктовки вслух не только не затруднял вас, но, напротив, помогал легкости и естественности формы, всем разговорам и интимным мыслям и чувствам героини.
При тогдашней трудности — и для меня — найти помещение для вещи больших размеров было бы рискованно пускаться в такую работу. Но случилось так, что в Петербурге стал выходить новый толстый журнал «Всемирный труд». Издатель его оказался тот самый доктор Хан, который водил меня от академика Зинина к книгопродавцу М. Вольфу, когда я, дерптским студентом, приехал в мае 1856 года искать издателя для моего перевода «Руководства к химии» Лемана. Мы с ним познакомились на письмах, и я его так и не видал впоследствии. К моему возвращению в Россию в январе 1871 года «Всемирный труд» прекратил свое существование, а вскоре, кажется, и его издатель отправился «ad patres».
«Жертва вечерняя» стала печататься с января 1868 года, и она в первый раз доставила мне «успех скандала», если выразиться порезче. Петербургская публика сильно ею заинтересовывалась. Но в «Отечественных записках» взглянули на нее как на роман чуть не порнографического характера, и в анонимной рецензии (она принадлежала, кажется, Салтыкову) прямо было сказано, что такие вещи пишутся только для возбуждения половых инстинктов. Такой приговор останется на совести того, кто его произносил, или его тени. Но в публике на роман взглянули как на то, что французы называют романом с намеками, то есть стали в нем искать разных петербургских личностей, в том числе и очень высокопоставленных.
Цензура пропустила все части романа, но когда он явился отдельной книгой (это были оттиски из журнала же), то цензурное ведомство задним числам возмутилось, и началось дело об уничтожении этой зловредной книжки, доходило до Комитета министров, и роман спасен был в заседании Совета под председательством Александра II, который согласился с меньшинством, бывшим за роман.
Открою здесь попутно небольшую скобку. Как я уже отчасти заметил выше — давно в журнализме и газетной прессе сочинили, как сейчас сказал, преувеличенную легенду о том, что я всю свою жизнь диктовал мои беллетристические вещи. Это верно только для некоторой доли «В путь-дорогу», для «Жертвы вечерней» и для одной трети «Дельцов». Но все это относится к периоду до 1872 года. С тех пор я все беллетристическое писал сам, а не диктовал. Если взять в расчет, что я начал писать как повествователь с 1862 года, стало быть, это относится лишь (да и то далеко не вполне) к одной четвертой всего 50-летия, то есть с той эпохи, как я сделался писателем. Но так обыкновенно пишется «история» не об одних покойных, но и о живых людях.
«Успех скандала», выпавший на долю «Жертвы вечерней», и строгая, но крайне тенденциозная рецензия «Отечественных записок» мало смущали меня. Издали все это не могло меня прямо задевать. Книга была спасена, продавалась, и роман читался усердно и в столицах и в провинции. И далее, в начале 70-х годов, по возвращении моем в Россию, один петербургский книгопродавец купил у меня право нового издания, а потом роман вошел в первое собрание моих сочинений, издания М. О. Вольфа, уже в 80-х годах.
Меня поддерживало убеждение в том, что замысел «Жертвы вечерней» не имел ничего общего с порнографической литературой, а содержал в себе горький урок и беспощадное изображение пустоты светской жизни, которая и доводит мою героиню до полного нравственного банкротства. Гораздо позднее, в 80-х и 90-х годах, я имел случай видеть, как «Жертва вечерняя» находила достодолжную оценку у самых избранных читателей, в том числе у моих собратов-беллетристов в поколениях моложе нашего. Я не называю имен, но читатель поверит мне на слово. Эти читатели были за тысячу верст далеки от всякого обвинения в намерении действовать на половые инстинкты, а брали только художественную сторону и бытописательское содержание романа и выражали мне безусловное одобрение.
Время берет свое, и то, что было гораздо легче правильно оценить в 80-х и 90-х годах, то коробило наших аристархов пятнадцать и больше лет перед тем и подталкивало их перо на узкоморальные «разносы». Теперь, в начале XX века, когда у нас вдруг прокатилась волна разнузданного сексуализма и прямо порнографии (в беллетристике модных авторов), мне подчас забавно бывает, когда я подумаю, что иной досужий критик мог бы и меня причислить к родоначальникам такой литературы. На здоровье!
Хотя время и место действия «Жертвы вечерней» — Петербург, но и там есть много подробностей, навеянных прямо жизнью Парижа и специально Латинского квартала. Это относится больше всего до одного разговора героини с своим кузеном, молодым писателем, долго жившим именно в Латинском квартале. Я не говорю, что этот «Степа» — сам автор. Но тогда я мог бы точно так же и то же говорить на тему о проституции. Это все — наблюдения, доставленные мне в первую же мою зиму в Париже. Но, прибавлю я, оценку этого социального недуга, которую дает кузен героини, считаю я и теперь правильной. Проституция — явление более экономическое, чем моральное.
Пикантно и то, что «Жертва вечерняя» был одним из первых моих романов переведен немцами, под заглавием «Abendliches Opfer», и в тамошней критике к нему отнеслись вовсе не как к порнографической вещи.
Парижская жизнь развертывалась передо мною с этого второго по счету сезона 1867–1868 года — еще разнообразнее.
Заработок беллетриста и работа корреспондента позволяли теперь привольнее и бойчее жить.
Мой интерес к изучению сцены и театрального искусства и в теории и на практике все еще играл видную роль в моих тогдашних парижских экскурсиях, знакомствах и наблюдениях.
В школе старика Рикура я слышал самую высшую «читку» (как у нас говорят актеры) и знакомился по его интересным, живым рассказам со всей историей парижских театров, по меньшей мере с эпохи июльской революции, то есть за целых тридцать пять лет.
Никто никогда, на моей памяти, так не произносил монологов из мольеровского «Мизантропа». До сих пор я слышу его интонации, когда он начинал заключительный монолог Альцеста, где тот изливает свое негодование на весь род людской: «Нет, она принадлежит всем, и я ненавижу всех людей!» и т. д.
Консерватория интересовала меня, да и то только на первых порах, тем, как было там поставлено дело. Я об этом уже говорил.
Кроме личного знакомства с тогдашними профессорами из сосьетеров «Французской комедии»: стариком Сансоном, Ренье, позднее Брессаном (когда-то блестящим «jeune premier» на сцене Михайловского театра в Петербурге), — я обогатил коллекцию старых знаменитостей и знакомством с Обером, тогдашним директором Консерватории, о чем речь уже шла выше.
Такие фигуры уже не встречаются теперь в Париже. Никто в этом старике, с наружностью русского столоначальника николаевского времени, не признал бы создателя «Фенеллы» и «Фра-Дьяволо». Как директор Консерватории, он совсем не занимался ее сценическим отделением, да и вряд ли что-нибудь понимал по этой части.
Изумительна была только его живучесть. Да и вся обстановка его обширной, скучноватой и холодноватой квартиры с старинным роялем, и его халатик, и его тон, и старомодная вежливость — все это было в высокой степени типичным для человека его эпохи.
Связь моя с театральным миром поддерживалась и у Фр. Сарсе на его завтраках. Я уже говорил о том, как я Сарсе обязан был знакомством с Гамбеттой и по какому поводу Сарсе пригласил его для разговора со мною.
Гамбетта действительно интересовался нашей внутренней политикой.
Как я уже сказал выше, его личность представилась мне совсем в другом свете, чем позднее, особенно в годину испытаний Франции, когда он был ее диктатором в Type, куда перелетел в шаре.
Тогда он мне показался умным и речистым (с сильным акцентом) южанином, итальянского типа в лице, держался довольно скромно и по манерам и в тоне и с горячей убежденностью во всем, что он говорил. О Каткове и о Николае Милютине он меня не особенно много расспрашивал; но когда мы пошли от Сарсе пешком по направлению к Палате, Гамбетта стал сейчас же говорить как радикал с республиканскими идеалами и как сторонник тогдашней парламентской оппозиции, где значилось всего-то человек семь-восемь, и притом всяких платформ — от легитимиста Беррье до республиканцев Жюля Фавра, Жюля Симона и Гарнье-Пажеса, автора книги о февральской революции. Но и тогда уже в Гамбетте чувствовался оппортунист, который желает считаться с фактами и пользоваться тем, что есть. В таком духе он и заговорил со мною о тогдашней оппозиции.
— Нужды нет, что в ней мало единства политического credo у разных ее членов. Но она бьет в одну точку. Она — враг бонапартизма, и надо всячески ее поддерживать.
Узнав по дороге, что я пишу в газете, он предложил мне ввести меня в кулуары, в Salle des pas perdus, куда я еще не проникал, а попадал только в трибуны прессы. Сам он, при малой адвокатской практике, состоял парламентским репортером от газеты «Temps», тогда хотя и либеральной и оппозиционной, однако весьма умеренной.
И тогда и позднее я, глядя на лицо Гамбетты, не замечал, что у него один глаз был вставной, фарфоровый. Потом стал я узнавать — который. Он, разумеется, был неподвижный и, видимо, слегка слезился.
Гамбетта, приведя меня в Salle de pas perdus «Законодательного корпуса», как тогда называлась Палата депутатов, познакомил меня тут же с тремя членами оппозиции: Жюлем Симоном, Гарнье-Пажесом и Пикаром.
Ж. Симон тогда смотрел еще совсем не стариком, а он был уже в Февральскую революцию депутатом и известным профессором философии. Вблизи я увидал его впервые и услыхал его высокий «нутряной» голос с певучими интонациями. Когда Гамбетта познакомил нас с ним, он, узнав, что я молодой русский писатель, сказал с тонкой усмешкой:
— Из вашей литературы я знаю Пушкина и моего друга Ивана Тургенева («et mon ami Jvan Tourguenew).
Был ли он «другом» великого романиста, в нашем русском (а не французском) смысле, — я не знаю и не проверял, но помню только, что Тургенев в своих рассказах и разговорах со мною никогда не упоминал имени Ж. Симона.
У Гарнье-Пажеса была преоригинальная внешность. Тогдашние карикатуры изображали всегда его седую голову с двумя длинными прядями у лица, которые расходились в виде ятаганов. Он смахивал на старого школьного учителя и был тогда еще очень бодрый старик.
Пикар произвел на меня впечатление веселого толстяка.
Все эти члены тогдашней оппозиции обходились с Гамбеттой как с равным, хотя он был еще тогда только газетный репортер и адвокат с очень малой практикой. Но он уже приобрел известность оратора на сходках молодежи Латинского квартала. Его красноречие уже лилось рекой, всего чаще в тогдашнем Cafe Procope — древнем кафе (еще из XVIII века), теперь уже там не существующем.
Его приятелем был получивший громкую известность студент, выпустивший наделавшую тогда шуму радикальную брошюрку под псевдонимом «Pipe en bois». Эта «деревянная трубка» очутился в 1870 году личным секретарем Гамбетты в Type, и тогда только я и увидал его в натуральном виде, а живя в Латинском квартале, не знал, кто он.
Оппозицию все мы, писавшие тогда о внутренней политике Франции, искренно поддерживали в своих статьях и корреспонденциях, но в менее практическом духе, чем Гамбетта, который, как будущий политический деятель, как бы провидел, что без этого ядра противников бонапартизма дело не обойдется в решительный момент.
Чувствуя в себе силы политического борца, он и тогда уже мог питать честолюбивые планы, то есть мечтать о депутатском звании, что и случилось через какой-нибудь год. А пока он жил и работал без устали и как газетный репортер, и как адвокат еще с очень тугой практикой.
Помню, я его навестил. Жил он очень высоко, в Латинском же квартале, недалеко от Palais de justice, в крошечной квартирке. Но это была «квартира», а не меблировка. По правилам французской адвокатуры, каждый «stagiaire» (то есть по-нашему помощник) должен жить со своей мебелью, а не в отеле или меблированных комнатах.
Его не было дома, когда я поднялся к нему на его вышку. Меня приняла старушка, которую я сначала принял за прислугу. Сколько помню, это была его тетка. Не знаю, жива ли была в то время его мать. Отец жил в Ницце, где занимался торговлей вином и оливковым маслом, и пережил сына. Он был жив еще к тем годам, когда я стал проводить зимы на Французской Ривьере.
Когда Гамбетта и Рошфор попали в парламентскую оппозицию, настроение внутренней политики сильно изменилось. Тогда уже и правительство стало либеральничать. И тон прессы, брошюр, речей на митингах и публичных лекциях сильно поднялся. А в зиму 1867–1868 года оппозиция по необходимости должна была пробавляться больше фактическими поправками и очень редко позволяла себе резкие «выпады». В тот сезон красноречие Гамбетты с его тоном и порывами трибуна смущало бы Палату, которая вся почти состояла из приверженцев режима Второй империи гораздо сильнее, чем это было год спустя.
Гамбетта — во всем своем облике, повадке, жестах и, главное, голосе и тоне — был истый южанин, несомненно итальянского типа. Слово «gambetta» значит ведь по-итальянски «ножка». Он и воспитывался на юге, где в его говор въелся на всю жизнь провансальский акцент. От него он не мог отделаться до самой смерти, хотя с годами стал менее сильно отбивать как русское н все носовые звуки. Он слова «vin», «pain» и «cinq» произносил, как вэнь, пэнь, сэнк. Но этот южный букет придавал его дикции особую силу. Голос вибрировал, жест был широкий, живописный, движения головы, немного откинутой назад, обличали прирожденного трибуна. И во всем, что он говорил, звучала самая твердая убежденность и сквозил ум, верный расчет, высшие ресурсы настоящего государственного человека, который только пользуется редким красноречием для служения своей идее, своему плану, твердо намеченной цели.
В той группе, которая действовала в Палате, когда Гамбетта ходил туда только как журналист, было несколько признанных дарований.
Во-первых — Жюль Фавр, великолепный оратор, с блистательно отделанной фразой, с язвительной дикцией, с внушительным жестом. Но все это отзывалось часто судебной палатой, чувствовался старый боец адвокатуры.
По темпераменту и силе натиска стоял, пожалуй, и выше его боец легитимизма, тоже адвокат — Беррье. Он принадлежал к оппозиции, защищал свои монархические идеалы самой чистой воды, то есть возвращение Бурбонов. Но ему это прощали, потому что он умел «громить» Вторую империю, не отказываясь от своего credo.
В Жюле Симоне чувствовался профессор Сорбонны, привыкший излагать философские системы. «Громить» он не мог и по недостатку физической силы, и по тембру голоса, но его речи были не менее неприятны правительству по своему — на тогдашний аршин — радикализму и фактическому содержанию.
Экс-республиканец Эмиль Оливье уже и тогда стал склоняться к примирению с империей и перед войной сделался первым министром Наполеона III.
Самым опасным для режима парламентским бойцом был, в сущности, старикашка Тьер, с его огромным политическим и литературным прошедшим.
Его речи отличались своим громадным деловым содержанием и колоссальными размерами. Раз при мне он говорил около трех часов без перерыва, а был уже в те годы «старцем» в полном смысле. Но его, также южные, стойкость и юркость делали из него неутомимейшего борца за буржуазную свободу во вкусе Июльской монархии. Убежденным республиканцем он, я думаю, никогда не был, даже тогда, когда сделался президентом Третьей республики.
Как отчетливо сохранилась в моей памяти маленькая, плотная фигура этого задорного старика, в сюртуке, застегнутом доверху, с седой шевелюрой, довольно коротко подстриженной, в золотых очках. И его голос, высокий, пронзительный, попросту говоря «бабий», точно слышится еще мне и в ту минуту, когда я пишу эти строки. Помню, как он, произнося громадную речь по вопросу о бюджете, кричал, обращаясь к тогдашнему министру Руэру:
— Я не боюсь господина государственного министра!
Этот «государственный» министр (при Наполеоне III существовало и такое министерство) был самый главный «столп» тогдашнего режима.
Наши газеты (в том числе и те, где я писал) упорно продолжали печатать его имя по-русски «Руэ», воображая, что окончание «er» должно быть произносимо без звука «р». И как я ни старался в моих письмах вразумить их, что он Руэр, а не Руэ, он так и остался «Руэ» для русской публики, Не смущало редакцию и то, что «Руэ» значило бы «плут» — «un roue». «Плутом» Руэр не был, но «ловкачом» крупной масти. Из адвокатов, когда-то радикальных взглядов, он сделался «беззаветно преданным» Наполеону III и защищал бонапартизм сильнее, даровитее, умнее всех остальных его пособников. Правда, в такой палате, как тогдашняя, это было не особенно трудно. Не только почти полный ее состав поддерживал правительство, но и президент Законодательного корпуса, хотя и вел себя довольно корректно, представлял собою особое олицетворение наполеоновского режима. Это был граф Валевский, как известно, побочный сын Наполеона I, а стало быть, кузен Наполеона III.
Руэр рядом с фигурой Тьера мог казаться колоссом: плотный, даже тучный, рослый, с огромной головой, которую он, когда входил на трибуну, покрывал черной шапочкой; говорил громко, сердито или с напускным пафосом. И когда разойдется и начнет разносить неприятных ему ораторов, то выпячивал вперед оба кулака и тыкал ими по воздуху. Этот жест знал весь Париж, интересовавшийся политикой.
В моих тогдашних корреспонденциях (и в газете «Москвич», и в «Русском инвалиде») я часто возвращался к парламентским выступлениям государственного министра, который кончил свое земное поприще как «верный пес» Бонапартова режима и после его падения 4 сентября 1870 года.
К 1868 году Вырубов и Литтре стали издавать журнал «La Philosophic Positive». Я усердно посещал вечера Вырубова, куда Литтре являлся всегда аккуратнейшим образом к девяти часам и к одиннадцати, выпив чашку чаю, брался за свой высокий цилиндр и уходил всегда одинаково одетый в длинноватый сюртук, при белом галстуке.
Я уже говорил, какую изумительно трудовую жизнь вел этот мудрец. Каждый день одна только работа над словарем французского языка брала у него по восьми часов, а остальные восемь он методически распределял между другими занятиями.
Никогда я не слыхал на этих вечерах, чтобы Литтре затевал спор, или повысил тон, или позволил себе какую-нибудь колкость, даже остроту, шутку. Такого серьезного, сдержанного, всегда себе верного француза я и среди стариков не встречал. Даже странно казалось признавать его за настоящего француза и еще менее за парижанина. И выговор у него был самый простой, жестковатый, глухой, без парижской мягкой и певучей картавости. Всего больше он смахивал на какого-нибудь гувернера-швейцарца, из годов моего детства. Тон его делался живым только тогда, когда речь заходила о бонапартизме и, в особенности, о Наполеоне I.
К концу зимнего сезона я написал по-французски этюд, который отдал Вырубову перед отъездом в Лондон. Он давал его читать и Литтре как главному руководителю журнала, но шутливо заявлял, что Литтре «в этом» мало понимает. А «это» было обозрение тогдашней сценической литературы. Этюд и назывался: «Особенности современной драмы».
В этом этюде я говорил не только о театрах Парижа и выдающихся драматургах, но и о критике. Я не мог не поставить впереди других Фр. Сарсе, а из писателей — Дюма-сына. К Ожье я отнесся тогда не так, как стал оценивать его позднее, когда разностороннее изучил его театр. Ожье и Т. Баррьер стояли и тогда как бытописатели выше Дюма по созданию характеров и сценическому складу своих комедий. А Сарду и тогда уже являлся для меня ловким сценических дел мастером, очень даровитым, но добивающимся прежде всего успеха, чего он и добивался каждой своей новой вещью.
В Дюма-сыне меня привлекали идейность его пьес, ум, блестящий диалог и постановка интересных общественных и этических задач. Тогда такая его комедия, как «Les Idees de madarae Aubray» считалась очень сильной, и пугливые моралисты находили эти «идеи» рискованными и даже опасными. И Сарсе был как раз тот критик, который стоял на стороне автора и старался защищать его идеи и сюжеты так, чтобы публика с ними полегоньку мирилась. Но в пьесах Дюма привлекали не одни их темы, а также и то, как известные типы и характеры поставлены, как развивались нравственные коллизии и как симпатии автора клонятся к тому, что и мы считали тогда достойным сочувствия.
Мой этюдец я мог бы озаглавить и попроще, но я тогда еще был слишком привязан к позитивному жаргону, почему и выбрал громкий научный термин «Phenomenes». Для меня лично после статьи, написанной в Москве летом 1866 года, — «Мир успеха», этот этюд представлял собою под ведение некоторых итогов моих экскурсий в разные области театра и театрального искусства. За плечами были уже полных два и даже три сезона, с ноября 1865 года по май 1868 года.
В зиму 1867–1868 года расширилось и мое знакомство с парижской интеллигенцией в разных ее мирах. Парламентская жизнь, литературные новости, музыка (тогда только начавшиеся «популярные» концерты Падлу), опера, оперетка, драматические театры, театральные курсы и опять, как в первую мою зиму, усердное посещение Сорбонны и College de France.
Ноту оппозиционного либерализма среди лекторов продолжал держать любимец публики Лабуле на своих курсах в College de France. Он не имел ученой степени (как и многие его коллеги) и носил только звание адвоката. Но в таком открытом заведении, как College de France, не держались университетской иерархии. Всякий выдающийся писатель, публицист, ученый (в том числе, конечно, и владеющие высшими дипломами) — могли, да и теперь могут, получать там кафедры.
Этот Дом курсов — до сих пор единственный во всей Европе, основанный еще при короле Франциске I, доступный всем и каждому, прямо с улицы. Без точных делений на факультеты, он, однако, давал вам, если б вы захотели слушать все науки, которые там преподают, не только огромное энциклопедическое образование, но и специальную выучку. В идею College de France входило также и создание новых кафедр, какие еще не введены в университетские программы, по всем отраслям знания. Там же тогда (теперь есть уже для этого специальные заведения) только и можно было изучать восточные языки, вплоть до китайского.
Сорбонна была настолько еще в тисках старых традиций, что в ней не было даже особой кафедры старого французского языка. И эту кафедру, заведенную опять-таки в College de France, занимал ученый, в те годы уже знаменитый специалист Paulin Paris, отец Гастона, к которому перешла потом кафедра отца. У него впоследствии учились многие наши филологи и лингвисты. Именами вообще College de France щеголял сравнительно с древней Сорбонной.
Довольно упомянуть о такой величине в области естествознания, как химик Вертело, а по гуманитарным наукам Ренан и Критик Сент-Бёв, тогда уже сенатор империи. Но он не показывался на кафедре после одной неприятной для него студенческой демонстрации (за измену своему прежнему либерализму), и его кафедру латинской словесности занимал всегда какой-то заместитель.
Рядом с Вертело, к кому я, по старой памяти экс-студента химии, также захаживал, стояла такая сила, как Клод-Бернар, создатель новой физиологии, тот самый, кому позднее, при Третьей республике, поставили бронзовую статую перед главным входом во двор College de France, на площадке, окруженной деревьями, по rue des Ecoles.
Мне уже нельзя было так «запоем» ходить на лекции, как в первую мою зиму, но все-таки я удосуживался посещать всех лекторов, которые меня более интересовали. Из них к Лабуле я ходил постоянно, вряд ли пропуская хоть одну из прекрасно изложенного курса о «Духе законов» Монтескье.
Лабуле занимал кафедру государственного права европейских держав, но выбором своих тем не стеснялся и систематических курсов не читал.
Своей тогдашней популярностью он обязан был своему лекторскому таланту. Он не был оратор в условном смысле; в нем не чувствовался и бывший судебный защитник, привыкший к чисто адвокатским приемам красноречия. Он говорил довольно тихим голосом, без парижской красивости и франтоватости дикции, но содержательно, с тонкой диалектикой и всякими намеками — в оппозиционном духе.
Из-за них, конечно, больше и ходили к нему и своими аплодисментами поддерживали эти проявления — нисколько, в сущности, не крайнего — свободомыслия. Но в аудитории Лабуле (она и теперь еще самая просторная во всем здании) чувствовался всегда этот антибонапартовский либерализм в его разных ступенях — от буржуазного конституционализма до республиканско-демократических идеалов.
Сам Лабуле не был вовсе сторонник крайнего демократизма. Он считал даже всеобщую подачу голосов, которой Наполеон III воспользовался для своего государственного переворота, нисколько не желательной. Когда позднее я у него был с визитом, он, показывая мне серебряную чернильницу, подаренную ему незадолго перед тем его избирателями (он был побит на выборах своим соперником, кандидатом правительства), сказал мне:
— Всеобщая подача — ловушка! Она долго будет поддерживать существующий режим.
Мало было тогда на кафедрах и в публицистике таких чистой воды конституционалистов, как Лабуле, и вообще защитников свободомыслия — не в одной политике.
Тогда и вопрос независимости французской церкви стая на очереди. Бонапартов режим поддерживал папство (французский корпус занимал еще Рим), и французское высшее духовенство все погрязало более и более в ультрамонтанство, то есть в безусловное подчинение римской курии.
А французский епископат еще с XVII века (в лице своих знаменитейших иерархов) отстаивал то, что называется галликанством, то есть традиции некоторой иерархической независимости французской церкви от Ватикана.
Лабуле в ту же беседу со мною, говоря на эту тему, сообщил мне следующий пикантный факт:
— Еще недавно, — сказал он, — один из выдающихся наших епископов сказал мне следующую фразу: «Если б римский господин («Monsieur de Rome» — старинное обозначение всякого епископа «Monsieur de Lyon», «Monsieur de Paris». Так же зовут французы и палача: Monsieur de Paris.) приехал в мою епархию, он служил бы в ней обедню только с моего разрешения».
Теперь такие слова в устах французского архиерея показались бы чуть не богохульством.
Но тогда даже профессор духовного красноречия на богословском факультете Сорбонны, аббат Грэтри (я и к нему заглядывал на лекции), тоже по-своему выказывал некоторое свободомыслие. И часто молодежь (даже и в Высшей педагогической школе, где он также преподавал) увлекалась им. Он говорил очень искренно и горячо и подкупал этим свою аудиторию более многих лекторов Сорбонны, College de France и Ecole de droit.
Профессора Сорбонны были «академичны», но в аудитории «Французского коллежа» охотнее идешь, бывало, чтобы слышать что-нибудь более живое и индивидуальное.
Параллель между двумя лекторами по истории литературы даст этому самую лучшую иллюстрацию. В Сорбонне красиво, с ораторским подъемом читал профессор-писатель Сан-Рене Таландье интересные курсы, больше о классических писателях Франции, например о Мольере, и хорошо готовился к своим чтениям. Но он был слишком уже торжествен и несколько театрально красноречив. В College de France читал по истории литературы (своей и отчасти иностранной) просто критик, без ученой высшей степени — Филарет Шаль, уже состарившийся, болтливый, с сомнительной ученостью, но более живой и забавный.
Та же почти разница чувствовалась и на кафедрах по философии. Их было целых четыре: две в Сорбонне, две в College de France. На всех царила метафизика, сложившаяся под влиянием немецкого идеалистического дуализма. Духом позитивизма, то есть научного мышления, не пахло тут. Типичным представителем этого французского «эклектизма» был сорбоннский профессор П. Жане. Он и писал и говорил как лектор с известным талантом и большой эрудицией, но все это было половинчатое, на метафизической подкладке. Это все еще было наследие Кузена, насадителя французского эклектизма. В College de France Франк, читавший нечто вроде «нравственной философии», был все-таки более живой по темам, какие он задевал, и по нервному изложению, с большим темпераментом и своеобразной, довольно задорной диалектикой.
И тогда во французских гимназиях (то есть лицеях и коллежах) существовал философский класс как обязательный предмет последнего гимназического года. Стало быть, лекции философии в двух высших заведениях должны бы посещаться очень усердно студентами. Но этого вовсе не было. В College de France у Франка бывало еще более публики, но лекции в Сорбонне вообще поражали пустотой своих аудиторий. Еще некоторое исключение представляли собою лекции по литературе. Настоящих, подлинных студентов ходило в Сорбонну почти скандально мало.
Обыкновенная физиономия аудитории Сорбонны бывала в те семестры, когда я хаживал в нее с 1865 по конец 1869 года, такая — несколько пожилых господ, два-три молодых человека (быть может, из студентов), непременно священник, — а то и пара-другая духовных и часто один-два солдата.
Женщин (имевших с Третьей республики свободный вход всюду) тогда в Сорбонну не пускали. Зато в College de France они были «personae gratae». Им отводили в больших аудиториях все места на эстраде, вокруг кафедры, куда мужчин ни под каким видом не пускали. Они могли сидеть и внизу, в аудитории, где им угодно.
В последние годы в некоторых аудиториях Сорбонны у лекторов по истории литературы дамский элемент занимал собою весь амфитеатр, так что студенты одно время стали протестовать и устраивать дамам довольно скандальные манифестации. Но в те годы ничего подобного не случалось. Студенты крайне скудно посещали лекции и в College de France и на факультетах Сорбонны, куда должны были бы обязательно ходить.
В Медицинской школе и в Ecole de droit ходили гораздо больше, особенно на все практические занятия и в клиники.
Из знаменитостей впоследствии был украшением College de France и Ренан, но я попал к нему уже гораздо позднее, когда и лично познакомился с ним. Это было уже в 80-х годах. Он тогда читал в той самой аудитории, где когда-то читал русский язык старый поляк Ходзько.
Этот Ходзько — бывший русский чиновник, служивший в нашем посольстве в Тегеране. Он когда-то учился, еще в Виленском университете, восточным языкам. Очутившись в Париже, он добыл себе кафедру русского языка, оставшуюся вакантной после смерти Мицкевича. При мне к нему ходило несколько человек, больше иностранцев, мужчин и женщин, а учеником его был впоследствии сам лектор русского языка и славянских наречий — Луи Леже, которого в этой аудитории сначала я издали принимал за «брата-славянина», потому что он уже бойко болтал и по-польски и даже по-чешски.
Ренан, когда я много лет спустя попал в эту самую аудиторию на его лекции, разбирал какие-то спорные пункты библейской экзегетики и полемизировал с немецкими учеными. Он ходил вдоль стола, около которого сидели слушатели и слушательницы, и, с книжкой в руках, горячился, высокими нотами, похожий на жирненького аббата, со своим полным лицом и кругленьким брюшком.
В тот мой приезд я был и у него в квартире, помещавшейся в здании самого College de France. Он уже состоял его администратором — место, которое он сохранил, кажется, до самой смерти.
Он и в разговоре похож был на доброго, очень тонкого и глубоко образованного патера.
Во вторую половину 60-х годов не было более даровитого и завлекательного лектора, как критик Ипполит Тэн.
Его личность занимала меня чрезвычайно. И о его идеях и методах по истории пластики и художественной литературы я еще тогда, живя в Париже, написал этюд (он напечатан был во «Всемирном труде») под заглавием: «Анализ и систематика Тэна». Русская молодая публика стала им интересоваться после появления в русском переводе его «Истории английской литературы». Перевод выпущен был под измененным заглавием, придававшим всему сочинению оттенок любезной у нас — не художественной, а общественной критики. Но это искажало суть всего этого труда.
К Тэну я взял рекомендательною записку от Фр. Сарсе, его товарища по выпуску из Высшей нормальной школы. Но в это время я уже ходил на его курс истории искусств. Читал он в большом «эмицикле» (полукруглом зале) Ecole des beaux-arts. И туда надо было выправлять билет, что, однако, делалось без всякого затруднения. Аудитория состояла из учеников школы (то, что у нас академия) с прибавкою вот таких сторонних слушателей, как я. Дамы допускались только на хоры, и внизу их не было заметно.
Тэн был в эти годы человеком лет сорока, скромной, я бы сказал, учительской наружности, так же скромно одет в черное, носил пенсне, говорил в начале лекции слабоватым голосом, но дальше все одушевлялся, и его дикция и самый язык делались живее, горячее и колоритнее.
Он приносил с собою пачку листков с конспектом предыдущей и предстоящей лекций, которые продолжались около двух часов и происходили всего один раз в неделю.
Начинал он кратким «resume» предыдущей лекции, причем откладывал листки, быстро обозревая прочитанную в последний раз лекцию. Потом он приступал к новой, держась конспекта, но только вначале. Чем дальше он шел, тем это делалось все больше импровизацией. Он не был оратор в условном значении. Манера его стояла посредине между устной беседой и лекторским изложением. Но эта манера делала его, на мою оценку, первым преподавателем во всем Париже. И когда он разойдется, его диалектика и описательное красноречие делались блистательными. Вы так и видели те самые картины, о которых он говорил, — до такой степени рельефно и одухотворенно было его лекторское красноречие.
Я имел редкое счастие прослушать целых три его курса: по истории итальянского Ренессанса, голландской живописи и греческого ваяния. Эти курсы вошли потом в его «Философию искусства».
Когда я после одной лекции подошел к нему с рекомендательным «mot» (устная рекомендация) от его товарища Сарсе и Тэн узнал, что я русский, он очень мило сказал мне:
— Увы! Ни одного славянского языка я не знаю, но я читаю по-немецки, — прибавил он с некоторой гордостью.
Тогда знание немецкого языка среди французских писателей, ученых и журналистов было большой редкостью. А Франция владела ведь тогда целыми двумя немецкими провинциями — Эльзасом и Лотарингией.
Но Тэн зато прекрасно знал по-английски, и его начитанность по английской литературе была также, конечно, первая между французами, что он и доказал своей «Историей английской литературы». Знал он и по-итальянски, и его «Письма из Италии» — до сих пор одна из лучших книг по оценке и искусства и быта Италии. Я в этом убедился, когда для моей книги «Вечный город» обозревал все то, что было за несколько веков писано о Риме.
Аудитория Тэна, где огромное большинство составляли ученики школы, была, конечно, не на высоте полного понимания своего лектора. Эта молодежь была все-таки гораздо лучше подготовлена, чем студенты. Она не могла, конечно, не чувствовать таланта, ума Тэна и его специальных познаний, но вполне ценить все это, делать сравнение с другими лекторами Парижа вряд ли была в силах. Для меня же три курса Тэна сделались великолепными «пропилеями» ко входу в мир искусства и не только повысили уровень моего понимания, но и дали гораздо более прочные основы в вопросах творчества и художественного мастерства.
Везде, во всех аудиториях, кроме курсов по специальным наукам и практических занятий, персонал слушателей был случайный. Это меня очень удивляло на первых порах.
— Где же студенты? — спрашивал я себя.
А их были и тогда тысячи в Латинском квартале. Они ходили на медицинские лекции, в анатомический театр, в кабинеты, в клиники. Ходили — но далеко не все — на курсы юридического факультета. Но Сорбонна, то есть главное ядро парижского Университета с целыми тремя факультетами, была предоставлена тем, кто из любопытства заглянет к тому или иному профессору. И в первый же мой сезон в «Латинской стране» я, ознакомившись с тамошним бытом студенчества, больше уже не удивлялся.
Тогдашнее студенчество, состоявшее почти сплошь из французов, более веселилось и «прожигало» жизнь, чем училось. Политикой оно занималось мало, и за несколько лет моего житья в Париже я не видал ни одной сколько-нибудь серьезной студенческой манифестации. Оно и не было совсем сплочено между собою. Тот студенческий «Союз», который образовался при Третьей республике, еще не существовал. Не было намека и на какие-нибудь «корпорации», вроде немецких.
Студента вы всегда могли отличить по его молодости, манере одеваться, прическе, тону, жестам. Но никаких внешних отличий на нем не было. Тогда не видно было и тех беретов, которые теперь студенты носят как свой специальный «головной убор». Все кафе, пивные, ресторанчики бывали полны молодежи, и вся она где-нибудь да значилась как учащаяся. Но средний, а особенно типичный студент, проводил весь свой день где угодно, но только не в аудиториях.
Меня на первых порах даже огорчало это повальное жуирство и запойное отлынивание от занятий. Я привык даже и в России представлять себе студенческую жизнь как трудовую, разумеется с прибавкою товарищеских сходок, даже выпивок и пирушек. И балтийские бурши в Дерпте, и студенты германских университетов, принадлежащие к разным корпорациям, ведут праздную «буршикозную» жизнь до известного предела. Они много пьют, столько же тратят времени на свои пирушки, дуэли, «коммерсы» празднества и поездки, но все-таки в массе больше посещают лекции. Так было при мне в Дерпте. То же видал я впоследствии в Берлине, в Гейдельберге, в Вене. А тут физиономию Латинскому кварталу давали именно те студенты, которые сотнями «шалдашничали», выражаясь нашим дерптским студенческим словечком.
Поживя в нескольких отельчиках Латинского квартала, уже в течение одной зимы и позднее я прекрасно ознакомился с тем, как средний студент проводит свой день и что составляет главное «содержание» его жизни. Печать беспечного «прожигания» лежала на этой жизни — с утра до поздних часов ночи. И эта беспечность поддерживалась тем, что тогда (да и теперь это еще — правило) студенты в огромном большинстве были обеспеченный народ.
Это не так, как повсеместно у нас. Родители дотянут малого до аттестата зрелости, и то сами терпя нужду, а на студенческие годы обеспечить сына им не из чего. Французский буржуа, рантье, купец, учитель, чиновник, даже крестьянин не отправят сына учиться в Париж, не имея возможности давать ему ежемесячно ну хоть франков полтораста, а тогда на это можно было жить в Латинском квартале безбедно и целые дни ничего не делать. Поэтому у нас давным-давно завелся настоящий студенческий пролетариат. Русский студент — это «паупер» в самом настоящем смысле. Может быть, теперь, в XX веке, в Париже и завелись среди французов такие «пауперы», но тогда (во второй половине 60-х годов) мы их не знавали и нигде не встречали.
Аудитория Тэна, где огромное большинство составляли ученики школы, была, конечно, не на высоте полного понимания своего лектора. Эта молодежь была все-таки гораздо лучше подготовлена, чем студенты. Она не могла, конечно, не чувствовать таланта, ума Тэна и его специальных познаний, но вполне ценить все это, делать сравнение с другими лекторами Парижа вряд ли была в силах. Для меня же три курса Тэна сделались великолепными «пропилеями» ко входу в мир искусства и не только повысили уровень моего понимания, но и дали гораздо более прочные основы в вопросах творчества и художественного мастерства.
Везде, во всех аудиториях, кроме курсов по специальным наукам и практических занятий, персонал слушателей был случайный. Это меня очень удивляло на первых порах.
— Где же студенты? — спрашивал я себя.
А их были и тогда тысячи в Латинском квартале. Они ходили на медицинские лекции, в анатомический театр, в кабинеты, в клиники. Ходили — но далеко не все — на курсы юридического факультета. Но Сорбонна, то есть главное ядро парижского Университета с целыми тремя факультетами, была предоставлена тем, кто из любопытства заглянет к тому или иному профессору. И в первый же мой сезон в «Латинской стране» я, ознакомившись с тамошним бытом студенчества, больше уже не удивлялся.
Тогдашнее студенчество, состоявшее почти сплошь из французов, более веселилось и «прожигало» жизнь, чем училось. Политикой оно занималось мало, и за несколько лет моего житья в Париже я не видал ни одной сколько-нибудь серьезной студенческой манифестации. Оно и не было совсем сплочено между собою. Тот студенческий «Союз», который образовался при Третьей республике, еще не существовал. Не было намека и на какие-нибудь «корпорации», вроде немецких.
Студента вы всегда могли отличить по его молодости, манере одеваться, прическе, тону, жестам. Но никаких внешних отличий на нем не было. Тогда не видно было и тех беретов; которые теперь студенты носят как свой специальный «головной убор». Все кафе, пивные, ресторанчики бывали полны молодежи, и вся она где-нибудь да значилась как учащаяся. Но средний, особенно типичный студент, проводил весь свой день где угодно, но только не в аудиториях.
Меня на первых порах даже огорчало это повальное жуирство и запойное отлынивание от занятий. Я привык даже и в России представлять себе студенческую жизнь как трудовую, разумеется с прибавкою товарищеских сходок, даже выпивок и пирушек. И балтийские бурши в Дерпте, и студенты германских университетов, принадлежащие к разным корпорациям, ведут праздную «буршикозную» жизнь до известного предела. Они много пьют, столько же тратят времени на свои пирушки, дуэли, «коммерсы», празднества и поездки, но все-таки в массе больше посещают лекции. Так было при мне в Дерпте. То же видал я впоследствии в Берлине, в Гейдельберге, в Вене. А тут физиономию Латинскому кварталу давали именно те студенты, которые сотнями «шалдашничали», выражаясь нашим дерптским студенческим словечком.
Поживя в нескольких отельчиках Латинского квартала, уже в течение одной зимы и позднее я прекрасно ознакомился с тем, как средний студент проводит свой день и что составляет главное «содержание» его жизни. Печать беспечного «прожигания» лежала на этой жизни — с утра до поздних часов ночи. И эта беспечность поддерживалась тем, что тогда (да и теперь это еще — правило) студенты в огромном большинстве были обеспеченный народ.
Это не так, как повсеместно у нас. Родители дотянут малого до аттестата зрелости, и то сами терпя нужду, а на студенческие годы обеспечить сына им не из чего. Французский буржуа, рантье, купец, учитель, чиновник, даже крестьянин не отправят сына учиться в Париж, не имея возможности давать ему ежемесячно ну хоть франков полтораста, а тогда на это можно было жить в Латинском квартале безбедно и целые дни ничего не делать. Поэтому у нас давным-давно завелся настоящий студенческий пролетариат. Русский студент — это «паупер» в самом настоящем смысле. Может быть, теперь, в XX веке, в Париже и завелись среди французов такие «пауперы», но тогда (во второй половине 60-х годов) мы их не знавали и нигде не встречали.
Вы могли изо дня в день видеть, как студент отправлялся сначала в cremerie, потом в пивную, сидел там до завтрака, а между завтраком и обедом опять пил разные напитки, играл на бильярде, в домино или в карты, целыми часами сидел у кафе на тротуаре с газетой или в болтовне с товарищами и женщинами. После обеда он шел на бал к Бюллье, как кратко называли прежнюю «Closerie des Lilas», там танцевал и дурачился, а на ночь отправлялся с своей «подругой» к себе в отельчик или к этой подруге.
Резкое отличие французских студенческих нравов от русских и немецких — это женский пол, его преобладающее значение в парижской студенческой жизни того времени. Это нас, русских, тоже если не удивляло, то немножко коробило, иногда даже и беспокоило. В отельчиках, где вы скромно проживали, вашими соседями почти всегда бывали студенты. Буйства, пьяных сцен не бывало никогда, но через тонкую стену вы делались невольным слушателем ночных сцен — не одних только эротических, но и сцен ревности, ссор, перебранок, даже женского плача, визга и крика. И все это — в ночные часы.
Как только студент имел побольше от родителей, он непременно обзаводился подругой, которую тут же, в Латинском квартале, выбирал из тех якобы «гризеток», которыми полна была жизнь кафе и бульвара St. Michel, а в особенности — публичных балов.
Даже не очень строгий моралист мог быть огорчен тем, что учащаяся молодежь так «загрязняет» свои лучшие годы постоянной возне с продажными женщинами, привыкает к их обществу, целыми днями ведет пустую и часто циничную болтовню.
Да, все это так, но студенческие легкие связи и «сожительства» были все-таки сортом выше грубого разврата, чисто животного удовлетворения мужских потребностей! Это воздерживало также и от пьянства, от грязных кутежей очень многих из тех, кто обзаводился подругами и жил с ними как бы по-супружески. Это же придавало Латинскому кварталу его игривость, веселость, постоянный налет легкого французского прожигания жизни.
Я уже сказал сейчас, что студенческая масса была почти сплошь французская. Германских немцев замечалось тогда мало; еще меньше англичан; но водились группы всяких инородцев романской расы: итальянцев, румын (их парижане звали всегда «валахи»), испанцев, мексиканцев и из южных американских стран — в том числе и бразильцев.
Русских почти что вы не видали — по крайней мере настоящих студентов. Все русские, которые ютились в Латинском квартале, были тогда наперечет. Политические явились позднее, эмиграция держалась только в Женеве и вообще в Швейцарии. Водилось несколько поляков из студентов, имевших в России разные истории (с одним из них я занимался по-польски), несколько русских, тоже с какими-то «историями», но какими именно — мы в это не входили; в том числе даже и какие-то купчики и обыватели, совершенно уже неподходящие к студенческому царству. Водились и два-три мелких литератора, которые где-то пописывали. Вся эта братия собиралась всего чаще в том Кафе Ротонды в улице Медицинской школы, которое давно уже не существует. Самый дом был сломан и перестроен. Там завелся и картеж и кое про кого говорили, что они живут картами. Но ничего подобного русской колонии, какая теперь есть в Париже, еще не имелось. И вообще русская «интеллигенция» представлена была крайне скудно, за исключением тех молодых ученых, которые приезжали со специальными целями.
Тогда русский эмигрант или вообще ищущий участия в революционном движении не нашел бы себе надлежащей почвы. Парижское студенчество, как я уже заметил, тогда (то есть в период 1865–1868 годов) не занималось ни подпольным, ни явным движением. Но общий дух делался все-таки более оппозиционным.
Я уже имел повод заметить, что тогда и для всех нас — чужестранцев режим Второй империи вызывал освободительное настроение. Была эмиграция с такими именами, как В. Гюго, Кине, Луи Блан, Ледрю-Роллен. И парламентская оппозиция, хотя и маленькая числом, все-таки поддерживала надежды демократов и республиканцев. Пресса заметно оживлялась. Прежних тисков уже не было, хотя и продолжала держаться система «предостережений».
В газетной прессе действовали не одни клевреты 2 декабря, не одни Кассаньяки. Полегоньку поднимали голову и сторонники конституционного либерализма, и люди с идеалами революции 1848 года. Но даже и более ловкие, чем убежденные журналисты, вроде Эмиля Жирардена, вели также либерально-оппозиционную игру.
С этой характерной личностью, игравшей крупнейшую роль в газетной прессе за целых тридцать лет, я несколько позднее лично познакомился. Он был «хамелеон», но не мелко продажный и по-своему даже смелый, хотя всегда славолюбивый и влюбленный в себя.
С 40-х годов он сделался самым энергичным и блестящим газетчиком и успел уже к годам империи составить себе состояние, жил в собственных палатах в Елисейских полях, где он меня и принимал очень рано утром. К тому времени он женился во второй раз, уже старым человеком, на молоденькой девушке, которая ему, конечно, изменила, из чего вышел процесс. Над ним мелкая сатирическая пресса и тогда же острила, называя его не иначе, как Эмиль великий.
После того как он сделал из газеты «Presse» самый бойкий орган (еще в то время, как его сотрудницей была его первая жена Дельфина), он в последние годы империи создал газету «Liberte» и в ней каждый день выступал с короткой передовой статьей, где была непременно какая-нибудь новая или якобы новая идея. Про него и говорили, что у него 365 идей в год. Но несомненно было то, что всегда в его передовице ставился ребром какой-нибудь вопрос. И написана была статья всегда ярко, короткими фразами, в особом, скором темпе, с удачными доводами и часто блестящими тирадами.
«Работоспособностью» он обладал изумительной, начинал работать с шести часов утра, своими сотрудниками помыкал, как приказчиками, беспрестанно меняя их, участвовал, кроме того, в разных акционерных предприятиях, играл на бирже, имел в Париже несколько доходных домов, в том числе и тот, где я с 1868 года стал жить, в rue Lepelletier около Старой Оперы. И от хозяйки моего отельчика я слыхал не раз, что «le grand Emile» — большой кулак в денежных расчетах.
Он постоянно заигрывал и с парламентской оппозицией (не принадлежа к ней прямо) и с правительством.
Ему, как тогда все говорили, ужасно хотелось попасть в сенаторы, но сенаторство ему не давалось. Должно быть, и Наполеон III не считал его надежным сторонником. На него никто не мог рассчитывать. Но это не помешало ему потом, с водворением Третьей республики, сделаться защитником республиканского режима.
Оппозиция шла в печати и литературе, и не от одних республиканцев и сторонников конституционных порядков в духе либеральной монархии. Она шла и из клерикального лагеря.
Одной из самых ярких фигур публицистической литературы тех годов являлся, бесспорно, Луи Вейльо — сторонник церковно-монархического легитимизма. К тому времени он приготовил целую книгу своих очерков столичной жизни «Запахи Парижа», где излил весь свой темперамент обличителя и памфлетиста. Для него все было в этом Париже изгажено и отравлено всяческой испорченностью. С высот своего credo он одинаково клеймил и осмеивал ненавистный ему дух времени, не делая исключения ни для какой партии, ни для какого направления, ни для какой стороны тогдашней французской, в особенности парижской, жизни. Книжка эта была, по-своему, так талантливо и ярко написана, что я посвятил ей этюд, который и появился там же, где моя «Жертва вечерняя», то есть в журнале «Всемирный труд», под тем же заглавием «Запахи Парижа».
Но настоящим, характерным газетных дел мастером конца Второй империи был Вильмессан, создатель «Фигаро», сначала еще еженедельника, сделавшегося очень популярным среди молодежи Латинского квартала.
Он обладал такой же ловкостью, как Э. Жирарден, но был новее, гибче, умел выискивать начинающие таланты, сам преисполнен был всяких житейских и жуирных инстинктов. Он действительно изображал собою Фигаро той эпохи, перенесенного из комедии Бомарше в дни самого большого блеска Французской империи — к выставке 1864 года.
Вильмессану удалось привлечь к своему журналу (и дать им полный ход) двух молодых хроникеров Парижа — Альбера Вольфа и скоро потом прославившегося Рошфора.
Уже тогда на одной сочувственной карикатуре какого-то иллюстрированного листка они оба были нарисованы как два кузнеца, бьющие молотом по одной наковальне.
Вольф попал в Париж как безвестный еврей родом из Кельна и долго пробивался всякой мелкой работой, но рано овладел хорошо французским стилем и стал писать в особом тоне, с юмором и той начитанностью, какой у парижан, его сверстников, было гораздо менее. Вильмессан создал из него хорошего партнера для Рошфора, который, побывав и в водевилистах, сразу стал заявлять себя как из ряду вон выдающийся остроумец, но в гораздо более радикальном, как мы говорим теперь — «разрывном» духе. «Фигаро» и дало ему быструю и громкую популярность, сделавшую то, что вскоре потом его «Lanterne» стала не на шутку колебать шаткие устои Второй империи.
Тогда, то есть в 1868 году и позднее, в Париже мне приводилось видать его издали, в театрах, но во время войны, когда он жил еще эмигрантом в Брюсселе (тотчас после Седана), я посетил его. Но об этом расскажу дальше.
Меня опять потянуло в Лондон. И на этот раз я собрался туда на целый «season» — в тамошнем значении слова, то есть с мая по вторую половину августа.
Париж уже не давал мне, особенно как газетному сотруднику, столько же нового и захватывающего. Да и мне самому для моего личного развития, как человеку моей эпохи и писателю, хотелось войти гораздо серьезнее и полнее в жизнь английской «столицы мира», в литературное, мыслительное и общественно-политическое движение этой своеобразной жизни.
Такие наблюдатели, как Тэн и Луи Блан, писали об английской жизни как раз в эти годы. Второй и тогда еще проживал в Лондоне в качестве эмигранта. К нему я раздобылся рекомендательным письмом, а также к Миллю и к Льюису. О приобретении целой коллекции таких писем я усердно хлопотал. В Англии они полезнее, чем где-либо. Англичанин вообще не очень приветлив и на иностранца смотрит скорее недоверчиво, но раз вы ему рекомендованы, он окажется куда обязательнее и, главное, гостеприимнее француза и немца.
За всю зиму в Париже я продолжал заниматься усиленно и английским языком, уже зная по опыту, что в Лондоне недостаточно порядочно знать язык, но надо приобресть и такой выговор, чтобы вас сразу понимали не только образованные люди, но и простой народ.
Моего прошлогоднего чичероне по Лондону, А. И. Бенни, уже не было тогда в Лондоне, но добрейший Рольстон здравствовал, жил все там же, поблизости Британского музея, где неизменно и состоял библиотекарем. Он любезно подыскал мне и квартирку в той же улице, где и сам жил, так что мне не было надобности выезжать в отель. Я прямо с вокзала и отправился туда.
Переплывая Канал, уже во второй раз, я и тут не испытал припадков морской болезни. Качка дает мне только приступы особенного рода головной боли, и если море разгуляется, то мне надо лежать. Но и в этот довольно тихий переезд я опять был свидетелем того, до какой степени англичанки подвержены морской болезни. Она, как только вступила на палубу, то сейчас же ляжет и крикнет:
— Steward! A basin! (Служитель! Лоханку!)
Год без малого пролетел у меня так быстро в Париже, что мне показалось, точно будто я не выезжал из этого самого Лондона. И жить попал в него в тот же квартал, с тем же Рольстоном как моим ближайшим соседом.
Тогда, да еще при тогдашнем хорошем курсе, жизнь в Лондоне не только казалась, но и была действительно дешева — дешевле парижской, если прикинуть к ней то, что вам давали в Лондоне за те же деньги. За такую квартиру, какую мне нанял Рольстон от хозяйки — в нижнем этаже, из двух прекрасных комнат — вы и в Латинском квартале платили бы сто, сто двадцать франков, а тут за неделю (с большим утренним завтраком) фунт с чем-то, а фунт стоил тогда не больше семи русских рублей. Стало быть, в месяц рублей 30, много 35. И утренний завтрак состоял всегда, кроме чая или кофе, из бараньих котлет, масла, сыру, гренков. Прислуживала мне дочь хозяйки-вдовы — очень воспитанная девушка, которая просила у меня всегда позволения поиграть в мое отсутствие на фортепьяно, за которое я ничего особенно не платил. Уход, тишина, чистота были образцовые.
Сразу наладилась моя жизнь лондонского холостяка, живущего в таких меблированных комнатах. Весь свой день я уже привык и в Париже строго распределять. И мои хозяйки невидимо заботились о том, чтобы все шло, как в хорошо смазанной машине. Выйдешь в салончик, где я и работал, а на круглом столе все уже приготовлено к завтраку. Сейчас прибежит мальчик, крикнет на особый лад, бросая три газеты вниз, за решетку, где помещается подпольная кухня, как во всех лондонских обывательских домах. Платье давно уже вычищено. И покатишься так, точно по рельсам.
Свои экскурсии по Лондону я распределил на несколько отделов. Меня одинаково интересовали главные течения тогдашней английской жизни, сосредоточенные в столице британской империи: политика, то есть парламент, литература, театр, философско-научное движение, клубная и уличная жизнь, вопрос рабочий, которым в Париже я еще вплотную не занимался.
Так были мной распределены и те мои знакомства, какие я намечал, когда добывал себе письма в Лондон в разные сферы. Но, кроме всякого рода экскурсий, я хотел иметь досуги и для чтения, и для работы в Британском музее, библиотека которого оказала мне даже совершенно неожиданную для меня услугу как русскому писателю.
Рольстон — хоть и очень занятой по своей службе в Музее — не отказывался даже водить меня по разным трущобам Лондона, куда не совсем безопасно проникать ночью без полисмена. Он же подыскал мне одного впавшего в бедность магистра словесности (magistre artium, по английской номенклатуре), который занимался со мною по литературному изучению английского стиля и поправлял мне мой слог, когда я писал мою первую статью на английском языке: «Нигилизм в России» (The Nihilism in Russia), о которой поговорю ниже.
Попал я через одного француза с первых же дней моего житья в этот сезон в пансиончик с общим столом, где сошелся с русским отставным моряком Д. — агентом нашего «Общества пароходства и торговли», образованным и радушным холостяком, очень либеральных идей и взглядов, хорошо изучившим лондонскую жизнь. Он тоже не мало водил и возил меня по Лондону, особенно по части экскурсий в мир всякого рода курьезов и публичных увеселений, где «нравы» с их отрицательной стороны всего легче и удобнее изучать.
Только в это второе пребывание в британской «столице мира» я почувствовал, какая это громадина и чем она в своих самых характерных чертах отличается от такой же громадины — Парижа. Но Париж после Лондона должен казаться гораздо мельче, при всем том, какое он пространство занимает и даже при его теперешних двух с половиною миллионах жителей.
Размеры и напряженность уличной лондонской жизни — вот что дает это впечатление громадности. И жизнь во всех ее проявлениях так огромна и типична, что вы очень быстро забываете всю красивую, милую, нарядную и тоже по-своему обширную жизнь французской столицы. Вы так же быстро миритесь с однообразием улиц, где ряды закоптелых кирпичных домов стоят без малейшего намека на архитектурную красивость, где торговый и промышленный склад накладывает на все свою лапу и не дает вам ничего красивого и привлекательного. Но все это бледнеет перед мощью энергической жизни, перед накоплением ценностей, перед картинами не одной только телесной, но и духовной энергии. И рядом со всем этим вы и здесь, и там, и на больших пространствах находите то, что вам не даст Париж — ни такой реки, ни такой пристани, ни таких домов, ни таких парков, ни таких зданий, как парламент, ни таких катаний, как в Гайд-Парке, ни таких народных митингов, как на Трафальгар-Сквере.
Я уже сказал в начале этой главы, что здесь, в этих личных воспоминаниях, я не хочу повторяться и лишь кратко коснусь многого, что вошло в мою книгу «Столицы мира». То же, к сожалению, должен сказать и о тех ценных знакомствах с самыми выдающимися англичанами, какие выпали на мою долю в этот летний лондонский сезон 1868 года. По латинской поговорке: «не взыскивать дважды за одно и то же». Но дать здесь некоторый «варьянт» того, что вошло уже в «Столицы мира», я все-таки должен, и читатели мои на меня, надеюсь, не посетуют.
Русские моего времени, когда попадали в Лондон, все — если они только были либерально настроенные — являлись на поклон к издателю «Колокола». Но ни в 1868 году, ни годом раньше, в 1867 (когда я впервые попал в Лондон) Герцена уже не было в Англии, и я уже рассказал о нашей полувстрече в Женеве в конце 1865 года.
С прекращением лондонского «Колокола» исчезло там и ядро русской эмиграции с такой притягательной силой, как Герцен. Я не знаю, оставался ли там в сезон 1868 года кто-нибудь из русских беглецов, но если и оставался, то из самых темных. Тот отставной моряк Д., о котором я сейчас говорил, конечно рассказал бы мне, есть ли интересные русские эмигранты и как они существуют. Но я таких разговоров не помню. Все русские, с какими я познакомился там (с одним из них даже очень сошелся), принадлежали к «легальным» сферам. И никакого места, где бы можно было найти «политических», мне никто не указывал.
Зато французов было тогда не один десяток — и во главе их эмиграции стояли такие имена, как бывший министр при Февральской республике и знаменитый трибун Ледрю-Роллен и не менее его известный Луи Блан Ледрю (как его кратко называли французы) жил в самом Лондоне, а Луи Блан в приморском городе Брайтоне.
К нему я имел письмо, а к Ледрю меня повез хозяин того табльдота, где я обедал, — тоже эмигрант, бежавший после переворота 2 декабря, из южан, самого обыкновенного обывательского типа француз, очень счастливый тем, что мог устроиться как хозяин пансиончика с общим столом, вероятно из мастеровых или нарядчиков, но сохранивший налет тогдашнего полубуржуазного демократизма с искренней ненавистью к «узурпатору», который владел тогда Францией.
Бывший трибун и героический министр внутренних дел (которому прокламации писала сама Жорж Занд, тогда его возлюбленная) принял нас довольно суховато. Мой эмигрант держался с ним весьма приниженно, а тот свысока.
Наружность Ледрю казалась в молодости эффектной, а тут передо мной был плотный, пожилой француз, с лицом и повадкой, я сказал бы, богатого рантье. Узнав, что я долго жил среди парижской учащейся молодежи, он стал говорить, что студенты, вместо того чтобы ходить по балам и шантанам, готовились бы лучше к революционному движению.
То, что он говорил, было симпатично, но тон его мне не понравился. В нем слишком чувствовалась экс-знаменитость, глухо раздраженная тем, что года идут, ненавистный Бонапарт заставляет плясать по своей дудке всю Европу, а он, Ледрю, должен глохнуть в безвестной, тусклой жизни эмигранта, никому не опасного и даже во Франции уже наполовину забытого.
Если он и поддерживал тогда какие-нибудь тайные сношения с республиканцами, то роли уже не играл и в подпольных конспирациях. С Англией у него тоже не было никаких связей. Как истый француз он отличался равнодушием ко всему, что не французское. И я не знаю, выучился ли он порядочно по-английски за свое достаточно долгое житье в Лондоне — более пятнадцати лет.
Совсем не то надеялся я найти у его соперника по Февральской республике Луи Блана. Тот изучил английскую жизнь и постоянно писал корреспонденции и целые этюды в газету «Temps», из которых и составил очень интересную книгу об Англии за 50-е и 60-е года, дополняющую во многом «Письма» Тэна об Англии.
К Луи Блану мы отправились вдвоем с Г. И. Вырубовым, приехавшим ко мне на несколько дней. Я нашел ему комнату в нашем же меблированном доме. Он уже стал, с 1868 года, издавать вместе с Литтре свое обозревание «Philosophic Positive», где в одной из ближайших книжек и должна была появиться моя статья «Phenomenes du drame moderne».
Луи Блан пригласил нас завтракать в Брайтон.
Он жил на набережной, в небольшой квартирке — светлой, довольно уютной. Его хозяйством заведовала какая-то скромная особа, похожая на англичанку. Кажется, он и позднее не был женат.
И тогда уже ему шел давно шестой десяток. Я, по рассказам лиц, знавших его еще в дни Февральской республики, представлял себе маленького человека с наружностью, совсем не подходящей к роли революционера-социалиста, главы тогдашнего рабочего движения. И нашел я действительно маленькую фигурку очень моложавого господина, совершенно неопределенных лет, с живым тоном, немного задорным, и с жидким голоском. Позднее, когда после падения империи Луи Блан вернулся и я с ним виделся в Версале, мне бросилось в глаза то, о чем я слыхал и раньше, будто бы он подрумянивал себе щеки. Но тогда, в Брайтоне, я этого не замечал или не заметил.
Он много говорил тогда о своем друге Годефруа Кавеньяке, брате временного диктатора, которого он считал одним из величайших граждан своей родины. И в его тоне слышны были еще ноты раздражения. Старые счеты с своими сверстниками, врагами или лжедрузьями, еще не улеглись в его душе.
В этих воспоминаниях я держусь объективных оценок, ничего не «обсахариваю» и не желаю никакой тенденциозности ни в ту, ни в другую сторону. Такая личность, как Луи Блан, принадлежит истории, и я не претендую давать здесь о нем ли, о других ли знаменитостях исчерпывающие оценки. Видел я его и говорил с ним два-три раза в Англии, а потом во Франции, и могу ограничиться здесь только возможно верной записью (по прошествии сорока лет) того, каким я тогда сам находил его.
Его живая беседа, полная фактов и суждений в категорической форме, не давала впечатления цельной, сильной натуры. В нем что-то было, для меня, ниже его всемирной репутации. Но, во всяком случае, он казался мне гораздо симпатичнее Ледрю-Роллена, неизмеримо его образованнее и новее. Он не замариновал себя в узости и нетерпимости эмигранта. Долгое пребывание в Англии расширило его собственный кругозор. Он остался верен своим идеалам и своей социальной доктрине; но жизнь британского общества и народа многому его научила, и он входил в нее с искренним интересом, без высокомерного самодовольства, которым так часто страдали французы его эпохи, когда им приводилось жить вне своего отечества.
Завтракать с нами Луи Блан пригласил Джона Морлея, и тогда уже известного писателя, автора замечательных этюдов о Дидро и Руссо, редактора «Fortnightly Review» после Льюиса, который и основал этот журнал.
«Fortnightly» значит две недели, и при Льюисе журнал выходил два раза в месяц, но при Морлее сделался ежемесячным.
Для меня это знакомство было особенно ценным. Морлей принадлежал к самой передовой и свободомыслящей группе тогдашних лондонских «интеллигентов», к последователям и почитателям Дж. — Ст. Милля.
Тогда он смотрел еще очень моложаво, постарше меня, но все-таки он человек скорее нашего поколения. Наружности он был скромной, вроде англиканского пастора, говорил тихо, сдержанно, без всякого краснобайства, но с тонкими замечаниями и оценками. Он в то время принадлежал исключительно литературе и журнализму и уже позднее выступил на политическую арену, депутатом, и дошел до звания министра по ирландским делам в министерстве Гладстона.
Общий наш разговор у Луи Блана шел по-французски. Морлей объяснялся на этом языке свободно. После завтрака мы пошли гулять по набережной, и вот тут Морлей стал меня расспрашивать о том русском движении, которое получило уже и в Европе кличку «нигилизма».
— Мы говорим об этом русском движении в печати, но, в сущности, никто у нас о нем хорошенько не знает, — так он, с британской честностью, высказался мне.
Я постарался набросать ему в общих чертах элементы этого движения и в философско-научном, и в общественном смысле. Это его настолько живо заинтересовало, что он тут же сказал мне:
— А что, если бы вы написали статью для «Fortnightly» на эту именно тему? Я был бы вам очень благодарен.
Я стал оговариваться насчет того, что недостаточно владею английским стилем, но Морлей считал это несущественным. И, как истый британец, сейчас же стал условливаться со мною о времени появления статьи.
— Могу оставить вам место в июльской книжке и уделю вам двадцать с лишком страниц.
Предложение было довольно-таки заманчиво. Я взял у него несколько дней сроку для ответа. Дело было в конце мая, стало, мне оставался всего какой-нибудь месяц.
Сговорившись с моим «магистром» насчет поправки моего языка, я известил Морлея, что приступаю к работе, и к сроку она была готова. Мы ее и назвали без всяких претензий: «Нигилизм в России».
И вот, когда мне пришлось, говоря о русской молодежи 60-х годов, привести собственные слова из статьи моей в «Библиотеке» «"День" о молодом поколении» (где я выступал против Ивана Аксакова), я, работая в читальне Британского музея, затребовал тот журнал, где напечатана статья, и на мою фамилию Боборыкин, с инициалами П. Д., нашел в рукописном тогда каталоге перечень всего, что я напечатал в «Библиотеке». В Британском музее и писалась черновая статьи. Через день приходил ко мне мой ментор, брал листки и делал свои поправки, а потом все и перебеливал.
Когда я получил из конторы «Fortnightly» первый мой английский гонорар, я был счастлив тем, что мог предложить моему магистру дополнительное вознаграждение за его занятия со мною. Пикантно было то, что мне, неизвестному в Англии русскому писателю, заплатили полистную плату гораздо выше той, какую я получал тогда в России не только за журнальные или газетные статьи, но и за пьесы и романы.
Свой чек на банкиров братьев Беринг — увы! я весьма скоро должен был разменять на фунты и истратить их.
Льюис — автор «Физиологии обыденной жизни», как я сейчас сказал, не был уже в то время редактором основанного им «Fortnightly Review». Знакомство с ним, кроме того что он сам тогда представлял собою для людей моего поколения, тем более привлекало меня, что он жил maritalement с романисткой, известной уже тогда всей Европе под мужским псевдонимом Джордж Элиот. Ее настоящей девической фамилии никто тогда из нас хорошенько не знал. Но известно было многим, что она была девицей, когда сошлась с ним. Их настоящему браку мешало, кажется, то, что сам Льюис не был свободен.
Льюис жил в пригороде Лондона, в комфортабельном коттедже, где они с Джордж Элиот принимали каждую неделю в дообеденные часы. Вся тогдашняя свободомыслящая интеллигенция ездила к автору «Адама Бида» и «Мидльмарча», не смущаясь тем, что она не была подлинной мистрисс Льюис. При отце жил и его уже очень взрослый сын от первого брака — и всегда был тут во время этих приемов.
Никогда я не встречал англичанина с такой наружностью, тоном и манерами, как Льюис. Он ни малейшим образом не смахивал на британца: еще не старый брюнет, с лохматой головой и бородой, смуглый, очень живой, громогласный, с нервными движениями, — он скорее напоминал немца из профессоров или даже русского, южанина. Тогда я еще не знал доподлинно, что он был еврейского происхождения.
Зато знаменитая его подруга была англичанка чистой крови, на вид не моложе его, очень некрасивая, с типичной респектабельностью всего облика, с тихими манерами, молчаливая, кроткая и донельзя скромная. Как хозяйка настоящего литературного салона — она вела себя с трогательной скромностью. Не знаю, происходило ли это от одной только слишком развитой застенчивости. Отчасти — вероятно. Но если что-нибудь ее заинтересовывало в общей беседе, она вставляла свой вопрос или замечание, в которых сейчас же проявлялись ее высокая развитость и начитанность.
Для меня как пылкого тогда позитивиста было особенно дорого то, что эта писательница, прежде чем составить себе имя романистки, так сама себя развила в философском смысле и сделалась последовательницей учения Огюста Конта. Но я знал уже, когда ехал в Лондон с письмом к Льюису, что Джордж Элиот — позитивистка из так называемых «верующих», то есть последовательница «Религии человечества», установленной Контом под конец его жизни.
В Англии это учение нашло себе горячего последователя в некоем Конгриве, и Джордж Элиот вместе с несколькими своими друзьями сделалась членом этой церкви. Конгрива я не видал и не искал его знакомства, но он, если не ошибаюсь, был еще жив и проживал в Лондоне.
Из членов этой «позитивной» общины самым талантливым и общительным был писатель (и по профессии адвокат) Фредерик Гаррисон, к которому я также имел письмо из Парижа. Он и двое из его приятелей, писатель Крэкрофт и историк Бисли, окружали г-жу Элиот самым неизменным преклонением и перед ее дарованием, и перед личностью. Сам Льюис вряд ли тогда причислял себя к верующим позитивистам, но он был, несомненно, почитатель «Системы» Огюста Конта и едва ли не единственный тогда англичанин, до такой степени защищавший научное мировоззрение. Он был вообще поборником свободных идей, идущих в особенности из Германии, которую он прекрасно знал и давно уже сделался там популярен своей книгой о Гете.
Встреться я с ним в Берлине или Вене, я бы никогда и не подумал, что он англичанин. Разве акцент выдал бы его, да и то не очень. По-немецки и по-французски он говорил совершенно свободно.
Салон Льюиса и Дж. Элиот нашел я в тот сезон, конечно, самым замечательным по своей любви к умственной свободе, по отсутствию британского «cant'a» (то есть лицемерия) и национальной или сословной нетерпимости. Тут действительно все дышало идейной жизнью, демократическими симпатиями и смелостью своих убеждений.
Из их кружка с тремя позитивистами — Гаррисоном, Крэкрофтом и Бисли — я продолжал знакомство вплоть до моего отъезда из Лондона, был у Гаррисона и в деревне, где он жил в имении с своими родителями. Его как писателя я уже оценил и до личного знакомства. Его публицистические и критические этюды и появлялись больше в «Fortnightly».
Историк Бисли — из них всех — ставил Дж. Элиота особенно высоко. И он и Крэкрофт говорили мне на эту тему — как их кружок был обязан Дж. — Ст. Миллю своим умственным возрождением и как они, еще незадолго перед тем, должны были отстаивать свое свободомыслие от закорузлой британской ортодоксальности. И Дж. Элиот много помогла им своим пониманием и сочувствием.
Научно-философский дух этого кружка тогда совсем не господствовал и в английских университетах. И в Оксфорде, и в Кембридже царила еще дуалистическая метафизика, да и в конце 90-х годов (как я сам мог убедиться в этом) Оксфорд шел — в философском смысле — на буксире немецких метафизиков, неокантианцев и других. Эта небольшая группа тогдашних последователей Конта, Милля и отчасти Спенсера (о нем речь пойдет ниже) и была настоящим свободомыслящим оазисом в тогдашней лондонской интеллигенции — среди сотен писателей, журналистов, «клерджименов» (священников) и педагогов обыкновенного, «респектабельного» типа.
К Дж. — Ст. Миллю дал мне письмо Литтре. Так же как и Льюис, Милль жил в окрестностях (или очень отдаленной местности) Лондона. К нему на дом я не попадал, хотя все время с промежутками видался с ним, но только в городе или, точнее говоря, в парламенте.
Тогда Милль смотрел еще не старым человеком, почти без седины вокруг обнаженного черепа, выше среднего роста, неизменно в черном сюртуке, с добродушной усмешкой в глазах и на тонких губах. Таким я его видал и в парламенте, и на митингах, где он защищал свою новую кандидатуру в депутаты и должен был, по английскому обычаю, не только произнесть спич, но и отвечать на все вопросы, какие из залы и с хор будут ему ставить.
Вряд ли встречал я когда-либо и в какой-либо стране человека более мягкого и деликатного, при всей определенности и, где нужно, стойкости своих принципов. Подхваченный тогдашними русскими газетными фельетонистами инцидент со спаржей, которой меня угощал Милль, и приведен был мною как раз, чтобы показать, до каких пределов он был деликатен… даже до излишества. Хотя я и говорил об этом в печати, но еще раз приведу этот инцидент.
Милль пригласил меня сразу обедать в ресторан парламента, в то его отделение, куда допускались лица, не принадлежащие к представительству. И вот, когда подали спаржу с двумя соусами, английским и польским, то Милль, выбрав английский, как бы извинился передо мною, что он предпочитает этот соус, хотя он ест его только по привычке, а не потому, что стоит его есть.
В памяти моей сохранился и другой факт, который я приведу здесь еще раз, не смущаясь тем, что я уже рассказывал о нем раньше. Милль обещал мне подождать меня в Нижней палате и ввести на одно, очень ценное для меня, заседание. Я отдал при входе в зал привратнику свою карточку и попросил передать ее Миллю. Привратник вернулся, говоря, что нигде — ни в зале заседаний, ни в библиотеке, ни в ресторане — не нашел «мистера Милля». Я так и ушел домой, опечаленный своей неудачей.
На другой день возвращаюсь домой из читальни Британского музея перед обедом. Дочь моей хозяйки докладывает мне, что был пожилой джентльмен, очень жалел, что не застал меня, попросил лист бумаги и написал мне письмо. Письмо на трех страницах по-французски (Милль прекрасно владел этим языком и всегда говорил со мною по-французски, а не по-английски), где он усиленно извинялся передо мною, хотя ни в чем не был виноват, а виноват был привратник, поленившийся поискать его вне залы заседаний. А ведь это был сам Дж. Ст. Милль, которого люди моего поколения так высоко ценили, что он и знал уже от разных русских.
Его скромность и деликатность некоторые ставили ему в упрек, как такие свойства, которые мешали ему в борьбе, и философской и политической. На их оценку, он часто бывал слишком уступчив. Но он никогда не изменял знамени поборника научного мышления и самого широкого либерализма. Он не был «контист» в более узком смысле, но и не принадлежал к толку религиозных позитивистов. А в политике отвечал всем благим пожеланиям тогдашних радикалов, только без резко выраженных, так сказать устрашающих, формул.
Беседа его текла с особенной — не слащавой, а обаятельной мягкостью; но когда речь касалась какого-нибудь сюжета, близкого его гуманному credo, и у него слышались очень горячие ноты. Я замечал и тогда уже нервность в его лице и в движениях рук, которые он на подмостках закладывал всегда за спину и жестов не делал. На этих избирательных подмостках я его и слышал, а в Палате он выступал очень редко, и при мне — ни разу.
Сколько я помню, кажется, Милль тогда не прошел в депутаты, да трибуна и не годилась для него. А обаяние его имени было тогда для лондонских обывателей совсем не такое, как, например, у нас среди молодой тогдашней интеллигенции. Выборы в Англии, как известно, стоят больших денег, и Милль не мог бы позволить себе таких расходов. Он выступал кандидатом рядом с другим радикальным кандидатом, светским человеком, сыном герцога Бедфордского, одного из самых богатых лордов, которому тогда принадлежали в Лондоне целые кварталы.
Францию Милль любил гораздо больше, чем полагается истому британцу. Он похоронил жену на юге Франции, в Авиньоне, где и по смерти ее жил каждый год в зимний сезон. Его супружеская жизнь озарена была совершенно исключительной взаимной привязанностью. В авторе книжки «О подчиненности женщины» сошел в могилу самый убежденный и стойкий защитник прав женщины на полную самостоятельность. Нынешние феминистки и сюфражистки должны считать его своим «отцом церкви». Вряд ли кто-нибудь из них шел так далеко в своих взглядах, как Милль, который желал, чтобы женщина могла сызнова радикально освободить себя от всякого влияния мужчины и доказать своим самодовлеющим развитием, насколько она по своей духовной природе выше представителей сильного, то есть тиранического, пола.
Вряд ли и был в XIX веке другой такой рыцарь (в смысле преклонения перед женщиной), как Милль. И так трогательно было в нем видеть сочетание такого убежденного радикализма, направленного против предрассудков сильного пола, с необычайной скромностью всей его повадки.
Лучшего introducer'a (вводящего) в палату я не мог и желать. И я ему обязан был таким входом в Нижнюю палату, какого, конечно, не имели другие иностранцы, за исключением, быть может, представителей самых крупных английских газет.
Теперь после какой-то попытки взрыва доступ в палату давно уже сделался гораздо менее свободным, чем в конце 60-х годов. Тогда коридоры и площадки палаты, вплоть до входа, где сидит в своей традиционной будке привратник, предоставлены были публике. Это похоже было на какой-то громадный отель. Несмолкаемое снование взад и вперед, беготня мальчиков с депешами, целые шпалеры любопытных, стоящих по обе стороны прохода, чтобы поглазеть на депутатов или министров и чтобы перехватывать последние известия из залы, когда идут дебаты или голосование по какому-нибудь жгучему вопросу. И тогда для прессы и публики трибуны помещались на хорах, куда и депутаты приходили… отдыхать, а частенько и просто спать, прикрывшись листом «Times'a».
Зала заседаний сохраняет и по сей день свою средневековую обшивку деревом. Она узка и тесна для числа членов. Если б в ней был амфитеатр, как во всех остальных парламентах, то депутатам хватило бы сидений. Но «священная» традиция для истого британца выше всего. И часть депутатов обречена была на обязательное манкирование заседаний.
На галерее я ни разу не сидел, а попадал прямо в залу, где, как известно, депутаты сидят на скамейках без пюпитров или врассыпную, где придется. Мне могут, пожалуй, и не поверить, если я скажу, что раз в один из самых интересных вечеров и уже в очень поздний час я сидел в двух шагах от тогдашнего первого министра Дизраэли, который тогда еще не носил титула лорда Биконсфильда. Против скамейки министров сидел лидер оппозиции Гладстон, тогда еще свежий старик, неизменно серьезный и внушительный.
Дизраэли был один во всей палате во фраке. Худощавый, с черными еще (или подкрашенными) курчавыми волосами, с моноклем в глазу, не похожий ни на вельможу, ни на англичанина — нервный, язвительный, с беспрестанной игрой физиономии. Голос — резкий, неприятный, почти раздражающий. В нем заметно было свежему человеку какое-то особенное, ненормальное возбуждение. И тогда все, знакомые с палатой, говорили, что Дизраэли в антрактах дебатов выпивал много рюмок крепкого вина, будто бы прибавляя к ним порошок с препаратом опиума. Выносить бодро тягость заседаний давалось немногим. Заседания начинаются около 3 часов и длятся иногда до 3 часов ночи. И все время надо быть «начеку», постоянно возражать, произносить спичи, пускать в ход всякие приемы парламентской стратегии и тактики.
Фрак Дизраэли резко выделялся среди пиджаков и всяких шляп. И я сидел в пиджаке и котелке. И позы можно было принимать самые непринужденные. Такая свобода и доступность для иностранца — казались после Парижа чем-то недопустимым.
Из ораторов первого ранга, кроме Дизраэли, я слышал и Гладстона и Брайта. Этот толстый старик был настоящий оратор, более трибун, чем Гладстон. В тоне и манере Гладстона сидело что-то немного пасторское — недаром он всю жизнь любил писать богословские статьи. Он мог произносить огромные речи, с обилием фактов и цифр и с искусной аргументацией, но его сила заключалась не в проявлении пылкого темперамента, не во внешнем блеске, а в убежденности, логике, прямоте и несокрушимом натиске доводов и внутреннего чувства.
Мне случилось попасть в залу Нижней палаты и на одну официальную церемонию в тот момент, когда посланный от королевы придворный чиновник кончал чтение ее ответа на приветствие палаты по случаю избавления от смертной опасности ее меньшого сына — герцога Эдинбургского, на которого было сделано в Австралии покушение. Я попал в толпу, как раз когда она двинулась уже к выходу. Мы столкнулись в тесноте с красивым, плотным молодым человеком в сюртуке и с цветком в петлице. Это был принц Валлийский, впоследствии король Эдуард VII, которого мать послала присутствовать вместо себя при чтении ее ответа на адрес Нижней палаты.
В Верхнюю палату я тоже захаживал, но она не вызывала во мне никакого интереса. Там я сидел в трибуне журналистов и смотрел на группы епископов в белых кисейных рукавах. И тогда уже либеральный Лондон начал находить, что это сословное представительство с прибавкою высокопоставленных духовных отжило свой век, и ждать от него чего-либо, кроме тормоза идеям свободы и равноправия, — наивно!
Имел я письмо и к Герберту Спенсеру. Я знал уже, что он, как старый холостяк, живет в каком-то семействе и не очень охотно принимает посетителей, и что его часто видят в клубе Атеней, где он любит играть на бильярде.
Жил он тогда в West End, то есть в барском квартале Лондона, позади Гайд-Парка, в очень комфортабельном особняке, и принял меня в большой гостиной, которая не похожа была на его рабочий кабинет.
Кто видал его фотографические портреты тех годов, мог бы сейчас же признать его, особенно те карточки, где (по тогдашней моде фотографов) изображалась только голова, в крупном масштабе. Эту типичную голову британца вы никогда не забудете: ни лицевого облика, ни черепа, ни выражения глаз, ни особой, серьезной сосредоточенности всей физиономии. Он был большого роста, широкий в плечах, корректно одетый в сюртучную пару, говорил без жестов, отчетливо, «ужасно» по-английски, то есть со всеми особенностями британского прононса, значительно упирая на слова, и с одной преобладающей интонацией. Тон его не отличался любезностью, и, кажется, в наше первое свидание, длившееся довольно долго, он ни разу не усмехнулся.
Ко всему этому я был приготовлен и, как говорится, «куражу не терял». Сразу я направил наш разговор на его тогдашние работы. Он уже выпустил в свет и свою «Биологию» и «Психологию» и продолжал доделывать специальные части «Социологии».
Говорил он тоном и ритмом профессора, излагающего план своих работ, хотя профессором никогда не был, а всю свою жизнь читал и писал книги, до поздней старости. Тогда он еще совсем не смотрел стариком и в волосах его седина еще не появлялась.
Впоследствии, лет двадцать и больше спустя, я в одном интервью с ним какого-то журналиста узнал, что Г. Спенсер из-за слабости глаз исключительно слушал чтение — и это продолжалось десятки лет. Какую же массу печатного матерьяла должен он был поглотить, чтобы построить свою философскую систему! Но этим исключительным чтением объяснил он тому интервьюеру, что он читал только то, что ему нужно для его работ. И оказалось в этой беседе, случившейся после смерти Ренана, что он ни одной строки Ренана не читал.
Спенсер о парижских позитивистах меня совсем не расспрашивал, не говорил и о лондонских верующих. Свой позитивизм он считал вполне самобытным и свою систему наук ставил, кажется, выше контовской. Мои парижские единомышленники относились к нему, конечно, с оговорками, но признавали в нем огромный обобщающий ум — первый в ту эпоху во всей философской литературе. Не обмолвился Спенсер ничем и о немцах, о тогдашних профессорах философии, и в лагере метафизиков, и в лагере сторонников механической теории мира.
Как истый холостяк с твердыми привычками Спенсер предложил мне проводить его до клуба «Атеней», где он часа два до обеда проводил неизменно. Нам надо было пересечь весь Гайд-Парк. Шли мы около получаса и все время оживленно беседовали. Он вышел из своей суховатой флегмы, потому что я дерзнул вступить с ним в продолжительное прение.
Говорю «дерзнул», ибо, в самом деле, нужна была немалая смелость, чтобы оспаривать мнение самого Герберта Спенсера, да еще по-английски. Ни на каком другом мне известном языке он не изъяснялся.
В кружке парижских позитивистов заходила речь о том, что Г. Спенсер ошибочно смотрит на скептицизм, как философский момент, и держится того вывода, что будто бы скептицизм не пошел дальше XVIII века. Вот эту тему я — не без умысла — и задел, шагая с ним по Гайд-Парку до самого «Атенея», куда он меня тогда же и ввел.
Разумеется, он не сдавался на мои доводы, но и я не уступал при всем сознании моего философского ничтожества перед британским мыслителем. И мы проспорили все эти полчаса (если еще не больше), и мне потом приятно было вспоминать, как я вывел Спенсера из его суровой флегмы.
Клубную жизнь я, хоть и немного, но все-таки имел случай узнать за тот сезон, который оставался в Лондоне, — с половины мая до половины августа.
Ни в одной столице Европы нет таких клубов, как в Лондоне. Они занимают целые кварталы, как, например, улицу Pall-Mall, которая полна ими.
Приглашение обедать в клуб есть первая форма вежливости англичанина, как только вы ему сделали визит или даже оставили карточку с рекомендательным письмом. Если он холостой или не держит открытого дома, он непременно пригласит вас в свой клуб. Часто он член нескольких, и раз двое моих знакомых завозили меня в целых три клуба, ища свободного стола. Это был какой-то особенно бойкий день. И все столовые оказывались битком набитыми.
Кроме Атенея — клуба лондонской интеллигенции, одним из роскошных и популярных считался Reform club с громким политическим прошедшим. Туда меня приглашали не раз. Все в нем, начиная с огромного атриума, было в стиле. Сервировка, ливреи прислуги, отделка салонов и читальни и столовых — все это первого сорта, с такой барственностью, что нашему брату, русскому писателю, делалось даже немного жутко среди этой обстановки. Так живут только высочайшие особы во дворцах.
Водили меня и в Гаррик Клуб, где собираются больше писатели и артисты и где гораздо попроще. И когда вы войдете в обиход таких мужских «обителей», вы поймете, что в них мужчине, деловому или праздному, так удобно, уютно и комфортабельно, как нигде. А для иностранца, нуждающегося в разнообразных знакомствах, это самый ценный ресурс. И тех, кого с вами знакомят как интересных для вас людей, приглашают всегда в клуб и сводят с вами.
Так, меня на первых же порах свели с двумя братьями Бриггс, теми фабрикантами, которые стали выдавать своим рабочим, кроме задельной платы, еще процент с чистой хозяйской прибыли. Они первые сами пошли на это. И тут сказалось прямое влияние Дж. Ст. Милля. Оба эти промышленника высоко его чтили. Оба брата во время нашей застольной беседы держали себя очень скромно, без малейшей рисовки своим великодушием.
Нечто вроде клуба собиралось каждую ночь и в старинной кофейной, помещавшейся в здании театра Drury Lane, где тогда шли оперные спектакли, в разгар сезона. Туда меня свел журналист и рассказывал мне историю этой кофейни, где когда-то засиживались до поздних часов и Кин, и Гаррик, и все знаменитости обоих столетий.
Драматический мир Лондона интересовал меня еще в Париже, и я привез оттуда письма к двум выдающимся личностям из этого мира: одному просто актеру с громким прошлым, а другому драматургу-актеру с совершенно оригинальным положением и родом деятельности.
Просто актер был тоже незадолго перед этим антрепренер одного из видных театров Лондона Liceum. Это был тот Фехтер, который после блестящей карьеры в Париже вдруг превратился в английского артиста, вспомнив, что он в детстве жил в Англии, и считал себя настолько же англичанином, насколько и французом. В сезон 1868 года он уже из директора театра очутился гастролером в театре, где шла пьеса Диккенса, переделанная из его романа «Проезд закрыт». В этой переделке и он участвовал, так же как и в переводе пьесы по-французски, когда ее давали в Париже в старом Vaudeville, где я ее также позднее видел.
С Диккенсом Фехтер водил близкое приятельство. Они вместе покучивали, и когда я, зайдя раз в коттедж, где жил Фехтер, не застал его дома, то его кухарка-француженка, обрадовавшись тому, что я из Парижа и ей есть с кем отвести душу, по-французски стала мне с сокрушением рассказывать, что «Monsieur» совсем бросил «Madame» и «Madame» с дочерью (уже взрослой девицей) уехали во Францию, a «Monsieur» связался с актрисой, «толстой, рыжей англичанкой», с которой он играл в пьесе «de се Dikkenc», как она произносила имя Диккенса, и что от этого «Dikkenc» пошло все зло, что он совратил «Monsieur», а сам он кутила и даже пьяница, как она бесцеремонно честила его.
Через Фехтера мне очень легко было бы познакомиться и часто видаться с автором «Давида Копперфильда», но в это время его не было в Лондоне. У Фехтера я видал только родственника Диккенса — романиста Уилки Коллинса, тогда еще на верху своей известности, но он показался мне преждевременно одряхлевшим. Кажется, у него был легкий удар, и он, быть может, придерживался «возлияний Бахусу».
Но про Фехтера этого сказать было нельзя. Я нашел в нем типичного француза и парижанина, со всеми замашками французского «cabotin» высшего разряда. Тогда его прежнее благообразие уже прошло; он пополнел и в корпусе, и в лице, дома ходил в мягкой фуражке и курил из деревянной трубочки-носогрейки. Но на сцене еще сохранял представительность и манеры прежнего «первого любовника». Сам он считал свой «прононс» совершенно английским, но лондонцы (в том числе и театральные критики) говорили мне, что в его произношении чувствовался французский акцент. Быстрый успех в Лондоне лет пятнадцать перед тем он имел сразу, явившись Гамлетом в такой гримировке и в таком костюме, каких никто еще не пускал в ход на лондонских сценах.
На мою оценку (насколько можно было судить по одной роли из современного быта), он остался чисто парижским актером, вроде Бертона-отца, который и играл его роль во французском переводе пьесы Диккенса. Это была смесь романтического тона с тонкой дикцией и красивыми жестами.
Фехтер, хоть и просто гастролер, а не директор театра, продолжал жить барином, в хорошо обставленном коттедже, и ездил в собственной карете. Но дома у него было все точно «начеку», чувствовалось, что семейная его жизнь кончена и он скоро должен будет изменить весь свой быт.
Водил он приятельство со своим товарищем по Парижской консерватории певцом Гассье, который незадолго перед тем пропел целый оперный сезон в Москве, когда там была еще императорская Итальянская опера. Этот южанин, живший в гражданском браке с красивой англичанкой, отличался большим добродушием и с юмором рассказывал мне о своих успехах в Москве, передразнивая, как московские студенты из райка выкрикивали его имя с русским произношением.
Другая знаменитость театрального мира — Дайон-Бусико принял меня у себя, где познакомил с женой, бывшей актрисой. Родом ирландец и по профессии писатель, он создал — первый — особый род театральной индустрии. Он писал (переделывая их всего чаще с французского) сенсационные мелодрамы и обстановочные пьесы, играл с своей женой в них главные роли, составлял себе труппу на одну только вещь, и вместе с декорациями и всей обстановкой отправлялся (после постановки ее в Лондоне) по крупным городам Великобритании, а потом и в Америку.
Этим способом он составил себе хорошее состояние, и в Париже Сарду, сам великий практик, одно время бредил этим ловким и предприимчивым ирландцем французского происхождения. По-английски его фамилию произносили «Дайон-Буссико», но он был просто «Дайон», родился же он в Ирландии, и французское у него было только имя. Через него и еще через несколько лиц, в том числе директора театра Gaiety и двух-трех журналистов, я достаточно ознакомился с английской драматургией и театральным делом.
Тогда в Лондоне не было ничего похожего на государственно-национальный театр, как Comedie Francaise. He существовало ничего похожего и на государственную консерваторию. Обучение производилось кое у кого из бывших актеров. Опера велась блестяще в двух театрах — «Ковент-Гарден» и «Друри-Лэн», но это и до сих пор частные антрепризы с некоторой субсидией. Драматические театры (даже самые лучшие) по репертуару стояли очень низко. Все — переделки с французского, посредственные вещи домашнего изделия или обстановочные зрелища из лондонской уличной и трущобной жизни. Эти оказывались еще самыми интересными, и обстановка в них, сравнительно с парижской, была последним словом сценического ультрареализма: кебы, целые поезда, мосты, улицы, трущобные притоны — все это чрезвычайно детально и разительно в своем правдоподобии.
Я нашел в тот сезон несколько типичных актеров и актрис: Сосерна, еще на молодых ролях, чету Метьюсов (мужа и жену), двух-трех комиков, молодую актрису Кэт Терри, тогда же покинувшую сцену, — сестру Элен Терри, подруги и сподвижницы Эрвинга, который тогда только что начинал.
В комедии и даже в драме у англичан чувствовалось больше простоты, чем в Париже; женщины с более естественной грацией, но по части дикции весьма малая выработка и жестикуляция бедная, так что французу или итальянцу, не знающему языка, невозможно было бы понять, что вот такой-то «jeune premier» объясняется в любви героине.
Поражало всякого иностранца то, что Шекспир находился тогда в полном забросе. В течение всего сезона при мне едва ли не на одном лишь театре (да и то третьестепенном) шел «Король Джон». Уже позднее Эрвинг стал много играть Шекспира.
Зато «зрелища» в тесном смысле и тогда уже процветали: огромные театры для феерий, блестящих балетов и кафешантанных представлений. Music-hall овладели уже и тогда Лондоном едва ли еще не больше, чем Парижем. И все, что там исполнялось — и куплеты, и танцы, — было еще ниже сортом, чем на парижских бульварах, и публика наивнее и, попросту говоря, глупее и грубее.
Та же публика наполняла по ночам тот квартал, где парила и тогда самая бесконтрольная проституция, сортом еще пониже, чем те кокотки, которые в открытых буфетах Music-hall и в антракты, и во время спектакля занимались своим промыслом.
Я уже по первому своему приезду в Лондон достаточно знал, какой характер носили уличные ночные нравы.
Ночной бульварный Париж тоже не отличался чистотой нравов, но при Второй империи женщины сидели по кафе, а те, которые ходили вверх и вниз по бульвару, находились все-таки под полицейским наблюдением, и до очень поздних часов ночи вы если и делались предметом приставаний и зазываний, то все-таки не так открыто и назойливо, как на Regent Street или Piccadilly-Circus Лондона, где вас сразу поражали с 9 часов вечера до часу ночи (когда разом все кабаки, пивные и кафе запираются) эти волны женщин, густо запружающих тротуары и стоящих на перекрестках целыми кучками, точно на какой-то бирже.
А та, настоящая биржа, куда лились все артерии Лондона и City с его еще не виданным мною движением, давала чувство матерьяльной мощи, которая, однако, не могла залечить две зияющие раны британской культуры: проституцию, главное, пролетариат, которого также нельзя было видеть в Париже в таких подавляющих размерах.
Еще в первый мой приезд Рольстон водил меня в уличку одного из самых бедных кварталов Лондона. И по иронии случая она называлась Golden Lane, то есть золотой переулок. И таких Голден-Лэнов я в сезон 1868 года видел десятки в Ost End'e, где и до сих пор роится та же непокрытая и неизлечимая нищета и заброшенность, несмотря на всевозможные виды благотворительности и обязательное призрение бедных.
А. И. Бенни говаривал мне с тихой усмешкой:
— Прекрасна конституция в Англии для тех, у кого есть золотые часы… А каково тем, у кого нет и медных?
Лондон, как синтез британской городской культуры, научил меня чувствовать все роковые контрасты мировой культуры. Нельзя было и после Парижа не видеть мощи и высоты этой культуры, но в то же время и не сознавать, до какой степени. капиталистический и сословный строй Англии тормозил еще тогда истинное равноправнее этой прославленной стране свободы.
Тогда в гостиных респектабельного общества нельзя было завести речи на некоторые жгучие темы общественной правды и справедливости. Сейчас же это называли:
— Французский социализм!
С тех пор в каких-нибудь тридцать лет и в светских салонах тон переменился, в чем я убедился еще в 1895 году, когда я ездил «прощаться» с Англией и пробыл часть летнего лондонского сезона.
Да и в 1868 году рабочее движение уже началось, приняв более спокойную и менее опасную форму «Союзов» — тред-юнионов. И тогда можно было вынести на улицу любой жгучий вопрос, устроить какой угодно митинг, произносить какие угодно спичи, громить парламент, дворянство, капиталистов, поносить даже королеву.
Но все это не пахло настоящим революционным брожением. Революция прорывалась только на почве расовой борьбы, в тогдашней Ирландии, в заговорах «фениев», по-нынешнему инородческих анархистов, врагов всего английского.
Процесс их вожаков происходил при мне в одно из моих двух первых пребываний в Лондоне. Я до сих пор довольно живо помню и фигуры подсудимых, и залу, и судей в их на наш вкус смешных париках из конского волоса.
Вот такой суд — с застывшими формами и вековой неподвижностью — всего лучше выказывал, до какой степени в Англии добро и зло переплетены в деле общей правды и справедливости. Суд — свободный и независимый; но с варварским нагромождением старых законов, с жестокими наказаниями, с виселицей; а в гражданских процессах — с возмутительной дороговизной; да и в уголовных — с такими же адскими ценами стряпчим и адвокатам.
Несколько фениев были повешены. И никто-то этим не возмущался в респектабельной печати. Вся жесткая нетерпимость англичан — даже и к расам, которые объединены под общей кличкой «Британия», — выставлялась во всей своей неприглядности.
Да и в мировой юстиции, особенно в City (где судьи из альдерманов, то есть из членов городской управы), бесплодность уголовных репрессий в мире воров и мошенников принимала на ваших глазах гомерические размеры. Когда масса так испорчена нищетой и заброшенностью, наказания, налагаемые мировыми судьями, производят трагикомическое впечатление. Я довольно насмотрелся на сцены у альдерманов и у судей других частей Лондона, чтобы быть такого именно мнения.
Свобода, то есть ограждение личных прав британского подданного, делает то, что нельзя и органам власти действовать более энергично и против злоумышленников, и против уличной проституции, и против пьянства.
Лондонские «Public-houses», то есть кабаки, и тогда уже поражали иностранца не только своим числом, но и обстановкой. Это и тогда были какие-то храмы пьянства, многие роскошно отделанные, но без всякой мебели. В этом и сказывалась двойственность всей публичной морали респектабельной Британии. Пьянство громадных размеров, развращенного вида матроны среди белого дня, драки между пьяными женщинами, нахальный уличный разврат и гнет англиканского ханжества, которое и до сей минуты не позволяет столице в 5–6 миллионов жителей иметь по воскресеньям чисто эстетические удовольствия.
И никто и в 1868 году в общелиберальной печати не поднимал похода против этого запрета. Может быть, и сюфражистки XX века, и революционные социалисты, и анархисты не могут или не хотят добиваться этого законнейшего права свободных граждан наполнять свои воскресные досуги тем, что им нравится.
А кутить за городом, в Ричмонде и других местах, объедаться и напиваться на бесконечных обедах в воскресенье — это можно! И я помню, как на таком загородном пикнике (куда я был приглашен) за столом сидели три часа, подавали, между прочим, до шести рыб и по крайней мере до двенадцати сортов разных вин!
Но нигде, как в Лондоне, нельзя было получить такой заряд всякого рода запросов и итогов по всем «проклятым» задачам культурного человечества. Все здесь было ярче, грандиознее и фатальнее, чем в Париже и где-либо в Европе, — все вопросы государства, общества, социальной борьбы, умственного и творческого роста избранного меньшинства.
За каких-нибудь три месяца в моей душе перебывало множество всяких впечатлений, идей, итогов, обобщений, проблем и дилемм, вызывающих тот или иной ответ. Только с того времени поднялся мой интерес к рабочему вопросу, к борьбе труда с капиталом. И это сделали не книжка, не чтение «Капитала» Маркса, а картины громадной нужды лондонского пролетариата, возмутительный контраст с теми жертвами безработицы, которых я видал в лондонских доках и в трущобных переулках «Ост-Энда», вроде пресловутой Golden Lane. Такая наглядная школа — выше всего.
Подводя итоги моему сезону в Лондоне, я должен был признать, что кругозор моих идей, наблюдений, запросов расширился, даже и после Парижа, на большой масштаб. Правда, как писатель-беллетрист я почти что ничего не сделал более крупного, но как газетный сотрудник я был еще деятельнее, чем в Париже, и мои фельетоны в «Голосе» (более под псевдонимом 666) получили такой оттенок мыслительных и социальных симпатий, что им я был обязан тем желанием, которое А. И. Герцен сам выражал Вырубову, — познакомить нас в сезон 1869–1870 года в Париже, и той близостью, какая установилась тогда между нами.
Что бы я ни описывал в своих корреспонденциях и фельетонах в две русские газеты, все это было — по размерам материала, по картинам лондонской жизни — гораздо обширнее, своеобразнее и внушительнее, чем любая страница из жизни другой «столицы мира» — Парижа.
Митинг ли в Гайд-Парке или на Трафальгар-Сквере, эпсомские ли скачки, массовые ли гулянья в «Кристал-Паласе», концерты ли, монстры, спектакли в опере или вечера в народных театрах с. драмами из мира лондонских вертепов, — все это давало чувство той громадной человеческой лаборатории, которая называется Лондоном.
Чисто духовные интересы — наука, философия, искусство — волновали меньше, потому что они не стояли на виду, так, как в Париже, хотя бы и Второй империи. Я уже говорил, что тогдашнее английское свободомыслие держалось в маленьком кружке сторонников Милля, Спенсера и Дарвина, к знакомству с которым я не стремился, не считая за собою особых прав на то, чтобы отнимать у него время, — у него, поглощенного своими трудами и почти постоянно больного. Но благодаря моей статье в «Fortnightly Review» Дарвин получил фактическое понятие о нашем движении 60-х годов.
Покойный В. О. Ковалевский (мой давнишний знакомый еще из того времени, когда он был юным правоведиком) рассказывал мне позднее, уже в начале 70-х годов, как он раз по приезде в Лондон сейчас же отправился к Дарвину, в семействе которого был принят всегда как приятель. И первое, что ему сказал Дарвин, поздоровавшись с ним, — было:
— Я знаю теперь — кто вы! (who are you!)
— Кто же? — спросил Ковалевский.
— Нигилист! (a nihilist!) — ответил со смехом Дарвин.
В моей статье я упоминал об издателях научных и философских книг того направления, которое считали «нигилистическим», называл и Ковалевского. И Дарвину захотелось подшутить над ним на эту тему.
«Дарвинизм» сделался дорог гораздо больше его немецким и русским адептам, чем тогдашним англичанам.
В самом Лондоне научная интеллигенция, кроме ученых обществ, группировалась около двух высших школ: Лондонского колледжа и Университетского колледжа. Если среди их преподавателей и было несколько крупных имен, то все-таки эти подобия университетов играли совсем не видную роль в тогдашнем Лондоне. Университетский быт и высшее преподавание надо было изучать в Оксфорде и Кембридже; а туда я попал только в 1895 году и нашел, что и тогда в них господствовал (особенно в Оксфорде) метафизический дух, заимствованный у немцев.
Мир изящного творчества в Лондоне 1868 года сводился к немногому. Диккенс уже пропел свою песню. Джордж Элиот также напечатала все лучшее, что она создала, придворный лауреат Тенниссон допевал свои перепевы. Новые силы беллетристики и поэзии, как Мередит, Оскар Уайльд, еще несколько романистов и стихотворцев только еще выступали. А то движение в искусстве и его толковании, которому толчок дал Рёскин (и тогда уже довольно известный), все прерафаэлистское движение с Росетти и его единомышленниками — расцвело несколько позднее, а тогда еще ни в интеллигенции, ни в светских салонах не слышно было призывов к новым воззрениям на область красоты.
Британский гений в мире пластического искусства был уже блистательно представлен «Национальной галереей», «Кенсинтонским музеем» и другими хранилищами. В Британском музее с его антиками каждый из нас мог доразвить себя до их понимания. И вообще это колоссальное хранилище всем своим пошибом держало вас в воздухе приподнятой умственности. Там я провел много дней не только в ходьбе по залам с их собраниями, но и в работе в библиотечной ротонде, кажется до сих пор единственной во всей Европе.
Театр и музыка по своей тогдашней оригинальной производительности, можно прямо сказать, не давали ничего сколько-нибудь ценного сравнительно с тогдашней Германией, Италией и Францией. Мне как специальному изучателю театра Лондон дал несколько новых деталей по части техники, но, как я уже и заметил выше, ничего выдающегося ни по репертуару, ни по игре артистов. Тогда казалось, что весь литературный талант Англии ушел в роман и стихотворство, а театр был обречен на переделки с французского или на третьестепенную работу писателей, да и те больше все перекраивали драмы и комедии из своих же романов и повестей.
По музыкальной части Лондон был (да остался в значительной степени и теперь) огромной сезонной ярмаркой. Отовсюду наезжают сюда всевозможные виртуозы, и начинается настоящий шабаш всяких музыкальных «exhibitions».
И ничего своего, английского. Опера — чужая, концерты — монстры или вечера камерной музыки, певцы и певицы, скрипачи, пианисты, виолончелисты — все это появляется на подмостках, точно на ярмарке перед толпой, которая снует между балаганами. Рьяный потребитель всякой музыки найдет в лондонском «season» нечто вроде «обжорного ряда», но английского во всем этом — только публика, все эти десятки тысяч джентльменов обоего пола, у которых припасено на эту ярмарку столько-то гиней и фунтов стерлингов. Может быть, слабая производительность англичан по части музыки оперной и инструментальной объясняется тем, что они так привыкли получать за деньги все готовое, играть роль бар, которых разные заезжие штукари увеселяют целыми днями в течение четырех месяцев…
Уровень музыкального тогдашнего образования лондонцев обоего пола стоял, конечно, ниже немецкого и русского, вряд ли выше и парижского, но дилетантство, в виде потребления музыки, громадное. В салонах светских домов было уже и тогда в большом ходу пение разных романсов и исполнение мендельсоновских песен без слов, и все это такое, что часто «святых вон выноси»!
Но ездить в оперу, сновать по всевозможным концертам — это входило в обязательный обиход удовольствий всякого джентльмена и всякой порядочной женщины.
И никакой попытки создать свою оперу, даже с иностранным репертуаром, но с английскими исполнителями, хотя бы даже свой опереточный театр, что явилось уже гораздо позднее. А главное, ничего для народа, для трудовой массы — популярных концертов или общедоступной школы, да и консерватории — тогда тоже не было. Весь барско-капиталистический захват привилегированных классов общества сказывался с полной бесцеремонностью и в мире искусства, да сказывается и до сих пор. Большой разницы не находил я и двадцать семь лет позднее, в сезон 1895 года.
Толпа во всяких увеселениях по внешности культурнее, чем где-либо, но по вкусам — низменная, что особенно бросается вам в глаза и в нос во всяких «Music-halls». Атлеты, акробаты, грубое фиглярство, канкан (более циничный, чем даже в Париже), бессмысленные песенки, плоские остроты — вот духовная пища лондонской зрительной толпы. При такой политической свободе печатного слова — никакой сатирической жилки, ни в пьесах, ни в номерах кафешантанов. Так было еще и в 1895 году.
Но свобода слова на подмостках, даже для серьезных пьес, до сих пор в Лондоне напоминает наши дореформенные порядки. Довольно того, что когда при мне приехала на сезон французская труппа, то она только после усиленных хлопот добилась постановки «Дамы с камелиями», которая у нас шла гораздо раньше и по-французски и по-русски. А на английском языке ее не пускали на сцену. Такой же цензурный ригоризм для всего, что связано с Библией. И цензурный «index» находится до сей поры в руках безответственного придворного чина.
Между дешевыми зрелищами и характером ночной уличной проституции — прямая связь. То, что тогда в Париже 60-х годов смягчалось веселостью, дурачеством, грацией, то в Лондоне носило на себе или совсем мрачный, или тупо-цинический оттенок. Стоило только сравнить: тогдашний парижский студенческий бал «Бюллье» или даже «Мабиль» с самым элегантным увеселительным танцевальным местом «Cremorn-Garden», рекламы которого занимали целые столбцы в самых больших газетах. Это было что-то напоминающее петербургские сады, только с более кричащей обстановкой и волнами ослепительного света.
Если и можно было отдыхать от денных трудов, то, конечно, не в таких «садах», а в парках, когда там нет митингов, и в таком убежище растительного царства, как сад «Кью» за городом, какого тоже нет второго в Европе. Ежедневное катанье в Гайд-Парке с вереницей амазонок и всадников дает, опять-таки единственную, ноту Лондона, как вместилища барско-капиталистического слоя общества, который держал, да и до сих пор еще держит в своих руках все и вся и слишком редко и неохотно думает о том, что трудовая масса в какой-то момент все это опрокинет.
Но когда?
Пока вся китайщина старой Англии будет держаться: парики судей, парламентские порядки, виселица, церковная казенщина, — нечего бояться и социального переворота. Так, по крайней мере, чувствовали и рассуждали все защитники британского status quo, все поклонники идолища, на котором написаны были три слова: «Королева, представители и народ». Но «народ» значился только в виде той черни («mob»), которая должна была почитать себя счастливой, что она живет в стране, имеющей конституцию, столь любезную сердцу тех, «у кого есть золотые часы», как говаривал мой петербургско-лондонский собрат, Артур Иванович Бенни.
Мой лондонский сезон я прервал на несколько дней поездкой в Париж. Не могу теперь совершенно точно сказать, какой главный мотив вызвал эту поездку. Но одним из поводов было желание самому прочесть корректуры статьи, которая должна была появиться у Вырубова в «Philosophic Positive». А тут еще вышло так, что петербуржец (поляк родом) д-р П-цкий, приезжавший в Лондон учиться у знаменитого тогда хирурга-специалиста по операциям каменной болезни, возвращался в Париж, и мы с ним условились переезжать Ла-Манш вместе. Взяли мы дешевый пароход, шедший не два часа, а целых пять, и ночью. Качка была сильная, и бедного моего спутника донимала морская болезнь, хотя и без рвоты, но с такой нервностью, что он беспрестанно подпрыгивал на своей койке и болезненно ныл. Вода сверху, через трап, брызгала и в нашу общую каюту. Я выносил качку спокойнее, но с сильной головной болью, лежа все время пластом, на спине, с закрытыми глазами.
Этот общительный и образованный врач очень сошелся со мною; и наше приятельство продолжалось и в России, где я нашел его в Петербурге в 1871 году и где болезнь печени унесла его в половине 70-х годов, в ужасных страданиях, после того, как он женился во Франции на красивой девушке, дочери поляков-эмигрантов.
Этот д-р П-цкий и тот агент русского Общества пароходства и торговли, Д-в, были почти единственные русские, с какими я видался все время. Д-в познакомил меня с адмиралом Ч-вым, тогда председателем Общества пароходства и торговли; угощая нас обедом в дорогом ресторане на Реджент-Стрите, адмирал старался казаться «добрым малым» и говорил про себя с юмором, что он всего только «генерал», а этим кичиться не полагается. Он был впоследствии министром.
С нашими посольскими я не желал водиться после того, как секретарь посольства (впоследствии петербургский сановник) заявил мне, что он с интеллигенцией Лондона совсем не водится и нигде, кроме официальных мест и клуба С. Джеме, не бывает.
В русскую церковь меня раз свели. Старый священник (о. Попов, если не ошибаюсь) удивил меня тем, что брился, как католические патеры. Когда я спросил у кого-то, зачем он бреется, мне объяснили, что он сам испрашивал когда-то дозволения, не желая быть на улицах предметом насмешек из-за своей бороды и длинных волос. Но в 1868 году так же бриться — было бы совершенно излишне. Тогда как раз установилась мода на бороды и довольно долго держалась, вплоть до последнего времени, когда мода опять приказывает всем джентльменам бриться, как лакеи и кучера.
На континент меня потянуло к 15 августа, когда развал «season'a» уже прекратился. И парламентская жизнь замерла, и в Ковент-Гардене кончились оперные спектакли, а давали концерты для гуляющих в венском вкусе, с оркестром Иоганна Штрауса, тогда еще молодого и красивого. Под его дирижерским смычком вальс «На прекрасном голубом Дунае» звучал так подмывательно, что и чопорная британская публика приходила в игривое настроение, ходя кольцом вокруг эстрады, где Штраус не только играл, но и подпрыгивал под ритм своих вальсов.
Собственно, в Париже еще нечего было делать, но я уже задумал поездку в Швейцарию, на Конгресс мира и свободы, а потом на часть сезона в Вену, где я никогда еще до того не живал.
Мы с Д-вым фланировали по Парижу в самый день 15 августа, то есть в именины императора, смешивались с толпою на Place de la Concorde, в Tuileries и в Елисейских полях вплоть до ночных часов, когда загорелись огни иллюминации.
Тогда империя казалась чем-то очень прочным и сам Наполеон III в массе столичного люда и во всей стране достаточно популярным после торжества Франции на выставке предыдущего года.
О революции там, как и о какой-нибудь роковой войне, никто и не помышлял! Военный престиж империи никогда не стоял так высоко, несмотря на внезапное возвышение Пруссии после кампании 1866 года и битвы под Садовой.
У меня в моем отельчике хозяйка передала мне карточку и с особой интонацией прибавила, что у меня был «сам Александр Дюма», очень пожалел, что я не в Париже, и написал мне на карточке несколько слов. И действительно, Дюма благодарил меня за что-то, просил бывать у него и напомнил, что его жена — моя соотечественница.
Благодарил он меня за то, что и как я говорил о нем в моей статье «Phenomenes du drame moderne». Книжка журнала, где появилась статья моя, уже вышла тем временем. От Вырубова я уже знал, что с Дюма приятельски знаком проф. Robin, один из столпов тогдашнего кружка позитивистов. Он, вероятно, и дал ему книжку журнала с моей статьей.
Личное мое знакомство с Дюма состоялось позднее, по возвращении моем в Париж. И я о нем расскажу дальше. А теперь кончаю эту главу на поворотном пункте моего заграничного пятилетнего житья — с конца 1865 по конец 1870 года.
Глава девятая
Продолжение 1868 года — В Баден-Бадене — На вилле Тургенева — Конгресс «Мира и свободы» в Берне — Бакунин и Н. Утин — «Международное общество рабочих» — Мюнхен — Вена и ее жизнь в сезон 1868–1869 года — Театр, пресса, увеселения, нравы — Русская и славянская молодежь — Прага — 300-летняя годовщина Гуса — В Гусеницах — Париж весной 1869 года — Дюма-сын — Наке — Встречи с Коршем и Благосветловым — Повесть «По-американски» — Роман «На суд» — Испания — Мадрид и Андалузия — Народ и интеллигенция — Политика — Кастеляр, Гарридо — Стэнлей — корреспондент американской газеты «New York Tribune» — Швейцарский санаторий близ Цюриха — Чтение «Обрыва» — Париж в сезон 1869–1870 года — «С Итальянского бульвара» — Г-жа Дельнор, русская дебютантка на театре «Водевиль» — Знакомство с А. И. Герценом и его семейством — Лиза Огарева-Герцен. — Смерть Герцена — Тургенев и Герцен — Мой отъезд в Вену в январе 1870 года — По Венгрии — Пешт — Берлин весной 1870 года — Вл. Бакст и знакомство с Гончаровым — Прусская Палата — Бисмарк — Тогдашний Берлин — Гамбург. — Замысел романа «Солидные добродетели» — Война — Мои скитания около войны до ноября 1870 года — Первая поездка в Италию — Тяга на родину — В деревне отца — Варшава — И. И. Иванюков и Н. В. Берг — Польская сцена — Мое отношение к полякам — Петербургская зима 1871 года — Сотрудничество — «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова — Молодая редакция — «Искра» — Физиономия сезона 1871–1872 года — Князь А. И. Урусов — Мои лекции в Клубе художников — Поездка за границу летом 1871 года — После Коммуны — «На развалинах Парижа» — Г-жа Паска — На итальянских озерах и в Вене — Возвращение в Петербург — Театры — Лекции о французском романе — Роман «Дельцы» — Знакомство с С. А. Зборжевской — Моя болезнь и отъезд за границу зимой 1872 года
В Париж я только заглянул после лондонского сезона, видел народное гулянье и день St. Napoleon, который считался днем именин императора (хотя св. Наполеона совсем нет в католических святцах), и двинулся к сентябрю в первый раз в Баден-Баден — по дороге в Швейцарию на Конгресс мира и свободы. Мне хотелось навестить И. С. Тургенева. Он тогда только что отстроил и отделал свою виллу и жил уже много лет в Бадене, как всегда, при семье Виардо.
В Баден попадал я впервые. Но много о нем слыхал и читал, как о самых бойких немецких водах с рулеткой. Тогда таких рулеточных водных мест в Германии существовало несколько: Баден-Баден, Висбаден, Гамбург, Эмс. О Монте-Карло тогда и речи еще не заходило. Та скала около Монако, где ныне вырос роскошный игрецкий городок, стояла в диком виде и, кроме горных коз, никем не была обитаема.
Всего полтора года прошло с выхода в свет романа «Дым». Толки и оценки его были мне известны и в Париже по газетам и журналам. Но самое место действия — Баден-Баден — делалось от этого еще привлекательнее. В истории творчества Тургенева Баден представляет собою полосу — после «Отцов и детей» — писательских счетов с публикой и критикой. В эти годы Тургенев и стал как бы отказываться от дальнейшей работы беллетриста-бытописателя, выставляя тот главный мотив, что он должен основываться за границей. А в Бадене и произошел как раз этот выбор оседлости. Семья Виардо поселилась там надолго в собственной даче, и Тургенев стал около их виллы строить свою, собираясь, вероятно, и скоротать свой век около властительницы своих дум и чувств. Иначе из-за чего же он стал воздвигать довольно обширный дом, который обошелся ему недешево?
Не случись войны Германии с Францией, Тургенев не переехал бы на конец своей жизни в Париж. Его перевезла Виардо, возмутившаяся тем, как немцы обошлись с ее вторым отечеством — Францией.
Баден в 1868 году привлекал и парижан совершенно так, как теперь Монте-Карло. Такую же тягу производил он и на других иностранцев, особенно на русских. Такого русского Бадена после войны и закрытия рулетки — к 1872 году уже не повторялось.
С интересом туриста ехал я на Страсбур — тогда еще французский город, с населением немецкой расы, ехал демократично, в третьем классе, и дорогой видел много характерного, особенно когда из Страсбура отправился к немецкой границе. Со мною сидели солдаты и шварцвальдские крестьяне. Францию любили не только эльзасцы и лотарингцы, но и баденские немцы. Близость офранцуженных провинций делала то, что и в Бадене чувствовалось культурное влияние Франции.
Попадал я в самый бойкий момент сезона, во время скачек, и увидал сейчас же весь Париж бульваров и театров, вплоть до кокоток, лица которых примелькались вам и в парижских кафе. Еле нашел я мансарду, в скромном отельчике «Deutsher Hof» (и теперь еще существующем, но с другой вывеской) и отправился сейчас же к зданию «Conversation», к той Promenade, с описания которой начинается тургеневский «Дым».
Чего-нибудь типично немецкого (как теперь на всех водах Германии) я не нашел, зато — самый развал космополитической публики.
Играли и в большой концертной зале кургауза, и в боковых залах. Не имея никакой игральной жилки, я не поставил даже гульдена — тогда можно было ставить и эту скромную монету, а только обошел все залы и постоял у столов. Помню, первый русский, сидевший у первого же от входа рулеточного стола, был не кто иной, как Николай Рубинштейн. Я его уже видал в Москве в конце 1866 года. Он сидел с папиросой в длиннейшем мундштуке, с сосредоточенным лицом страстного игрока.
В той боковой зале, где шла более крупная игра в rente et quarante, я заметил наших тогдашних петербургских «львиц» и во главе их княгиню Суворову (рожденную Базилевскую), считавшуюся самой отчаянной игрицей. А рядом несколько тогдашних знаменитых кокоток с Корой Перль (Пирль) во главе, возлюбленной принца Наполеона. И тут, и у киоска музыки, у столиков — вы могли наткнуться на парижских знаменитостей той эпохи: и Оффенбах, и актриса Шнейдер, и тенор Марио, и целый ассортимент бульварных лиц.
Приехал я в Баден под вечер, а на другой день, утром рано, пошел в гору к Старому Замку. Там ведь происходил» пикник молодых генералов из «Дыма». Мне представилась вся сцена на одной из лужаек. Вид с вышки замка на весь Баден его лощины и горы, покрытые черным лесом, на долину Рейна — чудесный, и он не мог не захватить меня после долгого сиденья в душных «столицах мира».
Но Баден, как тогдашний «парадиз» европейских вивёров, не восхитил меня. Насколько потом, с 80-х годов, я привязался к этому милому месту — вот уже более 25 раз провожу я в нем весну и часть лета, — настолько я тогда простился с ним без всякого сожаления. И в фельетоне «Голоса», где я назвал его «парадизом», весьма насмешливо говорил о нем.
Виллу Тургенева я довольно легко нашел на той Fremersbergstrasse, которая с тех годов вся обстроилась. Тогда это казалось еще «урочищем», довольно отдаленным от центра. Место для виллы Тургенев выбрал в ближайшем соседстве с семейством Виардо, между двумя подъемами в гору, фасадом на Fremersbergstrasse, а сзади сад спускается к той дороге, что ведет к швейцарской ферме, где и тогда уже был «Molkenkur» (лечение молочной сывороткой) с рестораном в лесу.
До сих пор вилла стоит в том же виде, немного потемневшая от годов, в стиле французских построек с двумя усеченными крышами, в два этажа. Не знаю, была ли она когда-либо изображена, в каком-нибудь русском иллюстрированном издании. В 1908 году я заказал ее фотографический снимок и два экземпляра послал в Россию. И железная решетка вдоль Fremersbergstrasse до сих пор все та же, с выкованными гирляндой словами: «Villa Turguenew». Сад теперь очень запущен, особенно пруд, и со стороны дороги к «Molkenkur'y» нет даже забора, лежит щебень и всякий мусор у самого входа.
Собственником виллы был сначала московский банкир Ахенбах (еще при жизни Тургенева), от которого она перешла к его зятю из фамилии Бисмарков, потом была продана какой-то немке и от нее перешла, как выморочное имение, к одному из ганзейских городов (Бремену или Любеку) и куплена англичанкой. Одно время она была превращена в «меблировку». И вот тогда-то я напечатал письмо в газетах, где высказывал мысль — как хорошо было бы приобресть виллу (тогда ее можно было бы купить тысяч за 30–35 на русские деньги) для писательского дома. Мысли этой очень сочувствовал покойный Голубев, который тогда уже решил пожертвовать капитал «Фонду» как раз для создания подобного же убежища. Но моя мысль нашла себе отклик только в лице какой-то одной почитательницы имени Тургенева, которая прислала даже вклад. Думаю я и в настоящую минуту, что было бы желательно приобрести виллу Тургенева для какого-нибудь литературно-писательского назначения и не дать ей превратиться в нечто заброшенное и безвестное.
Ивана Сергеевича (ему тогда было ровно 50 лет) нашел я у него в кабинете, в нижнем этаже, в длинноватой комнате, отделанной не особенно уютно, но стильно. Не помню, водил ли он меня наверх или я впоследствии, когда вилла ему уже не принадлежала, видел и залу, и другие комнаты. Зала была настолько велика, что в ней давались музыкальные вечера, где г-жа Виардо выступала с своими ученицами.
Это было как раз то время, когда Тургенев, уйдя от усиленной работы русского бытописателя, отдавался забавам дилетантского сотрудничества с г-жой Виардо, сочинял для ее маленьких опер французский текст и сам выступал на сцене. Но это происходило не в те дни конца летнего сезона, когда я попал впервые в Баден.
Наша денная беседа происходила с глазу на глаз. Никто не пришел ни из русских, ни из иностранных приятелей, ни из семейства Виардо. Кажется, Тургенев пришел от них и что-то мне сказал о каком-то испанце, с которым он играет в шахматы. Тогда он увлекался мыслью переводить «Дон-Кихота».
В наружности и тоне Тургенева я не нашел разницы с тем впечатлением, какое вынес четыре года перед тем, когда был у него, в Hotel de France, в первый раз в Петербурге. Та же крупная фигура, еще бодрая и прямая, та же преждевременная серебристая седина, та же элегантность домашнего костюма.
Наше предварительное знакомство было слишком еще незначительно, чтобы сейчас же завязался интимный или, во всяком случае, живой разговор. От Тургенева вообще веяло всегда холодком, но, как я заметил и в 1864 году, он и с незнакомым ему человеком мог быть в своем роде откровенным. Он как бы стоял выше известных щепетильностей и умолчаний.
Не помню, чтобы в том, что он говорил тогда о России и русской журналистике, слышались очень злобные, личные ноты или прорывались резкие выражения. Нет, этого не было! Но чувствовалось все-таки, что у него есть счеты и с публикой, и с критикой, и с некоторыми собратами, например, с Достоевским, который как раз после «Дыма» явился к нему с гневными речами и потом печатно «отделал» его.
Мне жутко было видеть в таком писателе, как И. С., какую-то добровольную отчужденность от родины. Это не было настроение изгнанника, эмигранта, а скорее человека, который примостился к чужому гнезду, засел в немецком курорте (он жил в Бадене уже с 1863 года) и не чувствует никакой особой тяги к «любезному отечеству».
Его европеизм, его западничество проявлялись в этой баденской обстановке гораздо ярче и как бы бесповоротнее. Трудно было бы и представить себе, что он с душевной отрадой вернется когда-либо в свое Спасское-Лутовиново, а, напротив, казалось, что этот благообразный русский джентльмен, уже «повитый» славой (хотя и в временных «контрах» с русской критикой и публикой), кончит «дни живота своего», как те русские баре, которые тогда начали строить себе виллы, чтобы в Бадене и доживать свой век.
Будь у него другой тон, конечно, молодой его собрат (мне стукнуло тогда 32 года) нашел бы сейчас же возможность и повод поговорить «по душе» о всем том, что ему самому и русская, и заграничная жизнь уже показала за целых семь-восемь лет с выступления его на писательское поприще.
Тургенев вообще не задавал вам вопросов, и я не помню, чтобы он когда-либо (и впоследствии, при наших встречах) имел обыкновение сколько-нибудь входить в ваши интересы. Может быть, с другими писателями моложе его он иначе вел себя, но из наших сношений (с 1864 по 1882 год) я вынес вот такой именно вывод. Если позднее случалось вызывать в нем разговорчивость, то опять-таки на темы его собственного писательства, его переживаний, знакомств и встреч, причем он выказывал себя всегда блестящим рассказчиком.
Но тогда и этого не было. Мне казалось даже, что он куда-то торопится, должно быть, к завтраку с семейством Виардо. Поэтому я очень порадовался, когда он пригласил меня позавтракать у него запросто на другой день, узнав, что я еще пробуду сутки в Бадене.
Но этому завтраку не суждено было состояться. Я получил от него записку о том, что его кухарка «внезапно» заболела. Это мне напомнило впоследствии то, что его приятель П. В. Анненков рассказывал про Тургенева из его петербургской молодой жизни. Я не хотел его тогда ни в чем подозревать и готов был принять болезнь кухарки за чистую монету; но больше уже не счел удобным являться на виллу.
В тот же день я видел Тургенева, издали, еще два раза. В дообеденный час он приехал один к Promenade в фаэтоне и прошел в книжный магазин, который тогда помещался в том флигеле кургауза, где была сначала читальня, а теперь временно кафе-ресторан. Тургенев постоял довольно долго на крыльце, и издали его фигура, в широком гороховом пальто, была видна очень отчетливо из-под колоннады кургауза, прославленной им Conversation. На фронтоне, под фризом, стояло собственно слово «Conversations hause». И его теперь замазали, к 1910 году, чем огорчили всех, кому дорога память тогдашнего «тургеневского» Бадена.
Рулетка делала то, что в театре (только что перед тем отстроенном) давались оперные спектакли с итальянцами и приезжали на гастроли артисты «Французской комедии».
Вечером я попал в оперу, с бывшей московской примадонной Фриччи Баральди, и с галереи верхнего яруса увидал в крайней ложе бельэтажа седую голову Тургенева. Он стоял позади стула г-жи Виардо. Тут сидело все ее семейство. И я в первый и в последний раз в жизни видел ее. Она уже смотрела пожилой женщиной и поражала своей типичной некрасивостью.
Уехал я из Бадена после встречи с автором «Отцов и детей» не так, как бы мне тогда хотелось.
Как человек 60-х годов и как молодой писатель, переживший все, что Тургенев вызывал в людях моей эпохи, я не был нисколько настроен против него, ни за «Отцов и детей», ни за «Дым». Лицо Базарова я и тогда уже считал крупнейшим и умнейшим лицом русской беллетристики. «Дымом» я не особенно восторгался и все недостатки этой вещи, и в постройке, и в творчестве главных лиц (за исключением, однако, великолепной фигуры генеральши Ратмировой и ее мужа) я распознавал, когда вчитывался в роман в Париже. Не очень мне нравилось и не совсем свободное отношение к русской заграничной компании разных сортов, злобность и обличительность. Но как хорош был пикник молодых генералов и с каким удовольствием мог всякий западник читать тирады Потугина против русофильских претензий на славянофильской закваске.
Правда, тогда уже не у одного меня складывалась оценка Толстого (после «Войны и мира») как великого объективного изобразителя жизни. Хотя он-то и был всегда «эгоцентрист», но мы еще этого тогда недостаточно схватывали, а видели то, что он даже и в воспроизведении людей несимпатичного ему типа (Наполеона, Сперанского) оставался по приемам прежде всего художником и сердцеведом.
И все-таки, повторяю, у меня, когда я ехал в Баден на разговор с Тургеневым, не было на него никакого предвзятого взгляда и несвободного к нему отношения. Если он показался мне тогда таким (хотя бы и временно) отрешенным от всего русского, то в этом, как я теперь соображаю, сидело то, что в те годы западная жизнь гораздо сильнее захватывала русских «интеллигентов», особенно тех, кто, как Тургенев, связал свою интимную жизнь с исключительным чувством к иностранке и как бы должен был состоять при ней и при ее семье.
Да и помимо того, разве такого «россиянина», в какого складывался Тургенев еще к 40-м годам, могла захватывать тогдашняя русская жизнь? Он ведь всегда от нее бегал, и его сиденье в деревне было подневольное, в виде ссылки. А потом пошли года, когда он постоянно разрывался между своими русскими писательскими связями и тем, что его влекло в чужие края. После годов больших симпатий русской публики (с «Записок охотника» и «Дворянского гнезда» до «Отцов и детей») вдруг подозрительное непонимание молодежи, травля тогдашней радикальной критики, которую не могли ослабить и сочувственные рецензии Писарева! Что же было для него привлекательного дома в этот период, с 1862 по 1868 год? А он был всегда очень чувствителен к своим успехам.
По-своему Тургенев любил родину, как художник умел изображать и русскую природу, и русских людей, но в нем не было такой русской закваски, как в его сверстниках-писателях: Островском, Писемском, Достоевском, Некрасове и Герцене. Почему его дружба с Герценом кончилась принципиальной размолвкой? Потому, что революционность Герцена была на архирусской подкладке, держалась за социалистическое credo в народническом духе. А Тургенева всегда держал в своих тисках культурный Запад, особенно Германия. Потому-то ему так легко и жилось в Бадене. Франции и французов Второй империи он тогда терпеть не мог и только после переселения в Париж, при Третьей республике, стал с ними сближаться. А тогда, то есть в 1868 году, им владели немецкие и отчасти английские симпатии.
Главное, скажу я теперь, глядя назад, в эту культурно-историческую перспективу, было то, что «заграница», как ныне выражаются, захватывала русских интеллигентов гораздо сильнее — и тем сильнее, чем они сами бывали образованнее на европейский лад.
И все-таки за границей Тургенев и при семье Виардо, и с приятельскими связями с немецкими писателями и художниками — жил одиноко. И около него не было и одной десятой той русской атмосферы, какая образовалась около него же в Париже к половине 70-х годов. Это достаточно теперь известно по переписке и воспоминаниям того периода, вплоть-до его смерти в августе 1883 года.
Я поехал из Бадена сначала в Швейцарию на конгресс «Мира и свободы», который должен был собраться в Берне. У меня была совершенно выясненная программа: после этого конгресса пожить в Мюнхене и остаться в Вене на весь зимний сезон. Ни в Мюнхене, ни в Вене я еще до того не бывал.
Эти конгрессы начались только с предыдущего года. Первый был в Женеве. На него я не попал. Они служили тогда как бы отдушинами от наполеоновского режима и сборным пунктом для представителей европейской эмиграции, в том числе и русской.
Почему-то Герцен не приехал на Бернский конгресс. Не приехал и В. Гюго. Но все-таки собралось немало эмигрантов. Из русских — Бакунин, Н. Утин, из немцев — Фохт (брат физиолога), из французов — Кине и несколько революционеров-социалистов. Явился и Г. Н. Вырубов, стоявший как позитивист в стороне от политических фракций и поборников русско-французского социализма.
Мир на этих конгрессах служил только предлогом, а главная гостья была свобода и пропаганда революционных идей, получивших тогда уже сильную политическую окраску даже и в группе Бакунина с его русскими последователями и с оттенком анархизма и коммунистической доктрины.
Во всяком случае, можно было ждать чего-нибудь интересного.
Мы с Вырубовым не примыкали ни к какой партийной группе. Но он принимал участие в конгрессе и активно произнес речь, а я был только слушатель. Нас, тогдашних позитивистов, было очень немного. Большинство делегатов принадлежало к материалистическому свободомыслию.
Для меня лично как для русского писателя занимательнее и крупнее других была фигура М. А. Бакунина. Я его в первый раз и увидал именно там.
О нем я и раньше слыхал рассказы лиц, лично его знававших, видал его портреты, и наружность его не могла меня поразить неожиданностью. Таким я себе и представлял его. Но «в натуре» он оказался еще крупнее размерами, еще махровее.
И какой это был архироссийский бытовой тип! Барин с головой протодьякона и даже не очень старого «владыки». Таких типичных лиц великорусского склада немного видал я и среди народа, и среди купечества. И за мужика и за купца вы могли бы издали принять его, если б он захотел выдать себя за того или другого. Но главное — барин, пошедший в бунтари и долго скитавшийся по Европе и до и после крепости, ссылки и бегства из Восточной Сибири через Японию.
Голоса такие, как у Бакунина, встречаются только среди русских: жирный басок, с раскатистой дикцией, легкой одышкой и чрезвычайно значительным и вкусным произношением отдельных слов на всех языках, какими он владел.
Бакунин обладал даром слова, как очень редкие русские, а из своих сверстников был, конечно, самый красноречивый. Про него Вырубов говаривал, что он по-итальянски мог произносить перед толпой громовые речи, а заказать как следует бифштекс — затруднился бы. Французские фразы он выговаривал, как истый русский барин 40-х годов, долго живший в Париже. По-латыни он совсем не знал и раз, сидя около нас в кафе, протянул к нам номер какой-то французской газеты и попросил перевести ему очень известное римское изречение. А сидел я рядом с Элизе Реклю, и тогда уже переходившим к анархизму, хотя еще более умеренному.
Около Бакунина и группировались, кроме русских (Утин с своей компанией) и поляков, французские увриеры (рабочие) революционно-коммунистического credo и интеллигенты из тогдашних самых крайних, вроде Жакляра, впоследствии долго жившего в России после участия в Коммуне 1871 года и бегства из Парижа, где он, конечно, был бы казнен.
Для Бакунина конгресс «Мира и свободы» был только предлогом для его анархо-революционной пропаганды. На одном из первых же заседаний (они происходили в городской ратуше) он произнес красивую и необычайно убежденную речь, где, говоря о том, что его отечество, Россия, уже приготовлено к социальной революции, своим зычным баском воскликнул:
— Таких, как я, там уже десятки тысяч!
Мы много смеялись над этой фразой и над иллюзией Михаила Александровича. Один из нас (не помню уже кто) Вырубов или я говорит ему:
— Михаил Александрович, помилосердствуйте! Не только десятков тысяч таких, как вы, не найдешь у нас, а даже и одного совсем такого, как вы!
Он добродушно рассмеялся, но все-таки продолжал верить, что тогдашняя Россия уже готова к взрыву революции, о какой он мечтал.
К нам — позитивистам — он относился с снисходительной шуткой, но не прощал нам нашего научно-положительного взгляда на эволюцию общества. Выводы социологии не были для него обязательны, и он к этой доктрине относился вроде того, как смотрел на нее и яснополянский вероучитель.
Сидели мы перед началом заседания рядом с Вырубовым, в коридоре, ведущем в зал. Проходит своей грузной и величавой поступью Михаил Александрович с кем-то из своих «подручных» и, указывая на нас жестом головы, басит:
— Вот сидят попы науки!
И мы не обижались. Иначе он и не мог смотреть на нас.
На съезд Бакунин привез и свою молодую жену, польку, на которой женился еще в Сибири, в ссылке. Возле него состояли поляки, и он везде и всегда являлся их бурным защитником.
Но, вне своей кучки, он не действовал на большинство съезда, где собрались далеко не однородные элементы. Вполне серьезного политического интереса такие чисто академические конгрессы иметь не могли. И среди иностранных делегатов были даже курьезные индивиды, вроде какого-то скандинавского майора или полковника, который бывал даже скандализован такими речами, как бакунинские, лопотал на смешном французском языке и упорно называл свое отечество, Норвегию, по-французски: «Norvegie» вместо «Norvege».
Из иностранцев самой крупной личностью был Кине. Но я не помню, чтобы он произвел сенсацию какой-нибудь речью. Он больше вызывал в толпе интерес своим прошлым как один из самых видных эмигрантов — врагов Бонапартова режима. Он был несомненный республиканец 1848 года, человек идей XVIII века, но гораздо больше демократ, чем сторонник социалистической доктрины.
В заседаниях конгресса, под общей фразеологией начал «Мира и свободы», и происходила более или менее затушеванная распря между политическим радикализмом и социализмом, вплоть до анархической пропаганды Бакунина. Около него и скучивалась самая крайняя группа из французов и русских.
Между русскими, как я уже сказал, адъютантом Бакунина состоял Николай Утин. Я помнил его еще из Петербурга, где видал в дни волнений в сентябре 1861 года. Он никогда мне не нравился. Его ум, бойкость, талантливость, знания, дар слова — все это покрывалось каким-то налетом великого самомнения, резкостью тона, манер и языка и давало всегда чувствовать его непомерное тщеславие и желание играть роль. Когда в 1868 году он уже пристал к бакунинской «вере», около него была всегда кучка русских барынь и барышень, из которых одна очень красивая, известная под именем «Сони» или «Соньки», — как потом оказалось, какая-то помещица, убежавшая от мужа или что-то в этом роде.
И в Берне, и на следующем конгрессе, в Базеле (где радикалы и социалисты еще больше разобщились) русская коммуна (или, как острили тогда и между русскими, «утинские жены») отличалась озорством жаргона, кличек, прозвищ и тона. Все это были «Иваны», «Соньки», «Машки» и «Грушки», а фамилий и имен с отчеством не употреблялось. Мне случилось раз ехать с ними в одном вагоне в Швейцарии, кажется, после одного из этих конгрессов. Они не только перекликались такими «уничижительными» именами, но нарочно при мне пускали такие фразы:
— Ты груши слопала все? — спрашивала Сонька Машку.
— Нет, еще ни одной не трескала.
Это был своего рода спорт «опрощения». И как они все тогда верили в своего идола Утина! А через несколько лет он сжег свои корабли и с легким сердцем превратился в инженера, выхлопотав себе возвращение без последствий в Россию, где и делал дальнейшую карьеру денежного воротилы. Судьба нас столкнула раз в театре, по пути в мужскую уборную, если не в самой уборной. Я его сейчас же узнал, да и он меня также, сделал как бы движение в мою сторону, желая подойти, но, должно быть, я так на него посмотрел, что он на это не решился.
Из всей молодой эмиграции, попавшей на конгресс, никто не выделялся. Это были или адъютанты Бакунина, поляки и русские, или же отдельные личности, попавшие сюда случайно или в качестве корреспондентов. Был и женский пол с порываниями к радикализму или смутному еще тогда «пролетарскому» credo.
Нашел я (уж не помню, в Берне или в Базеле, через год) и моего петербургского знакомого Чуйко, с которым мы долго жили в одно и то же время в Париже. Но он не выступал как оратор. Там сошелся он с той русской девушкой из старой дворянской семьи, которая впоследствии сделалась его женой, и я был свидетелем на их свадьбе в русской церкви, состоявшейся во время Франко-прусской войны в Женеве в ноябре 1870 года, куда я заехал по пути на юго-восток Франции. Чуйко был и тогда корреспондент и ездил к войску Гарибальди.
В публике тоже бывали и русские семейства, например, мать и сестра Графа Н. Вырубова. Сестра, еще молодая девушка, была менее смущена вольномыслием своего брата, чем их матушка Наталья Григорьевна — московская барыня с головы до пяток. Из конгресса в Базеле, бывшего в следующем году, я вряд ли вынес что-нибудь особенно стоящее более отчетливых воспоминаний. Русский персонал был почти тот же. Партийная борьба резче обозначилась и лишила заседание всякой творческой инициативы. Бакунинцы брали верх, но для мира и свободы ничего не могли сделать, будучи заядлыми анархистами.
Из съездов, бывших в последние годы Второй империи, самым содержательным и вещим для меня был конгресс недавно перед тем созданного по инициативе Карла Маркса Международного общества рабочих. Сам Маркс на него не явился — уже не знаю почему. Может быть, место действия — Брюссель — он тогда не считал вполне для себя безопасным.
Я присутствовал на всех заседаниях конгресса и посылал в «Голос» большие корреспонденции. Думается мне, что в нашей тогдашней подцензурной печати это были первые по времени появления отчеты о таком съезде, где в первый раз буржуазная Европа услыхала голос сознательного пролетариата, сплотившегося в союз с грозной задачей вступить в открытую борьбу с торжествующим пока капиталистическим строем культурного общества.
Париж последовательно вводил меня в круг идей и интересов, связанных с великой борьбой трудового человечества. Я не примыкал ни к какой партии или кружку, не делался приверженцем той или иной социалистической доктрины, и все-таки, когда я попал на заседание этого конгресса, я был наглядным, прямым воздействием того, что я уже видел и слышал, подготовлен к дальнейшему знакомству с миром рабочей массы, пробудившейся в лице своей интеллигенции от пассивного ярма к формулированию своих упований и запросов.
Главное ядро составляли тогда бельгийские и немецкие представители рабочих коопераций и кружков. В Брюсселе движение уже давно назревало. Немцы еще не были тогда тем, чем они стали позднее, после войны 1870 года. Трудно было и представить себе тогда, то есть в конце 60-х годов, что у них социал-демократическая партия так разовьется и даст через тридцать с небольшим лет чуть не сто депутатов в рейхстаг.
Тогда только даже и после речей некоторых пролетариев на конгрессах «Мира и свободы», мне привелось слушать настоящих мастеровых, произносящих не только сильные по фактам, но и блестящие речи. Какой-нибудь брюссельский портной, или печатник, или оружейник — говорили прекрасно, с заразительным пылом настоящих рабочих, а не просто агитаторов «из господ».
Речи произносились на всех языках. А журналисты, писавшие о заседаниях, были больше все французы и бельгийцы. Многие не знали ни по-немецки, ни по-английски. Мы сидели в двух ложах бенуара рядом, и мои коллеги то и дело обращались ко мне за переводом того, что говорили немцы и англичане, за что я был прозван «notre confrere poliglotte» (наш многоязычный собрат) тогдашним главным сотрудником «Independance Beige» Тардье, впоследствии редактором этой газеты.
Заседания происходили днем, в здании Фламандского театра, летом не играющего.
Никогда я не забуду речи того брюссельского наборщика, который, обращаясь к рабочим из Льежа, сказал им:
— Откажитесь делать ружья и пушки — и войне конец!
Фраза эта вызовет улыбку у поклонников бисмарковой проповеди «железа и крови», но отрадно было слышать и такие «наивные» призывы и чуять в проснувшемся пролетарском самосознании многое такое, что теперь уже реально существует, а тогда, в конце 60-х годов, считалось химерами.
Английские делегаты оказывались самыми буржуазными. Уже и тогда видно было, что «Trade Unions» будут стоять в стороне от социал-демократического движения.
И все мои отчеты с их сочувственным отношением к Международному Союзу рабочих печатались в осторожном и умеренном «Голосе», печатались без всяких выпусков, и я не помню, чтобы А. А. Краевский написал мне письмо с просьбою изменить тон или не вдаваться в подробности.
Кто поинтересуется — может найти эти отчеты в «Голосе». Как его заграничный сотрудник, я подписывался звериным числом: «666».
Путь мой в Вену, где я решил провести целый сезон, лежал на Мюнхен. «Немецкие Афины» давно меня интересовали. Еще в «Библиотеке для чтения» задолго до моего редакторства (кажется, я еще жил в Дерпте) я читал письма оттуда одного из первых тогдашних туристов-писателей — М. В. Авдеева, после того как он уже составил себе литературное имя своим «Тамариным». Петербургские, берлинские, парижские и лондонские собрания и музеи не сделались для меня предметом особенного культа, но все-таки мое художественное понимание и вкус в области искусства значительно развились.
В Мюнхене я нашел немецкую областную столицу, где благодаря дилетантству ее короля Людовика I все отзывалось как бы обязательным культом античного и нового искусства, начиная с ряда зданий и целых улиц.
Тогда еще не царил (Людовик II уже вступил на престол) Вагнер на тамошней оперной сцене, но это уже было незадолго до его сказочного возвышения, вызванного восторженным поклонением короля, не лишенным и еще кое-какой подкладки, как впоследствии было ясно из истории их отношений.
Мюнхен оказался по своей физиономии как раз таким, как я себе его представлял.
Старонемецкая архитектура и памятники творчества в живописи и ваянии, собранные в Национальном музее, не могли идти в сравнение с тем, что осталось в Нюрнберге, где я остановился по дороге из Швейцарии.
Там весь город — роскошный музей старонемецкого ваяния и зодчества, а Мюнхен, во всей своей «казовой» городской обстановке, — только собрание образцов разных стилей, начиная с греческой архитектуры. Все дышит, в сущности, аматерством короля, влюбленного в искусство, пожелавшего превратить свою резиденцию в «Афины», где вы находили бы модели всяких эпох: вот тут — Эллада, там — Рим, здесь — целый ряд домов в готическом стиле… И колоссальная статуя Баварии — такая же «postiche» (лишняя), такая же подделка под величавый, грандиозный античный стиль. Стоит она среди самого банального поля и не говорит вам ни о каких славных делах баварской родины.
Оба музея, «Пинакотек» и «Гликтотек», такие же подделки под прославленные образцы. После петербургского Эрмитажа, парижского Лувра и лондонского Музея все это не могло уже ни поражать, ни восхищать. Даже и подлинные картины великих иностранных мастеров не могли затмевать те полотна, которые вы видели в Петербурге, Париже, Лондоне. Но здесь вы находили, правда, свою немецкую школу. Король-меценат сделал очень много для поощрения художников в виде посылок в Италию и денежных пособий.
Дело художественного образования привилось в Мюнхене более, чем где-либо в Германии, и к концу XIX века Мюнхен сделался центром новейшего немецкого модернизма. И вообще теперешний Мюнхен (я попадал в него и позднее, и последний раз не дальше как летом 1908 и 1910 годов) стал гораздо богаче творческими силами, выработал в себе очень своеобразную жизнь не только немецкой, но и международной молодежи, стекающейся туда для работы и учения.
Тогда городская жизнь текла тихо и носила на себе провинциальный оттенок, особенно для того, кто приезжал туда после нескольких зим Парижа и целого лондонского сезона.
Моим чичероне оказался один немчик, с которым мы в Париже состояли членами кружка любителей природы, сын мюнхенского придворного каретника, любознательный молодой малый, сумевший сочетать свою специальность с интересом к ботанике и геологии. Он меня ввел в свое типичное семейство, где все дышало патриархальной степенностью, и каждый день в известные часы водил меня по городу, рассказывая мне все время местные анекдоты, восходившие до эпохи, когда знаменитая Лола Монтес, сделавшись возлюбленной короля Людовика I, скандализовала мюнхенцев своими выходками фаворитки.
Королевский театр стоял и тогда выше Берлинского, но лишен еще был той физиономии, какую придал ему позднее вагнеризм. А драматическая труппа держалась обыкновенных тогда традиций немецкого тона при исполнении репертуара своих классиков; Лессинга, Шиллера, Гете, Геббеля, Грильпарцера и более новых авторов — Гуцкова, Фрейтага и царившего еще тогда легкого поставщика Родрига Бенедикса.
Моя драматическая жилка опять заиграла в Германии, и я ехал в Вену с желанием изучить тамошнее театральное дело так же усердно, как я это делал для Парижа. И мой добродушный каретник-натуралист свел меня с театральным агентом, владетелем бюро, от которого я и получил много указаний, особенно насчет венского Burg-Theater, который тогда стоял всего выше под управлением одного из могикан романтической эпохи — Лаубе, сверстника Гуцкова, еще высоко стоявшего и как драматург, с репутацией самого даровитого и авторитетного «артистического» директора.
Мюнхен служил самым лучшим преддверием к Вене.
О Вене я, как и многие мои сверстники, еще не побывавшие там, имел, конечно, некоторое представление, и даже кое в чем довольно живое, но меньшее, чем, например, о Париже, когда ехал во Францию впервые в 1865 году.
И тут была осень, совсем почти в те же числа русского сентября, но уже не 65-го, а 68-го года.
Все, что удавалось до того и читать и слышать о старой столице Австрии, относилось больше к ее бытовой жизни. Всякий из нас повторял, что этот веселый, привольный город — город вальсов, когда-то Лайнера и старика Штрауса, а теперь его сына Иоганна, которого мне уже лично приводилось видеть и слышать не только в Павловске, но и в Лондоне, как раз перед моим отъездом оттуда, в августе 1868 года.
Прежний, строго консервативный, монархический режим, отзывавшийся временами Меттерниха, уже канул. После войны 1866 года империя Габсбургов радикально изменила свое обличье, сделалась дуалистическим государством, дала «мятежной» Венгрии права самостоятельного королевства, завела и у себя, в Цизлейтании, конституционные порядки. Стало быть, иностранец уже не должен был бояться, что он будет более стеснен в своей жизни, чем даже и в Париже Второй империи.
Меня всего больше тянул в Вену ее сценический мир. Тогда мой интерес к этой сфере искусства (после почти трехлетнего знакомства с театральным Парижем и целого лондонского сезона) вошел в еще более содержательный период. С венским Burg-Theater я был знаком еще только понаслышке и знал, что эта лучшая немецкая сцена даст мне богатый материал для проведения параллели между нею и «Французской комедией». Я знал, что Бург-театр находился тогда под управлением Лаубе, драматурга и беллетриста, считавшегося первым знатоком театра, одним из «могикан» германского литературного движения 40-х годов, сверстника Гуцкова, к тому времени уже составившего специальную историю Бург-театра.
В Вене, кроме интересного театрального мира, я рассчитывал ознакомиться и с «братьями славянами», хотя и не был никогда славянофилом. Да и вообще разноязычный и разноплеменный состав населения дуалистической империи представлял собою нечто своеобразное. А главный народный кряж Вены — немецкие австрияки — выработал в столице на Дунае характерный городской быт, скорее привлекательный по своей бойкости, добродушию, любви к удовольствиям, к музыке, к тому, что мы уже тогда на нашем литературном жаргоне называли «прожиганием» жизни.
Народ создал и свой особый диалект, на котором венцы и до сих пор распевают свои песни и пишут пьесы. Тогда же был и расцвет легкой драматической музыки, оперетки, перенесенной из Парижа, но получившей там в исполнении свой особый пошиб. Там же давно, уже с конца XVIII века, создавался и театр жанрового, местного репертуара, и та форма водевиля, которая начала называться «Posse».
Париж (хотя он тогда мне еще не приелся) уже утомил меня немного, и хотелось чего-нибудь более привольного, простого, не так пресыщенного парижской бульварной сутолокой. И выезд в Вену в светлый и теплый октябрьский (по новому стилю) день сразу дал мне верную и привлекательную ноту этой весело-привольной столицы. Вы попадаете на Ring с его садами и красивыми зданиями, и вас охватывает чувство приволья и простора, какого не найдете и в Париже, за исключением его Champs Elysees. Сразу чувствуешь себя и после Парижа совсем по-другому, и захочется пожить здесь подольше, чтобы войти во все элементы венского быта, от высших до самых заурядных.
Привлекательной стороной Вены была и ее дешевизна, особенно при тогдашнем, очень хорошем русском денежном курсе. Очень легко было устроиться и недорого и удобно. Моим чичероне стал корреспондент «Голоса», впоследствии сделавшийся одним из главных сотрудников «Нового времени», тогда юный московский немчик. Он сильно перебивался и вскоре уехал в Петербург, где из «Голоса» перешел в «Петербургские ведомости», уже позднее, когда я вернулся в Петербург в январе 1871 года и продолжал писать у В. Ф. Корша.
Тогда можно было в Вене иметь квартиру в две комнаты в центре города за какие-нибудь двадцать гульденов, что на русские деньги не составляло и полных пятнадцати рублей. И вся программа венской жизни приезжего писателя, желающего изучать город и для себя самого, и как газетный корреспондент, складывалась легко, удобно, не требуя никаких особенных усилий, хлопот, рекомендаций.
Знание немецкого языка облегчало всякие сношения. Я мог сразу всем пользоваться вполне: и заседаниями рейхсрата (не очень, впрочем, занимательными после французской Палаты), и театрами, и разговорами во всех публичных местах, и знаменитостями в разных сферах, начиная с «братьев славян», с которыми ведь тоже приходилось объясняться на «междуславянском» диалекте, то есть по-немецки же.
Венский день, думается мне, и теперь, по прошествии целых сорока лет, проходит для всякого венца все так же. Жизнь начинается рано, раньше, чем в Париже, по улицам и в кафе. В 8 часов утра вы могли в кофейных иметь уже мороженое! Обедает Вена, как и вся почти Германия, от двенадцати до часу дня, потом начинается после работы в канцеляриях и конторах сиденье по кафе, чтение газет, прогулка по Рингу, с четырех часов — Promenade concert (концерты для гуляющих) в разных садовых залах, и зимой и летом. Театры теперь открываются поздно, а тогда уже с 7 и даже с 6 с половиной часов, например в Бург-театре, когда давали шекспировские хроники и самые длинные драмы немецкого репертуара. От 9 до 10 часов Вена ужинает по ресторанам и пивным, а позднее отправляется на публичные балы и маскарады, во время «фашинга», то есть венского карнавала.
Один из своих тогдашних фельетонов я и посвятил описанию того, как истый венец проводит свой день, когда фашинг в разгаре, да и во всякое время года.
Это самое легкое и заразное «прожигание» жизни, какое только можно себе вообразить. В Париже одни завзятые вивёры, живущие на ренту, проводят весь день в ничегонеделанье, а в Вене и деловой народ много-много — часа четыре, с 9 часов до обеда, уделяет труду, а остальное время на «прожигание» жизни.
Венец, хоть и немецкой расы, но не такой, как берлинец и даже мюнхенец. Он — австрияк, с другим темпераментом, с девизом «Wein, Weib und Gesang» (вино, женщина и песня). Да в его крови есть и всякие примеси, а в постоянном населении Вены — огромный процент славян (чехов до ста тысяч), венгерцев и тирольских итальянцев. Все здесь отзывается уже югом — и местный диалект, и разговор, и удовольствия, и еда, и характер безделья, и вся физиономия не только уличной жизни, но и домашнего побыта.
Пока вам Вена не «приестся» — а это непременно наступит рано или поздно, — вы будете себя чувствовать в ней так беззаботно и удобно, как нигде, несмотря на то, что климат ее зимой не из самых мягких. Зато осень и весна всегда почти ясные и теплые и позволяют не менее, чем в Париже, жить на воздухе.
Фланирование по улицам, бульварам, садам, гуляньям в Пратере — сравнительно с парижским — благодушнее, пестрее типами и туалетами, со множеством видных, свежих женщин, тех «susse Madels» (милых девиц), которые до сих пор еще играют роль в венской беллетристике, в романах и жанровых пьесах. Вена — самый женолюбивый город европейского юга, и например, Рим, если его сравнить с нею, окажется во много раз если не целомудреннее, то суше, сдержаннее. В Риме уличная кокотка совсем не бросается в глаза, а в Вене все женщины кажутся более или менее «галантными». Но этот эротизм не имеет такого оттенка, как в Париже. Тут все проще, естественнее. Молодость, кровь, тело, еда и питье вызывают инстинкты, а не извращение фантазии, не смакование разных пикантных пакостей. Это вы находите даже и в светских сферах, и среди тамошней интеллигенции, и в артистическом мире.
Теперь, в XX веке, веселящаяся Вена стала втрое и вчетверо дороже. Даже русские, привыкшие тратить, и те жалуются на дороговизну жизни туриста по венским отелям.
Тогда, сорок лет назад, даже в развале фашинга если вы положили себе с утра бумажку в десять гульденов (то есть нынешние двадцать крон), то вы могли провести целый день, до поздних часов ночи, проделав весь цикл венских удовольствий, с обедом, ужином, кофе и разными напитками и прохладительными. Очень сносный обед стоил тогда всего один гульден, а кресло в Бург-театре — два и maximum три гульдена. И на русские деньги ваш день (вместе с квартирой) обходился, значит, каких-нибудь 6–7 рублей.
Хорошая и доступная музыка входила сейчас же в ваш обиход, совсем не так, как в тогдашнем Париже. И легкий жанр сценической музыки Вена создала еще до того, как Париж пустил в ход оффенбаховскую оперетку.
Венская «Posse» процветала уже с 40-х годов. Имя Нестроя было там так же популярно, как во Франции 40-х годов имя Скриба. Этот актер-директор оставил целый репертуар водевилей, которые и в конце 60-х годов все еще давались в жанровых театрах, где давали и Оффенбаха лучше, чем где-либо, кроме Парижа, по вокальному исполнению и по блеску обстановки — даже и лучше Парижа. У венцев была и своя Шнейдер, Мария Гейхритер (и соперница ее Гальмайер) — великолепная Елена. И целый ассортимент комиков и опереточных певцов с тенором Свобода во главе, тем самым, который, перейдя в драму, играл и в Петербурге на казенной немецкой сцене.
Нигде в Европе не было братьев Штраус — этих истых детей Вены, сыновей старшего Иоганна Штрауса, сделавшего вместе с своим соперником Лайнером из вальса самую типичную форму легкой музыки, с оригинальной, народно-австрийской печатью.
И отцы Штрауса и Лайнера были в свою молодость просто скрипачи, игравшие в маленьких оркестрах, в ресторанах и пивных. Старший из них — Иоганн — тогда, в конце 60-х годов, был уже на верху славы как виртуоз и композитор вальсов, но опереточной, такой же блестящей, карьеры еще не начинал. Он сам уже редко появлялся на «Promenade» как дирижер, уступая свой смычок братьям своим Иосифу и Эдуарду, которого и тогда уже венки звали «Эди». Они каждую неделю, в послеобеденные часы, играли то в Stadt-Park'e (городском парке), то в Volks-Garten'e (народном саду), в концертных залах.
Иосиф, с несколько хмурым, энергичным лицом и жесткой фигурой не пленял женщин, но считался очень талантливым, особенно как композитор.
— Гений зала! — повторяли венцы и венки, говоря о нем.
Эди, подзавитой, с усиками в ниточку, вертлявый и изысканно франтоватый, подпрыгивал, играя свои вальсы и польки, сортом гораздо хуже композиций своих старших братьев. Но это была одна из типичнейших фигур веселой Вены, в данный момент больше даже, чем его брат Иоганн. Между его польками и вальсами, его подпрыгиваньем, усами в ниточку и белыми панталонами при фраке (в летний сезон) и веселящейся Веной вообще — была коренная связь.
В этой веселящейся Вене состояли как бы на равных правах и оперетка, и даже такие театры, как «Ander Wien» и «Karl-Theater», и театр в Josephenstrasse, и Promenade-концерты, и все увеселения в Пратере, тогда, в сентябре, бывшие еще в полном ходу.
Такого всенародного гулянья нигде и до сих пор нет, начиная с Парижа. Это гулянье в таком именно смысле, как понимает это наш народ, всего до отвалу, — и «комеди», и музыки, и пивных, и ресторанов, и каруселей, и зверинцев, и панорам. В Пратере вы чувствуете всего ярче народную почву венской музыкальности, слушая его дешевых певцов и певиц и такие же дешевые банды всякого рода музыкантов. И тот Фюрст-театр, который тогда составлял центральное место веселящегося Пратера, играл исключительно бытовой репертуар на местном диалекте. Сразу даже и порядочно говорящим по-немецки иностранцам нелегко все быстро схватывать и понимать. Но к концу сезона я уже стал хорошо понимать и диалект этих незатейливых демократических комедий, и «Posse», и жаргон извозчиков, прачек, лондинеров (поденщиков) и всех истых венцев. Диалектом ведь отшибает и говор образованных людей. Даже и эрцгерцоги любят щегольнуть диалектом.
Актер Фюрст, создатель театра в Пратере, был в ту пору еще свежий мужчина, с простонародной внешностью бюргера из мужиков, кажется, с одним вставным фарфоровым глазом, плотный, тяжелый, довольно однообразный, но владеющий душой своей публики и в диалоге, и в том, как он пел куплеты и песенки в тирольском вкусе. В нем давал себя знать австрийский народный кряж, с теми бытовыми штрихами, какие дает венская жизнь мелкого бюргерства, особенно в демократических кварталах города.
Чего-нибудь в таком роде по игре и репертуару не создала до сих пор ни одна из европейских столиц, не исключая и Парижа. Только в Италии не переводились народные театры и репертуар на местных диалектах — венецианском, ломбардском, пьемонтском, неаполитанском. Они не только не падают, а теперь, в начале XX века, добиваются даже всемирной известности, как те сицилийские труппы с их capi-comici (директорами комических театров), которые доезжают даже до наших столиц.
При такой любви венцев к зрелищам ничего не было удивительного в том, что в этой столице с немецким языком и народностью создалась образцовая общенемецкая сцена — Бург-театр, достигшая тогда, в конце 60-х годов, апогея своего художественного развития.
Руководитель Бург-театра Генрих Лаубе считался первым знатоком сцены. И он действительно создал труппу к 60-м годам, какой нигде в Германии не было. Ему удалось найти несколько молодых талантов, таких, как трагическая актриса Вальтер, Зонненталь на амплуа героев, Ленинский на сильные характерные роли. В его директорство укрепился и культ шекспировского репертуара. Это было и при другом директоре, Дингельштедте. Лаубе вскоре ушел после какого-то крупного столкновения с придворным интендантством и сделался директором нового частного драматического театра в Вене, побывал и в директорах лейпцигского театра.
Его уход был огромная потеря для этой первой немецкой сцены. Кто читал его книгу, посвященную истории Бург-театра, тот знает, сколько он вложил любви, энергии, знаний и уменья в жизнь его. Характером он отличался стойким, крутоватым; но труппа все-таки любила его и безусловно подчинялась его непререкаемому авторитету.
Его руководительство резко отличалось от той системы исполнения, которая добилась у нас такого успеха в Московском Художественном театре. Для Лаубе выше всего стояла правда создания лица, дикция, тон и жестикуляция. Остальное: постановка в тесном смысле, тонкости сценировки, декоративный импрессионизм, а главное — подчинение отдельных исполнителей (как бы они ни были даровиты) режиссерской феруле. Все для него сводилось к тому, как разыгран был диалог, сколько в тоне и дикции актер или актриса вложили понимания, правды, благозвучия.
Пьесы из современной жизни шли в обстановке только приличной, но без всех тех бесконечных деталей, которыми жрецы нового искусства желают вызывать в публике ряд психических «настроений». Поэтому теперешние модернисты сценического дела нашли бы подобное ведение дела отсталым, слишком голым, сведенным к словесному выполнению ролей. Но это был — по тому времени — несомненный реализм на подкладке хорошего литературного понимания. Таких же традиций держался тогда и наш образцовый Малый театр, где также не блистали тонкостями постановки и режиссерской «муштры», но где умели исполнять прекрасно и «Горе от ума», и «Ревизора», и весь репертуар Островского.
В стихотворной трагедии и драме Лаубе при всем своем реализме не мог все-таки освободить своих исполнителей от декламаторско-певучего тона немецких актеров. Эта немецкая манера держалась и в общем тоне исполнения шекспировских вещей, но все-таки с большей простотой, чем декламация парижских актеров «Comedie Francaise» в драмах Корнеля и Расина.
Шекспиром я и хотел прежде всего насытиться в Бург-театре. И мне случалось там (в оба моих зимних сезона в 1868–1869 и 1870 годах) попадать на такие серии шекспировских пьес, какие не давались тогда нигде — ни в Мюнхене, ни в Берлине, и всего менее в Лондоне и вообще в Англии. Где же, кроме тогдашней Вены, могли вы ходить на цикл шекспировских хроник, дававшихся восемь дней кряду? Для такого друга театра, каким был я, это являлось настоящим объедением.
И как гигиенично и удобно давали такие спектакли! Некоторые шекспировские вечера начинались в шесть и даже в половине шестого. И вообще для пятиактных драм и комедий держались правила начинать спектакли в половине седьмого. И к десяти с небольшим кончали самую обширную шекспировскую хронику, и все отправлялись ужинать. Так когда-то давали спектакли в Париже в XVIII веке: начинали еще раньше, к 5 часам пополудни, и кончали к десяти.
Первые шесть недель моего венского сезона я едва ли не каждый вечер ходил в Бург-театр.
На оценку новейших «модернистов» режиссерского искусства постановка Шекспира (с его хрониками включительно) не представляла никаких «откровений», и теперь все это считалось бы заурядным, но тогда, повторяю, Шекспира нигде так не обставляли, как в Вене. Важно было то, что дирекция первой по тому времени немецкой сцены так высоко ставила литературную сторону театра — и всемирного и германского. Культ Шекспира в Бург-театре прямо отвечал тому культу британского творца, каким проникнута была критика в лице Гервинуса и других специалистов по Шекспиру. Такой культ существовал только в «Comedie Francaise», но исключительно к корифеям своего классического репертуара.
Старый Бург-театр помещался в самом Burg'e, то есть в дворцовом здании. Зала была узковатая, в виде продолговатого ящика, с тесным партером и тремя ярусами лож, кроме бенуаров, таких же низких, как в Московском Малом. Проникали в него под своды одного из дворцовых подъездов, через тесные коридоры. Все носило на себе еще отпечаток XVIII века. Ничего похожего на великолепное здание и внутреннюю отделку теперешнего Бург-театра, который тогда только что был распланирован на том месте, где он красуется. Сцена была скромных размеров, что не мешало все-таки давать столько пьес в пышной постановке.
Но публика не была так избалована, как теперь. Она состояла из самых отборных слоев столицы и держала себя чинно. Почти каждый вечер в придворной ложе сидел какой-нибудь эрцгерцог. Император появлялся редко. Цены кресел (даже и повышенные) составляли каких-нибудь 50–60 % нынешних. Офицеры и студенты пользовались дешевыми местами стоячего партера, позади кресел.
Настоящей любимицей была Вальтер, на которой держался классический репертуар. Как «герой», Зонненталь, получивший впоследствии дворянство, был в расцвете сил. Соперником его на сильные характерные роли считался Левинский, а первым комиком состоял Ларош, очень тонкий актер старой школы, напоминавший мне игру И. П. Сосницкого. Из молодых актрис ни одна не выделялась крупным талантом, а актер Баумейстер, позднее сделавшийся «первым сюжетом» труппы, тогда считался только «хорошей полезностью».
Рядом с Шекспиром можно было в один сезон видеть решительно все вещи немецкого классического репертуара — от Лессинга до Геббеля. Только в Вене я увидал гетевского «Геца фон Берлихингена» — эту первую более художественную попытку немецкой сцены в шекспировском театре, сыгравшую такую же роль, как наш «Борис Годунов», также продукт поклонения Пушкина великому Уильяму.
И в течение всего сезона я изучал венский сценический мир все с тем же приподнятым интересом. Позднее (во второе мое венское житье) я ознакомился и с преподаванием декламации, в лице известного профессора Стракоша, приезжавшего для публичных чтений немецких стихотворных пьес и в Россию.
Правительственной драматической школы не было в столице Австрии. Но в консерватории Общества друзей музыки (куда одно время наш Антон Рубинштейн был приглашен директором) уже существовал отдел декламации. Я посещал уроки Стракоша. Он считался образцовым чтецом, но стоял по таланту и манере гораздо ниже таких актеров-профессоров Парижской консерватории моего времени, как Сансон, Ренье, Брессан, а впоследствии знаменитый jeune premier классической французской комедии — Делоне.
И Стракош, и другие знатоки декламации и дикции немецкой школы держались все-таки условного тона, особенно в пьесах «героического» репертуара, в стихотворных драмах и комедиях — с певучестью и постоянным попиранием на отдельные слова, возгласы и даже целые тирады. Это чувство усилия и внешней «подвинченности» до сих пор портит немецкую «читку», как выражаются у нас актеры. Только в комедии читка у них и тогда была проще, а в Бург-театре тон «высокой комедии» был хороший, мало уступавший манере вести диалог на лучших парижских сценах.
На жанровых венских сценах, где шли легкие комедии и Posse местного производства, в «Theater ander Wien», в «Karl-Theater» и в театре Иозефштадтского предместья (где шли постоянно и пьесы на венском диалекте) преобладал реализм исполнения, но все-таки с рутинными приемами и повадками низшего, фарсового комизма.
Среди таких комиков легкого жанра некоторые отличались своей веселостью, прирожденным комизмом и всегдашним уменьем приводить залу в жизнерадостное настроение. Огромной популярностью пользовался многие годы комик-буфф Блазель (по венскому прононсу Блёзель), особенно в пьесах из венской жизни, где он говорил на диалекте.
Литературные сферы Вены специально не привлекали меня после Парижа. И с газетным миром я познакомился уже позднее, в зиму 1869 года, через двоих видных сотрудников «Tagblatt'a» и «Neue Freie Presses». А в первый мой сезон (с октября 1868 года по апрель 1869) я не искал особенно писательских связей.
Вышло это оттого, что Вена в те годы была совсем не город крупных и оригинальных дарований, и ее умственная жизнь сводилась, главным образом, к театру, музыке, легким удовольствиям, газетной прессе и легкой беллетристике весьма не первосортного достоинства. Те венские писатели, которые приподняли австрийскую беллетристику к концу XIX века, были тогда еще детьми. Ни один романист не получил имени за пределами Австрии. Не чувствовалось никаких новых течений, хотя бы и в декадентском духе.
На всех лежала печать посредственности, за исключением, быть может, некоторых тогда еще только начинавших лирических стихотворцев.
Национальной, чисто австрийской славой жил престарелый Грильпарцер. Его пьесы не сходили с подмостков Бург-театра (вроде «Des Meeres und der Liebe Wellen») («Геро и Леандр») с Вальтер в роли Геро. Но он уже доживал свой век, нигде не показывался и принадлежал уже больше к царству теней, чем к действующим писателям.
Драматург (и отчасти беллетрист) Вильдебрандт — не знаю, был ли австриец родом. Он тогда был в расцвете своих сил, ставил пьесы на Бург-театре (и женат был на молодой актрисе этой сцены), но не представлял собою особенно крупной творческо-художественной величины.
Да и вообще тогда не было в Вене никаких центров чисто литературного движения. Поразительно бедной являлась столичная жизнь по части публичных чтений, литературных conferences, писательских вечеров, фестивалов или публичных заседаний литературного оттенка.
Печать «легкости» лежала на всей интеллигентной Вене. И даже как-то плохо верилось, что в этом самом городе есть старый университет, процветает блестящая Медицинская школа, куда приезжают учиться отовсюду — и из Германии, и из России, и из Америки.
В университет я заглядывал на некоторых профессоров. Но студенчество (не так, как в последние годы) держало себя тихо и, к чести тогдашних поколений, не срамило себя взрывами нетерпимого расового ненавистничества. Университет и академические сферы совсем не проявляли себя в общем ходе столичной жизни, гораздо меньше, чем в Париже, чем даже в Москве в конце 60-х годов.
Жуирный, вивёрский склад венской культурной публики не выказывал никаких высших потребностей ни по философским вопросам, ни по религиозным, ни по эстетическим, ни по научным. По всем этим сферам мысли, работы и творчества значились профессора и разные специалисты. Но их надо было отыскивать. Они составляли особый мирок, который совсем почти не влиял на общее течение столичной культурности, на вкусы и увлечения большой публики.
Газеты и тогда уже входили в жизнь венца как ежедневная пища, выходя по несколько раз в день. Кофейни в известные часы набиты были газетной публикой. Но и в прессе вы не находили блеска парижских хроникеров, художественной беллетристики местного происхождения, ничего такого, что выходило бы за пределы Австрийской империи с ее вседневной политиканской возней разных народностей, плохо склеенных под скипетром Габсбургов.
И в венских газетах уже и тогда развилась — до степени махровой специальности — сексуальная и порнографическая публичность: обычай читать целые столбцы и страницы объявлений не только по части брачных предложений, но со всевозможными видами любовной корреспонденции и прямо публичной и тайной проституции, продажности не только со стороны женщин, но и от разных «кавалеров». Это проникло и к нам, но только тридцать лет спустя. И каждый венец за утренним и вечерним кофе накидывается и до сих пор на эти специфические объявления, письма и предложения. Без них ему никакая газета не будет «всласть». Поэтому ни в какой столице мира (не исключая и Парижа) не происходит такой беспрерывной и несмолкаемой игры в забавные похождения и всякие формы эротизма, половой распущенности и торговли своим грешным телом — и вовсе не в одной сфере проституции, а во всех классах общества.
Венский фашинг того времени еще полон был чувственной жизненности и всяких позывов к развеселому житью, которые совсем не притихли всего каких-нибудь два года после разгрома Австрии на полях Садовой. Об этом что-то никто не тужил. Империя сделалась дуалистической, и когда-то крамольные венгерцы теперь как бы спасали империю той ролью, какую они стали играть.
Венцы и венки справляли фашинг по балам, маскарадам и Promenade концертам — тогда еще настоящее венское удовольствие, неизвестное ни в Берлине, ни в Париже, дешевое и очень приятное. Кроме военных хоров, играл оркестр Штрауса. Все трое братьев были еще тогда живы. Иоганн уже перешел от сочинений вальсов к оперетке; а Иосиф и Эди (Эдуард) попеременно выступали капельмейстерами в разных залах, не с одной только палочкой, но и со скрипками. Иосиф был очень талантлив как композитор бальной музыки и скрипач, но его хмурое лицо не могло очень весело настраивать залу. Зато Эди, менее даровитый и как композитор, и как скрипач, постоянно подпрыгивал под такт, франтоватый, подзавитой и с усиками в ниточку.
Легкость нравов во время фашинга делалась еще откровеннее, но все-таки на публичных балах и в маскарадах вы не видали такого сухого цинизма, как в тогдашнем Париже, — даже и в знаменитом заведений Шперля с его ежедневными объявлениями в «Tagblatt'e», где неизменно говорилось, что у Шперля балы более чем хороши и что каждый иностранец идет к Шперлю. И в самом деле, каждый приезжий мужчина, холостой или женатый, после театра отправлялся в этот общедоступный притон (если посмотреть построже) и кутил там до зари.
В Вене тип кокотки высшей марки еще не создавался, зато легких женщин всяких рангов и цен, начиная с кельнерши и гувернантки и кончая певичками и танцовщицами, город был полон. Да и в бюргерстве, в мелком чиновничестве и даже в светском кругу доступность женщин была и тогда такая же, как и теперь, в начале XX века.
В дворцовых залах, известных под именем «Reduten-Sale», в фашинг давались маскарады высшего сорта. Тут эрцгерцоги, дипломаты, генералы, министры смешивались с толпой масок. Это напоминало петербургские маскарады моей первой молодости в Большом театре и в Купеческом клубе — в том доме, где теперь Учетный банк.
Там можно было видеть веселого старика с наружностью отставного унтера, в черном сюртуке — дядю императора, окруженного всегда разноцветными домино. Тут же прохаживался с маской под руку и тогдашний первый министр Бейст, взятый на австрийскую службу из Саксонии — для водворения равновесия в потрясенной монархии Габсбургов.
Мой венский сезон не прошел для меня и без экскурсий в мир университетской науки, больше через посредство русских молодых людей — медиков и натуралистов.
Интересовала меня и славянская молодежь. Ко мне ходил и давал мне уроки языка один чех с немецкой фамилией, от которого я узнал много о том, что делается в Чехии и других славянских странах, особенно в Далмации. С далматинцами он много водился и, так же как и они, свободно говорил по-итальянски. Другой чешский патриот, званием фармацевт, был страстный поклонник России и стремился в Петербург слушать лекции Драгомирова, тогда профессора Военной академии, с целью усовершенствовать себя в теории «уличной войны». Но революционера из него не вышло. Да и вообще тогдашнее славянское движение, как и впоследствии, не имело нашего подпольного характера.
В славянофилах я никогда не состоял. Не увлекался никогда и идеей панславизма, но охотно пошел на приглашение студентов общества галицийских русских «Основа» — иметь у них беседы о русской литературе.
Это были в большинстве сторонники того направления, которого держалась тогдашняя консервативно-русофильская пресса. Но и среди них уже назревало нечто более народническое, однако без крайних украинофильских мечтаний. Говорили и писали эти молодые люди на том смешанном и смешноватом семинарско-российском диалекте, какого и до сих пор, вероятно, держатся в Галиции консервативные русины.
Это слово «Russin» и «Russinischer» создано было австрийским правительством, и официально «Основа» именовалась «Russinischer Grundstein».
И эти полухохлы и другие братья славяне из бедных студентов по необходимости льнули к тому очагу русского воздействия, который представлял собою дом тогдашнего настоятеля посольской церкви, протоиерея Раевского.
Этот радетель славяно-русского дела был типичный образец заграничного батюшки, который сумел очень ловко поставить свой дом центром русского воздействия под шумок на братьев славян, нуждавшихся во всякого рода — правда, очень некрупных — подачках. У него каждую неделю были и утренние приемы, после обедни, и вечерние. Там можно было всегда встретить и заезжих университетских молодых людей, и славянскую молодежь.
Мне лично гораздо симпатичнее был псаломщик посольской церкви, некий В., от которого я много наслышался о политике отца протоиерея. Псаломщик этот, бывший учитель, порывался все назад в Россию. Его возмущало то, что он видел фальшивого и самодурного в натуре и поведении своего духовного принципала. В моих «Дельцах» есть лицо, похожее на личность и судьбу этого псаломщика. Он кончил, кажется, очень печально, но как именно — в точности не припомню.
Из русских, с какими я чаще встречался, двое уже покойники: нижегородец из купцов У., занимавшийся тогда изучением микроскопической анатомии. Он впоследствии получил кафедру и умер после долгой душевной болезни. Позднее я с ним встречался в Берлине.
Кажется, через него или через протоиерея Раевского, познакомился я с заезжим отставным кавалеристом, князем Е-товым, балетоманом и любителем театра, тогда еще богатым помещиком. Он приехал в Вену лечиться и привез с собою, как бы в качестве домашнего врача, молодого, очень красивого малого, только что кончившего курс в Москве и игравшего приятно на виолончели. Этот виолончелист-терапевт сделался впоследствии одним из ассистентов Захарьина и сам сделался профессором терапевтической клиники и доживает теперь в звании московской медицинской знаменитости.
Славянские студенты дали в конце сезона большой вечер с речами. Меня просили говорить, и это была единственная во всю мою жизнь немецкая речь. А немецкий язык и тут сослужил роль междуславянского языка.
Хотя я с детства говорил по-немецки, в Дерпте учился и сдавал экзамен на этом языке, много переводил — и все-таки никогда ничего не писал и не печатал по-немецки. Моя речь появилась в каком-то венском листке. В ней я — с австрийской точки — высказывался достаточно смело, но полицейский комиссар, сидевший тут, ни меня, никаких других ораторов не останавливал.
Вообще особо строгого полицейского надзора мы, русские, не чувствовали. Всего раз, да и то в мой следующий приезд, меня пригласили к комиссару, и он, весьма добродушно и как бы конфузясь, спрашивал меня, чем я занимаюсь и долго ли намерен пробыть в Вене. Тем это и покончилось.
В Чехии готовились к трехсотлетней годовщине Яна Гуса.
Мне представлялся очень удачный случай побывать еще раз в Праге — в первый раз я был там также, и я, перед возвращением в Париж, поехал на эти празднества и писал о них в те газеты, куда продолжал корреспондировать. Туда же отправлялся и П. И. Вейнберг. Я его не видал с Петербурга, с 1865 года. Он уже успел тем временем опять «всплыть» и получить место профессора русской литературы в Варшавском университете.
Прагу нашел я в это время года очень оживленной, с тем налетом старины, которую чувствуешь в Москве, но гораздо культурнее и благоустроеннее. По случаю национальных празднеств — и большой съезд, вся чешская интеллигенция была в сборе. Нас, русских, очень услаждали, и нас с князем Е. (тем самым, который сошелся со мною в Вене) поместили в доме какой-то чешской титулованной барыни. Перезнакомился я с группой тогдашних «младочехов» и их главным штабом — редакцией «Narodi Listy», с братьями Грейер и с другими патриотами и ораторами на всех тогдашних сборищах и рефератах.
Был я с визитом и у знаменитого Палацкого и нашел его по языку и тону и всему обличью — немецким филистером. От него я услыхал замечание насчет туранской (чужеродной) примеси к великорусскому племени.
— Оттого, — сказал он, — у вас в словах, как трт (торт), вран, врата и других, вставлена везде гласная «о».
В женском клубе, на торжествах в замке Софийского острова, на парадном спектакле, где композитор Сметана сам дирижировал своей оперой «Проданная невеста», — всюду нам, русским, оказывали большое внимание. В редакции «Народных листов» меня все просили пустить в ход в моих корреспонденциях мысль: как хорошо было бы для сближения с Россией организовать поездку в Прагу нашей оперной и даже балетной труппы. Мысль о балете показалась странной редакции той русской газеты, куда я писал. А сорок лет спустя наши балетные триумфы в Париже прогремели как настоящее художественное событие.
Поездка в Гусеницы — родину Гуса — осталась в моей памяти как настоящее столпотворение вавилонское по ужасной свалке на станции Пильзен, где пассажиры нашего поезда атаковали буфет с пильзенским пивом. Селение Гусеницы приняло нас к ночи особенно радушно. И на нескольких транспарантах красовались фразы на русском языке, вроде: «Привет братьям русским».
И в таком селении все было неизмеримо культурнее, чем у нас, в России. Поражала зажиточность крестьян, общая грамотность, живое чувство своего национального достоинства. Когда показалась процессия к дому, где родился Гус, мы любовались целой кавалькадой молодых парней и шествием девушек в белом — и все это были крестьяне и крестьянки.
Нас, корреспондентов, посадили на помост у какого-то сарая, на самом припеке. Этим был всего сильнее недоволен П. И. Вейнберг и мой лондонский приятель, англичанин Рольстон, приехавший также на эти торжества. Тогда, в ожидании процессии, Вейнберг сочинил такое четверостишие, оставшееся у меня в памяти. Кажется, я уже приводил его печатно в другом месте.
Ян Гус в Констанце на костре Не так страдал от пламенной стихии, Как страждут, сидя на жаре, Корреспонденты из России.Но эта поездка закончила характерной главной нотой мое первое пребывание в веселой и привольной Вене, которую я променял на Париж без особого сожаления.
Потянуло заново в Париж. Жил я опять на Итальянском бульваре, наискосок старой Оперы, вскоре потом сгоревшей.
Тут я остановлюсь на эпизоде знакомства моего с Дюма-сыном.
Я уже упомянул вскользь о том, как он перед приездом моим из Лондона заходил ко мне и оставил карточку, на которой написал несколько очень любезных строк, приглашая к себе, когда я вернусь в Париж, И в приписке стояло, что «Madame Dumas — une compatriote».
Я уже знал это, госпожа Дюма была не кто иная, как бывшая г-жа Нарышкина, та самая, у которой на вечере, в Москве, был Сухово-Кобылин в ночь убийства француженки на его квартире. После этой истории она уехала за границу, сошлась с Дюма, от которого имела дочь еще до брака, а потом вышла за него замуж.
Дюма жил в Елисейских полях (кажется, в Avenue Friedland) в барской квартире, полной художественных вещей. Он был знаток живописи, друг тогдашних даровитейших художников, умел дешево покупать их полотна начерно и с выгодою продавал их. Тогда весь Париж знал и его очень удачный портрет работы Дюбёфа.
Как только я написал ему записку, водворившись в Париже, он сейчас же пригласил меня обедать.
Так у нас из моих сверстников — и старших и младших — никто никогда не жил в России. Такой роскошной обстановки и такого домашнего быта не было и у Тургенева на его вилле в Баден-Бадене. А уж о Гончарове, Достоевском, Салтыкове, Островском и более богатых людях, вроде Фета и даже Толстого, и говорить нечего.
Обед, на который я был зван, был вовсе не «званый обед». Кроме меня и семьи, был только какой-то художник, а вечером пришел другой его приятель — фельетонный романист, одно время с большой бульварной известностью, Ксавье де Монтепен. И эти господа были одеты запросто, в пиджаках. Но столовая, сервировка обеда, меню, тонкость кухни и вин — все это было самое первосортное. Тут все дышало большим довольством, вкусом и крупным заработком уже всемирно известного драматурга.
Дюма был тогда еще в полной силе, бравый, рослый мужчина, военного вида, в усах, с легкой проседью, одетый без франтовства, с тоном умного, бывалого, речистого парижанина, очень привычного к светским сферам, но не фешенебля, не человека аристократической воспитанности.
Госпожа Дюма была уже дама сильно на возрасте, с рыжеватой шевелюрой, худощавая, не очень здорового вида, с тоном светской русской барыни, прошедшей «высшую школу» за границей. Во французском акценте чувствовалась московская барыня, да и в более медленном темпе речи.
Из дочерей старшая, если не ошибаюсь, носила фамилию своего отца Нарышкина, а девочка, рожденная уже в браке с Дюма, очень бойкая и кокетливая особа, пользовалась такими правами, что во время десерта, когда все еще сидели за столом, начала бегать по самому столу — от отца к матери.
Разговор Дюма был чисто литераторский, не столько преисполненный самовлюбленности и славолюбия, сколько соперничества с своим тогдашним главным соперником по сцене — Сарду. Вот остроумное сравнение, какое он сделал постройке всякой пьесы Сарду:
— Это все равно, как в фокусах… Мускатный шарик, попадая из-под одного стаканчика в другой, все растет, пока не достигнет самых больших размеров, в четвертом стаканчике он сокращается, а в пятом приходит в нормальную величину. Так точно строит свои пьесы и мой собрат Сарду.
Дюма, сделавший себе репутацию защитника и идеалиста женщин, даже падших («Дама с камелиями»), тогда уже напечатал беспощадный анализ женской испорченности — роман «Дело Клемансо» и в своих предисловиях к пьесам стал выступать в таком же духе. Даже тут, в присутствии своей супруги, он не затруднился повести разговор на тему безыдейности и невежественности светских женщин… и в особенности русских. У него вырвалась, например, такая подробность из их интимной жизни:
— Иногда спросишь мадам Дюма, о чем она думает, она отвечает так невозмутимо: «Да ни о чем».
Разговор этот происходил уже в гостиной, около камина. Госпожа Дюма не спорила с ним, а только снисходительно улыбалась. Она еще интересовалась немного Россией, но он — нисколько, и его совсем не занимало то, что у нас делалось после освобождения крестьян.
Он опять завел речь о невежественности дам и уверял, что когда-то его близкая приятельница, графиня Нессельроде (дочь графа Закревского), которую он когда-то взял в героини своего любовного романа — «Дама с жемчугом», написанного в параллель к «Даме с камелиями», приехала к нему с какого-то обеда и спрашивала его, «про какую такую Жанну д'Арк все толковали там».
И он прибавил:
— Я уверил ее, что это была знаменитая куртизанка эпохи Людовика Пятнадцатого.
Может быть, это и не была выдумка; но слишком уж он бесцеремонно относился к полу, представительницей которого была ведь его супруга.
Впечатление всего этого дома было какое-то двойственное — ни русская семья, ни совсем парижская. Хозяйка оставалась все-таки московской экс-львицей 40-х годов, старшая дочь — девица без определенной физиономии, уже плоховато владевшая русским языком, а меньшая — и совсем французская избалованная девочка.
В своих пьесах и статьях тогдашний Дюма, несомненно, производил впечатление умного и думающего человека, но думающего довольно однобоко, хотя, по тому времени, довольно радикально, на тему разных моральных предрассудков. Ему, как незаконному сыну своего отца (впоследствии только узаконенному), тема побочных детей всегда была близка к сердцу. И он искренно возмущался тем, что французский закон запрещает устанавливать отцовство, чем и поблажает беспутству мужчин-соблазнителей.
Если Дюма не отличался сладостью, когда говорил о женской испорченности, то мужчинам доставалось от него еще сильнее. И в этих филиппиках он достигал большого подъема, писал сильным, метким, образным языком.
Мой единомышленник Г. И. Вырубов особенно высоко ставил тогдашний стиль Дюма в его статьях и брошюрах.
Вечер закончился тем, что в час нашего вечернего чая подали пиво в изящных стаканах и Дюма стал расхваливать этот «напиток богов». Пиво было венское, которое победило парижан на выставке 1867 года — так называемое дрейеровское «Le Gerbier». А мюнхенское захватило кафе и пивные бульваров уже позднее, в 80-х и особенно в 90-х годах.
Хозяин сводил меня в свою спальню (он спал отдельно) всю увешанную прекрасными картинами парижских художников, все его приятелей, и при этом рассказывал мне, кого из них он первый «открывал» и, разумеется, приобретал их полотна за пустую цену — прежде чем они входили в славу.
В памяти моей остался конец нашего разговора о Тургеневе и г-же Виардо, когда я уже уходил и Дюма провожал меня до передней. Я вспомнил тогда, что один из моих собратов (и когда-то сотрудников), поэт Н. В. Берг, когда-то хорошо был знаком с историей отношений Тургенева к Виардо, теперь только отошедшей в царство теней (я пишу это в начале мая 1910 года), и он был того мнения, что, по крайней мере тогда (то есть в конце 40-х годов), вряд ли было между ними что-нибудь серьезное, но другой его бывший приятель Некрасов был в ту же эпоху свидетелем припадков любовной горести Тургенева, которые прямо показывали, что тут была не одна «платоническая» любовь.
— Знаете что, — сказал мне Дюма тоном бывалого и в точности осведомленного человека, — отзыв господина Берга меня нисколько не удивил бы…
— Почему? — остановил я.
— А потому, — Дюма даже не понизил тона, — что Полина всегда имела репутацию любительницы… женского, а не мужского пола, d'une…
И он употребил при этом циническое слово парижского арго.
Оставляю эту подробность на совести покойного. Да оно и не существенно, ведь были, всегда есть и будут и мужчины и женщины, которые, как гоголевский городничий, именинники и именинницы «и на Антона и на Онуфрия».
На тогдашней выставке в Елисейских полях Дюма пригласил меня на завтрак в летний ресторан «Le Doyen», долго ходил со мною по залам и мастерски характеризовал мне и главные течения, и отдельные новые таланты. С нами ходил и его приятель — кажется, из литераторов, близко стоявших к театру. И тут опять Дюма выказал себя на мою тогдашнюю оценку русского слишком откровенным и самодовольным насчет своих прежних любовных связей.
Разговор зашел о «Comedie Franchise» и об одной актрисе, державшей тогда амплуа jeune premiere в комедии и легкой драме, не очень красивой и даровитой, но довольно симпатичной. Я не назову ее по фамилии. Дюма заговорил о ней очень сочувственно, повторяя, что никто не знает, какая это милая женщина во всех смыслах.
— Вы знаете, ее открыл не кто иной, как я, — добавил он.
И это слово «открыл» он сопровождал такой миной, что ему весьма возможно было придать более реальный и довольно-таки бесцеремонный смысл.
Но тогда в парижском писательском мире и не то и не так еще говорилось! Нечего греха таить — и среди русских писателей разных поколений водилась замашка довольно-таки цинического жаргона. Не один Дюма-сын при личном знакомстве оказывался, на более строгую оценку, по своему этическому «я» ниже сортом, чем его талант, ум, наблюдательность, знание жизни. Разве это нельзя сказать в такой же мере и про «поэта-солнце» — В. Гюго? А также в значительной степени и про любого знаменитого писателя, не исключая ни Флобера, ни Золя, ни Доде, ни Мопассана?
У французских писателей, особенно если они добились известности, всегда найдете вы больше писательской исключительности и самопоглощения своим писательским «я». С кем я ни беседовал из них на моем веку, мне бросалось в глаза их полное почти равнодушие ко всему, что не их дело, их имя, их писательские успехи.
Дюма, быть может, еще менее хромал на эту ножку. Его все-таки занимали вопросы общественной морали и справедливости. И его интерес к театру, к изящным искусствам делал его беседу более разнообразной. И его ум, меткость суждений и независимость взглядов делали его разговор все-таки менее личным и анекдотическим, чем с большинством французов из литературного и артистического мира.
Со мною его тон был всегда самый приветливый, без малейшего «генеральства». Позднее он не забыл даже послать мне билет на первое представление пьесы, написанной им в сотрудничестве, под псевдонимом. Она шла в «Gymnase» и большого успеха не имела.
Как он переделывал пьесы, которые ему приносили начинающие или малоизвестные авторы, он рассказывал в печати. Из-за такого сотрудничества у него вышла история с Эмилем Жирарденом — из-за пьесы «Мученье женщины». Жирарден уличил его в слишком широком присвоении себе его добра. Он не пренебрегал — как и его соперник Сарду — ничьим чужим добром, когда видел, что из идеи или сильных положений можно что-нибудь создать ценное. Но его театр все-таки состоял из вещей, им самим задуманных и написанных целиком.
Я имел случай и еще раз убедиться в том, как он отзывчиво способен был откликнуться на такое письмо, которое другая бы «знаменитость» оставила без всякого ответа или же ограничилась бы общими местами.
Это было в конце лета того же 1869 года. После поездки в Испанию (о которой речь пойдет дальше) я, очень усталый, жил в Швейцарии, в одном водолечебном заведении, близ Цюриха. И настроение мое тогда было очень элегическое. Я стал тяготиться душевным одиночеством холостяка, которому уже перевалило за тридцать, без всякой сердечной привязанности.
Таким настроением было проникнуто письмо, написанное мною Дюма. И он тотчас же ответил мне на восьми страницах — своим крупным, круглым почерком, — где он остерегал меня, как испытанный мизогин (женоненавистник), от серьезного сближения с женщиной. До сих пор помню его характерные две фразы: «заведите друга», «купите собаку». И то, что он говорил тут об опасности такого критического момента в жизни одинокого мужчины, было не только очень остроумно и метко, но и в прекрасном, искреннем тоне. Я что-то не помню, чтобы мне за всю мою жизнь молодого писателя привелось получить подобное послание от какого-нибудь из корифеев нашей тогдашней беллетристики.
Быть может, иной читатель найдет, что мне не следовало бы так строговато оценивать Дюма, раз он со мною выказывал себя так благожелательно. На это я скажу раз навсегда (и для всего последующего в моих воспоминаниях), что я ставлю выше всего полную правдивость в передаче того, как я находил известное лицо при личном знакомстве, совершенно забывая о том, как оно относилось лично ко мне. Если б он или кто другой на его месте обошелся со мною невнимательно или некрасиво, это не помешало бы мне оценить его с полной правдивостью. Оговорка тут должна быть одна — надо, чтобы впечатление осталось в памяти достаточно точное. За это нельзя ручаться абсолютно, особенно в деталях, но в общем это возможно.
И вообще я не считаю желательным и ценным придерживаться всегда уклончивого или слащавого тона, говоря даже о покойниках. Ни обвинять, ни оправдывать их нечего, но не следует и бояться высказывать то, что осталось в вашей памяти о человеке, кто бы он ни был и что бы вам впоследствии ни досталось от этого в печати.
В Париж меня потянуло из Вены, но я вскоре почуял, что прежнего интереса к парижской жизни уже не было.
Живя почти что на самом Итальянском бульваре, в Rue Lepelletier, я испытал особого рода пресноту именно от бульваров. В первые дни и после венской привольной жизни было так подмывательно очутиться опять на этой вечно живой артерии столицы мира. Но тогда весенние сезоны совсем не бывали такие оживленные, как это начало входить в моду уже с 80-х годов. В мае, к концу его, сезон доживал и пробавлялся кое-чем для приезжих иностранцев, да и их не наезжало и на одну десятую столько, сколько теперь.
И вся банальная подкраска Бонапартова режима выступала в виде своих лишаев и подтеков. Эти каменные лица кокоток на террасах кафе и вдоль тротуаров, эти треугольные шляпы сержантов (как назывались тогда полицейские), это запойное сиденье в кафе и пивных тысяч праздного народа с его приевшимися повадками мелкого французского жуирства. В Елисейских полях — трескотня плохих оркестров и дозволенный цинизм песенок и канканных кривляний. И отсутствие настоящего веселья. Наемные плясуны и плясуньи, толпа мужчин, глазеющих на эти кривлянья, выставка стареющих, намазанных кокоток.
Я стал подумывать, куда бы поехать на лето с таким же интересом, как в прошлом году. На море было еще рано, да и на купаньях я увидал бы опять тот же жуирный Париж.
В числе моих более близких знакомых французов состоял уже с позапрошлого зимнего сезона приятель Вырубова и русского химика Лугинина — уже очень известный тогда в парижских интеллигентных сферах профессор Медицинской школы по кафедре химии Альфред Наке. О нем я и раньше знал, как об авторе прекрасного учебника, который очень ценился и у нас. Вырубов быт уже с ним давно в приятельских отношениях, когда я познакомился с Наке.
В это время он уже не был больше профессором, после того, как в начале своей карьеры преподавал химию в Палермо.
Меня к нему привели в лечебницу, известную тогда в Париже под именем «Дома Дюбуа». Это был род санатории, которая была пожертвована богатым буржуа городу Парижу.
Наке отсиживал в нем срок своего тюремного заключения по политическому процессу. Он уже был автор радикально-социальной книжки и предварительно сидел в Мазасе, уже не помню, по тому ли самому делу или по какому другому.
Тогда политическое правосудие отправлялось в виде суда исправительной полиции, без присяжных, и было, разумеется, крайне произвольным. Но все-таки возможны были такие послабления: государственному преступнику, приговоренному к тюрьме, позволить отсиживаться в санатории без всякого специального надзора. Оттуда он мог преспокойно убежать, когда ему угодно.
Наке послужил мне моделью лица, введенного мною впоследствии в роман «Солидные добродетели». Узнать его было нетрудно, и я, набрасывая этот портрет, ничего не преувеличивал и относился к самому оригиналу симпатично.
В нем было тогда много привлекательного. Помимо знаний, живого ума, большой житейской бывалости, он привлекал редким в французе добродушием, простотой, отсутствием мелочности.
По происхождению еврей, с юга Франции (из города Карпантраса), с типичным еврейским профилем, с сильной горбиной, искажавшей его фигуру, он отличался тем, что был, как французы говорят, «un panier perce», то есть крайне нерасчетлив и щедр. Вырубов всегда его вышучивал на эту тему.
Лишившись профессорского места, Наке перебивался учено-литературной работой главным образом, как сотрудник словаря Лярусса), всегда нуждался и всегда готов был поделиться, чем только мог.
К нему в санаторию ходили постоянно разные народы, в том числе тот самый Рауль Риго, который во время Коммуны был чем-то вроде министра полиции и производил экзекуции заложников. Водил он знакомство и с тогдашними русскими эмигрантами, с той компанией, которая жила коммуной и занималась отчасти сапожным ремеслом: бывший кавалерист Озеров, некий Т. и тот Сомов, который попал ко мне в секретари и похож был очень на Ломова, являющегося также в «Солидных добродетелях». Кажется, этой группой и ограничивалась тогда русская молодая эмиграция, какую можно было встретить в Латинском квартале. Наке особенно интересовался Озеровым и той русской барышней-хохлушкой, на которой тот потом женился.
У Наке всегда можно было найти гостей. И я удивлялся — как он мог работать: не только писать научные статьи, но и производить даже какие-то химические опыты.
К возвращению моему на парижские бульвары он уже отсидел свой срок. Но его опять собирались судить за книжку о государственной собственности и браке, где тогдашняя прокуратура усмотрела колебание всех основ. Процесс еще не начался, и Наке пока оставался на свободе.
Кажется, он привел ко мне Благосветлова, издателя «Дела», которого я в Петербурге никогда и нигде не встречал. В Париже у Благосветлова был постоянный сотрудник, один из братьев Реклю — старший, Эли. С ним я уже был знаком и у него видал и его младшего брата Элизе, и тогда уже известного географа, но еще не прославившегося как анархист.
Сколько помню, в тот же сезон приезжали в Париж Корш и Краевский. Я был сотрудником обоих. У Краевского я был раз в Петербурге, а Корша видел только раз у Писемского, но знаком еще не был.
Корш был доволен и моими корреспонденциями в текст «Санкт-Петербургских ведомостей», и в особенности моими фельетонами «С Итальянского бульвара». Но сезон кончался, и писать было почти что не о чем.
Мое первое впечатление от знакомства с Коршем было сразу довольно точное.
Добродушный, не очень блестящий умом, либерально мыслящий москвич, нервный, легко возмущающийся, довольно наивный, человек лучших традиций 40-х годов, как журналист — любящий свое дело, но всегда подавленный своими счетами с тогдашней цензурой. В нем не было той хозяйской сметки и в редакционном смысле, какую выказывал Краевский, когда он мне и на письмах, и при личных свиданиях в Париже намечал то, что было бы особенно ценно для его газеты. Но Краевский был то, что народ называет «кулак», то есть чистой крови оппортунист, умевший ловко лавировать между подводными камнями русского режима, а Коршу дороги были известные принципы и идеалы. Но в выборе ближайших участников в газете он не имел дара предвидения. Сделав Суворина и Буренина главными своими сотрудниками, он верил в их радикализм и не распознал в них будущих матадоров такого органа, как «Новое время».
Он приблизил к себе Жохова — того, что был убит на дуэли Евгением Утиным, — как передовика по земским и вообще внутренним вопросам, и я одно время думал, что этот Жохов писал у Корша и критические фельетоны. И от Корша я тогда в первый раз узнал, что критик его газеты — Буренин, тот самый Буренин, который начинал у меня в «Библиотеке» юмористическими стишками.
В Париже я познакомился и с Жоховым и нашел в нем довольно милого, по многим вопросам, петербургского чиновника, пишущего в газетах, довольно речистого и начитанного в чисто петербургских интересах, но совсем не «звезду», без широкого литературного, философского и даже публицистического образования. Я водил его по Парижу, как раньше редактора «Русского инвалида», и полковник, при всей офицерской складке, и то оказывался нисколько не менее развитым, чем этот передовик «Санкт-Петербургских ведомостей». Корш называл Жохова «мой приятель», и видно было, что он о нем очень высокого мнения.
У Благосветлова, как я сказал выше, были постоянные сношения с Эли Реклю. Оба брата, а также и Наке, называли его «Blago» и считали едва ли не самым радикальным русским журналистом.
Ко мне он обратился прямо, в тоне самого бывалого редактора-издателя, с предложением дать в его «Дело» повесть. Это была та вещь, которая появилась у него под заглавием «По-американски».
В Благосветлове все было очень своеобразно: и наружность, и тон, и язык, и манеры. Если он был из «духовного» звания, то этого нельзя было сразу подметить в нем, но учитель в нем сразу чувствовался из тогдашних радикалов.
Благосветлов попал в Лондоне в домашние учителя, в семейство Герцена; но он сумел, вернувшись в Петербург, сделаться «persona grata» у графа Кушелева-Безбородко и после редакторства «Русского слова» сделаться издателем сначала его, а потом «Дела».
С ним я вошел в более продолжительное знакомство, когда сам вернулся в Россию в январе 1871 года.
За границей я написал для «Дела» повесть «По-американски», которая явилась по счету первой моей повестью, как раньше, в 1866 году, «Фараончики», написанные в конце того года в Москве, были моим первым рассказом.
Как беллетрист я после «Жертвы вечерней» задумал роман «На суд» и начал его писать в Вене.
Он мне как-то не давался, и писал я его с большими паузами. Его замысел не был навеян ближайшей русской жизнью, а представлял собою интимную супружескую драму, но все же на русской, барской почве. Узел драмы — преступление мужа, в котором жена делается сообщницей, только участвуя в мнимом его сумасшествии, — навеян, я это могу теперь сказать, историей Сухово-Кобылина, заподозренного, как я это рассказывал выше, в убийстве в запальчивости своей любовницы-француженки. Но ни характер героя, ни его жены, ни обстановка — ничто не подсказано той историей, которую я слыхал только в самых общих чертах.
Это был мой опыт, и притом единственный, написать целый (хотя и небольшой) роман на психическую тему.
Роман прошел тихо, и только гораздо позднее в «Отечественных записках», в одной рецензии, где разбирались типы женщин в новейшей беллетристике, было разобрано и лицо героини, но с узкофеминистской точки зрения. Автор статьи была Цебрикова.
Наке предстояло снова отсиживать, и он затеял отправиться в Испанию. Он нашел себе работу корреспондента в одной из тогдашних оппозиционных газет и предложил мне поехать с ним в Мадрид, соблазняя меня тем, что момент был очень интересный — после прошлогодней Сентябрьской революции и регентства маршала Серано, когда приближался день обнародования новой конституции.
Это было в последних числах мая 1869 года. Сколько помню, я успел столковаться с Коршем насчет этой поездки.
Тогда мы не были избалованы огромными окладами и подъемными корреспондентов. Я не попросил никакого ежемесячного содержания, довольствуясь той построчной платой, какую уже получал в «Санкт-Петербургских ведомостях». Теперь ни один молодой писатель, с некоторой уже известностью, не удовольствовался бы такими условиями. Но повторяю; мы тогда не были избалованы.
Я еще тогда не решил, когда я вернусь в Россию; но я был вполне свободен, в Лондон меня не тянуло, Париж делался летом неинтересен, а тут я мог месяца два провести в стране, о которой не раз мечтал, но до нее еще не доехал.
Об Испании я читал письма Боткина, но уже давно, а в Париже стал следить за событиями освободительного движения, особенно после Сентябрьской революции.
Встреча и знакомство с Кастеляром (о чем я говорил выше) приблизили ко мне все, что делалось в этой стране, и я прочел и несколько статей и книжек на тему тогдашней Испании.
Всего этого было бы еще недостаточно, чтобы отправиться в страну «заправским» корреспондентом. Но ни я сам, ни редакция газеты, куда я собирался писать, и не смотрели так серьезно на подобную поездку. Меня успокаивало и то, что я, через посредство Наке, попаду сейчас в круг разноплеменных корреспондентов и испанцев из радикального лагеря, в чем я и не ошибся.
Языка я еще не знал настолько, чтобы изъясняться на нем как следует, но я начал его изучать еще раньше и надеялся овладеть им скоро. Газеты я мог уже довольно свободно читать.
Меня не смутило и то, что я отправляюсь на такой юг летом и рискую попасть на большие жары и оставаться в Мадриде в духоте городской жизни. Но молодость брала свое. Не смущало меня и то, что я не имел никаких добавочных средств для этой поездки. И тут Наке явился «мужем совета». Выхлопотывая себе даровой проезд, он и мне выправил безденежный билет до Мадрида. Сам он уехал раньше меня за несколько дней. А меня что-то тогда задержало.
И я смело пустился в путь один, без всякого компаньона, с одними только сведениями из печатного гида и несколькими десятками фраз из «разговоров» на железной дороге, таможне, в ресторанах и гостиницах.
Я не мог останавливаться по дороге, боясь лишних расходов и чувствуя себя еще слишком малоподготовленным, и прямо из Парижа на другой же день перед обедом прибыл в Мадрид и на перроне вокзала увидал горб и ласковое лицо моего парижского собрата.
Испания! До сих пор эта страна остается в моей памяти как яркая страница настоящей молодости. Мне тогда еще не было полных 29 лет. И я искренно упрекаю себя в настоящий момент за то, что я не то что вычеркнул ее из своей памяти, а не настолько сильно влекся к ней, чтобы еще раз и на более долгий срок пожить в ней.
Если жизнь отводила меня от поездки в Испанию в течение следующих двух десятилетий (после 1869 года), то есть до 90-х годов прошлого столетия, то в последние десять лет я, конечно, нашел бы фактическую возможность ехать туда в любое время года и пожить там подольше.
Но располагает, в сущности, не наша «свободная воля», а то, что по-ученому называется «детерминизмом».
Объяснение можно найти и более точное.
Вышло так, что в течение этих долгих лет — в общем, с лишком сорока лет! — я ни разу не задавался какой-нибудь программой изучения Испании на месте, хотя, ознакомившись с языком, стал читать многое в подлиннике, что прежде было мне доступно лишь в переводах, начиная с «Дон-Кихота».
Язык сохранил для меня до сих пор большое обаяние. Я даже, не дальше как пять лет назад живя в Биаррице, стал заново учиться разговорному языку, мечтая о том, что поеду в Испанию на всю осень, что казалось тогда очень исполнимым, но это все-таки по разным причинам не состоялось. А два года раньше из того же Биаррица я съездил В Сан-Себастьяно и тогда же обещал сам себе непременно пожить в Испании подольше.
Задайся я каким-нибудь определенным планом, как например, насчет Рима (который мне долго решительно не давался), я бы уже успел написать что-нибудь вроде «Вечного города» после того, как я отправился в Рим осенью 1891 года с твердым намерением заново изучить его, для чего я, также заново, стал подготовлять себя к нему целый год.
Может быть и то, что после нового восстановления Бурбонов и падения Республики ни Мадрид, ни провинции не казались мне достаточно интересными.
Но если моя поездка к июлю 1869 года и была слишком краткой и летучей, то все-таки я вынес из нее живое и яркое настроение и жил среди испанцев в очень яркий момент и политического и социального кризиса.
Я не стану здесь рассказывать про то, чем тогда была Испания. Об этом я писал достаточно и в корреспонденциях, и в газетных очерках, и даже в журнальных статьях. Не следует в воспоминаниях предаваться такому ретроспективному репортерству. Гораздо ценнее во всех смыслах освежение тех «пережитков», какие испытал в моем лице русский молодой писатель, попавший в эту страну одним из первых в конце 60-х годов.
Одновременно со мною не было ни одного пишущего русского. И литература наша об Испании была «никакая», за исключением боткинских писем, но они были уже из совсем другой эпохи.
Не могу утверждать — до или после меня проживал в Испании покойный граф Салиас. Он много писал о ней в «Голосе», но тогда, летом 1869 года, его не было; ни в Мадриде, ни в других городах, куда я попадал, я его не встречал. Думаю, однако, что если б ряд его очерков Испании стал появляться раньше моей поездки, я бы заинтересовался ими. А «Голос» я получал как его корреспондент.
Не нашел я в Мадриде за время, которое я провел в нем, ни одного туриста или случайно попавшего туда русского. Никто там не жил, кроме посольских, да и посольства-то не было как следует. Русское правительство после революции, изгнавшей Изабеллу в 1868 году, прервало правильные сношения с временным правительством Испании и держало там только «поверенного в делах». Это был г. Калошин, и он представлял собою единственного россиянина, за исключением духовенства — священника и псаломщика.
И я сейчас же покончу с моими соотечественниками в Мадриде, рассказав, как я попал в посольство.
Это случилось уже через две-три недели после моего приезда. Мне понадобилось засвидетельствовать две доверенности на имя моего тогдашнего приятеля князя А. И. Урусова для получения за меня поспектакльной платы из конторы московских театров. И вот я по указаниям знакомых испанцев отыскал наше посольство, вошел во двор и увидал в нем бородатого, плотного мужчину, сидевшего под навесом еще с кем-то.
Это был псаломщик. Он мне чрезвычайно обрадовался и стал сейчас же изливаться, как ему здесь тоскливо; взялся передать мои бумаги г. Калошину, у которого я и был на другой день.
Этот дипломат, теперь уже покойный, принял меня изысканно-вежливо и мягко упрекнул меня в том, что я раньше не навестил своего соотечественника. А наглядным доказательством того, как много было текущих дел по консульской части, может служить то, что на моих доверенностях в конце июля (то есть в конце целого полугодия) стояли №№ 3-й и 4-й.
Про этого Калошина говорили мне и в России (что я слыхал позднее), и в Мадриде, что он щеголял прекрасным знанием не только литературного и светского кастильского языка, но и разными диалектами иберийского полуострова. Знакомые нам с Наке молодые люди — испанцы рассказывали нам, что русский посол изумлял их своим аппетитом. Он ходил завтракать и обедать в один из самых лучших кафе-ресторанов и проедал каждый день, один, больше чем на двадцать песет. Для умеренных в пище «гидальго» это было нечто колоссальное!
Наке привез меня в квартиру, где поместился тотчас по приезде, то, что у нас называется «у жильцов». Это было семейство Ортис, жены секретаря Марфорио, фаворита Изабеллы, бежавшего с ней в Париж.
Довольно пикантно показалось мне то, что мой республиканец-социалист выбрал таких хозяев. Он искал дешевизны так же, как и я. Мы оба жили на гонораре, да и то и ему и мне редакции высылали чеки с большой оттяжкой, и раз мы с ним дошли до того, что у нас обоих в портмоне осталось по одному реалу (25 сантимов). Но беспечный философ Наке повторял все с своим сильно провансальским акцентом:
— Милый друг, будь доволен, что имеешь стол и дом.
А это «vivre» et «convert», то есть одна большая комната с альковом, с полным пансионом, стоило каждому всего пять песет в день.
Синьора Ортис, хоть и была супруга такого «милашки», как синьор Марфорио, оказалась добродушнейшей особой, очень тихой, ласковой, весьма, конечно, набожной, но без всякого изуверства. Правда, она нас кормила ужасно, и на русский и на французский вкус, даже и после дешевых ресторанчиков Парижа.
Не знаю, как дело стоит теперь, но тогда домашний стол поражал своей первобытностью и неудобоваримостью. Чтобы дать об этом приблизительное понятие, я приведу рецепт холодного супа, каким нас частенько угощали: возьми воды (да и то еще тепловатой), накроши в нее сырых помидоров, салату, вареного гороху, сельдерея, луку, чесноку, кусков хлеба — и вот вам мадридская ботвинья. И горох-то не общеевропейский, а желтый, величиной с орех, с рубчиками, то, что французы называют сухим горохом и дают только… скоту, кажется, даже исключительно свиньям.
Зато при синьоре Ортис жили три дочери — взрослые Лола (Долорес) и Консуэла и подросток с таким же благоуханным именем. Каждый вечер приходили молодые люди (les navios, то есть женихи), и их вечеринки с пением и игрой очень напоминали жизнь нашей провинции эпохи моей юности.
Уже по дороге с вокзала до дома, где жила синьора Ортис, я сразу увидал, что Мадрид — совсем не типичный испанский город, хотя и достаточно старый. Вероятно, он теперь получил еще более «общеевропейскую» физиономию — нечто вроде большого французского города, без той печати, какая лежит на таких городах, как Венеция, Флоренция, Рим, а в Испании — андалузские города. И это впечатление так и осталось за все время нашего житья.
Центр столицы — знаменитая «Pureta del sol» — поразил меня банальной архитектурой ее домов, некрасивостью своих очертаний. А ведь это был тогда самый жизненный центр Мадрида. Посредине ее стоял Palacie de govemaries, и этот дом красно-кирпичной обшивкой и всем своим пошибом напомнил мне до смешного трактиры моего родного города Нижнего и на Верхнем, и на Нижнем базаре тогдашних, тоже знаменитых трактирщиков Бубнова, Лопашева и Ермолаева.
Не архитектура, не древности, не красота положения поддерживали интерес, а уличная жизнь, нравы, политическое движение, типы в народе, буржуазии и высшем классе, вечернее оживление по кафе, гулянье в парке «Прадо» и неизбежный Plaza de toros (площадь быков).
Толпа в Мадриде на более нарядных и бойких улицах не очень резко отличалась от общеевропейской; но в народных кварталах в ней была южная типичность, которую я видел тогда еще впервые, так как знакомство мое с Италией произошло с лишком годом позднее, в ноябре 1870 года.
Женщины и их наряд давали самую характерную ноту. Тогда, правда, на светских катаньях в Прадо и в театрах франтихи уже носили шляпки и вообще парижские моды, но большинство в буржуазии держалось еще традиционной мантильи, то есть кружевного или шелкового покрывала, которое прикрепляется к гребенке. И всегда цветок в волосах и, конечно, веер. У нашей синьоры Ортис жила в услужении кухарка по имени Пруденсия — всю неделю ужасная замарашка. Но как только воскресенье и ее отпустят в Прадо (мадридцы не произносят Прадо, а Прао), она взденет мантилью, воткнет цветок в волосы и начнет играть грошовым веером.
Я приехал — в самый возбужденный момент тогдашней внутренней политики — почти накануне торжества обнародования июньской конституции 1869 года, которая сохранила для Испании монархическую форму правления. Торжество это прошло благополучно. Республиканских манифестаций не было, хотя в процессии участвовал батальон национальной гвардии и разных вооруженных обществ. Все это — весьма демократического вида.
Тогдашнего регента, маршала Серрана — скорее любили. Но роль играл не он, а Прим, которого я и видел в первый раз на этом торжестве. Из него сделала героя картина даровитого художника Реньо, изобразившего Прима во главе войска, идущего ниспровергать Изабеллу. Эта картина вызывала восторги Вл. Стасова, видевшего ее в Париже.
Разумеется, в честь «Конституции 3 июня» дан был и торжественный бой быков — тоже первый по счету, на каком мне удалось быть.
Моим первым разочарованием было то, что музыка вместо чего-нибудь чисто испанского стала играть попурри из оффенбаховских опереток, так же, как и на торжестве обнародования.
Памятен мне до сих пор тот несчастный случай, которым ознаменовался тот бой быков. Против самого свирепого быка должен был выступить знаменитый, уже пожилой тореро, который перед тем уже совсем было покончил свою карьеру. Имени его не могу припомнить, но его сухую жилистую фигуру в черном костюме хорошо помню. Публика невзвиделась, как бык (кажется, по числу четвертый или пятый) вздернул заслуженного тореро, или spada (как он также называется), и тот хлопнулся оземь; его унесли и должны были отнять у него ногу, а через несколько недель (перед нашим отъездом из Мадрида) ему давали серенаду по случаю его выздоровления.
Для всякого заезжего иностранца бой быков — неизбежное зрелище, где мадридская праздная толпа всего ярче мечется вам в глаза, где так называемая «couleur locale» (местная окраска, колорит) считается самой что ни на есть испанистой.
Во мне первый же бой под конец вызвал почти что отвращение. Говорю это не задним числом, а верно воспроизводя тогдашнее мое настроение.
Граф Салиас в «Голосе» проделал целую кампанию против этого варварского пережитка, который теперь начинает забирать и французскую публику. Он называл бой быков «бойней быков», и в этом он был, в общем, прав, хотя эти «корриды» и кончаются гибелью тореро. В последние годы особенно как-то часто.
Но, должен я здесь признаться, когда вы живете в Мадриде или в Севилье, вы после первого боя, вызвавшего в вас законное брезгливое чувство, испытаете то, что потянет во второй раз, и надо сильно реагировать против этой тяги, чтобы укрепить в себе протест против кровавой, отвратительной бойни лошадей с их распоротыми животами и зрелищем добиваемого быка, который далеко не всегда воинственно настроен. Я очень хорошо помню, что чуть не на этом торжественном бое первый бык выбежал, потоптался на месте и «дал бежку» при смехе и негодующих криках публики, более кровожадной и животненной, чем это четвероногое.
Но на третье воскресенье я уже не пошел на Plaza de toros.
В Мадриде я как газетный корреспондент поставлен был сразу в довольно выгодные условия. Всем этим я был обязан Наке. Он сейчас же познакомился в самом бойком политическом клубе со всеми иностранными корреспондентами, завел знакомство и с испанцами вплоть до выдающихся депутатов левой парламентской партии, где были уже не только республиканцы, но и социалисты, хотя и в ничтожном меньшинстве.
Из корреспондентов я всего чаще видался с немцем Лаузером, с французом Кутульи (впоследствии дипломат) и с тогда совсем еще неизвестным, а впоследствии всемирно знаменитым Стэнлеем, тем, что открывал Ливингстона.
Никто бы из нас, его тогдашних коллег, не мог бы представить себе, что этот довольно-таки первобытный, совсем не образованный полуамериканец-полуангличанин, бывший морской юнга, будет историческим Стэнлеем. Он был в десять раз менее подготовлен к роли корреспондента, чем даже самые плохенькие из нас. Ни одного языка, кроме английского, он не знал, а по-испански мог произнести только две фразы: «Prim — malo (дрянь)» и «уо republicano» (я — республиканец). Все над ним подтрунивали, и никто не вступал с ним в разговор. Ко мне он сразу очень льнул, может, потому, что я один мог объясняться с ним по-английски.
Не без удивления узнал я от него, что газета «New York Tribune» послала его в Испанию как специального корреспондента. Редакция той же газеты вскоре потом отправила его отыскивать Ливингстона, что он и выполнил. Упорства и смелости у него достало на такую экспедицию, но в Мадриде он был совсем не на месте; но «куражу» не терял и вел себя совершенно по-американски во всем, что относилось к его ремеслу газетчика.
Как он смотрел на требование точности тех известий, какие он телеграфировал в длинных, страшно дорогих депешах, показывает такой факт.
Мы в конце моего пребывания в Испании поехали целой группой корреспондентов и депутатов (о чем я ниже расскажу подробнее) на юг Испании, и в больших городах депутаты-республиканцы устраивали митинги.
Первый митинг пришелся на Кордову.
После митинга — мы жили в одном отеле — Стэнлей зашел ко мне в номер и показал мне текст своей депеши, где стояло, что на этом митинге было больше пятнадцати тысяч народу.
— Помилуйте, Стэнлей, — остановил я его. — Да площадь не может вместить больше четырех-пяти тысяч. Да и их не было!
— Вот еще! — наивно вскричал Стэнлей. — Из-за чего же я стал бы посылать такую дорогую депешу!
Его коллеги-корреспонденты раз в Мадриде пошутили с ним в таком вкусе. Идея этой мистификации принадлежала французам.
Стэнлей был очень целомудрен. И его завели нарочно в один гостеприимный дом, «без классических языков», уверив его, что идут в кафе. В нижней зале было еще пусто в ожидании прихода «барышень». Он все ходил и осматривался. Эта пустота и отделка дома начали приводить его в недоумение. И он не выдержал и все спрашивал:
— Is it a coffee-house? (Разве это кофейная?)
Наконец, когда на лестнице послышалось топанье женских туфель и говор «хорошеньких девушек», Стэнлей понял, куда его завели.
Прошли долгие годы. Он сделался всемирной знаменитостью. Из «янки» он опять перешел в подданство королевы Виктории, нажил состояние, женился на богатой и очень милой англичанке, устроился в Лондоне и попал депутатом в палату общин. Тогда, в 1895 году (то есть ровно 26 лет после нашего житья в Мадриде в 1869 году), я навестил его в приемный день его жены, когда он уже был в некотором роде «особа», жил в прекрасно обставленном особняке и на его пятичасовом чае перед хозяйкой красовался русский посеребренный самовар.
Когда он повел меня из гостиной в свой кабинет с богатой отделкой книжными шкалами, я ему напомнил комический инцидент с coffee-house. Стэнлей много смеялся. Он уже не был такой целомудренный, и когда я в другой раз попал в гостиную его жены, то я по ее намекам понял, что и ей анекдот известен.
И вот уже и Стэнлей — покойник… и вся его судьба, особенно для тех, кто знавал его в Мадриде в 1869 году, кажется какой-то феерией.
Будь я простым туристом, даже и с хорошими деньгами, а не газетный сотрудник, я бы, попав в Мадрид, вряд ли и на одну половину был ввязан в его жизнь в какие-нибудь полтора месяца. Но для разъездов по всей стране с порядочными деньгами у меня было бы больше и досуга и средств. А то вышло так, что мы с Наке еле-еле пробивались и страдали от неаккуратной высылки довольно-таки скудного гонорара. И вышло так, что в Андалузии я прямо из-за недостатка «пехунии», как мы говаривали студентами в Дерпте, не заехал даже в Гренаду, хотя и был в Севилье.
Поездку с депутатами Наке устроил с даровыми билетами. Таким образом я пробрался из Андалузии в Сарагоссу и Барселону, а оттуда на Пиринеи, во Францию и в Швейцарию. Но это случилось уже к августу.
Мадридское «сиденье» было для меня в физическом смысле довольно утомительно. Я — северянин и никогда не любил жары, а тут летний зной начал меня подавлять. Мой коллега Наке, как истый южанин, гораздо бодрее меня нес свою корреспондентскую службу, бегал по городу и днем, и даже в полдень. А я выходил только утром, очень редко от 12-ти до 4-х, и начинал «дышать» только по заходе солнца, когда, собственно, и начиналась в Мадриде бойкая жизнь.
Всего чаще мы отправлялись в тот политический клуб, о котором я упомянул выше, я садился на балкон, пил всякие прохладительные (особенно замороженный апельсинный сок — naranja de helado), смотрел на уличное движение и разговаривал с теми, кого приводил неутомимый Наке и от кого мы тут же узнавали самые свежие новости.
С нами особенно сошелся один журналист, родом из Севильи, Д. Франсиско Тубино, редактор местной газеты «Andalusie», который провожал нас потом и в Андалузию. Он был добродушнейший малый, с горячим темпераментом, очень передовых идей и сторонник федеративного принципа, которым тогда были проникнуты уже многие радикальные испанцы. Тубино писал много о Мурильо, издал о нем целую книгу и среди знатоков живописи выдвинулся тем, что он нашел в севильском соборе картину, которую до него никто не приписывал Мурильо.
Несколько молодых депутатов из крайней левой дружили с нами, нас принимал и Кастеляро в своей скромной квартире — тогда уже первая по таланту и обаянию фигура Кортесов, все такой же простой и общительный, каким я его зазнал в Берне на конгрессе всего какой-нибудь год назад. Помню, что он долго говорил нам о том, что ждет Испанию, если она не расстанется с таким политиком, как Прим, который метит ни больше ни меньше как в короли. Сам же Кастеляро тогда совсем не метил в президенты республики, каким судьба сделала его, но и тогда он был в душе республиканец, но централист, а не федералист, что и сказалось во всей его политической «платформе» и как простого депутата, и как президента.
Красноречие Кастеляро и тогда уже вошло в пословицу. А чтобы им выдвинуться среди испанцев, надо иметь совершенно исключительный дар.
Я часто — и с особым интересом — изучал самый процесс испанского красноречия. У них совершенно другой мозговой аппарат, чем, например, у нас или у немцев, англичан, — самой передачи умственных образов, артикуляции звуков. Она совершается у них с поражающей быстротой. И способность мыслить образами также совсем особенная. На банкете в Андалузии я стоял рядом с одним из ораторов, и этот образно-диалектический аппарат приводил меня в крайнее изумление.
Кастеляро отличался не этой стремительностью передачи идей и артикуляции, а красотой образов, мелодичностью тона, ритмом, жестами, игрой физиономии. Но во всем этом он был продукт позднейшего романтизма. То же сидело и в складе его мировоззрения, во всех его идеалах и принципах.
Стоит только припомнить его знаменитую речь о веротерпимости. Это было большой милостью для Испании, где еще царила государственная нетерпимость, не допускавшая ничего «иноверческого»; но в этой красивой и одухотворенной речи Кастеляро все-таки романтик, спиритуалист, а не пионер строгой научно-философской мысли. Таким он был и как профессор истории, и года изгнания не сделали его более точным исследователем и мыслителем.
После обнародования конституции Кортесы утратили подвинченность интереса. Все уже знали, что будет либеральная монархия с разными претендентами на престол. Никто еще не ожидал ни того, что Прим погибнет от руки заговорщика, ни того, что из-за пресловутой кандидатуры Гогенцоллернского принца загорится ровно через год такой пожар, как война между германской и французской империями.
И президентом республики Кастеляро не мог быть не тем, во что он сложился — идеалистом-радикалом, метафизиком, фритредером и, главное, централистом. Федеративным стремлениям он никогда не сочувствовал. А мы, иностранцы, очень скоро распознали, что в Испании более, чем где-либо, могло бы сложиться федеративное государство. Не говоря уже о каталонцах, расе, чуждой и по языку и по всему складу жизни кастильцам, и в других частях Испании была несомненная обособленность. Централизация с ее всяческим гнетом, и политическим и церковным, и доводила эту милую, но несчастную страну до гибели.
Прим, метивший чуть не в короли, отличался крайним тщеславием и славолюбием. Ему всячески хотелось привлечь к себе и нас — иностранных корреспондентов. Он через своих приверженцев засылал к нам приглашения на его журфиксы, но, кажется, никто из нас ими не прельстился. Одному из моих коллег попадались записки Прима к разным лицам, на французском языке. Они вызывали смех своей колоссальной безграмотностью по части орфографии и своими курьезными оборотами речи. Дешевые остряки прохаживались и насчет того пикантного факта, что в улице, носящей его имя (Casse Prim), был всем известный дом терпимости, самый тогда дорогой, хозяйка которого прозывалась Juana de Dios (Божественная Хуана).
Но крайнее тщеславие, дух интриг, безграмотность и всякие смешные претензии этого честолюбца не помешали ему сыграть самую блестящую роль по амплуа генерала <…>, правда, в классической стране военных «пронунсиамиенто».
Но то, что в Испании развилось как выгодная карьера, то может еще вспыхивать и в других странах. Да и переворот 2 декабря, посадивший на престол Франции Наполеона III, был не что иное, как военный заговор, то же «pronunciamiento», разыгранное еще более en grand, чем поход Прима на Мадрид и правительство Изабеллы.
Все свободное время от работы корреспондента, в часы, когда жар не пугал меня, я отдавал возможно более разнообразному знакомству с Мадридом, но, разумеется, очень многого не видал. Народная жизнь всего больше привлекала нас. И мы с Наке, взявши себе в учителя испанского языка молодого студента, ходили с ним всюду, вплоть до самых простонародных кафе, куда ходят агвадоры, то есть носильщики воды — очень популярный тогда класс рабочих, так как водоснабжение Мадрида было еще в первобытном виде и на дом воду доставляли поденщики, носившие ее в небольших бочках, которые они носили на одном плече.
В этих кафе распевали обыкновенно слепые певцы сегедильи, аккомпанируя себе на гитарах и мандолинах. Женский пол, сидевший в таких кафе, принадлежал к миру проституции и «котировался» за чудовищную плату в один реал, то есть в 25 сантимов. Что это были бы за отвратительные пьяные мегеры у нас, а эти несчастные «muchachas» поражали тем, как они прилично вели себя и какого были приятного вида. И их кавалеры сидели, вместо водки, за каким-нибудь прохладительным или много — стаканом легкого белого вина.
Ходили мы и в революционно-народный клуб «Anton-Martin», где каждый вечер происходили сходки и произносились замечательные речи. Постоянно туда ходили унтер-офицеры и заражались бунтарскими идеями. Это была своего рода практическая школа «пронунсиамиенто», но нам она давала разнообразный материал для знакомства с тем, от чего старая Испания трещала по швам.
Но все это, как известно, не помешало после Амедея Сивы реставрации Бурбонов в виде сына Изабеллы, воспитанного в Австрии. И тогда уже нам, заезжим иностранцам, обязанным давать читателям наших газет итоги тогдашнего политико-культурного status quo Испании, было видно, что ни к республике, ни к федерации нация эта еще не была готова. Слишком было еще много разной исторической ветоши в темноте массы, в клерикализме, в бедности, в общем «спустя рукава», напоминавшем мне мое любезное отечество.
В народе сохранялись симпатичные черты характера, но невежественность не только в простом народе, но и в буржуазии поражала, особенно среди женщин.
Наша милая хозяйка принадлежала к среднему чиновному классу, ее девицы воспитывались, как «барышни», бренчали на фортепьяно, пели, читали переводные французские романы. Но они были чудовищно необразованны. Они не знали даже, как называются столицы главных европейских государств. Для одной из них слово «Francia» было собирательным именем для каждой чужой страны, в том числе и России. Но все-таки испанки — и после парижанок — привлекали к себе грацией, своим щебетаньем, ласковостью и наивностью. После типа их красоты и миловидности все уже потом кажется более резким в наружности и тоне — француженки, немки, славянки.
Мы с Наке много были благодарны нашим молодым хозяйкам за их старания о том, чтобы мы постоянно практиковались в разговоре по-испански. При особых уроках, которые нам давал студент, дело шло довольно споро, но Наке язык давался легче как истому провансальцу, легче по своей лексике и грамматическим формам.
Произношение мне далось очень легко, и когда мы попали в Севилью, в редакцию журнала «Andalusie», то нам произвели экзамен по части «прононса» и поставили мне высшую отметку и не хотели верить, что я всего полтора месяца жил перед тем в Мадриде. Нам, русским, ничего не стоит произносить хорошо звук «хоты», то есть нашхер, а французу он никогда как следует не дается.
Испанский (или, правильнее, кастильский) язык не так полнозвучен, как итальянский. В его произношении есть какая-то обязательная шепелявость (буквы «с» и «z»), но он, особенно в устах женщин, имеет только ему принадлежащую нежность, а в порывах мужского красноречия может подниматься до громовых звуков и до высокой благозвучности. Мы, русские, очень мало им интересуемся, даже и до последнего времени. А тогда у нас и совсем не было в ходу хоть какое-нибудь знание испанского языка.
В манере говорить, в тоне, в интонациях я находил некоторое сходство светских и вообще образованных испанцев с русскими. Даже и много лиц напоминали мне моих соотечественников, в особенности среди мадридцев и уроженцев северных испанских провинций. На юге сарацинская кровь изменила тип — и окрашивание кожи, и весь облик — хотя и там, например, в Севилье, вы встречаете немало блондинок с золотистыми или более темно-рыжими волосами.
В Андалузию мне удалось попасть опять благодаря юркости и знакомствам моего Наке. Он примкнул к целой группе депутатов, все больше из республиканской оппозиции, для поездки в южные города, где те должны были собирать митинги и выступать на них как ораторы.
Денег у нас было очень мало, и редакции продолжали держать нас впроголодь. Наке выхлопотал и себе и мне даровой проезд по железным дорогам, а муниципалитеты таких городов, как Кордова, Кадикс, Севилья, предоставляли нам даровое содержание. Но мои финансы были настолько скудны, что я — зная, что мне предстоит долгий обратный путь на Сарагоссу и Барселону, не имел даже настолько лишних денег, чтобы съездить специально в Гренаду.
Мадридская жара настолько расслабила меня и расшатала мои нервы, что я решил больше не возвращаться в Мадрид, где уже не было к тому же ничего особенно такого, что требовало бы дальнейшей работы корреспондента. Наке порекомендовал мне ехать лечиться в одно знакомое ему в Швейцарии, близ Цюриха, водолечебное заведение в Альбисбрунне. Но до того мы еще немало поколесили по югу.
Наша хозяйка поручила нам довезти, по пути, до Аранхуэса одну из ее дочерей, хорошенькую Лолу. И наш спутник Тубино, возвращавшийся в свою Севилью, всю дорогу усиленно ухаживал за нею и совсем закидал ее своими чисто андалузскими цветами рыцарского красноречия.
Главной фигурой в группе депутатов был Гарридо, известный социалист, последователь доктрины Фурье, недавний эмигрант и государственный преступник. Он всего больше и выступал на народных митингах, начиная с первого нашего привала в Кордове.
Толпа в несколько тысяч человек (далеко не пятнадцать, как телеграфировал Стэнлей) наполняла небольшую четырехугольную площадь, всю обставленную домами, — толпа действительно народная, страстно, но сдержанно внимавшая ораторам, которые говорили с балкона, где помещались и все мы — корреспонденты. А в короткие антракты раздавались крики продавцов холодной воды и лакомств, сливавшиеся с музыкальным гулом толпы, где преобладали подгородние крестьяне.
В Севилье не было устроено такого же народного митинга, хотя мы там пожили подольше.
До сих пор в моей памяти всплывает полная яркого света и пестрых красок та узкая улица, покрытая сверху парусинным завесом, где бьется пульс городской жизни, и собор, и прогулка, и отдельные дома с их восточным внутренним двориком, и неизбежная арена боя быков, где знакомые испанцы взапуски указывали моим коллегам-французам всех знаменитых красавиц. Там национальная «мантилья» еще царила, и только некоторые модницы надевали общеевропейские шляпки.
Нашим чичероне, особенно по части архитектуры живописи, был наш приятель дон Ф. Тубино, принимавший нас и в редакции своей газеты «Андалузия», где он сгруппировал вокруг себя кружок молодых, радикально настроенных сотрудников.
Я уже сказал выше, что он считал себя специалистом по Мурильо и издал к тому времени большой том, где были обозначены все его картины, разбросанные по разным музеям и галереям Европы и Америки. Он водил нас в собор показывать там образ, который он открыл как произведение своего знаменитого земляка.
Мы были уже до отъезда из Мадрида достаточно знакомы с богатствами тамошнего Музея, одного из самых богатых — даже и после Лувра, и нашего Эрмитажа. О нем и после Боткина у нас писали немало в последние годы, но испанским искусством, особенно архитектурой, все еще до сих пор недостаточно занимаются у нас и писатели и художники, и специалисты по истории искусства.
Эта страна все еще не привлекает русских настолько, как Италия, и те, кто о ней писали в последние годы, были заезжие туристы, за совсем малыми исключениями.
Передо мною юг Испании, где и физически лучше дышалось, даже и в жаркое время, промелькнул, как нечто необычайно милое, яркое и своеобразное.
И что особенно привлекало меня лично — это тип андалузского поселянина, его живописный вид, посадка, костюм. И во всем проглядывала еще эпоха владычества мавров. Даже его шапочка напоминает мусульманский головной убор, и арабское седло его лошади, и длинная винтовка, и вся его посадка в седле.
В окрестностях Севильи, в одной упраздненной церкви, наши спутники-депутаты устроили такой митинг, где заставили говорить и Наке, и даже меня.
Наке уже мог сочинить несколько фраз, а я удовольствовался только обращением к моим слушателям, где преобладали рабочие и их жены, назвав их рабочими Севильи, а остальное говорил по-французски.
Говорили мы с церковной кафедры, и это представлялось нам чем-то точно сказочным. Позади меня стоял наш друг Тубино и переводил по-испански каждую фразу. Слушатели шумно нам рукоплескали.
Всего поразительнее было то, что это была, хотя и упраздненная, но все-таки церковь, с алтарями. И на главном алтаре жены и дочери рабочих преспокойно себе сидели, спустив ноги, как со стола, и в антракты весело болтали. Никак уже нельзя было подумать, что мы в стране, где клерикальный гнет и после Сентябрьской революции 1868 года продолжал еще чувствоваться всюду. Объяснялось оно тем, что рабочие, сбежавшиеся на эту сходку, принадлежали к республиканской партии и тогда уже были настроены антиклерикально.
Кроме рабочих, съехалось и немало окрестных крестьян. И они возвращались по домам верхом, в своих арабских седлах, в широчайших шароварах, обшитых внизу кожей, и с винтовкой, прикрепленной по-персидски, позади седла.
Доезжали мы и до Кадикса, где городской муниципалитет оказал нам самое широкое гостеприимство, платил за наше содержание в отелях и всячески чествовал.
Кадикс — весь ярко-белый с ярко-зелеными ставнями — выплывал, точно он из морской пены, весь чистый, нарядный, прославленный красотой своих женщин.
Близ Кадикса, в Хересе де ля Фронтеро нас угощали в каменных бараках миллионной фирмы Гонзалеса винами, хранящимися в громадных бочках, названных по именам патриархов. Когда племянник владельца, молодой человек, учившийся в Париже, спросил нас: «Какого года вино желаете вы, сеньоры, начать пробовать?» — то Гарридо ответил за всех нас: «Я самый здесь старый. Мне уже под пятьдесят. Если угодно, с этого года и начнемте». Мы вышли оттуда под вечер в самом розовом настроении, остановившись на каком-то «Мафусаиле», бочке выше ста лет от роду. И нас в тот же день пригласила какая-то крестьянская винодельческая кооперация. Ее винцо было после тех великолепных и молодо и жидко; но зато настроение этих виноделов было не только демократическое, но и коммунистическое.
Пора было ехать в Швейцарию, восстановлять свою бодрость.
Путь мой лежал на Сарагоссу (где я не останавливался) и Барселону, где провел два дня.
Дорога всегда «кусается», а тут надо было перебраться через Пиринеи и проехать всей южной Францией, прежде чем добраться до немецкой Швейцарии, а на разъезды я, как говорил выше, ничего от редакции не получал.
Барселону нашел я красивым, культурным городом, но в нем мало испанского, как и быть следовало, потому что каталонцы — особая раса и гораздо ближе стоят к провансальцам, чем к кастильцам. Они давно бы отделились от центра Иберийского полуострова, что и сказалось в целом ряде вспышек, вплоть до громадных взрывов в 1909 году.
Я останавливался в прекрасном отеле «Las Quatoras naciones», осматривал город, гулял по его красивому бульвару Ramble, но заживаться не мог, да и не хотел, потому что действительно был очень утомлен и о швейцарской водолечебнице мечтал, как о «возрождающей купели».
Хотел было я дешевым способом переплыть море до Сетты на пароходе, но мне в конторе пароходства сказали, что пароход, отправлявшийся в эту гавань, товарный и нагружен будет, главным образом… баранами. Это меня не восхитило. Я предпочел более сложный и дорогой способ — ехать в дилижансе через горный хребет.
Перевал этот для туриста был очень характерный. Самый дилижанс, его упряжь с мулами вместо лошадей, станции, пассажиры, еда дорогой, а главное — горные кручи, виды, — все это отбрасывало вас к таким картинам, какие попадаются в «Дон-Кихоте».
Я взял место наверху, с кучером. Верх этот был покрыт в виде огромной фуры, и там лежали чемоданы. И я туда удалялся в ночевку, когда привык к тем жутким ощущениям, какие давала вам быстрая езда на шести мулах гусем и головокружительные вольты мулов на крутых поворотах.
Перевал этот был по тому времени небезопасным и в другом смысле. Как раз в тех местностях Пиринеев держались банды карлистов, и наш дилижанс мог быть весьма легко целью нападения. Среди пассажиров был молоденький артиллерийский офицерик. Мы с ним разговорились на одном из привалов, и его безусая рожица не внушала никакого успокоения на случай атаки карлистов. Но все обошлось мирно. Ночь стояла лунная и очень свежая, так что я продрог под легким пледом, но крепко заснул к полуночи и рано утром проснулся уже во Франции, в городе Перпиньяне.
С высоты моего империала я увидал внизу, у дилижанса, фигуру французского комиссара в форменной фуражке с серебряным шитьем на околыше. Он осматривал паспорта у пассажиров. Время было тревожное, и французское правительство не желало пропускать к себе инсургентов. А инсургентами были карлисты.
Всем почти югом Франции я проехал, нигде не останавливаясь, и добрался наконец до вожделенного Альбисбрунна, где тогда царила старинная система водолечения по методу Присница, когда-то очень знаменитая. Сторонником ее был один из моих дядей — В. В. Боборыкин. Он и в деревне по утрам гулял, останавливаясь у каждого колодца или ключа, и выпивал стакан воды.
Основатель этого заведения, старый врач, был еще жив, и он заставил меня проделать все виды лечения, начиная с питья воды и кончая гимнастикой.
Но самая на первых порах жуткая операция была — обволакивание вас в постели ранним утром холодной простыней. Верзила-швейцарец входил к вам с словами: «Доброе утро, хорошо ли вам спалось?» — и безжалостно начинал погружать вас в этот холодный и мокрый саван. Но через пять минут вы начинали чувствовать приятную теплоту, и когда вас спускали вниз, в отделение гидротерапии, на руках, вы бывали уж в транспирации и вас окачивали опять холодной водой.
Через несколько дней с меня моя мадридская «прострация» окончательно слетела. Я вошел в норму правильной гигиенической жизни с огромными прогулками и с умеренной умственной работой. От политики я еще не мог отстать и получал несколько газет, в том числе и две испанских; но как газетный сотрудник я мог себе дать отдых, привести в порядок мои заметки, из которых позднее сделал несколько этюдов, вернулся и к беллетристике.
Мой роман «На суд», писанный отчасти и в Мадриде, не мог не пострадать от моих переездов. В моей келье Альбисбрунна писалось совсем иначе, хотя и «с прохладцей». Но легче дышалось от чувства полной свободы от всякой обязательной беготни, да еще в африканскую жару.
Заведение, его цены и весь склад жизни были мне по вкусу… и по состоянию моих финансов. Все было довольно просто, начиная с еды и сервиса; а общество за дабльдотом собиралось большое, где преобладали швейцарцы и немцы, но были и иностранцы из северной Италии, даже светские и элегантные дамы. С одним англичанином мы сошлись и пешком ходили с ним через горный лес в ближайший городок Цуг и обратно.
Близилась осень, и я начал опять составлять программу переездов.
С Парижем я не прощался. Там я имел постоянную работу у Корша, и мои фельетоны «С Итальянского бульвара» приобрели себе весьма сочувственную публику.
Но перед новым переездом в континентальную «столицу мира» я столкнулся с русской молодежью в двух местах в Швейцарии.
Сначала — в Цюрихе, куда я ездил из Альбисбрунна каждую субботу в ночевку и оставался там целые сутки. Там очутился тот самый магистрант-ботаник Петунников, с которым мы жили в Париже в зиму 1865–1866 года. Он состоял пестуном и руководителем занятий одного юноши, сына миллионщицы, московской фабрикантши, которая послала его учиться в Цюрих. Там же, около них, группировался целый кружок русских студентов, больше москвичей, слушателей Политехникума и университета. Некоторых из них я до сих пор видаю в Москве.
Меня очень замолаживала (как любил выражаться Тургенев) эта молодая, шумная, жизнерадостная компания. Мы вместе и обедали в одном из дешевых ресторанов Цюриха, до сих пор существующем. А домой к себе, в Альбисбрунн, я возвращался обыкновенно с книжками «Вестника Европы», который выписывал для своего питомца Петунников. Тогда печатался «Обрыв» Гончарова.
«Вестника Европы» я давно не читал, ни в Париже, ни в других местах. С редакцией я не имел еще тогда никаких личных сношений и только в конце 1873 года сделался его сотрудником на целые десятки лет.
Новый роман Гончарова (с которым я лично познакомился только летом следующего, 1870, года в Берлине) захватывал меня в чтении больше, чем я ожидал сам. Может быть, оттого, что я так долго был на чужбине (с января 1867 года) и русская жизнь в обстановке волжской природы, среди которой я сам родился, получала в моем воображении яркие краски и рельефы.
Центральную сцену в «Обрыве» я читал, сидя также над обрывом, да и весь роман прочел на воздухе, на разных альпийских вышках. Не столько лица двух героев. Райского и Волохова, сколько женщины: Вера, Марфенька, бабушка, а из второстепенных — няни, учителя гимназии Козлова — до сих пор мечутся предо мною, как живые, а я с тех пор не перечитывал романа и пишу эти строки как раз 41 год спустя в конце лета 1910 года.
Но это возвращение на родину, в виде художественного произведения, не было настолько сильно, чтобы меня неудержимо потянуло туда.
Мне все-таки жилось за границей настолько легко и разнообразно, что променять то, что я там имел, на то, что могла мне дать жизнь в Петербурге или Москве, было очень рискованно. А главный мотив, удерживавший меня за границей, был — неослабшая еще во мне любовь к свободе, к расширению моих горизонтов во всех смыслах — и чисто мыслительном, и художественном, и общественно-политическом.
Альбисбрунн и молодую компанию Цюриха я оставил не без сожаления и перед возвращением в Париж на осенний сезон, побывал на конгрессе вроде того, как был в предыдущем году в Берне. На этот раз он собирался в Базеле. На нем я нашел опять и русских эмигрантов. Роль вожака и как бы диктатора играл между ними все тот же Николай Утин. Около него состоял целый кружок, больше из женщин. Одну из них, замужнюю барыню дворянского рода, я потом встречал в Петербурге. И там она совсем преобразилась в очень скромную и даже щепетильную барыньку; а в той группе держалась особого жаргона, манер и тона. И все это было у них игра и поза! Мы ехали с ними куда-то в одном вагоне, и они нарочно употребляли в громком разговоре словечки вроде «лопать» и «трескать», когда тут же ели какие-то фрукты.
Бакунинская пропаганда анархизма и кружковщины русских отняли у этих конгрессов «Мира и свободы» их первоначальный характер и превратили их во что-то мелко-агитационное, нимало не служившее ни идее мира, ни идее свободы.
Из всех тогдашних конгрессов, на каких я присутствовал, Съезд Интернационального Союза рабочих (о котором я говорил выше) был, без сомнения, самый содержательный и важный по своим последствиям. Идеи Маркса, создавшего это общество, проникли с тех пор всюду и у нас к половине 90-х годов, то есть около четверти века спустя, захватили массу нашей молодежи и придали ее настроениям гораздо более решительный характер общественной борьбы и наложили печать на все ее мироразумение.
И вот начался опять для меня мой корреспондентский сезон 1869–1870 года. Я стал заново писать свои фельетоны «С Итальянского бульвара» в ожидании большого политического оживления, которое не замедлило сказаться еще осенью.
Те стороны Парижа — и театральное дело, и лекции, и знакомства в разных сферах — теряли прелесть новизны. Политический «горизонт», как тогда выражались в газетах, ничего особенно крупного еще не показывал, но Париж к зиме стал волноваться, и поворот Бонапартова режима в сторону конституционного либерализма, с таким первым министром, как бывший республиканец Эмиль Оливье, не давал что-то подъема ни внутренним силам страны, ни престижу империи.
Я поселился все в том же отельчике «Victoria», наискосок старой Оперы, и с наступлением осенних непогод часто простуживался, и в ту зиму вообще стал испытывать на себе неприятности от плохой топки каминов и простуду рук и ног (angelures et gergures), каких мы в России совсем и не знаем. Дома я много работал и над беллетристическими вещами, и над переводом «Гамбургской драматургии» Лессинга — труд, который я задумал еще в Вене, заручившись матерьяльной поддержкой одного русского театрала, с которым познакомился там, в кружке русских. Эта работа нашла потом в Петербурге другого издателя, но почему-то он, начав печатать, не окончил его, и так мой труд, тогда по счету первый, и погиб.
Кто-то привел ко мне в отель «Victoria» русского эмигранта, но не политического, а покинувшего родину от расстроенных дел, некоего Г. Он прошел через большую нужду, работал сначала на заводе под Парижем, а в России, на юге, был сын богатого еврея-подрядчика и запутался на казенных поставках. Он позднее не скрывал того, что он еврей, но совсем не смотрел типичным евреем ни в наружности, ни в говоре, а скорее малороссом.
Он был очень рад иметь у меня письменную работу. Я ему диктовал и «Драматургию» и статьи. Нрав у него был тихий, почерк прекрасный, и весь он вызывал к себе сочувствие. С переездом моим в Вену я его взял туда с собою и потом переправил его в Прагу, где он хотел найти себе более прочный заработок, долго болел и кончил самоубийством — утопился в Дунае.
В самом начале театрального сезона 1869–1870 года в «Водевиле» дебютировала молодая артистка, по газетным слухам — русская, если не грузинская княжна, готовившая себя к сцене в Париже. Она взяла себе псевдоним «Дельнор». Я с ней нигде перед тем не встречался, и перед тем, как идти смотреть ее в новой пьесе «Дагмар», я был скорее неприязненно настроен против этой русской барышни и ее решимости выступить сразу в новой пьесе и в заглавной роли в одном из лучших жанровых театров Парижа.
Несмотря на ее эффектную наружность и то, что она была соотечественница, я разобрал ее игру очень строго — даже и к тому, какие она делала погрешности против дикции парижских лучших артистов. Разбор этот вошел в один из моих очередных двухнедельных фельетонов «С Итальянского бульвара».
И эта м-lie Delnord через два года в Петербурге поступила в труппу Александрийского театра под именем Северцевой, лично познакомилась с «суровым» критиком ее парижских дебютов, а еще через год, в ноябре 1872 года, сделалась его женою и покинула навсегда сцену. И то, что могло в других условиях повести к полному нежеланию когда-либо узнать друг друга — кончилось сближением, которое повело к многолетнему браку, к полному единению во всех испытаниях и радостях совместной жизни.
С Вырубовым мы продолжали видаться. Журнал его и Литтре «La philosophic positive» шел себе полегоньку, и по четвергам были у него вечера, куда Литтре являлся неизменно, выпивал одну чашку чаю и удалялся, как только пробьет одиннадцать.
От Вырубова же я узнал, что А. И. Герцен приезжает из Швейцарии в Париж на весь сезон и будет до приискания постоянной квартиры жить в Hotel du Louvre. Вскоре потом он же говорит мне:
— Герцен все повторяет — когда же вы познакомите меня с Боборыкиным?
Он очень хвалил ему мои письма и фельетоны в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в «Голосе». От кого он узнал, что я подписывал свои письма в «Голосе» звериным числом 666, я не знаю, но некоторые фельетоны появлялись там и с моей полной фамилией.
Мне было лестно это слышать, и я был рад, что дожил до того момента, когда личная встреча с Герценом отвечала уже гораздо более тогдашней моей «платформе», чем это было бы в 1865 году в Женеве. Теперь это не было бы только явлением на поклон знаменитому эмигранту. Да и он уже знал достаточно, кто я, и был, как видно, заинтересован тем, что я печатал в русских газетах. На то, чтобы он хорошо был знаком со мною как с беллетристом, я и про себя никакой претензии не заявлял.
Не без волнения ждал я вырубовского четверга.
Когда я вошел в гостиную, Герцен вел оживленный разговор с Литтре. Кроме меня, из русских был еще Е. И. Рагозин (впоследствии обычный посетитель герценовских сред) и еще кто-то из сотрудников «Philosophic positive» — быть может, некий доктор Unimus, практикующий теперь в Монте-Карло.
Внешность Герцена, в особенности его взгляд и общий абрис головы, очень верно передавал известный портрет работы Ге, который я уже видал раньше.
Для тогдашнего своего возраста (ему шел 58-й год) он смотрел еще моложаво, хотя лицо, по своему окрашиванью и морщинам, не могло уже назваться молодым. Рост пониже среднего, некоторая полнота, без тучности, широкий склад, голова немного откинутая назад, седеющие недлинные волосы (раньше он отпускал их длиннее), бородка. Одет был в черное, без всякой особой элегантности, но как русский барин-интеллигент.
Это барство, в лучшем культурном смысле, сейчас же чувствовалось — барство натуры, образования и всей духовной повадки. Тургенев смотрел более барином и был тоже интеллигент высшей марки, но он, для людей нашей генерации и нашей складки, казался более «отцом», чем Герцен.
В А. И. чуялось что-то гораздо ближе к нам, что-то более демократическое и знакомое нам, несмотря на то, что он был на целых 6 лет старше Тургенева и мог быть, например, свободно моим отцом, так как родился в 1812, а я в 1836. Но что особенно, с первой же встречи, было в нем знакомое и родное нам — это то, что в нем так сохранилось дитя Москвы, во всем: в тембре голоса, в интонациях, самом языке, в живости речи, в движениях, в мимической игре.
Я должен здесь по необходимости повторяться. О встрече с Герценом, нашем сближении, его жизни в Париже, кончине и похоронах — я уже говорил в печати. Но пускай то, что стоит здесь, является как бы экстрактом пережитого в общении с автором «Былого и дум» и «С того берега».
Так, я уже высказывался в том смысле, что для меня большое сходство (хотя и не черт лица, в деталях) между ним и К. Д. Кавелиным, которого я лично знал раньше. Оба были типичные москвичи одной и той же эпохи. В особенности в языке, тоне речи и ее живости. Они недаром были так долго друзьями и во многом единомышленниками и только под конец разошлись, причем размолвка эта была для Кавелина очень тяжкой, что так симпатично для него проявляется в его письмах, гораздо более теплых и прямодушных, чем письма к Герцену на такую же тему Тургенева.
Разговор Герцена с Литтре продлился, кажется, весь вечер, и для меня он точно нарочно был приготовлен, чтобы сейчас же показать, с каким философским миропониманием кончал Герцен свою жизнь: через три месяца его уже не было в живых.
Не помню, кто начал это прение (это был не просто разговор, а диалектический турнир), но Герцен гораздо больше нападал, чем защищался.
Сначала мне казалось странным: о чем же, собственно, спорить двум сторонникам научного, а не метафизического мышления? Ведь Герцен имел перед собою самого выдающегося поборника тогдашнего позитивизма? Но дело-то в том, что А. И., хотя и был когда-то естественник и держался выводов точной науки, но в нем еще не умер вполне гегельянец и вообще «диалектик». Его слишком точный «позитивизм» не удовлетворял, и он сразу же начал делать Литтре возражения, как бы стал делаться не только сторонником идеализма, но и материализма, а Огюст Конт считал материалистическое credo тоже за метафизику.
Вырубов не вмешивался в этот спор, но по игре его физиономии видно было, что он ничего другого и не ожидал от Герцена. Мне лично было неприятно, главным образом, то, что А. И. слишком субъективно и, так сказать, «литературно» нанизывал свои возражения, и Литтре, вообще очень неречистый, побивал его без всяких усилий диалектики. Мне так казалось не потому только, что я тогда был более правоверный позитивист, чем впоследствии, когда и по этой части много воды утекло, а мне было неприятно видеть, что А. И., при всей живости его доводов и обобщений, все-таки уже отзывался в своем философском credo Москвой 40-х годов.
То же впечатление этот спор произвел и на Е. И. Рагозина, и я помню, что мы, выйдя в другую комнату, обменялись нашим впечатлением именно в этом смысле.
Кроме того, выходило так, что Литтре не сразу схватывал фразеологию своего собеседника. Герцен бойко вел французский разговор, но думал он при этом не по-французски, а по-русски и целиком переводил фразы своего полугегельянского жаргона, чем и приводил не раз Литтре в недоумение.
Но все-таки от человека получилось сразу нечто очень живое, искреннее и смелое, хотя он как мыслитель, на нашу тогдашнюю оценку, и не стоял уже на высоте строго научного мироразумения и теории познания.
Вскоре после того мы с Вырубовым посетили А. И. При нем тогда была только Н. А. Огарева и их дочь Лиза, официально значившаяся также как девица Огарева. Он просил меня навещать его и собирался взять на зиму меблированную квартиру. Но это ему не удалось тогда сделать. Он получил депешу, что его старшая дочь Н. А. серьезно заболела какой-то нервной болезнью, и он тотчас же решил ехать во Флоренцию, где она гостила тогда у брата своего Александра, профессора в тамошнем Институте высших наук.
И когда мы пришли потом с ним проститься и уходили, А. И. на площадке просил нас бывать у его «дамы», причем мне бросилось в глаза то, что он не говорил об Огаревой как о своей «гражданской» жене и, как бы немного стесняясь, прибавил:
— Вы спросите госпожу Огареву.
Это было вполне корректно, но нам тогда казалось, что для такого радикальномыслящего человека, как Герцен, можно бы и не делать «щекотливого вопроса» из своих совершенно законных отношений к женщине, с которой он жил в настоящем браке и имел от нее дочь.
Но ведь и Лиза, с которой я очень быстро сдружился, о чем сейчас расскажу, никогда при нас не говорила ему «papa» или «отец» и даже не была с ним на «ты», а называла всегда с своей англо-французской картавостью «Александр Иваныч», даже в его присутствии говоря о нем и в третьем лице.
Возможность дальнейшего сближения с Герценом наполняла в крупной мере тот пробел, который я чувствовал в Париже теперь сильнее, чем два года назад: скудость русского общества.
С разными «барами», какие и тогда водились в известном количестве, я почти что не встречался и не искал их. А русских обывателей Латинской страны было мало, и они также мало интересного представляли собою. У Вырубова не было своего «кружка». Два-три корреспондента, несколько врачей и магистрантов, да и то разрозненно, — вот и все, что тогда можно было иметь. Ничего похожего на ту массу русской молодежи — и эмигрантской и общей, какая завелась с конца 90-х годов и держится и посейчас.
Писателя или ученого с большой известностью — решительно ни одного; так что приезд Герцена получал значение целого события для тех, кто связывал с его именем весь его «удельный вес» — в смысле таланта, влияния, роли, сыгранной им, как первого глашатая свободной русской мысли. Тургенев изредка наезжал в Париж за эти два года, по крайней мере в моей памяти остался визит к нему в отель улицы Лафитт.
Из газетных сотрудников жили в те годы двое: Чуйко и Щербина, корреспондент «Московских ведомостей». С Чуйко я водил знакомство еще с того времени, когда на Васильевском острову я готовился к кандидатскому экзамену и он приходил к тому вольному слушателю, Калинину, с которым мы готовились на его квартире. Чуйко перебивался кое-какой газетной работой, очень нуждался, жил в плохой комнате и зимой почти что не топил ее, так что между его приятелями-русскими был в ходу анекдот — как его находили утром в постеле, покрытого, кроме одеяла и пуховика, и всем носильным платьем, причем панталоны и жилет лежали на самом верху.
У него я и познакомился с доктором Якоби, бывшим русским «довудцей» (командиром) польского восстания 1863 года, а тогда уже врачом и эмигрантом, игравшим роль среди тех русских, с которыми в Женеве, как известно, не поладил Герцен.
Тогда я еще не был близок к Герцену, как к концу 1869 года, но меня резали обличительные речи доктора Якоби, переполненные всякими пересудами и злобными прибаутками весьма сомнительного вкуса. Я стал ему возражать, ставя вопрос так, что, каким бы на оценку тогдашней эмиграции ни оказался Александр Иванович, все-таки эти господа и он — величины несоизмеримые и можно многое простить ему в личных недостатках за то, что он сделал для того движения, без которого и его тогдашние обличители из эмиграции пребывали бы в обывательском равнодушии к судьбам родины и полной безвестности.
Довольно пикантно вышло это словопрение: я, никогда не являвшийся на поклон к Герцену, и такой вот его зоил, который, наверно, значился в числе заядлых герценистов и способен был из офицера русской службы очутиться в довудцах польского восстания.
Прошло несколько недель. Я сидел за нашим маленьким табльдотом отеля «Victoria». Мы уже кончали обедать. Было около осьми часов вечера. Мне подают карточку «А. И. Герцен», и я поспешил в свою комнату, где при свете камина, кажется, даже без всякого другого освещения, мы посидели на диване с полчаса. Он только что вернулся из Флоренции и привез оттуда старшую дочь, все еще не оправившуюся от своей нервности. Ее стал лечить в Париже Шарко, которого я впервые и увидал у них. А. И. сообщил мне, что они взяли меблированную квартиру, также на Rue de Rivoli в Pavilion de Rohan, доме, который теперь принадлежит к зданиям «Magasins des Louvre».
Я был очень тронут этим неожиданным посещением и тут сразу почувствовал, что я, несмотря на разницу лет и положения, могу быть с А. И. как с человеком совсем близким. И тон его, простой, почти как бы товарищеский, никогда не менялся. Не знаю, чем он не угодил женевским эмигрантам, но ни малейшего генеральства у него не было.
Сравнение с Тургеневым тут более чем кстати. В Иване Сергеевиче, даже когда он ласково принимал вас, вы всегда находили что-то обособленное, не допускающее до настоящего сближения. Это чувствовалось даже тогда, когда я был уже, к 80-м годам, сорокалетним писателем. А в Герцене я видел вовсе не представителя поколения «отцов», а старшего собрата, с такой живостью и прямотой всех проявлений его ума, души, юмора, какая является только в беседе с близким единомышленником, хотя у меня с ним до того и не было никакой особенной связи.
О дочери и ее болезни он говорил без сладких фраз, но с задушевной простотой:
— Знаете, когда Александр прислал мне депешу сюда, я сейчас же сам собрался в путь. Он у меня человек серьезный, уравновешенный. Зря меня тревожить не стал бы. И это была для меня порядочная встряска:
Он вытянул руку из-под манжеты и указал на что-то.
— Видите? Желвак! То, что французы называют un clou. У меня диабет, и как только какое-нибудь волнение — сейчас и выскочит вот такая история!
От диабета он ведь и угас так рано. Воспаление не унесло бы его без этого осложнения в виде нарыва легкого!
Семейство А. И. было в сборе, кроме сына. Приехала и меньшая дочь Ольга, ставшая вскоре невестой профессора Моно, теперешнего известного ученого историка и важного персонажа в парижской Сорбонне.
Подругу А. И., Н. А. Огареву, я до того нигде не встречал, но довольно часто слыхал про нее и был в общих чертах знаком с ее прошлым.
Всякий бы на моем месте был удивлен — как это такая на редкость некрасивая женщина могла влюбить в себя Герцена, особенно если вспомнить, каким обаятельным представляется нам до сих пор образ его жены! Но правда и то, что та все-таки оказалась неверной женой, и хотя муж, когда она вернулась домой, принял ее с подавляющим великодушием, все-таки рана осталась на дне его души. Характерно и то, что Огарева, когда еще была девицей Тучковой, начала восторженным преклонением перед личностью покойницы и через нее получила также и культ к ее мужу. Потом, как жена Огарева, она незаметно приобретала все большее и большее влияние в семье овдовевшего Герцена. И всего этого она достигла, конечно, своим умом и характером, то есть силой воли, потому что характер ее, в тесном смысле, многие, если не все, считали неприятным.
Я нашел в ней очень умную, тонко наблюдательную, много видавшую на своем веку женщину, с большим тактом, а он нужен ей был, потому что ее положение в семействе было, для посторонних и даже более близких знакомых, какое-то двойственное: жена не жена, хозяйка не хозяйка — и все-таки что-то гораздо большее, чем просто друг дома, приятельница… Сколько я помню (могу и ошибаться), они с Герценом при посторонних не были на «ты» или, во всяком случае, не держались обыкновенного тона между мужем и женой, что было бы даже гораздо более подходяще для них обоих как врагов всякого церковного или светского формализма.
Об Огареве я не слыхал у них разговоров как о члене семьи. Он жил тогда в Женеве как муж с англичанкой, бывшей гувернанткой Лизы. Словом, они оба были вполне свободны, могли бы развестись и жениться гражданским браком для того, чтобы усыновить Лизу. Формально у Лизы было имя. Она значилась Огаревой, но никакого метрического свидетельства — в нашем русском смысле, потому что она ни в какой церкви крещена не была.
Это по тогдашним временам даже и в среде радикалов было в редкость; поэтому многим странно могло казаться, что при такой «эмансипации» от всяких предрассудков они все-таки держались почему-то двойственного положения.
С дочерьми А. И. Огарева была корректна, без особых проявлений участия или ласки. Лизу вела на особый лад так, как ее держали с младенческих лет, то есть предоставляла ей свободу — что хочет говорить и делать, что ей приятно.
Баловство замечалось больше в Герцене. Он любовался не по летам развитым умом Лизы, ее жаргоном, забавными мыслями вслух. Она и тогда еще, по тринадцатому году, была гораздо занимательнее, чем Ольга. Та ничем не проявляла того, что она дочь Герцена. Хорошенькая барышня, воспитанная на иностранный манер, без всякого выдающегося «содержания». И всего менее подходила к своему жениху, слишком серьезному французскому ученому.
Наташа тогда еще мало участвовала в общих беседах, больше молчала, но впоследствии, когда мне приводилось видеться с нею уже после смерти А. И., в ней я находил и его духовную дочь, полную сознания — какого отца она потеряла. И чертами лица она всего больше походила на него.
У Герцена собирались по средам в довольно обширном салоне их меблированной квартиры. Только эту комнату я и помню, кроме передней. В спальню А. И. (где он и работал и умер) я не заходил, так же как на женскую половину. Званых обедов или завтраков что-то не помню. Раза два Герцен приглашал обедать в рестораны.
Когда их жизнь несколько определилась, то есть к декабрю, кружок постоянных посетителей этих сред оказался очень небольшим. Из выдающихся французов политики, науки, литературы, прессы я не помню решительно никого. Может быть, они посещали Герцена днем, но на эти среды не являлись. Я только и видал Шарко (ездившего как медик к своей пациентке; тогда он еще был сильный брюнет) и жениха Ольги — Моно. Из русских, кроме Вырубова и меня, тоже не припоминаю никого, за исключением Е. И. Рагозина, являвшегося всегда в сопровождении своей невестки, жены старшего брата.
Такой «абсентеизм» русских мог показаться очень странным, особенно тем, кто помнил паломничество в Лондон к издателю «Колокола» людей всякого звания и толка — от сановников до политических агитаторов и даже раскольников и атамана наших турецких старообрядцев — некрасовцев. Но мне, уже достаточно изучившему тогдашний Париж, это не могло казаться настолько странным.
Вообще таких русских, которые сейчас бы кинулись к бывшему издателю «Колокола», почти что не было. Баре из Елисейских полей не поехали бы к нему на поклон, молодежи было, как я уже говорил, очень мало, эмигрантов — несколько человек, да и то из таких, которые были уже с ним по Женеве, что называется, «в контрах».
Наверно, водилось несколько заезжих интеллигентов, симпатично относившихся к Герцену, но они, вероятно, не решались являться прямо, а вернее и то, что совсем даже не знали, что он поселился на зиму в Париже.
Все это так, но впечатление было все-таки же довольно жуткое. Вокруг себя Герцен не мог не чувствовать пустоты, и после кризиса, пережитого «Колоколом», он уже видел, что прежний Герцен для большой русской публики перестал быть тем, чем был в Лондоне и из Лондона.
Тут сейчас же поднимается у читателя вопрос: видно ли было, что он тоскует, что его гнетет и невозможность вернуться на родину, и то, что русская публика как бы отхлынула от него?
Горечи он не выказывал в лирических, грустных или негодующих тирадах. Его натура была слишком импульсивная и отзывчивая. Он всегда увлекался беседой, полон был воспоминаний, остроумных тирад, анекдотов и отзывчивости на злобу дня — и русскую, и тогдашнюю парижскую. Дома, у себя в гостиной, он произносил длинные монологи, и каждому из нас было всегда ново и занимательно слушать его. Его темперамент по этой части в русском был прямо изумителен.
Тургенев (уже после смерти Герцена) как-то вспоминал о том времени, когда он посещал А. И. в Лондоне.
— Бывало, он говорит, говорит без умолку до поздних часов, так что бедная жена его, сидя с нами, совсем разомлеет. Я распрощаюсь с ним, он пойдет меня провожать, дорогой завернет в какую-нибудь таверну и там, за стаканом вина или эля, продолжает говорить с таким же жаром и блеском.
Горечь и ядовитые тирады прорывались у него в Париже, когда речь заходила о разных «особах» из высших сфер, мужчинах и дамах, — как они льстили ему когда-то, а потом вели себя как доносчики и клеветники.
За обедом у «Freres Provencaux» мимо нас прошла одна из таких дам петербургского «монда» и сделала вид, что не узнала его. И тогда он в нескольких штрихах дал ей беспощадную оценку.
Как раз на этом обеде я впервые увидал, насколько А. И. сохранил привычку хорошо поесть и выпить.
Он сам смотрел на себя по части «выпивки» строже, чем того заслуживал. Ему случилось даже при мне (было ли это именно тогда или позднее, точно не припомню) выразиться о себе так:
— Кто я такой? Старый пьянчужка!
Это было совсем не то, что он представлял собою по этой части.
Но, возбуждаясь вином, он делался излиятельнее, и тогда сквозь остроумные оценки событий и людей и красочные воспоминания проскальзывали и личные ноты горечи, и ядовитые стрелы летели в тех, кого он всего больше презирал и ненавидел на родине.
Громовых тирад против властей, личности Александра II, общего режима я не слыхал у него. И вообще речь его не имела характера трибунного, «митингового» (как ныне говорят) красноречия. У него уже не было тогда прямых счетов ни с кем особенно, но он к тому времени утратил почти все свои дружеские связи и, конечно, не по своей вине.
Жизнь — его темперамент, стойкость идей, симпатий и пристрастий — развела его с такими когда-то друзьями, как Е. Корш, Кетчер, Щепкин, а позднее Кавелин и Тургенев. Их переписка, вышедшая отдельной книжкой в Женеве вскоре после его кончины, всем известна, и из нее видно, как нелегко было такому другу, как Кавелин, разрывать с ним.
О Кавелине он при мне никогда не упоминал, так что и только по поводу этой печатной переписки узнал, как они были близки. Но о Тургеневе любил говорить, и всегда в полунасмешливом тоне. От него я узнал, как Тургенев относился к июньским дням 1848 года, которые так перевернули все в душе Герцена, и сделали его непримиримым врагом западноевропейского «мещанства», и вдохновили его на пламенные главы «С того берега».
Я уже приводил, кажется, в другом месте то, что А. И. в лицах представил мне — когда они стояли где-то на улице, где войска под командою генерала Ляморисьера усмиряли восставших увриеров.
— А он (то есть Тургенев) смотрит на лошадь генерала и восхищается — какие у ней богатые стати!
И рассказ о том, как он повел Тургенева к знаменитому доктору Р-ру, и тот говорит ему про его приятеля:
— Что это за дряблая натура! Человеку всего тридцать лет, а он уже совсем седой.
У Герцена была такая же привычка прохаживаться насчет Тургенева, как у другого его приятеля, Григоровича, который и до смерти, и после смерти Тургенева был неистощим в анекдотах и юмористических определениях натуры и характера Ивана Сергеевича. Но с Григоровичем можно было и до смерти сохранять внешнее приятельство, а с такой личностью, как Герцен, принципиальная рознь должна была рано или поздно всплыть наверх, что и случилось.
Герцен и в последние годы не потерял веры в устои народной экономической жизни, в общину, в артель. Он остался таким же пламенным обличителем буржуазной культуры. А Тургенев не хотел быть ничем иным, как западником и умеренным либералом.
Они, как известно, одно время совсем разошлись и незадолго до этой зимы 1869–1870 года опять наладили немного свою переписку. Но все-таки у Герцена чувствовался против него то, что называется «зуб». Он и на его роман «Отцы и дети» все еще смотрел строгонько, если не совсем так, как в 1862 году, но с весьма вескими оговорками. И в художественном смысле не ставил его на подобающую высоту. Это меня гораздо сильнее удивило бы, если б я не брал в соображение — до какой степени первое впечатление может залезть в душу и питаться дальнейшим разладом политико-социального credo.
Вообще же, насколько я мог в несколько бесед (за ноябрь и декабрь того сезона) ознакомиться с литературными вкусами и оценками А. И., он ценил и талант и творчество как человек пушкинской эпохи, разделял и слабость людей его эпохи к Гоголю, забывая о его «Переписке», и я хорошо помню спор, вышедший у меня на одной из сред не с ним, а с Е. И. Рагозиным по поводу какой-то пьесы, которую тогда давали на одном из жанровых театров Парижа. Рагозин напал на автора за несимпатичную тенденцию его пьесы и разбирал ее совершенно в духе нашей «направленской» критики. А Герцен — и тут же, во время нашего спора, и потом, с глазу на глаз со мною — оценивал пьесу без всякой чисто публицистической узости.
О молодых тогдашних русских писателях у него не было повода высказаться: о Гл. Успенском или о Помяловском. Имя Михайловского (уже тогда начавшего писать) он ни разу не упоминал, так же как и про других писателей, более ранних генераций. Не заходила ни разу речь о Льве Толстом, а тогда он уже был автором «Войны и мира». К Некрасову он сохранял все то же неприязненно-брезгливое отношение, мотив которого слишком хорошо известен. И о поэте Тютчеве он рассказал очень язвительно такую подробность — как тот где-то за границей при входе Герцена читал вслух что-то из «Колокола» (или «Былого и дум») и восхищался так громко, чтобы Герцен это слышал, а потом, когда ветер переменился, выказал себя таким же, как и множество других, приезжавших на поклон к издателю «Колокола».
Если б можно было для нас, бывавших у А. И., предвидеть, что смерть похитит его через какие-нибудь несколько недель, я первый стал бы чаще наводить его на целый ряд тем, где он развернулся бы «вовсю» и дал возможность воочию чувствовать его удельный вес как человека, писателя, мыслителя, политического деятеля.
Все это я лично оценил вполне только после его смерти, когда стал изучать его произведения на досуге вплоть до самых последних годов, когда в Москве и Петербурге два года назад выступил впервые с публичными лекциями о Герцене — не одном только писателе-художнике, но, главным образом, инициаторе освободительного движения в русском обществе.
В Париже блестящий собеседник заслонял собою писателя высокого таланта, а издатель «Колокола» тогда, и по собственному сознанию, уже потерял обаяние на читающую массу своей родины. Мне кажется, возвратись он тогда в свою родную Москву, он и там не сделался бы «властителем дум» молодых поколений. В Петербурге было бы то же, если еще не хуже, потому что его счеты с нашей эмиграцией были еще слишком свежи. А между тем до какой же степени он — как талант, ум и революционный подъем социальной критики — был выше не только тогдашнего общего уровня, но даже и двадцать и тридцать лет спустя.
Как это часто бывает, в Герцене человек, быть может, в некоторых смыслах стоял не на одной высоте с талантом, умом и идеями. Ведь то же можно сказать о таком его современнике, как Виктор Гюго и в полной мере о Тургеневе. И в эти последние месяцы его жизни у него не было и никакой подходящей среды, того «ambiente», как говорят итальянцы, которая выставляла бы его, как фигуру во весь рост, ставила его в полное, яркое освещение.
Я высказываю здесь искренно и без всяких оговорок тогдашние свои впечатления. У нас этого — я знаю! — не любят; у нас или кружковое недоброжелательство (жертвой которого сделался и он), или приторная слащавость, и притом «задним числом».
Но и тогда, каким я находил Герцена как сына своей эпохи, как писателя и общественного деятеля второй половины XIX века, он выдержал бы сравнение с кем угодно из выдающихся людей в России и за границей, с какими меня сталкивала жизнь до той эпохи.
До конца 1869 года я был знаком с такими беллетристами, учеными и журналистами, как Островский, Писемский, Полонский, Костомаров, Бутлеров, Лавров, когда-то друзья Герцена Кетчер и Е. Корш, В. Корш, Анненков, Тургенев и столько других. Герцен был и тогда, в сущности, всех интереснее, блестящее и живее, горячее, отзывчивее на все крупные вопросы не одной своей родины, но и всего человечества. И за границей я мог уже и тогда прикинуть его к таким писателям, как Дюма-сын, Жюль-Симон или Готье во Франции, как Дж. Элиот, Льюис, Фредерик Гаррисон — в Англии.
Если он в чисто философском смысле не стоял на высоте Герберта Спенсера, или Литтре, или даже Дж. Ст. Милля, то ведь тут нужен другой оселок. Но я беру цельность писательской личности, в которой ум, талант и гражданские чувства сочетались бы в такое целое.
В нем и тогда чувствовался всего более и общечеловек и европеец, который сам пережил и перестрадал все «проклятые» вопросы XIX века и поднялся над всем тем, чем удовлетворялось большинство его сверстников, не исключая, быть может, и такого изысканного европейца, каким был или казался Тургенев.
Тургенев был, пожалуй, в общем тоньше его образован, имел более разностороннюю словесную эрудицию и по древней литературе, и по новой, но он в разговорах с вами оставался первее всего умным собеседником, редко во что клал душу, на много вопросов и совсем как бы не желал откликаться.
Как я замечал и выше, вы (хотя я, например, был уже в конце 60-х годов мужчиной тридцати лет) всегда чувствовали между собою и Тургеневым какую-то перегородку, и не потому, чтобы он вас так поражал глубиной своего ума и знаний, а потому, что он не жил так запросами своей эпохи, как Герцен, даже и за два месяца до своей смерти.
Могу его сопоставить — опять-таки, каким он был тогда, — со всеми крупнейшими писателями, нашими и иностранными, которых знал лично. Это ведь были в России Некрасов, Л. Толстой, Салтыков, Григорович, Михайловский, Гаршин, Короленко, Горький, Андреев, разные критики и публицисты, профессора и адвокаты, не исключая и таких как Спасович, Утин, князь Урусов. А за границей — французские романисты Гонкур, Золя, Доде, Мопассан, Бурже, психолог Рибо, Ренан и много других. Герцен никому не уступил бы цельностью своего душевного облика, содержанием своего политико-социального credo, не говоря уже о блеске и силе его диалектики.
Если в наших тогдашних разговорах он очень мало касался известных русских писателей, то и об эмиграции он не распространялся. Он уже имел случай в печати охарактеризовать ее отрицательные качества; с тех пор он, по крайней мере в Париже, не поддерживал деятельных революционных связей, но следил за всем, что происходило освободительного среди молодежи.
При мне зашла речь о Нечаеве, тогда уже прославившемся революционере. Кажется, сначала Герцен верил в него, но в это время он уже начинал распознавать, что, в сущности, представлял собою этот террорист как личность.
Настроение А. И. продолжало быть и тогда революционным, но он ни в чем не проявлял уже желания стать во главе движения, имеющего чисто подпольный характер. Своей же трибуны как публицист он себе еще не нашел, но не переставал писать каждый день и любил повторять, что в его лета нет уже больше сна, как часов шесть-семь в день, почему он и просыпался и летом и зимой очень рано и сейчас же брался за перо. Но после завтрака он уже не работал и много ходил по Парижу.
После долгой жизни на чужбине, где я, хотя и сталкивался с русскими, но не был вхож почти что ни в один русский семейный дом, меня очень согрела скоро сложившаяся близость с домом Герцена.
Связующим звеном явилась всего больше Лиза, или «Лизок», как ее звали. Эта слишком рано развившаяся девочка привыкла с детства постоянно обходиться с большими. Про ее жаргон ходило много анекдотов, вроде того, что она садилась в Лондоне в приемные дни А. И. на диван и задавала гостю вопросы, вроде:
— Скажите, что нового в политическом мире? — когда ей шел всего седьмой год.
При переездах последних лет ее ничему правильно не учили, и она, говоря по-французски и по-английски с отличным акцентом, по-русски говорила почти что как иностранка, с сильной, хотя и милой, картавостью. Она и смотрела скорее английским подростком, чем русской девочкой по тринадцатому году; блондинка, с одной чисто британской особенностью: у нее выдавались два зуба в верхней челюсти, и она носила машинку из каучука, которая ее ужасно раздражала. Такою она у меня в «Дельцах», где есть девочка, вроде нее, дочь вдовы эмигранта, вернувшейся в Петербург.
Лиза не была похожа ни на своего официального отца Огарева, ни на настоящего — Герцена, ни на мать ее.
Я не видал ее взрослой девушкой и не могу сказать— что из нее вышло, но знаю от многих, в том числе и от Тургенева, что вышло что-то весьма малоуравновешенное. И неудачная любовь, вместе с сознанием, что она ничего хорошо не знает и ни к чему не подготовлена, были, вероятно, мотивами ее самоубийства, навеявшего мне рассказ «По-русски» в виде дневника матери.
Но тогда, то есть в конце 1869 года в Париже, она была пленительный подросток, и мы с ней быстро сдружились. Видя, как она мало знала свой родной язык, я охотно стал давать ей уроки, за что А. И. предложил было мне гонорар, сказав при этом, что такую же плату получает Элизе Реклю за уроки географии; но я уклонился от всякого вознаграждения, не желая, чтобы наше приятельство с Лизой превращалось в отношения ученицы к платному учителю.
На рождество я купил ей книжку популярной химии — в память моего когда-то увлечения этой наукой, и попросил Н. А. Огареву, как это делали нам, детям, положить ей книжку под подушку. И это было всего за несколько дней до болезни А. И.
В это время Париж сильно волновался. История дуэли Пьера Бонапарта с Виктором Нуаром чуть не кончилась бунтом. Дело доходило до грандиозных уличных манифестаций и вмешательства войск, Герцен ходил всюду и очень волновался. Его удивляло то, что наш общий с ним приятель Г. Н. Вырубов как правоверный позитивист, признающий как догмат, что эра революции уже не должна возвращаться, очень равнодушно относился к этим волнениям.
— Помилуйте! — говорил мне Герцен своим горячим, проникновенным тоном, — это не молодой человек, а мудрорыбица какая-то!
Это прозвище было так удачно придумано, что мы потом не иначе звали нашего позитивного философа, по крайней мере за глаза, как «мудрорыбица».
Не только днем Герцен выходил во всякую погоду, До и вечером — интересовался разными «conferences» на политические темы. И на одной из них тогдашнего молодого радикального публициста Вермореля в известной тогда Salle des capucines он и простудился. Первые два дня никто еще не видел ничего опасного в этой простуде, и среда прошла без участия хозяина, но без всякой особой тревоги. Его стал лечить все тот же Шарко. И на третий же день определилось воспаление легкого, которое от диабета вызвало нарыв.
Я ходил каждый день узнавать о его здоровье в дообеденные часы. Сначала ко мне выходила Огарева, а потом стала высылать Лизу. Она мне, почти возмущенная, говорит:
— Шарко поставил А. И. банки! Что это такое! Разве можно лечить потерей крови!
И в эти тяжкие дни Огарева не раз сказала мне про Тургенева то, что я уже приводил в печати, как она просила его остаться хоть еще сутки, чтобы выждать кризис, но он заторопился в Баден, а между тем ездил на казнь Тропмана. Это и меня очень покоробило, и я не счел нужным умолчать об этом, что, может быть, мне и пеняли. Но я до сих пор помню слова подруги Герцена:
— Тургенев, — сказала она ему, — вы мне всегда говорили, что после Белинского Герцена вы больше всех когда-то любили. Если он умрет, вам будет жутко, что вы не хотели подождать всего одну ночь!
Но он не захотел. Должно быть, его вызывала в Баден ее повелительность.
Больного я не видел. К нему уже не пускали. Он часто лишался сознания, но и в день смерти, приходя в себя, все спрашивал: есть ли депеша «от Коли», то есть от Н. П. Огарева. Эта дружба все пережила и умерла только с его последним вздохом. Позднее, уже в России, я взял этот мотив для рассказа «Последняя депеша». Такой дружбы не знали писатели моего поколения.
Когда я утром пришел в Pavilion de Rohan, то в зале, у камина, стояли Вырубов и сын Герцена, только что приехавший из Флоренции.
Еще за два дня Вырубов, когда я был у него, говорил тоном заправского врача:
— Он не встанет! Образовался нарыв. Смерть неизбежна!
Похороны Герцена я описывал в печати. Они довольно еще свежи в моей памяти, хотя с тех пор прошло уже целых сорок лет!
Довольно ясное зимнее утро, без снега. Группа парижских рабочих и демократов, несколько молодых русских и петербургский отставной крупный чиновник, который в передней все перебегал от одной кучки к другой и спрашивал:
— А разве духовенства не будет? Разве отпевания не будет?
Я не заметил ни одной известности политического или литературного мира. Конечно, были газетные репортеры, и на другой день в нескольких оппозиционных газетах появились сочувственные некрологи, но проводы А. И. не имели и одной сотой торжественности и почета, с которыми парижская интеллигенция проводила тело Тургенева тринадцать лет спустя.
Речей у могилы решено было не произносить, но Г. Н. Вырубов, распоряжавшийся похоронами, нашел все-таки нужным сказать короткое слово, которое появилось потом в печати.
Мы с Рагозиным и еще с кем-то из русских шли пешком от кладбища Pere Lachaisemm по большим бульварам, и мне тогда сделалось еще грустнее, чем было на кладбище в небольшой толпе, скучившейся около могилы. Для Парижа смерть нашего Герцена была простым «incident», но мы действительно осиротели.
И для меня лично Париж как-то потускнел. Приманки зимнего сезона перестали занимать. Потянуло вон. Для газетного сотрудника было все-таки немало интересного и в Палате с такой новой силой, как Гамбетта, и в журнализме с «Фонарем» Рошфора, и в общем подъеме, направленном против бонапартизма, который искал популярности и шел на разные либеральные уступки.
И в театрах шли новинки, и оперетка еще не выдохлась. В Сорбонне и College de France читали те же профессора. Но я не выжил всего сезона и собрался опять в Вену. Не могу теперь с точностью определить — какой главный мотив вызвал этот ранний отъезд; но смерть Герцена дала толчок более грустному настроению. И парижская зима меня физически утомила, я не выходил из простуд, мне надоело шлепать по жидкой грязи или сидеть с лихорадочной температурой в тесной комнате с каминишкой, который, как всегда в дешевых отелях, беспрестанно дымил.
И потребность что-нибудь задумать более крупное по беллетристике входила в эти мотивы, а парижская суета не позволяла сосредоточиться. Были на очереди и несколько этюдов, которые я мог диктовать моему секретарю. Я мог его взять с собою в Вену, откуда он все мечтал перебраться в Прагу и там к чему-нибудь пристроиться у «братьев славян».
Жаль было… мою милую ученицу и приятельницу Лизу. Я ее просил писать мне из Парижа по-русски, что было бы ей полезно для ее орфографии. И в первом же ее письмеце на русском языке стояли такие строки: «Пет Мич» (то есть Петр Дмитриевич). Я ее (то есть все) больше и больше рисую, а у нас здесь будет скоро revolution». Она осталась верна себе по части политики, хотя немножко рано предсказала переворот 4 сентября.
Меня тогдашние парижские волнения не настолько захватывали, чтобы я для них только остался там на неопределенное время. Писатель пересиливал корреспондента, и я находил, что Париж дал мне самое ценное и характерное почти за целых четыре года, с октября 1865 года и по январь 1870, с перерывом в полгода, проведенных в Москве.
В Вене на первых порах мне опять жилось привольно, с большими зимними удобствами, не было надобности так сновать по городу, выбрал я себе тихий квартал в одном из форштадтов, с русскими молодыми людьми из медиков и натуралистов, в том числе с тем зоологом У., с которым познакомился в Цюрихе за полгода перед тем.
Припоминаю один инцидент, который впоследствии был связующим звеном с моим изучением нашего раскола старообрядчества. На вечернем журфиксе у священника Раевского я познакомился с одним русским химиком. Мы разговорились, и он мне как «бытописателю» рассказал про курьезных соседей своих по отелю — депутатов старообрядцев из Белой Криницы, живущих в Вене по делу об освобождении их от воинской повинности.
— Для вас будет занимательно потолковать с ними.
Мы с ним условились, когда мне зайти в его отель. Он их предупредит, а я их найду в столовой гостиницы.
Старообрядцы явились, один — старец в монашеском клобуке и в лисьей шубе, другой — плотный бородатый брюнет в поддевке. Старец был знаменитый Алимпий Милорадов, тот, что отыскал для Белой Криницы упраздненного греческого митрополита.
Они мне рассказали, что ждут здесь рассмотрения их «промемории» в Палате, что Бейст (первый министр) их обнадеживает, но они ему мало верят. От повинности они желают совсем освободиться, не только не попадать в солдаты, но даже и в военные санитары. Им хотелось, чтобы я просмотрел их «промеморию». По-немецки они, ни тот, ни другой, не знали, а составлял им местный венгерский чиновник — «становой», как они его по-своему называли.
Меня они в первый раз не застали. Горничная доложила мне, что были какие-то «жиды» — «juden» и оставили какой-то пакет. Это и была их «промемория».
Когда я с ней познакомился, я пришел в ужас от тех доводов, которыми составитель ее хотел убедить правительство. «Мы, — стояло там, — когда у нас власти хотели вводить оспопрививание — наотрез отказались. У нас перемерло больше тысячи человек, а мы все-таки оспопрививания не приняли!» Нетрудно было представить себе — какой эффект произвел бы этот аргумент на рейхстаг.
Я им переделал эту докладную записку и написал текст по-немецки с русским переводом. И когда мы в другой раз разговорились с Алимпием «по душе», он мне много рассказывал про Москву, про писателя П. И. Мельникова, который хотел его «привесть» и представить по начальству, про то, как он возил Меттерниху бочонок с золотом за то, чтобы тот представил их дело в благоприятном свете императору, тому, что отказался от престола в революцию 1848 года.
Они торопились домой, и я им послал докладную записку по почте, на что и получил от Алимпия благодарственное письмо от имени всего белокриницкого народа, где меня называли «адэмантом» и «любительным приятелем».
В Вене я больше видал русских. Всего чаще встречался опять с зоологом У. — добрым и излиятельным малым, страстным любителем театра и сидевшим целые дни над микроскопом. Над ним его приятели острили, что он не может определить, кто он такой — Гамлет или Кёлликер — знаменитый гистолог и микроскопист. У него была страстишка произносить монологи, разумеется по-русски, ибо немецкий прононс был у него чисто нижегородский. Он умудрялся даже такое немудрое слово, как «Kase» (сыр) произносить как «Kaise».
Другой волжанин из Казани, доктор Б. — был совсем другой тип, старше годами, с характерными повадками и говором истого казанца. Он уже имел в своем городе положение известного практиканта и стоял во главе лечебницы. В Вене, а потом в Берлине, он доделывал свою научную выучку, посещал и госпитальные клиники, и лекции теоретиков.
Давно я не слыхал такого бытового жаргона, как у этого чада Казани. У него был целый словарь своих словечек, большею частью бранных, но с добродушными интонациями. Некоторые имели особый дружеский и хвалебный смысл. Кто ему нравился, кто с ним сходился — он и в глаза не иначе называл его, как «пса». И все почти существительные приобретали окончание на ец: вместо баба — бабец, вместо лягушка — лягушец, вместо кабак — кабачец.
Его общество, хотя и не представляло для меня ничего выдающегося в высшем интеллигентном смысле, но давало вкус к той бытовой жизни, которая там, на родине, шла своим чередом и от которой я ушел на такой долгий срок.
И У. — смесь Кёлликера с Гамлетом — возвращал меня на мою ближайшую родину, в Нижний, где он также родился и учился в гимназии. Он происходил из купеческой семьи и говорил довольно-таки явственно на «он», как в мое время говорили все купцы, мещане, мелкие чиновники и даже некоторые захолустные дворяне-помещики. С ним я проделал опять и венский фашинг.
Для меня в фашинге уже не было обаяния новизны, но У., слабый насчет женских прелестей (хотя в общем даже целомудренный), увлекался маскарадными встречами с венскими «Цирцеями», как говорилось в пушкинское время.
Мы с ним отдали всему этому «привычную дань». Я ведь был еще молодой человек, но излишество прожигания жизни никогда не могло владеть мною. Из Парижа после целых четырех зимних сезонов я вывез чувство большого душевного одиночества. И оно ничем не было заполнено, никаким даже чувственным сближением с сколько-нибудь любимой женщиной.
В предыдущий фашинг, уже описанный мною выше, я на одном из маскарадов в дворцовых «Reduten-Sale» случайно вступил на верхней галерее в разговор с немкой, которая показалась мне очень бойкой, начитанной и с оригинальным складом ума, наблюдательного и скептического. Мы встречались несколько раз, без всяких ужинов и того, что за ними обыкновенно следует. Я сразу увидал, что это порядочная женщина — или девушка — без всяких замашек галантных посетительниц маскарадов и публичных балов.
Я попросил ее продолжить наше знакомство, и мы сошлись на «Ринге» в дамском кафе. Я ей тогда же дал прочесть свою статью о театре из «Philosophic Positive», потому что по-немецки я и тогда и впоследствии сам ничего не печатал.
Это было уже перед моим отъездом в Париж. Мы много говорили о Париже, куда она стремилась. Я узнал от нее, что она свободная девушка, сирота, родом с Рейна, скучает, не удовлетворена слишком пустой венской жизнью, хотела бы многому учиться и найти наконец свою дорогу. Она любила музыку и много работала, но виртуозки из нее не будет.
Без маски лицо у нее оказалось некрасивое, с резковатыми чертами, но рост прекрасный и довольно стройные формы. Она была уже не самой первой молодости для девушки — лет под тридцать. Подействовать на мое воображение или на мои эротические чувства она не могла; но она меня интересовала как незнакомый мне тип немецкой девушки, ищущей в жизни чего-то менее банального.
В тех маскарадах, где мы встречались, с ней почти всегда ходил высокий, франтоватый блондин, с которым и я должен был заводить разговор. Это был поляк П., сын эмигранта, воспитывавшийся в Париже, учитель французского языка и литературы в одном из венских средних заведений. Он читал в ту зиму и публичные лекции, и на одну из них я попал: читал по писаному, прилично, с хорошим французским акцентом, но по содержанию — общие места.
Между ними был, конечно, флёрт, но больше с его стороны. И когда я ей посоветовал хоть к будущей осени приехать в Париж, где я непременно буду, то она схватилась за этот проект. Мы изредка переписывались, и осенью 1869 года она приехала в Париж; я нашел ей помещение в Латинском квартале, а потом приятель мой Наке предложил ей поселиться в виде жилицы у его приятельницы, госпожи А., очень развитой женщины, где она могла бы и усовершенствоваться в языке, и войти в кружок интересных французов.
Между нами и в Вене и в Париже ничего не было, никакого даже невинного флёрта. Она как женщина мне не нравилась, и в ее характере и складе ума было что-то, что не отвечало на мою потребность в некотором лиризме, в нежности, в тех проявлениях женской души, которые мы находим в славянских женщинах.
Она была честная, правдивая, очень умная и наблюдательная девушка, но с каким-то налетом, может быть напускным, скептицизма и склонности к сарказму. Быть может, и это воздержало меня от всяких попыток сближения. Из Парижа после смерти Герцена я не уехал бы так скоро, если б между нами закрепилась хоть та дружба, которая часто переходит в более нежную симпатию.
Она осталась еще в Париже до конца сезона, в Вену не приехала, отправилась на свою родину, в прирейнский город Майнц, где я ее нашел уже летом во время Франко-прусской войны, а потом вскоре вышла замуж за этого самого поляка Н., о чем мне своевременно и написала, поселилась с ним в Вене, где я нашел ее в августе 1871 года, а позднее прошла через горькие испытания. Муж оказался очень печальной личностью, довел ее до бедноты (у нее были свои средства), и она должна была пойти в гувернантки в какое-то семейство в Англии.
С тех пор мы нигде не видались, и только раз я получил от нее — уже не помню где — письмо по поводу моего — романа «Жертва вечерняя», который она прочла только что в немецком переводе.
И выходило, стало быть, что мой второй венский фашинг не внес в мою эмоциональную жизнь молодого мужчины ничего такого, что бы хоть сколько-нибудь наполнило сердечную пустоту холостяка, уже довольно утомленного многолетней сутолокой заграничного корреспондента.
Да и физическое здоровье не то что расстроилось, но получило некоторую аварию. Париж, кроме ряда простуд, дал мне впервые катар желудка — не кишечного канала, а желудка, в виде нервных припадков такого рода, что я, при всей моей любви к театру, стал бояться жарких театральных зал. Мне вдруг делалось не по себе и нападал страх, что я сейчас упаду в обморок. Этот катар нажит был, конечно, от ресторанной дешевой еды и от той привычки, какую приобретаешь в Париже к разным «consommations» в кафе, то есть к разного рода бурде, вроде наливок из черной смородины, крыжовника и т. д. Но абсента я никогда даже и не пробовал.
В Вене я надеялся попасть на другой «корм» и вообще пожить с гораздо большим досугом, как у нас говорится — «с прохладцей».
Здесь уместно будет подвести итог и тому, как я относился к француженке как женщине вообще, после такого долгого житья в Париже.
На сцене французская женщина могла казаться мне привлекательной своим изяществом, тоном, дикцией, умом, но в жизни я очень скоро распознал в ней многое, что совсем не привлекало к ней моего мужского чувства.
Правда, я мало бывал в парижских семейных домах, но знавал и артисток и тех девиц, с которыми ходил на курсы декламации. А в Латинском квартале, в театрах, на балах, в студенческих кафе и ресторанах бывал окружен молодыми женщинами, очень доступными, часто хорошенькими и, главное, забавными. Но я боялся, как огня, того, что французы зовут «collage», легкой связи, и ушел от нее в целых четыре парижских сезона оттого, вероятно, что все эти легкие девицы ничего не говорили моей душе.
И я до сих пор того мнения, что француженки — и честные и продажные — совсем не годятся нам ни в жены, ни в возлюбленные. Но от этого было не легче, и жизнь сердца была в самые еще молодые года атрофирована.
В России у меня ведь тоже не было ни одной связи. Студентом, в Казани и Дерпте, я годами жил без привязанности, а более мечтательная, чем реальная любовь к девушке, на которой я хотел жениться, кончилась ничем. Единственная моя дружба с моей кузиной пострадала от романа «Жертва вечерняя», а родная сестра моя писала мне редко и совсем не входила в мою жизнь.
В Вене, кроме того чисто головного флирта, который завязался у меня с Агнессой П., я не имел ничего, кроме самых случайных встреч в мире доступных венских женщин.
И тут кстати будет сказать, что если я прожил свою молодость и не Иосифом Прекрасным, то никаким образом не заслужил той репутации по части женского пола, которая установилась за мною, вероятно, благодаря содержанию моих романов и повестей, а вовсе не на основании фактов моей реальной жизни. И впоследствии, до и после женитьбы и вплоть до старости, я был гораздо больше, как и теперь, «другом женщин», чем героем любовных похождений.
К 1870 году я начал чувствовать потребность отдаться какому-нибудь новому произведению, где бы отразились все мои пережитки за последние три-четыре года. Но странно! Казалось бы, моя любовь к театру, специальное изучение его и в Париже и в Вене должны были бы поддержать во мне охоту к писанию драматических вещей. Но так не выходило, вероятнее всего потому, что кругом шла чужая жизнь, а разнообразие умственных и художественных впечатлений мешало сосредоточиться на сильном замысле в драме или в комедии.
Роман хотелось писать, но было рискованно приниматься за большую вещь. Останавливал вопрос — где его печатать. Для журналов это было тяжелое время, да у меня и не было связей в Петербурге, прежде всего с редакцией «Отечественных записок», перешедших от Краевского к Некрасову и Салтыкову. Ни того, ни другого я лично тогда еще не знал.
Но первый роман, к которому я приступил бы, должен был неминуемо, по содержанию, состоять из того, что я переживал в России в короткий промежуток второй половины 1866 года в Москве, и того, что мои личные испытания и встречи с русскими дали мне за четыре года. Так оно и вышло, когда тот роман, который представлялся мне еще смутно, весной 1870 года стал выясняться в виде первоначального плана.
А мои итоги как романиста состояли тогда из четырех повествовательных вещей: «В путь-дорогу», куда вошла вся жизнь юноши и молодого человека с 1853 по 1860 год, затем оставшихся недоконченными «Земских сил», где матерьялом служила тогдашняя обновляющаяся русская жизнь в провинции, в первые 60-е годы; «Жертва вечерняя» — вся дана петербургским нравам той же эпохи и повесть «По-американски», где фоном служила Москва средины 60-х годов. Роман «На суд» стоит совсем особо, и я им сам не был доволен, писал его урывками, и моя испанская кампания была главная виновница в том, что эта вещь не получила должной цельности.
От своей мечты начала 1867 года, которая еще довольно сильно владела мною в Париже, я освободился, — идти на сцену; но ей я обязан был тем, что я так уходил в изучение театрального искусства во всех смыслах.
В Вене, кроме интереса к тому, что я нашел нового в театрах за сезон 1870 года, я ознакомился с тамошним преподаванием, в лице тамошнего знатока театра и декламатора Стракоша, и посещал его класс в Консерватории.
Стракош сделал себе имя как публичный чтец драматических вещей и в этом качестве приезжал и в Россию. При его невзрачной фигуре и дикции с австрийским акцентом он, на мою оценку, не представлял собою ничего выдающегося. Как преподаватель он в драме и трагедии держался все-таки немецко-условного пафоса, а для комедии не имел ни вкуса, ни дикции, ни тонкости парижских профессоров — даровитых сосьетеров «Французской комедии».
В Бург-театре его ученики и ученицы могли видеть хорошее исполнение комедии, но в классическом репертуаре и там царствовал патетический декламационный стиль и тон, за самыми малыми исключениями. И даровитая Вальтер не могла вполне освободиться от декламационных интонаций. Актер на героические роли Зонненталь — был все-таки условный немецкий Гамлет; Ленинский, сильный и разнообразный актер, все-таки, на более ценную оценку, слишком подчеркивал и «переигрывал». Тот Баумейстер, который позднее вдруг поднялся до положения первой силы труппы Бург-театра, тогда считался только хорошей полезностью. В одном только старике Лароше, уже сходившем со сцены, жила традиция правдивой и реальной игры.
Среди молодых актрис выделялись такие милые ingenues, как, например, Штрауке, но настоящий венский жанр женской игры был водевильный, в местной Posse. И тогда еще Галльмейер держала все то же амплуа венской субретки. И Гейстингер еще была царицей оперетки. И комики, как Блазель и его сверстники, продолжали смешить венцев в Posse и оперетке. Но весь этот комизм, когда его вкушаешь в большом количестве, очень скоро приедается. Он и теперь все такой же, с теми же «штуками» дикции, мимической игры, пения куплетов и выделывания смешных па.
Оперетка к той зиме обновилась музыкой Штрауса, который вошел в полное обладание своего таланта и сделался из бального композитора настоящим «maestro» для оперетки, стоящей даже на рубеже комической оперы. Такие его вещи, как «Летучая мышь» и «Цыганский барон», и рядом с вещами Оффенбаха представляют собою и бытовую и музыкальную ценность.
Старик Лаубе в тот сезон еще не был создателем нового драматического театра, а директорствовал в Лейпциге, куда удалился, поссорившись с придворным интендантством Бург-театра.
В Вене я во второй раз испытывал под конец тамошнего сезона то же чувство пресноты. Жизнь привольная, удовольствий всякого рода много, везде оживленная публика, но нерва, который поддерживал бы в вас высший интерес, — нет, потому что нет настоящей политической жизни, потому что не было и своей оригинальной литературы, и таких движений в интеллигенции и в рабочей массе, которые давали бы ноту столичной жизни.
Палата очень скоро приедалась. Политика Габсбургского дуализма представляла собою все то же упражнение на туго натянутом канате, выдающихся ораторов не было, интересных сходок и митингов еще менее. Братья славяне — из тех, которые льнут к русской церкви и самому ее <…>, при ближайшем знакомстве не вызывали особенных симпатий. И в результате получалось стоячее впечатление от столицы, живущей изо дня в день в свое удовольствие, где не нарождается и не разрабатывается ни один крупный вопрос культурного человечества.
Я побывал еще зимой и в Пеште, куда ездил в первый раз, захватив и там часть фашинга.
Тогда Венгрия только что вошла во вкус своей обособленности и вырабатывала приемы нации, которая желает играть в дуалистической империи первенствующую роль.
Город Пешт только еще стал обстраиваться красивыми зданиями, вроде того собрания, где давались балы и маскарады. Но я нашел все это сколком с венских увеселений только с прибавкою национального колорита, да и больше в том, как одеты кучера и лакеи.
Нужно было помириться и с тем, что названия улиц и площадей значились только по-мадьярски, без немецкого перевода.
И в отелях, и в ночных увеселительных местах вы находили еще большую вольность нравов, чем в Вене, особенно в отелях. Тогда еще было в обычае смотреть на женскую прислугу как на штат своего рода одалисок. Такую же распущенность нашел я в Пеште и в войну 1877 года, когда объезжал славянские страны.
Театры, и оперные и драматические, нашел я самые посредственные, отзывающиеся провинцией. Все это очень напоминало нашу провинцию в западном крае, но было низменнее того, что я нашел, например, в Варшаве год спустя, в самом начале 1871 года.
Когда время стало подходить к маю, надо было составлять новую программу переездов. Берлин, где я бывал только проездом, представлялся гораздо более интересным. В мае и июне там еще идет политическая жизнь в Палате, и как раз шла борьба между Бисмарком и оппозицией.
Мои русские — и зоолог У. и медик Б. — собирались также туда, и мы условливались провести там месяц-другой.
Возвращаться в Россию я еще не собирался, хотя уже и начал чувствовать тягу, какая овладевает вами после такого долгого скитания на чужбине.
Мои долговые дела находились все в том же status quo. Что можно было, я уплачивал из моего гонорара, но ликвидация по моему имению затягивалась и кончилась, как я говорил выше, тем, что вся моя земля пошла за бесценок и сверх уплаты залога выручилось всего каких-то три-четыре тысячи. Рассчитывать на прочную литературную работу в газетах (даже и на такую, как за границей) я не мог. Во мне засела слишком сильно любовь к писательскому делу, хотя оно же так жестоко и «подсидело меня» в матерьяльном смысле.
Определенного плана на следующий сезон 1870–1871 годов у меня не было, и я не помню, чтобы я решил еще в Вене, куда я поеду из Берлина на вторую половину лета. Лечиться на водах я еще тогда не сбирался, хотя катар желудка, нажитый в Париже, еще давал о себе знать от времени до времени.
Хотелось очень выработать план романа, хотя и было рискованно пускаться в долгий путь.
И если б события, уже не личного, а всемирного значения, не разразились так неожиданно, более чем вероятно, что я после Берлина поехал бы куда-нибудь в тихий уголок Швейцарии и там отдался бы работе беллетриста.
В Берлине прожил я ровно два месяца — май и июнь 1870 года.
Там нашел я моего товарища по Дерпту, Бакста, который все еще считал себя как бы на нелегальном положении из-за своих сношений с политическими эмигрантами, ездил даже в Эмс, где с Александром II жил тогда граф Шувалов, и имел с ним объяснение, которое он передавал в лицах.
Шувалов ловко допытывался от него, о чем, собственно, мечтают русские революционеры, и Бакст уверял его, что дальше конституции они в своих благих пожеланиях нейдут.
Вл. Бакст был, по-своему, единственный тип из всех мне на моем веку знакомых евреев.
Внешность его — большой горб, маленький рост, резкие семитические черты — все это говорило против него. Но он был то, что французы называют «обаятельный». Он умел еще в Дерпте настолько привлечь к себе, что я охотно пошел на его предложение — перевести с ним первый том тогда только что вышедшей немецкой «Физиологии» Дондерса. Моя доля работы была самая значительная, особенно в смысле русского языка и слога, которыми он тогда плохо владел. Как оказалось, он не совсем корректно поступил позднее, когда выпустил второе издание книги, сняв мое имя и не заплатив мне никакого дополнительного гонорара. Но я ему это простил и, встретившись в Берлине, никогда ему этого не напоминал.
Он тогда сбирался все приступать к докторскому экзамену, но, как всегда, был гораздо больше жизнелюб, чем ревностный докторант. У него был необычайный талант возни с людьми; он знакомился со всяким народом и делался сейчас нужным человеком кружка, давал советы, посредничал, оказывал всевозможные услуги. В этом, конечно, сказывалась одна из характерных черт семитической расы.
Сохранил он и большую слабость к женскому полу: вопреки своей внешности, считал себя привлекательным и тогда в Берлине жил с какой-то немочкой. Любил он и принимать участие в качестве друга и руководителя во всяком прожигании жизни по этой части, хотя к кутежу не имел склонности.
Сейчас же, как только я поселился на квартирке (в одной из улиц, поперечных с Фридрихштрассе), он устроил меня пансионером в табльдоте Hotel de Rome, и что-то необыкновенно дешево, за талер, с вином, а еда в этой гостинице считалась тогда одной из самых лучших в Берлине.
Он же свел меня с кружком русских молодых людей, которые состояли при И. А. Гончарове, жившем в Берлине как раз в это время, перед отправлением на какие-то воды. Ближайшими приятелями Бакста был сын Пирогова от первой жены и брат его второй жены.
Оба ничего собою выдающегося не представляли, а были вивёры и веселые собеседники, усердные посетители всяких танцклассов и увеселительных вечеров. Но они вместе с Бакстом составляли род маленькой свиты Гончарова. Он жил Unter den Linden, в несуществующем уже теперь Britisch Hotel, по той стороне бульвара, которая идет справа к Brandenburgertier и к Tiergarten.
Прежде чем меня с ним познакомили, я уже слышал от них, как они, и в особенности Бакст, уговаривали его обедать с ними в Hotel de Rome, где еда гораздо лучше, чем в этом «Бритиш-Отеле», и даже бросить совсем этот отель. Иван Александрович отвечал им неизменно:
— Друзья мои… я бы с радостью, но как же я буду ходить мимо Britisch Hotel? А хозяин может стоять на крыльце и увидит меня. Нет, я не могу, как вам угодно!
Этот рассказ как нельзя лучше давал характерную черту натуры Гончарова, его постоянной боязни попасть в какое-нибудь неловкое положение, что с годами еще усилилось.
Тогда ему было уже 58 лет, так как он родился в один год с Герценом, в 1812 году, и раньше Лермонтова на два года.
В Петербурге в 60-е года мне не привелось с ним лично познакомиться. Я как редактор не обращался к нему с просьбою о сотрудничестве. Тогда он надолго замолк, и перед тем только его «Веловодова» (эпизод из «Обрыва») появился в «Современнике». Кажется, я видал его на Невском, но его наружность осталась у меня в памяти больше по портретам, особенно из известной тогда коллекции литографий Мюнстера.
Тогда у него было совсем бритое лицо, а тут, в Берлине, он носил бакенбарды, пополнел и смотрел если не стариком, то уже пожилым, но свежим мужчиной, очень благообразным и корректным во всем — в туалете, в манерах, в тоне.
Мое поколение ставило его как писателя очень высоко. Я лично находился на промежутке десяти лет под впечатлением его «Обломова» (в Дерпте, в конце 50-х годов) и «Обрыва», прочитанного мною с большим подъемом интереса в Швейцарии менее года назад, до нашей встречи в Берлине на тротуаре берлинских Unter den Linden.
Когда меня к нему подвели, он, протягивая мне руку, спросил мягко и ласково:
— Писатель?
Про эту встречу и дальнейшее знакомство с Гончаровым я имел уже случай говорить в печати — в последний раз и в публичной беседе на вечере, посвященном его памяти в Петербурге, и не хотел бы здесь повторяться. Вспомню только то, что тогда было для меня в этой встрече особенно освежающего и ценного, особенно после потери, какую я пережил в лице Герцена. Тут судьба, точно нарочно, посылала мне за границей такое знакомство.
То, что рассказывалось в писательских кружках о претензии Гончарова против Тургенева за присвоенный якобы у него тип «нигилиста», было мне известно, хотя тогда об этом еще ничего не проникало в печать. Но Иван Александрович при личном знакомстве тогда, то есть лет восемь после появления «Отцов и детей», не имел в себе ничего странного или анормального. Напротив, весьма спокойный, приятный собеседник, сдержанный, но далеко не сухой, весьма разговорчивый, охотно отвечающий на все, с чем вы к нему обращались.
По тону, манерам и общему облику он смотрел петербуржцем из светского круга, крупным чиновником, но дворянского типа, хотя и был купеческого рода, что, кажется, всегда скрывал.
Его служебная карьера не могла, конечно, делать его в глазах тогдашней радикальной молодежи «властителем ее дум» — еще менее, чем Тургенева после «Отцов и детей». Он ведь побывал и в цензорах, и долго служил еще в каком-то департаменте, и тогда еще состоял на действительной службе. Но все-таки в нем чувствовался прежде всего писатель, человек с приподнятым умственным интересом.
Если б тогда он подольше остался и я видался бы с ним чаще один на один, наверно, я бы вызвал его на такие разговоры, в которых он бы высказывался гораздо полнев. Но наши беседы бывали неизменно в обществе его маленькой свиты. Мы шли обыкновенно в «Тиргартен», гуляли там, возвращались на Linden и доводили Ивана Александровича до его British Hotel'я.
Он любил говорить о том, как и когда писал «Обрыв». Потом и в печать попали подробности о том, как он запоем доканчивал роман на водах, писал по целому печатному листу в день и больше.
— Даже рука, бывало, онемеет!
По поводу «Обрыва» и лица Марка Волохова он ни разу не сделал намека на тургеневского Базарова, и вообще я тогда не слыхал от него никаких отзывов — как о талантах и людях — о своих ближайших и младших сверстниках: Тургеневе, Островском, Некрасове, Салтыкове, Толстом.
Позднее, то есть ровно через десять лет, мы жили с ним на рижском «Штранде», в Дуббельне, вместе обедали — тогда я уже был женат — и много ходили по прибрежью. Тогда он говорил и о Тургеневе, и его меткое сравнение с своим творчеством я уже вспоминал в печати.
Кажется, он из Берлина поехал опять на какие-то воды, и я не помню, чтоб во вторую половину моего житья я видал его так же часто.
Берлинский сезон был для меня не без интереса. Я ходил в Палату и слышал Бисмарка, который тогда совсем еще не играл роли национального героя, даже и после войны 1866 года, доставившей Пруссии первенствующее место в Германском союзе.
Берлин его недолюбливал, хотя и хвалился его государственным умом и характером. В Палате я слышат его не один раз. И когда он впервые заговорил при мне, я был удивлен, что из такой крупной фигуры, да еще в военной форме, выходит голос картаво-теноровый, совсем не грозный и не внушительный, с манерой говорить прусского офицера или дипломата. Он не был оратор, искал слов, покачивался, когда говорил, и не производил своей манерой говорить никакого особенного впечатления. Но когда его кто-нибудь рассердит, он находчиво и ядовито отвечал и умел заставлять молчать своих противников.
Еще в июне, и даже во второй половине его, никто и не думал о том, что война была уже на носу. Даже и пресловутый инцидент испанского наследства еще не беспокоил ни немецкую, ни французскую прессу. Настроение Берлина было тогда совсем не воинственное, а скорее либерально-оппозиционное в противобисмарковом духе. Это замечалось во всем и в тех разговорах, какие мне приводилось иметь с берлинцами разного сорта.
Я старался наверстать пробел в моих поездках по Европе и изучал Берлин довольно старательно, бывал везде, причем Бакст был часто моим чичероне, проводил вечера и в разных театрах, которые в общем находил гораздо плоше венских; и королевский «Schauspiel-Haus», где, однако, были такие таланты, как старый Дюринг и ingenue Буска (впоследствии любимица петербургской публики), но в репертуаре и в тоне игры царила рутина. Выдающейся частной драматической сцены (вроде теперешнего «Deutsches Theater») тогда в Берлине не было, а область комической игры ушла вся в Posse, где были два-три даровитых комика-буффа вроде Неймана.
Доктор Б., видавшийся со мною часто — так же, как и нижегородец У., — познакомил меня с ассистентом Вирхова, добродушным малым, которому Б. дал уже прозвище «щенок» за его несуразные движения. С этим «щенком» мы ходили смотреть мюнхенскую трагическую актрису, тогда одну из самых талантливых на героическом амплуа.
В университете я бывал на лекциях Моммсона и Гнейста. Вирхов читал микроскопическую анатомию в клинике. Меня водил на его лекции Б. И раз при мне случилась такая история. Б. сидел рядом с ассистентом Боткина, покойным доктором П., впоследствии известным петербургским практикантом. Они о чем-то перешепнулись. Вирхов — вообще очень обидчивый и строгий — остановился и сделал им выговор.
Читал Вирхов без всякого особого преподавательского таланта, а в Палате я его не слыхал. Я даже не помню, был ли он уже тогда депутатом.
С моими русскими я съездил в Гамбург, в дешевом Bummelzug'e (поезде малой скорости), и там мы прожили дня два-три, вкусили всех тогдашних чувственных приманок, но эта поездка повела к размолвке с У. — из-за чего, я уже теперь не припомню, но у нас вышло бурное объяснение, до поздней ночи. И с тех пор нас судьба развела в разные стороны, и когда мы встретились с ним (он тогда профессорствовал) в Москве в зиму 1877–1878 года, то прежнее приятельство уже не могло восстановиться.
В Берлине же пахнула на меня моим Нижним и встреча с моим товарищем по Казани С-вым, который поехал лечиться на какие-то воды. Бедняга — тогда уже очень мнительный — боялся все чахотки, от которой и умер несколько лет спустя.
И я надумал пойти посоветоваться к одной из тогдашних медицинских звезд. Этот консультант нашел у меня катар желудка, что я и сам хорошо знал, и предписал мне Киссинген.
Но я еще до отъезда стал писать тот роман, который мелькал передо мною еще в Вене.
Это были «Солидные добродетели». Я написал всего еще одну главу, но много говорил об этой работе с доктором Б. Он желал мне сосредоточиться и поработать не спеша над такой вещью, которая бы выдвинула меня как романиста перед возвращением на родину.
Тут мы с ним и простились. В «Солидных добродетелях» и он и «Гамлет-Кёлликер» послужили мне моделями двух фигур в тех местах романа, где действие переносится в Вену.
С Б. мы столкнулись как-то в России (скорее в Москве, чем в Петербурге), когда он уже устроился заново в Казани и занял довольно видное общественное положение, а я и тогда оставался только писателем без всякого места и звания, о котором никогда и не заботился на протяжении всей моей трудовой жизни.
В Берлине, где я уже стал писать роман «Солидные добродетели», получил я совершенно нежданно-негаданно для меня собственноручное письмо от Н. А. Некрасова, в котором он просил у меня к осени 1870 роман, даже если он и не будет к тому времени окончен, предоставляя мне самому выбор темы и размеры его. Это меня очень порадовало и приходилось как нельзя более кстати. Я ответил, что я начал как раз роман и постараюсь высылать его так, чтобы он мог еще быть напечатан к концу текущего года. Я предполагал сделать его в четырех частях, листов около четырех-пяти в каждой.
С Некрасовым у меня до того не было никаких сношений, ни личных, ни письменных. В Петербурге я с ним нигде не встречался, никогда не бывал в редакции «Современника» и из-за границы никогда к нему не обращался с предложением сотрудничества, с тех пор как он после гибели «Современника» взял у Краевского его «Отечественные записки».
Это обращение ко мне в такой широкой и лестной для меня форме немного удивило меня. Я мог предполагать, что в его журнале главнейшие сотрудники вряд ли относились ко мне очень сочувственно, и еще не дальше, как в 1868 году там была напечатана анонимная рецензия на мою «Жертву вечернюю» (автор был Салтыков), где меня обличали в намерении возбуждать в публике чувственные инстинкты. Но факт был налицо. Более лестного обращения от самого Некрасова я не мог и ожидать.
Позднее, вернувшись в Петербург в начале 1871 года, я узнал от брата Василия Курочкина — Николая (постоянного сотрудника «Отечественных записок»), что это он, не будучи даже со мной знаком, стал говорить самому Некрасову обо мне как о желательном сотруднике и побудил его обратиться ко мне с письмом. В этом сказался большой ум Некрасова и ширь его отношения к своему делу. Его, стало быть, не смутило то, что у него же в журнале так «прошлись» насчет «Жертвы вечерней». Быть может, это меня самого несколько смутило бы, но я «Отечественных записок» за границей в эти годы не читал, и с рецензией Салтыкова меня познакомил кто-то уже в России.
И вот я поехал пить воды в Киссинген с приятной перспективой вести дальше главы первой части романа. У меня была полнейшая надежда — к сентябрьской книжке доставить в редакцию целых две части романа.
Свое слово я выполнил, но чего это мне стоило, читатель увидит сейчас.
В Берлине никто еще и не помышлял о близости той грозы, какая разразилась не дальше, как через каких-нибудь две с половиной недели. Я доехал до Киссингена в самом благодушном и бодром настроении.
Тогда железная дорога шла только до Швейнфурта, а оттуда — в почтовой карете с баварским постильоном в голубой куртке, лосинных рейтузах и ботфортах, с рожком, на котором он разыгрывал разные песни. Эта форма сохранилась до сих пор, то есть до лета 1910 года, когда я был опять в Киссенгене 40 лет спустя после первого посещения.
Первые две недели не было еще политической тревоги. Я сошелся с петербургским французом, учителем одной частной гимназии на Васильевском острову, и проводил с ним часы прогулок в приятных разговорах; в жаркие часы писал роман.
А тучи тем временем сгущались на политическом горизонте. Разразилась история в Эмсе с депешей, которую Бисмарк обработал по-своему, после исторического диалога французского посла с Вильгельмом I, тогда еще просто прусским королем.
И вдруг — война! Французская Палата, а за ней и весь Париж всколыхнулись, пошел крик: «На Берлин!» — и европейская катастрофа была уже на носу.
На наших водах вдруг стряслась такая денежная паника, что за русские сторублевки менялы не давали ничего, хотя наш курс стоял тогда очень высоко: в Берлине давали на рубль три талера, а в Париже все время, пока я там жил, 350–360 франков за сто лей.
Меня прямо война не касалась. Я и не думал предлагать свои услуги одной из тех газет, где я состоял корреспондентом. И вдруг получаю от Корша депешу, где он умоляет меня поехать на театр войны. Просьба была такая настоятельная, что я не мог отказать, но передо мною сейчас же встал вопрос: «А как же быть с романом?»
У меня была написана какая-нибудь половина первой части. Но вот что делает молодость и молодая смелость… Я согласился в надежде, что я так или иначе сумею выполнить то, что я обещал Некрасову.
До двадцатых чисел июля я еще оставался в Киссингене, а потом поехал сначала в Мюнхен, куда главнокомандующий одной из прусских армий — наследный принц Фридрих — должен был явиться, чтобы стать во главе южной армии.
У меня до сих пор памятно то утро, когда я, с трудом захватив место в почтовой карете (все разом бросились вон), — сидел рядом с постильоном, стариком с плохо выбритой бородой, и тот все повторял своим баварским произношением:
— Злая будет война!
И действительно, это была «злая» война. В Мюнхене я был на торжественном спектакле, когда король Людвиг II, еще очень молодой и красивый, ввел «Фрица» в ложу и вся публика встала и зааплодировала. Эта война, где Франция (правительство и Палата) повела себя так неразумно и задорно, сразу давала такое предчувствие, что она не кончится торжеством Наполеона III над пруссаками; все видели, что это будет прусская война, где Бисмарк и Мольтке все заранее подготовили. Бисмарку она была нужна, и вопрос испанской короны был только ничтожный претекст (предлог).
Ехать корреспондентом на «театр войны» мне не особенно улыбалось, тем более что это делало мой план работы над романом почти что совсем невыполнимым.
Хотя то содержание, какое Корш предложил мне на расходы, по нынешнему времени было слишком скромно, но я все-таки хотел исполнить, в меру возможности, то, что входило в мою обязанность. Для этого надо было получить ход к немцам и выхлопотать себе права специального корреспондента.
Но мои попытки сразу же осеклись о недоверие немецких властей, начиная с командиров разных военных пунктов, к каким я должен был обращаться. Мне везде отказывали. Особых рекомендаций у меня не было, а редакция не позаботилась даже сейчас же выслать мне особое письмо. И я должен был довольствоваться тем, что буду писать письма в «Санкт-Петербургские ведомости» не прямо «с театра войны», как настоящий военный репортер, а «около войны».
Писал я с самого начала кампании почти что ежедневно, но мне сильно не хотелось бросить и роман «Солидные добродетели», и я продолжал, так сказать, «на биваках» писать его.
Теперь мне самому плохо верится, что я мог с августа по конец ноября находить время и энергию, чтобы высылать по частям «оригинал» романа и позволить редакции напечатать его без перерывов в четырех последних номерах «Отечественных записок». Такие ловкие шутки можно выполнять только молодым человеком, надеясь на удачу. Ведь я мог и заболеть, и даже попасть в какую-нибудь переделку, или быть арестованным, с той или другой стороны. Я и заболел ревматизмом под Мецом, где должен был идти пешком в грязи по щиколку, но все-таки оставался на ногах.
Здесь я не стану повторять того, что стоит в моих письмах, и я не мог бы этого сделать, потому что на это нужна слишком колоссальная память. Кто поинтересуется — может заглянуть в тогдашние «Санкт-Петербургские ведомости». Там нет описания битв, так как я не имел доступа в генеральный штаб немцев, а к французам я попал гораздо позднее, когда Париж уже был обложен. Об этом я не жалею. Война всегда была мне ненавистна, и видеть человеческие бойни было бы для меня великим душевным истязанием. Но я, оставаясь «вокруг и около» войны, схватывал разные моменты, характерные для хода событий, начиная с прирейнской области, Эльзаса с Лотарингией, и продолжая теми пунктами Франции, куда я потом попадал.
Сначала у меня не было особых симпатий к французскому нашествию на Германию; но когда после Седана сделалось очевидно, что Пруссия хочет раздавить всю Францию, разделавшись так легко с Наполеоном III, я не мог не сочувствовать трагическому-положению французов. Я прекрасно видел, что немцы должны победить. Их превосходство в разных смыслах бросалось в глаза; но я не мог радоваться их победам, чуя за этим погружение самой Германии в дух милитаризма и захвата. Ясно было уже и то, что Эльзас и Лотарингия — потеряны.
И вот тут, на местах немецкого захвата, начиная с Страсбура после его взятия, я впервые столкнулся с редакцией той газеты, которая упросила меня ехать корреспондентом. «Санкт-Петербургские ведомости» сначала держались нейтрально, но немецкие победы изменили их настроение, и Корш позволил своему фельетонисту Суворину начать со мною полемику, заподозрив точность и беспристрастие моих сообщений.
В Страсбуре я ночевал в отеле, два нижних этажа которого занимал тогдашний генерал-губернатор граф Мантейфель. Гарсон, служивший мне, водил меня показывать в коридоре те места, которые были пробиты немецкими гранатами и бомбами. Я это описал. А хозяин отеля (после того, как моя корреспонденция попала, должно быть, в немецкую печать) написал в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» письмо с уверением, что никаких пробоин в его отеле при осаде не было. И редактор допустил своего забавника-фельетониста «прохаживаться» на мой счет, то есть доверять не мне, а трактирщику, который заведомо лгал, чтобы себя выгородить.
Позднее я уже чувствовал, что редакция перестала быть со мною в унисон, и это делало мою роль корреспондента очень тягостной. А меня все-таки не просили прекратить свои разъезды, и я потерял на них ни больше ни меньше как три с половиной месяца.
Не предаваясь никаким иллюзиям, я видел, что исход этой войны будет самый фатальный для Франции, но не мог не жалеть ее, не мог умалчивать и о том, что в Эльзас-Лотарингии все население было предано Франции и по доброй воле никогда бы от нее не отложилось. Я это подтверждал в моих письмах разными характерными фактами из того, что я сам видел и переживал.
Под Мец я попал тотчас после сдачи крепости и видел, до какой степени немцы были хорошо приготовлены к войне, как у них все было пропитано духом дисциплины, как их военное хозяйство велось образцово. Все это я подтверждал, но не мог не жалеть Франции, где ненавистный всем нам режим Второй империи уже пал и теперь на заклание была обречена пруссакам не империя, а Французская демократическая республика. Этого забывать нельзя!
Известие о Седанском погроме захватило меня в Брюсселе, куда я попал «кружным» путем, и вскоре затем началась блокада Парижа, куда я так и не попал, но слышал много подробностей от очевидца В. Ф. Лугинина, получившего с трудом пропуск, после немалых хлопот. Он и Вырубов принимали также — каждый по-своему — участие в защите Парижа.
Про Седан я на месте слышал много рассказов от тамошних обывателей, не скрывавших и от иностранца того, до какой степени армия Наполеона III была деморализована во всех смыслах. Предательство маршала Базена, сдавшего Мец, еще ярче встало передо мною, когда я видел выход французской гвардии, безоружной, исхудалой, в изношенных мундирах и шинелях, под конвоем прусских гусар. Такие картины не забываются!
В остальных моих переездах я уже не видал ни раненых, ни пленных и опять окольным путем поехал через Нормандию в Тур, куда перелетел в шаре Гамбетта и где было тогдашнее временное правительство с ним во главе, ставшим уже диктатором Франции.
Когда я пробирался по Нормандии, станции были уже блиндированы в ожидании пруссаков, и надо было торопиться.
И везде, где я находил войска, чувствовалась большая растерянность. Солдаты из «мобилен», офицеры совсем не внушительного вида, настроение местных жителей — все это не внушало никакого доверия, и за бедную Французскую республику было обидно и больно.
Неприятель точно по пятам гнался за теми, кто, как я, ехал в сердце Франции — в тот город, где один только Гамбетта представлял собою героическую фигуру борьбы.
Со мною по дороге случился самый обыкновенный казус, но он мог сделаться для меня роковым.
На одной бойкой станции, где в ресторане вокзала сновало множество всякого народа, и военного и штатского, в отдельном стойле, на которые разделена была зала на манер лондонской таверны, я, закусывая, снял свою сумку из красного сафьяна, положил ее рядом на диване, заторопился, боясь не захватить поезд, и забыл сумку. В ней был весь мой банковый фонд — больше тысячи франков — и все золотом.
Легко представить себе мой переполох, когда я на платформе спохватился. Бегу и спрашиваю себя: что же я буду делать, если сумку кто-нибудь присвоит себе? Что-то краснеется… Это она!
Факт, показывающий, что в моменты общего возбуждения карманники не практикуют, как в обыкновенное время.
И всю дорогу до Тура, с разными пересадками, меня провожали разговоры испуганных буржуа без малейших проблесков патриотической веры в то, что Франция не может и не должна позволить так раздавить себя. Исключение составляли только те поставщики и подрядчики, которые устремлялись в местопребывание Гамбетты, кто с образцом какого-нибудь ружья, кто с разными консервами, кто с таинственным изобретением, которое должно будет истреблять пруссаков, как их однофамильцев — тараканов. Все это было несерьезно, суетно, мелко, крайне печально и для иностранца, которому с каждым днем становилось все более обидно и жалко за Францию.
В Тур я добрался ясным осенним утром. Город стоит на Луаре, среди милого, улыбающегося пейзажа, настоящий «Сад Франции», как его спокон века звали… Родина Бальзака, которого судьба избавила от горечи переживать такие дни. А он мог бы еще дожить до 1870 года. Ему было бы всего семьдесят, а такой здоровяк, как он, мог дотянуть и до целой сотни лет. По-нашему говоря, губернский город, такого же вида вокзал и весь облик города. В здании префектуры казенного стиля у ворот два кавалериста на часах, в куртках и плоховатых кепи.
Первое лицо, кого я встречаю в приемной Гамбетты, — Наке. Это была особенно удачная находка, но она не принесла мне ничего особенно ценного. Гамбетта как раз куда-то уехал — к армии, а мне заживаться было нельзя. Я рисковал отрезать себе обратный путь.
Наке сейчас же повел меня по всем залам, где сидели служащие турского временного правительства. И принял меня вместо Гамбетты его личный секретарь, тот самый герой Латинского квартала, который прославился одной брошюрой, под псевдонимом «Деревянная Трубка» — «Pipe en bois».
Тут я его в первый раз видел живым и должен сказать, что внешность этого секретаря Гамбетты была самая неподходящая к посту, какой он занимал: какой-то завсегдатай студенческой таверны, с кривым носом и подозрительной краснотой кожи и полуоблезлым черепом, в фланелевой рубашке и пиджаке настоящего «богемы». Не знаю уже, почему выбор «диктатора» упал именно на этого экс-нигилиста Латинской страны. Оценить его выдающиеся умственные и административные способности у меня не было времени, да и особенной охоты.
При Гамбетте же, в качестве его директора департамента как министра внутренних дел состоял его приятель Лорье, из французских евреев, известный адвокат, про жену которого и в Type поговаривали, что она «дама сердца» диктатора. Это могла быть и сплетня, но и младшие чиновники рассказывали при мне много про эту даму и, между прочим, то, как она незадолго перед тем шла через все залы и громко возглашала:
— Я несу фланелевые жилеты господина министра внутренних дел, — то есть все того же Гамбетты.
Обедал я где-то за рекой, в недорогом трактирчике, с Наке и несколькими молодыми людьми из тех, каких Тур называл «господами из правительства», и их беседа произвела на меня жуткое впечатление — так все это было и юно, и пусто, и даже малоопрятно по части врагов. Все время говорили взапуски о местных кокотках и о тех притонах, где эти messieurs du gouvernement проводили свои вечера и ночи.
А в это время их родина изнывала под тяжелым сапогом пруссака, и в Версале готовилось провозглашение Вильгельма императором Германии, и Париж начинал уже переживать ужас осады.
С таким настроением оставил я Тур и простился с Наке надолго, на несколько лет.
Министром полиции при Гамбетте был тогда Ранк, известный радикальный журналист, только недавно умерший. К нему меня водил все тот же Наке, и я получил от него «пропуск» (sauf-conduit) на листке простой почтовой бумаги. Этот «пропуск» тогда мне особенно не понадобился, но он мог бы оказать мне трагическую услугу, если б где-нибудь меня сцапали немцы, а когда я колесил обратно по Франции, они всюду гнались по пятам. Пришлось бы, в случае такой остановки, вовремя проглотить мой sauf-conduit, иначе пришлось бы плохо. Они не церемонились и весьма охотно расстреливали тех, кого считали военными шпионами, и мой русский паспорт меня вряд ли бы спас.
Но все «пронесло», и я очутился в восточной Франции на границе Швейцарии, в тех местах, где еще держались части французской армии.
То, что я видел в городах, на узловых станциях железных дорог, не могло обнадеживать в исходе, сколько-нибудь благоприятном для Франции. Я видел только новобранцев, или мобилей из плохих офицеров, или более комических, чем внушительных francs-tireurs (вольных стрелков, партизан), мальчиков, одетых какими-то шиллеровскими разбойниками.
Добравшись до Женевы, очень утомленный и больной ревматизмом ног, схваченным под Мецом, а главное видя, что я нахожусь в решительном несогласии с редакцией, гае тон повернулся лицом к победителям и спиной к Франции, я решил прекратить работу корреспондента, тем более что и «театра»-то войны надо было усиленно искать, перелетая с одного конца Франции к другому.
Меня тяготило и то, что я должен был выполнять свое обещание перед Некрасовым — доставлять части романа, который довел уже до третьей части, воспользовавшись моими остановками, сначала в Брюсселе в начале сентября, а теперь в Женеве — уже к концу октября.
Я известил об этом Корша и стал с остановками двигаться к югу Франции, попал в Марсель, а потом в Ниццу, откуда и решил совершить мою первую поездку в Италию.
Обо всем этом я уже рассказывал, и довольно подробно, во вступлении к моей книге «Вечный город», почему и должен здесь пройти молчанием всю эту поездку из Ниццы по Корнише в Геную, оттуда на пароходе в Ливорно, потом во Флоренцию, Рим (где просидел около трех недель) и в Неаполь, а потом обратно на север Италии: Турин, Милан, Венецию, Триест и через Вену в Россию.
Меня сильнее, чем год и два перед тем, потянуло на родину, хотя я и знал, что там мне предстоит еще усиленнее хлопотать о том, чтобы придать моим долговым делам более быстрый темп, а стало быть, и вдвое больше работать. Но я уже был сотрудником «Отечественных записок», состоял корреспондентом у Корша, с которым на письмах остался в корректных отношениях, и в «Голосе» Краевского. Стало быть, у меня было больше шансов увеличить и свои заработки.
Роман «Солидные добродетели» я докончил в Риме, работая каждый день после денного изучения памятников и музеев.
Вообще для полного вкушения красот Италии недоставало теплого сезона — я провел в ней ноябрь и часть декабря, но я не хотел отказываться от этой поездки, боясь, что, может быть, мне не придется и совсем попасть в Италию.
Возвращение в Россию было полно впечатлений туриста в таких городах, как Турин, Милан, Венеция, Триест, а молодость делала то, что я легко выносил все эти переезды зимой с холодными комнатами отелей и даже настоящим русским снегом в Турине и Вене, где я не стал заживаться, а только прибавил кое-что к своему туалету и купил себе шубку, в которой мне было весьма прохладно, когда я добрался до русской границы и стал колесить по нашим провинциальным дорогам.
Мне хотелось повидаться с отцом после шестилетней разлуки. Он жил уже безвыездно в усадьбе своего тамбовского имения в Лебедянском уезде. Туда добраться прямо по железной дороге нельзя было, и вот я с последней станции должен был в своей заграничной шубке, прикрывая ноги пледом, проехать порядочный кончик в большой мороз и даже метель.
Отечество встретило меня своей подлинной стихией, и впечатление тамбовских хат, занесенных снегом, имевших вид хлевов, было самое жуткое… но все-таки «сердцу милое». Вставали в памяти картины той же деревенской жизни летом, когда я, студентом, каждый год проводил часть своих вакаций у отца.
Грустно было найти его уже не тем бодрым, еще далеко не стариком; тут он смотрел уже старцем, хотя ему тогда было немногим больше шестидесяти.
Познал я и приятности наших железнодорожных порядков, когда меня по дороге в Москву заставили просидеть в Орле целых восемь часов, дожидаясь поезда.
В Москве я не нашел самого близкого мне человека, с которым из Парижа вед приятельскую переписку, — князя А. И. Урусова. Он куда-то уехал защищать и был уже в это время «знаменитость» с обширной практикой, занимал большую квартиру, держал лошадей и имел секретаря из студентов его времени, беседа с которым и показала мне, что я уже не найду в Урусове того сотрудника «Библиотеки для чтения», который ночевал у меня на диване в редакции и с которым мы в Сокольниках летом 1866 года ходили в лес «любить природу» и читать вслух «Систему позитивной философии» Огюста Конта.
Между Веной и Петербургом пришлась на моем обратном пути на родину и Варшава.
Она давно меня интересовала, но я попадал в нее в первый раз и в очень хорошей обстановке.
Случилось так, что два моих собрата и сотрудника по «Библиотеке для чтения», Н. В. Берг и П. И. Вейнберг, жили в Варшаве, оба как члены профессорского персонала нового Варшавского университета.
Берг был еще тогда холостой и жил неизменно в Европейской гостинице. Вейнберг жил также временным холостяком в отеле «Маренж» в ожидании переезда на прекрасную квартиру как редактор «Варшавского дневника», что случилось уже позднее. Он был еще пока профессором русской литературы, а Берг читал русский язык и был очень любим своими слушателями, даже и поляками, за свое знание польского языка и как талантливый переводчик Мицкевича.
Я сразу попал в воздух русской писательской интеллигенции, к моим старшим сверстникам, в воздух милых для меня разговоров и воспоминаний. Оба они могли меня ознакомить с Варшавой в том, что в ней для меня было самого интересного, особенно Берг, уже старожил Варшавы и вдобавок любитель театра, и в особенности балета с его мазуркой. Он, как запоздалый холостяк, постоянно увлекался красотой полек и не думал еще выходить в отставку по части любовных похождений. Это был также один из любимых сюжетов его бесконечных рассказов. Его словоохотливость, правда, еще усилилась за эти годы, но содержание его рассказов выкупало некоторую утомительность его досужего словообилия.
У Вейнберга я познакомился с молодым, только что начавшим свою карьеру И. И. Иванюковым и сразу очень сошелся с ним. Меня привлекли сразу и внешность его, и живость ума, и ласковость тона. Он отрекомендовался как мой усердный читатель, уже проглотивший тогда все четыре части только что отпечатанных «Солидных добродетелей».
Он для меня был еще незнакомая личность и по самой своей жизненной дороге: бывший кадет, армейский улан, потом гвардейский кирасир, пошедший в вольные слушатели университета, побывавший в Америке, где работал простым увриером, потом кандидат, магистр политической экономии и университетский профессор.
У нас начались с ним долгие холостые беседы о разных эпизодах жизни, где он с полной искренностью вводил меня и в интимные стороны своего недавнего прошлого. Разговоры эти происходили на его холостой квартире, после чего он меня водил по Варшаве и знакомил меня с ее нравами.
Он, так же, как и Вейнберг и Берг, ставил чрезвычайно высоко варшавскую сцену и увлекался талантом тогдашней первой актрисы театра «Размантости» (Разнообразие), Моджеевской. Берг повез меня к ней — тогда еще молодой, красивой и изящной женщине, вышедшей незадолго перед тем за одного журналиста из Галиции. Мы с ней говорили по-французски. Кажется, она уже и тогда задумывала, овладев английским языком, выступать в шекспировских ролях в Англии и Америке, чего она и достигла, и умерла недавно с большой известностью как международная артистка.
В Варшаве я ее видел в комедии и интимной драме польского репертуара и думаю, что средний жанр был ее настоящей сферой. Такой изящной, тонкой артистки тогда у нас в столицах еще не было. Да и у себя в гостиной она была гораздо больше светская дама, чем тогдашние наши «первые сюжеты».
Труппу театра «Разнообразие» для комедий из современной польской жизни и для так называемых «кунтушевых» пьес из быта старой Польши нашел я замечательной, с таким ансамблем, какой был только в Москве, но не в Петербурге.
Комик Жулковский, напомнивший мне Садовского, актеры на характерные роли — Кругликовский, Рапацкий, Островский, Шимановский, Лещинский, актрисы Бокалович и Попель — все это были настоящие дарования и с большой артистической выработкой. И впечатление от их игры было тем сильнее, что они играли в тесном, бедно отделанном театре, с такой же бедной обстановкой, с допотопными кулисами вместо «павильонов». Да и Большой театр, где шли оперы и балеты, казался провинциальным после наших казенных театров Петербурга и Москвы. Опера была посредственная; в балете хороши национальные танцы и, разумеется, мазурка, приводившая в неистовый восторг Берга.
Варшаву как столицу я нашел вроде немецких столиц средней руки, но все-таки со своеобразной физиономией. Русский гнет после восстания 1862–1863 годов чувствовался и на улицах, где вам на каждом шагу попадался солдат, казак, офицер, чиновник с кокардой, но Варшава оставалась чисто польским городом, жила бойко и даже весело, проявляла все тот же живучий темперамент, и весь край в лице интеллигенции начал усиленно развивать свои производительные силы, ударившись вместо революционного движения в движение общекультурное, что шло все в гору до настоящего момента.
Мне как русскому, впервые попадавшему в этот «край забраный», как называют еще поляки, было сразу тяжко сознавать, что я принадлежу к тому племени, которое для своего государственного могущества должно было поработить и более его культурное племя поляков. Но это порабощение было чисто внешнее, и у поляков нашел я свою национальную жизнь, вековые традиции и навыки, общительность, выработанный разговорный язык, гораздо большую близость к западноевропейской культуре, чем у нас, даже и в среднем классе.
Все эти живучие элементы польской расы и народности в театре еще легче и рельефнее можно было схватить русскому, который никогда и раньше не имел никакой нетерпимости к «инородцам».
Меня не связывало с поляками ничего личного: ни родство, ни товарищество, никакое навеянное жизнью пристрастие, но я ни в гимназии, ни студентом, ни писателем, в Петербурге или за границей, не имел к полякам никакого предубеждения, а, напротив, всегда относился к ним симпатично. И это чувство усилилось еще с момента их последней революции. Читатели моих «Воспоминаний» припомнят, что я рассказывал про то, как «Библиотека для чтения» заинтересовалась заниматься польскими делами и Н. В. Берг был послан по моей личной инициативе в Краков как наш специальный корреспондент.
В Париже я стал, без особого внешнего побуждения, а прямо по собственному интересу, брать уроки польского языка у одного эмигранта из бывших московских студентов. И с тех пор меня не оставляло желание изучить язык и литературу более серьезно. Долго жизнь не давала мне достаточно досугов, но в начале 80-х годов, по поводу приезда в Петербург первой драматической труппы и моего близкого знакомства с молодым польско-русским писателем графом Р-ским, я стал снова заниматься польским языком, брал даже уроки декламации у режиссера труппы и с тех пор уже не переставал читать польских писателей; в разное время брал себе чтецов, когда мне, после потери одного глаза, запрещали читать по вечерам. Работая над книгой моей «Европейский роман», куда я ввел и польскую беллетристику, я еще усиленнее продолжал эти чтения, даже и за границей, и моим последним чтецом в Ницце, с которым я специально изучал «Пана Тадеуша», был поляк, доктор, учившийся в России.
Все это не могло не сложиться в очень прочную симпатию, но без всякого пристрастия и ослепления.
Поляки до сих пор в большинстве не то что уже развитого дворянства, но и образованной шляхты, и университетской интеллигенции не могут еще стряхнуть с себя во многом налета — а то так и оков! — традиции. Католичество и весь склад романтизма, проникающего их чувство к родине (что мы видим и теперь в таких писателях, как Сенкевич) не позволяют этому большинству радикально освободить свои идеи, принципы и упования от такой примеси, которая более трезвому великороссу кажется «неприемлемой». Но и с этим чисто польским придатком они все-таки вызывали во мне лично симпатию за свою любовь к родине, за горячее и стойкое отстаивание своей национально-духовной независимости, которое недаром доставило им имя «народа-мученика».
Дальнейшие мои сношения с поляками в Петербурге, особенно с 80-х годов, только укрепляли тот лад, который всегда был между мною и ими.
К числу ближайших моих собратов и коллег принадлежал и покойный В. Д. Спасович, чрез которого я знакомился со многими постоянными жителями Петербурга из его единоплеменников. Две-три зимы я много бывал в польских домах, на обедах и вечерах, и находил всегда, что поляки и у нас, то есть среди своих «завоевателей» и притеснителей, умеют жить бойко, весело, гостеприимно — для тех русских, кто с ними охотно сходится.
Когда я задумал этюд о двух славянских романах — «Пан Тадеуш» и «Евгений Онегин» — я сделал из него публичную лекцию, которую и предложил Польскому благотворительному обществу. Она состоялась в зале при костеле Св. Екатерины и доставила мне много сочувственников в тогдашнем польском обществе и среди их учащейся молодежи.
Всякий, кто водился с поляками, знает, что они умеют помнить добро и благодарность — одно из их коренных свойств. Они мне это показали, как русскому писателю, в дни моей 40-й годовщины. Тогда в польском еженедельнике «Край» явилась самая лестная для меня характеристика как писателя и человека, которая начиналась таким, быть может, слишком лестным для меня определением: «Пан Петр Боборыкин, известный русский романист — один из самых выдающихся представителей наиблагороднейшего отдела русской интеллигенции» («Pan Pietr Boborykin znakomity…»).
Но еще гораздо раньше того (то есть в 1900 году) почему-то и в заграничной Польше уже знали, как я отношусь к польской нации. И когда я по дороге в Вену заехал вместе с драматургом Залесским в Краков на первое представление его комедии, то на другой же день в газете «Час» (обыкновенно враждебно настроенной к России) появилось известие о моем приезде, и я назван «известный друг польского народа».
Из всех славянских сцен только Краковский театр поставил мою пьесу «Доктор Мошков» в польском переводе, по инициативе режиссера, актера Семашко, с которым я познакомился еще в России.
И вот в «Отечественных записках», вскоре после моего возвращения в Петербург, появилась моя статья о варшавской драматической труппе — первая по времени появления, написанная русским в таком сочувственном тоне, да еще в большом и тогда самом распространенном журнале. В Варшаве в труппе театра «Разнообразие» статья эта приятно изумила всех. «Русский, и так пишет о нас!» Мне все это сообщил Н. В. Берг. Артисты обратились к нему с просьбой выразить мне их горячую благодарность. Они хотели даже прислать мне нечто вроде коллективного адреса.
Я думал, что прощаюсь с варшавской сценой, быть может, навсегда, а случилось так, что я еще летом того же года попал туда — и позднее, уже после моей женитьбы.
Варшава сделалась для меня приятной станцией за границу и обратно. И там же еще жили мои приятели, связанные с моим недавним прошлым, и мой новый приятель И. И. Иванюков, еще не покидавший Варшавы до перехода в Москву и войны 1877 года, где ему пришлось играть роль одного из реформаторов освобожденной Болгарии.
Петербург встретил меня стужей. Стояли январские трескучие морозы, когда я должен был делать большие поездки по городу в моей венской шубке, слишком короткой и узкой, хотя и фасонистой, на заграничный манер. Я остановился в отеле «Дагмар» — тогда на Знаменской площади, около Николаевского вокзала. Возвращаясь из Большого театра, я чуть было не отморозил себе и щек, и пальцев на правой ноге.
Этой стуже отвечало и то, что я мог найти в чухонской столице после пятилетнего отсутствия. У меня не было уже там никаких кровных связей и ни одного друга из моих бывших собратов и сверстников.
Моя кузина С. Л. Баратынская, урожденная Боборыкина, с которой у нас оборвалась переписка из-за романа «Жертва вечерняя», тем временем умерла в чахотке. Ее муж скоропостижно умер в вагоне, вернувшись из Москвы, и хотя в их браке не было особенной нежности, но это так на нее подействовало, что она вдруг бросила светскую жизнь, заперлась дома, стала читать серьезные книжки и нажила скоротечный туберкулез.
Я узнал об этом случайно во время войны, в Германии, сейчас же стал разузнавать о ней, вступил с ней в переписку; она откликнулась, видя, как я верен нашей давнишней дружбе. Но было поздно, и я ее в живых уже не застал.
Один только у меня остался старый друг — княгиня М. Н. Дондукова, мать той девушки, на которой я, еще студентом, мечтал жениться. Она давно уже была замужем и мать девочки. Муж ее жил долго и умер недавно — очень видным земским и думским деятелем. Он был лет на пять — на шесть моложе меня.
Когда я немного осмотрелся в Петербурге, попадая в самый развал зимнего сезона — перед Масленицей, я нашел все тот же чиновничий и вивёрский город, но охваченный тогда «акционерной лихорадкой», прокучивающий дворянские «выкупные свидетельства», очень поостывший — сверху — насчет либеральных идей, с явными признаками того, что «великим реформам» стали давать задний ход.
И вот в этом самом городе, где я как писатель испытал уже столько горечи, потерял состояние и нажил огромный для меня долг, я должен был теперь заново устраивать себе положение.
Другой бы на моем месте попробовал иного поприща. Мне давно уже советовали идти в адвокаты. Я имел все права, и очень может быть, что, владея свободно речью и освежив свое юридическое образование, я мог бы выделиться из массы присяжных поверенных и зарабатывать гораздо больше, чем могли мне дать литература и журнализм. Но закоренелая преданность писательскому делу брала решительно верх, и я не сделал никакой попытки искания другой карьеры ни в Петербурге, ни в Москве. К этому времени как раз я был даже идейно весьма отрицательно настроен против профессии адвокатов и вскоре выступил даже на эту тему в газетном фельетоне. У меня было, однако ж, три места, где я мог рассчитывать иметь более или менее прочную работу — две самых крупных тогда газеты и один лучший журнал. Во время моих переездов по Германии и Франции, «вокруг да около» войны, я писал исключительно в «Санкт-Петербургские ведомости». Сотрудничество в «Голосе» я приостановил еще летом, до войны. В Вене, на пути в Россию, я получил депешу из «Голоса», где стояло, что работа ждет меня в газете — живая работа, как выразился сын Краевского, составлявший телеграмму.
Меня удивило даже, как они там знали, что я именно в Вене и еду в Петербург. Потом я узнал, что это шло от Некрасова. Он рассказал мне, когда мы с ним познакомились, что он, видаясь с Краевским по делам «Отечественных записок», посоветовал ему пригласить меня в воскресные фельетонисты на смену тогдашнего его сотрудника Панютина, писавшего под псевдонимом «Нила Адмирари». Краевский на это пошел, и работа, которая меня «ждала» в «Голосе», и была именно такая.
Предложение было бы подходящее, но я считал своим долгом сначала повидаться с Коршем и спросить его, желает ли он моего сотрудничества?
Так я и сделал. Корш предложил мне писать по четвергам фельетоны, особого же содержания не назначил, а только построчную плату. Это было менее выгодно, чем быть воскресным фельетонистом «Голоса», но я остался верен «Санкт-Петербургским ведомостям» и должен был отклонить предложение Краевского.
От этого я вдвойне пострадал. Краевский так обиделся, что до самой смерти своей приказывал обо мне ничего не говорить, что мне сообщил покойный В. В. Чуйко, писавший там рецензии. А у Корша я продержался не больше двух-трех месяцев, и меня отблагодарили за мою верную службу газете увольнением, как чиновники говорят, «по третьему пункту».
О моей работе в «Санкт-Петербургских ведомостях» я расскажу дальше; а теперь припомню то, что я нашел в «Отечественных записках».
Как я говорил уже в другой главе, с Некрасовым я в 60-х годах лично не встречался. Его письмо в Берлин было первым его письменным обращением ко мне, и я ему до того никогда ничего не писал.
Журнал его только что отпечатал конец моих «Солидных добродетелей» в декабрьской книжке, и роман — судя по тому, что я слышал, — очень читался.
Некрасова я нашел в той же квартире, где он и умер. Редакция помещалась в первой зале, которая служила потом и бильярдной. По приемным дням в углу у окна стоял стол секретаря. В этой должности я нашел моего старого знакомого А. Н. Плещеева, перебравшегося в Петербург в мое отсутствие, тогда еще мелкого чиновника в Контрольном ведомстве. Мне было приятно найти его в «Отечественных записках». Мы с ним всегда — и впоследствии, вплоть до его превращения в миллионера — были в прекрасных, товарищеских отношениях, несмотря на довольно большую разницу лет.
Некрасов, видимо, желал привязать меня к журналу, и, так как я предложил ему писать и статьи, особенно по иностранной литературе, он мне назначил сверх гонорара и ежемесячное скромное содержание. А за роман я еще из-за границы согласился на весьма умеренный гонорар в 60 рублей за печатный лист, то есть в пять раз меньше той платы, какую я получаю как беллетрист уже около десяти лет.
Личность Некрасова тогда только в первые две зимы, проведенные мною в Петербурге — 1871–1872 годов, выяснилась передо мною с разных сторон.
В десять лет (с начала 60-х годов, когда я стал его видать в публике) он не особенно постарел, и никто бы не мог ожидать, что он будет так мученически страдать. Но в нем и тогда вы сейчас же распознавали человека, прошедшего через разные болезни. Голос у него был уже слабый, хриплый, прямо показывающий, что он сильно болел горлом. Его долго считали «грудным», и в Риме он жил в конце 50-х годов только для поправления здоровья.
Голова у Некрасова была чрезвычайно типичная для настоящего русака из приволжских местностей. Он смотрел и в зиму 1871 года всего больше охотником из дворян — псовым или ружейным, холостяком, членом клуба.
Профессионально-писательского было в нем очень немного, но очень много бытового в говоре, в выражении его умного, немного хмурого лица. И вместе с тем что-то очень петербургское 40-х годов, с его бородкой, манерой надевать pince-nez, походкой, туалетом. Если Тургенев смотрел всегда барином, то и его когда-то приятель Некрасов не смотрел бывшим разночинцем, а скорее дворянским «дитятей», который прошел через разные мытарства в начале своей писательской карьеры.
Эта житейская бывалость наложила печать на весь его душевный «habitus». И нетрудно было распознать в нем очень скоро человека, знающего цену материальной независимости.
При нашей личной встрече он сразу взял тот простой и благожелательный тон, который показывал, что, если он кого признает желательным сотрудником, он не будет его муштровать, накладывать на него свою редакторскую ферулу. Таким он и оставался все время моей работы в «Отечественных записках» при его жизни до мучительной болезни, сведшей его в могилу, что случилось, когда я уже жил в Москве.
Я уже рассказывал в печати характерную подробность, показывающую, как он широко относился к тем сотрудникам, в которых признавал известную литературную стоимость.
Повторю это и здесь. Я его застал раз утром (это было уже в 1872 году) за самоваром, в халате, читающим корректуры. Это были корректуры моего романа «Дельцы». Он тут только знакомился с этой вещью. Если это и было, на иную оценку, слишком «халатно», то это прежде всего показывало отсутствие того учительства, которое так тяготило вас в других журналах. И жил он совершенно так, как богатый холостяк из помещиков, любитель охоты и картежной игры в столице, с своими привычками, с собаками и егерем и камердинером.
А в его внутренних «покоях» помещалась его подруга, которую он не сразу показывал менее близким людям, так что я только на вторую зиму познакомился с нею, когда она выходила к обеду, оставалась и после обеда, играла на бильярде. Это была та самая особа, с которой он обвенчался уже на смертном одре.
И вся обширная квартира в доме Краевского на Литейной совсем не смотрела редакцией или помещением кабинетного человека или писателя, ушедшего в книги, в коллекции, в собирание каких-нибудь предметов искусства. В бильярдной одну зиму стоял и стол секретаря редакции. В кабинет Некрасова сотрудники проникали в одиночку; никаких общих собраний, бесед или редакционных вечеринок никогда не бывало.
Весь склад жизни этой холостой квартиры отзывался скорее дореформенной эпохой, хотя тут и помещалась редакция радикально-народнического органа.
К себе Некрасов приглашал на обеды только некоторых сотрудников. Так, в эти две зимы я не видал в числе гостей ни Скабичевского, ни Михайловского, с которыми познакомился только тогда. Иногда был приглашаем Плещеев и всегда Салтыков. А остальными гостями очень часто бывали два влиятельных цензора и какой-нибудь клубский приятель хозяина.
Игры у себя дома Некрасов тогда уже не держал, но продолжал играть в Английском клубе до очень поздних часов, так что раньше полудня вставать не мог.
Обедывал у него и художник Ге, писавший в одну из тех зим портреты его и Салтыкова.
Как хозяин Некрасов был гостеприимен, умно-ласков, хотя веселым он почти никогда не бывал. Некоторая хмурость редко сходила с его лица, а добродушному тону разговора мешала хрипота голоса. Но когда он бывал мало-мальски в духе, он делался очень интересным собеседником, и все его воспоминания, оценки людей, литературные замечания отличались меткостью, своеобразным юмором и большим знанием жизни и людей.
Вообще такого природно-умного человека в литературной сфере я уже больше не встречал, и все без исключения руководители журнализма, с какими я имел дело как сотрудник, — не могли бы с ним соперничать именно по силе ума, которым он дополнял все пробелы — и очень обширные — в своем образовании.
Он изображал собою целую эпоху русской интеллигенции — эпоху героическую, когда люди по характерам стояли на высоте своих талантов.
Замечательной чертой писательского «я» Некрасова было и то, что он решительно ни в чем не выказывал сознания того, что он поэт «мести и печали», что целое поколение преклонялось перед ним, что он и тогда еще стоял впереди всех своих сверстников-поэтов и не утратил обаяния и на молодежь. Если б не знать всего этого предварительно, то вы при знакомстве с ним, и в обществе, и с глазу на глаз, ни в чем бы не видали в нем никаких притязаний на особенный поэтический «ореол». Это также черта большого ума!
Судьба поставила рядом с ним, в руководительстве такого журнала, как тогдашние «Отечественные записки», М. Е. Салтыкова.
Как они держались друг с другом наедине, я не знаю, но при людях за обедами или в редакции Салтыков имел гораздо более хозяйский вид и авторитетный тон, частенько и ворчал и позволял себе «разносы», тогда как Некрасов, когда чем и был недоволен, ограничивался только сухостью тона или короткими фразами.
Не думаю, чтобы они были когда-либо задушевными приятелями. Правда, они были люди одной эпохи (Некрасов немного постарше Салтыкова), но в них не чувствовалось сходства ни в складе натур, ни в общей повадке, ни в тех настроениях, которые дали им их писательскую физиономию. Если оба были обличители общественного зла, то в Некрасове все еще и тогда жил поэт, способный на лирические порывы, а Салтыков уже ушел в свой систематический сарказм и разъедающий анализ тогдашнего строя русской жизни.
Личных отношений у нас с ним почти что не установилось никаких. В памяти моей не сохранилось даже ни одного разговора со мною как с молодым писателем, который стал постоянным сотрудником журнала, где он играл уже первую роль.
Вскоре по моем приезде они сделали мне вдвоем визит в той меблированной квартире, которую я нанял у немки Иды Ивановны в доме около Каменного моста. И тогда же я им обещал доставить для одной из первых книжек «Отечественных записок» рассказ «Посестрие», начатый еще за границей и, после «Фараончиков», по счету второй мой рассказ.
Салтыков сложился тогда вполне в того немножко Собакевича, каким и умер. У него были приятели, но не из сотрудников журнала, хотя некоторых, как, например, Глеба Успенского, он по-своему любил и высоко ставил их талант.
Ко мне и впоследствии он относился формально, и в деловых переговорах, и на письмах, вежливо, не ворчливо, отделываясь короткими казенными фразами. Столкновений у меня с ним по журналу не было никаких. И только раз он, уже по смерти Некрасова, отказался принять у меня большой роман. Это был «Китай-город», попавший к Стасюлевичу. Я бывал на протяжении нескольких лет раза два-три и у него на квартире, но уже гораздо позднее, когда он уже начинал хронически хворать.
«Компанию» он водил с двумя-тремя своими приятелями, вроде Унковского и Лихачева, играл с ними в карты и неистово бранился. Тургенев, когда заболел в Петербурге сильными припадками подагры, говорил мне, что стал от скуки играть в карты и его партнером был сначала Салтыков.
— Но я не выдержал, перестал его приглашать, уж очень он ругал меня!
Рядом с Салтыковым Некрасов сейчас же выигрывал как литературный человек. В нем чувствовался, несмотря на его образ жизни, «наш брат — писатель», тогда как на Салтыкова долгая чиновничья служба наложила печать чего-то совсем чуждого писательскому миру, хотя он и был такой убежденный писатель и так любил литературу.
С Некрасовым вы могли о чем угодно говорить, и если он не проявлял особой сердечности, то все-таки отзывался на всякое проявление вашей личности. С Салтыковым слишком трудно было взять тон задушевной беседы. При другом редакционном компаньоне Некрасова в редакции было бы, вероятно, меньше той сухости, какая на первых порах меня неприятно коробила.
Редакция похожа была на какой-то строговатый помещичий дом, где в известные дни два хозяина, с прибавкой еще третьего компаньона (Елисеева), толковали во внутренних покоях; а молодые сотрудники ждали в приемной, куда то тот, то другой из хозяев и показывался для тех или иных распоряжений. А кому нужен был аванс, тот шел к главному хозяину, вроде как к попу на исповедь, просил и получал, или ему отказывали.
Эти денежные разговоры происходили во второй комнате, где Некрасов имел обыкновение в один из ящиков подзеркальника класть сторублевки, привезенные ночью из клуба. От таких уединенных бесед я воздерживался с самого приезда, тем более что получил сразу порядочную сумму за вторую половину «Солидных добродетелей».
Елисеев, третий член редакционного триумвирата, для меня лично стоял совсем в стороне. В первую зиму я не печатал публицистических статей, а статьи о варшавском театре не входили в круг его компетенции.
Григория Захаровича я видал мало; в редакционные дни почти никогда и изредка — за обедом у Некрасова. К нему на дом я попадал гораздо позднее.
И тогда уже он был пожилой человек и тоже, как Некрасов и Салтыков, не смотрел профессиональным литератором. Сейчас же вы во всем его обличье, и даже тоне и говоре, распознавали чадо духовного ведомства. Не носи он гражданского платья, он был бы типичный «батюшка».
У Некрасова он держал себя очень тактично, с соблюдением собственного достоинства, в общий разговор вставлял, кстати, какой-нибудь анекдотический случай из своего прошедшего, но никогда не развивал идеи, и человек, не знающий, кто он, с трудом бы принял его за радикала-народника, за публициста, которого цензура считала очень опасным, и тогдашнего руководителя такого писателя, как Михайловский.
До знакомства с ним я еще не встречал известного литератора с таким «духовным» обличьем, как он.
Молодой персонал сотрудников, начиная с Михайловского, держался от главных хозяев совсем отдельно, и, как я сказал выше, никакого постоянного общения, бесед или заседаний в журнале не происходило.
Кроме Скабичевского, я нашел в нем постоянных сотрудников — не беллетристов: Николая Курочкина, Деммерта и Пятковского, тогда еще большого либерала.
Николай Курочкин тут только познакомился со мною. Его брат Василий был еще жив, и мы с ним также видались.
Когда-то «Искра», на первых моих шагах, сильно прохаживалась насчет меня — и в стихах и в прозе. В ней появилась первая по счету карикатура, когда мне на первом представлении «Однодворца» подали в директорскую ложу лавровый венок, что было, конечно, преждевременно. И позднее, во время моего редакторства, Минаев и другие остроумцы «Искры» делали меня мишенью своих довольно-таки злобных эпиграмм.
Когда я гостил у отца в усадьбе и собирался на Липецкие воды, он, развернув новый номер «Искры», где была моя карикатура, передал мне его со словами:
— На, полюбуйся!
Кроме карикатуры, были тут, кажется, и стихи Минаева «Октавы», откуда я до сих пор помню такую стрелу, пущенную по моему адресу:
Иль получить себе в забаву Дар Боборыкина Петра, Сзывать всю прессу на облаву И пищу дать для эпиграмм. Пусть нас минует этот срам!Но в Париже я сделался сам сотрудником «Искры» и, списавшись с Василием Курочкиным, с которым тогда лично еще не был знаком, стал вести род юмористической хроники Парижа под псевдонимом «Экс-король Вейдевут». Вероятно, немногие и теперь знают, что это был один из моих псевдонимов.
Имя «Вейдевут» выбрал я неспроста. Род Боборыкиных ведет свое начало от Андрея Комбиллы (переиначенного русскими XIII века в Кобылу), который пришел с дружиной при Симеоне Гордом и считался потомком славяно-балтийского короля Вейдевута. Н. Костомаров считал этого Вейдевута чем-то вроде легендарного Геркулеса поморских славян, что и высказывал в своих этюдах на тему: кто были Варяго-Русь?
Николай Курочкин, как я уже говорил выше, дал мысль Некрасову обратиться ко мне с предложением написать роман для «Отечественных записок». Ко мне он относился очень сочувственно, много мне рассказывал про свои похождения, про то время, когда он жил в Швейцарии и был вхож в дом А. И. Герцена.
В нем я находил разностороннее развитого интеллигента, чем многие тогдашние сотрудники журналов и газет. Но он был человек болезненный, очень нервный, изменчивый в своих взглядах и симпатиях.
В Деммерте я узнал моего товарища по Казани, старше меня одним курсом, на том же камеральном разряде. И все так же он говорил сильно на «он» (хотя и был, кажется, из помещичьего звания), и так же смотрел хмуро на вас, и так же склонен был к выпивке, как и казанским студентом. В журнале он вел провинциальную хронику, и петербургская молодая публика любила его читать, находя в нем должную долю народнического радикализма. Но все это при тогдашних цензурных порядках (хотя журнал выходил и без цензуры) было довольно безобидно, особенно на оценку человека, привыкшего к свободе западной прессы.
Пятковский вел библиографические заметки. В нем я также узнал студента, с которым мы держали в Санкт-Петербургском университете на кандидата, и позднее — моего сотрудника по «Библиотеке». Своим участием в «Отечественных записках» он довольно-таки кичился и давал понять, что его библиографические заметки очень ценятся «принципалами» журнала. Я не думаю, чтобы он тогда искренно держался той «платформы», которая объединяла главных сотрудников «Отечественных записок». Но все-таки я не ожидал того, как он кончит, когда стал издавать свой журнал «Наблюдатель», где дошел до дикой юдофобии.
У Пятковского мы тогда начали было собираться, но дальше двух-трех вечеринок это не пошло.
Скабичевского я видал редко, и хотя он в глазах публики занял уже место присяжного литературного критика «Отечественных записок», в журнале он не играл никакой заметной роли, и рядом с ним Михайловский уже выдвинулся как «восходящая звезда» русского философского свободомыслия и революционного духа. Молодежь уже намечала его и тогда в свои вожаки.
С ним мы не могли нигде раньше встречаться. Когда я покинул Петербург в 1865 году, он еще учился, кажется в Горном корпусе, а за границу не попадал. Где-то он рассказывал в печати, что я принял в редакции за него стихотворца и переводчика Михаловского или обратно — его за Михайловского. Может быть, так оно и было, но отчетливо я сам этого не помню.
Помню только то, что мы стали охотно беседовать, и мне живость его ума нравилась, и характер его свободомыслия был мне также по вкусу. И только позднее я не мог принимать его русскую социологию за какое-то «открытие», навеянное и на него идеями Лаврова. Я признавал и теперь признаю, что можно находить общественные идеалы Герберта Спенсера подлежащими критике, но я не мог разделять мнения тогдашних и позднейших почитателей русского публициста, что он «повалил» британского мыслителя, с которым и я дерзал спорить в Лондоне.
В Михайловском из новых моих собратов я находил всего больше писательского темперамента и верности призванию публициста.
Позднее я бывал у него, когда он жил еще семейно с молодой женщиной, от которой имел детей. У него были журфиксы, куда собиралось много молодого народа, и хозяин за ужином поддерживал оживленную беседу. Он еще не приобрел тогда того слишком серьезного вида, каким отличался в последние годы своей жизни, что не мешало ему, как известно, любить жизнь и увлекаться женщинами. К тому, что произошло для меня нежданно-негаданно в наших отношениях, я перейду дальше.
Плещеев, исполнявший в журнале совершенно стушеванную роль секретаря без всякого веса и значения, по редакционным делам был все тот же мягко-элегический, идейный уже полустарик, всегда нуждавшийся, со скудным заработком, как переводчик и автор небольших статеек. Беллетристикой он уже не грешил и стихи писал редко. Он был отец троих детей, жил очень скромно, но гостеприимно, и к нему льнули все начинающие. Тогда я еще редко бывал у него; но между нами всегда держалась связь, не только писательская, но и по фамильным традициям и воспоминаниям.
Моего бывшего сотрудника, которого я выпускал в «Библиотеке», — милейшего Глеба Ивановича Успенского — я видал больше в приемные дни редакции. И всегда он был озабочен, сдвигал свои брови, щипал бородку, мучительно дожидаясь момента, когда можно будет захватить денежного хозяина и попросить у него «аванс».
Некрасов ценил его не меньше, чем Салтыков, и вряд ли часто ему отказывал. От самого Г. И. я слыхал, что он «в неоплатном долгу» у редакции, и, кажется, так тянулось годами, до последних дней его нормальной жизни. Но все-таки было обидно за него — видеть, как такой даровитый и душевный человек всегда в тисках и в редакции изображает собою фигуру неизлечимого «авансиста» — слово, которое я гораздо позднее стал применять к моим собратам, страдающим этой затяжной болезнью.
Другая редакция — «Санкт-Петербургских ведомостей» — должна была бы сделаться для меня гораздо ближе. Ведь я состоял не один год ее сотрудником за границей. С Коршем мы уже познакомилась в Париже, с двумя его главными фельетонистами — Бурениным и Сувориным — я также был знаком. Буренин помещал когда-то в «Библиотеке для чтения» свои стихи, а с Сувориным я провел несколько дней в Берлине летом, перед моим отъездом в Киссинген. Он тогда ехал в первый раз за границу и вез свою первую жену от чего-то лечиться. И с ними ехал с женою и Лихачев, впоследствии соиздатель Суворина по «Новому времени». Но и раньше, когда я был редактором «Библиотеки для чтения», Суворин раз являлся ко мне за чем-то от моей тогдашней сотрудницы — графини Салиас.
Оба эти фельетониста считались тогда очень радикальными и сотрудничали, кроме газеты Корша, Суворин — у Стасюлевича, а Буренин — в «Отечественных записках», которые печатали его сатирические вещи, направленные и на победителей Франции — пруссаков (одна сатира начиналась, помню, стихами «Как на выси валерьенской» — Mont Valerien), и на вождя русского консерватизма — Каткова, и на педагогов школы его сотоварища Леонтьева.
Но я уже рассказывал, как Суворин, занимаясь хроникой войны, стал заподозривать верность моих сообщений по поводу объяснения хозяина страсбурского Hotel de Paris, который отрицал то, что я видел своими глазами, то есть следы гранат и бомб в том самом коридоре, где я жил.
Суворина я в первое время по поступлении моем в «Санкт-Петербургские ведомости» не видал: он был нездоров и стал ходить в редакцию уже позднее.
Сам Корш встретил меня не особенно приветливо, но оценил то, что я счел своим долгом сначала отъявиться к нему, чтобы знать, желает ли он иметь меня в постоянных сотрудниках. Какого-нибудь прочного положения в газете я не получил. Мы условились, что я буду по четвергам писать фельетоны, но никакого отдела он мне не предложил и никакого особенного содержания, кроме построчной платы.
Валентин Федорович считался очень добрым человеком и честным журналистом и привез с собою из Москвы хорошие традиции 50-х и 60-х годов. Как «принципал» в газете он не имел ни ума Некрасова, ни его способности оценивать людей, и личные сношения с ним не могли быть ровными и всегда приятными. Для этого он был слишком нервен. И цензурные мытарства постоянно раздражали его, и он редко бывал в ровном, благодушном настроении. Редакторская работа поглощала его всего, и он отводил душу, изредка отправляясь в ресторан, ночью, поужинать с кем-нибудь из сотрудников после ночной работы. В этих ужинах я никогда не участвовал, потому, вероятно, что в редакции не сидел даже и в денные часы, а только наезжал туда, привозя свои фельетоны.
Редакция помещалась где-то на Васильевском острову, довольно тесно, но кабинет у редактора был просторный. Особенных дней для сбора сотрудников также не было, как и у Некрасова. Не было и никаких вечерних приемов.
Корш был человек с большой семьей, женатый во второй раз на русской француженке Денизе Андреевне, добродушной и оригинальной, но весьма некрасивой женщине, с которой у меня очень скоро установился простой и веселый тон. Она приглашала меня запросто обедать и была всегда оживлена, особенно в отсутствие Корша, который куда-то уезжал за то время, когда я был сотрудником, уж не помню — в Москву или за границу.
Вскоре после моего водворения в «Санкт-Петербургских ведомостях» в Париже разразилось восстание Коммуны, и это событие очень всех нас волновало. Как раз в это время попал в Петербург после парижской осады пруссаками Г. Н. Вырубов, давно знакомый с Коршем. Помню, в редакторском кабинете Корш все расспрашивал — кто эти вожаки Центрального комитета Национальной гвардии, но Вырубов их лично не знавал. Он опять вернулся во Францию, но не сейчас, а, вероятно, после взятия Парижа версальскими войсками.
Но мое постоянное сотрудничество не пошло дальше конца Великого поста. Никого я в газете не стеснял, не отнимал ни у кого места, не был особенно дорогим сотрудником. Мои четверговые фельетоны, сколько я мог сам заметить, читались с большим интересом, и мне случалось выслушивать от читателей их очень лестные отзывы. Но нервный Валентин Федорович ни с того ни с сего отказал мне в работе и даже ничего не предложил мне в замену.
Такой «хозяйский» поступок показался мне весьма мало подходящим к редактору самой либеральной газеты. Не затевая с Коршем истории, я свой законный протест высказал в письме к Суворину, где по-товарищески разобрал этот инцидент и выразился, между прочим, что этаким способом барыни увольняют прислугу, да и то в образованных странах дают ей неделю, как говорится у французов.
Суворин написал мне умное письмо с объяснением того, почему я пришелся «не ко двору» в их газете. Главный мотив, по его толкованию, выходит такой, что они все в газете уже спелись и каковы бы, сами по себе, ни были, жили себе потихоньку и считали себя и свою работу хорошими, а я явился с своими взглядами, вкусами, приговорами, оценками людей, и это всех, начиная с главного редактора, стало коробить.
Объяснение, пожалуй, и верное вообще; но никак не в частности, потому что я ни во что редакционное фактически вмешиваться не мог и не хотел, никаким отделом газеты не заведовал и никаких личных недоразумений ни с Коршем, ни с влиятельными сотрудниками никогда не имел.
Но пикантно — и для личности будущего издателя «Нового времени» знаменательно — то, что он мое письмо показал Коршу и сознался мне в этом с легким сердцем. И еще пикантнее то, что сам Корш, уволивший меня без всякой основательной причины, весной, когда Парижская коммуна переживала осаду, обратился ко мне с предложением: не хочу ли я по английским газетам составлять заметки об этой осаде.
Это еще больше иллюстрировало то, как и в самых либеральных органах печати положение «работников пера» было такое же, как и прислуги у вздорных барынь.
Еще маленькая подробность из времени моей работы у Корша. Немчик Г., которого я когда-то нашел в Вене бедствующим корреспондентом «Голоса», вернулся в Петербург и состоял у Краевского переводчиком за самую малую плату. Я его устроил в «Санкт-Петербургских ведомостях» на более выгодный построчный гонорар, и эта работа устроила его «фортуну». Там он сошелся с Сувориным, начал для него работать по составлению календаря, а когда тот начал издавать «Новое время», стал заведовать иностранной политикой и зарабатывать большие деньги.
Петербург принял меня десять лет позднее того сезона, когда я из Дерпта явился молодым автором «Однодворца».
Я попал уже к концу сезона, к Масленице, но все-таки настолько отведал его, что мог получить общее впечатление тогдашнего столичного побыта.
Очень резкой перемены не было ни в характере зрелищ и увеселений, ни в уличном движении, ни в физиономии публики. После пятилетнего житья в столицах мира наша «ингерманландская» столица не могла уже производить на вас прежнего обаяния. Все казалось тусклее, серее, ординарнее, без той печати своеобразия, к которой приучили Париж, Лондон, Рим, Мадрид и привольно-гульливая Вена. И я ощутил в Петербурге в первые дни едва ли не большее одиночество, чем за границей.
Прежние мои родственные и дружеские связи свелись к моим давнишним отношениям к семейству Дондуковых. Та девушка, которую я готовил себе в невесты, давно уже была замужем за графом Гейденом, с которым я прожил две зимы в одной квартире, в 1861–1862 и 1862–1863 годах. Ее брат тоже был уже отец семейства. Их мать, полюбившая меня, как сына, жила в доме дочери, и эти два дома были единственными, где я бывал запросто. Кузина моя Сонечка Баратынская уже лежала на одном из петербургских кладбищ.
В литературном мире у меня было когда-то много знакомого народа, но ни одного настоящего друга или школьного товарища. Из бывших сотрудников «Библиотеки» Лесков очутился в числе кредиторов журнала, Воскобойников работал в «Московских ведомостях» у Каткова, Эдельсон умер, бывший у меня секретарем товарищ мой Венский практиковал в провинции как врач после довершения своей подготовки на курсах для врачей и получения докторской степени.
Легкий флёрт в балетном мире — из первой трети 60-х годов — отошел уже в прошлое и ничего не оставил после себя. Личная жизнь в тесном смысле не сулила никаких отрадных переживаний.
А поверх всего надо было усиленно продолжать работу наполовину для себя, а наполовину для покрытия долга по «Библиотеке для чтения». Кроме собственного труда, у меня не было и тогда никаких других ресурсов. От родителей своих (мои отец и мать были еще живы) я не мог получать никакой поддержки. Их доходы были скромны, и я не позволял себе и в больших тисках чем-нибудь отягощать их материальное положение.
Но как «работник пера» я был уже лучше поставлен, чем это было бы пять лет назад, если б я остался в России. Я приехал сотрудником двух газет и самого влиятельного журнала. Если с газетами у меня дело не пошло, как бы я мог ожидать, то в Некрасове я нашел прочного «принципала», сразу давшего мне почувствовать, что у него в журнале я всегда найду работу. И другой радикальный журнал — «Дело» — начал печатать мои вещи; после повести «По-американски», написанной еще за границей, я дал Благосветлову другую повесть того же года — «Поддели».
Журнал Благосветлова шел тогда очень бойко; он жил на довольно широкую ногу, кормил обедами, собирал немало пишущей братии.
Кроме беллетристики, я стал давать ему и статьи.
Все это позволило мне устроиться не хуже, чем я жил в Париже, Вене и Лондоне. И сразу я вошел в жизнь Петербурга почти так же разносторонне, как и в первые мои столичные зимы до приобретения «Библиотеки для чтения».
Квартирка у меня была очень удобная и светлая, дома я не обедал, но добродушная моя хозяйка Ида Ивановна могла смастерить мне легкую закуску, что нужно добывая aus dem Tracteur, как она произносила слово «трактир».
Мне надо было много наверстать в новом знакомстве с физиономией тогдашнего общества, в разных его слоях.
Я попадал как раз в разгар тогдашнего подъема денежных и промышленных дел и спекуляций, и то, что я по этой части изучил, дало уже мне к концу года достаточный материал для романа «Дельцы», который печатался целых два года и захватил книжки «Отечественных записок» с конца 71-го года до начала 73-го.
Воздух 60-х годов отошел уже в даль истории. После выстрела Каракозова чувствовалась скорее реакция, чем настоящее «поступательное» движение. Власть затягивала повода, но все-таки тогда еще нельзя было похерить то, что только что было даровано: гласный суд и земские учреждения или университетский устав 1863 года. Поэтому и в остальной жизни, если и не было подъема 60-х годов, то все-таки в интеллигентной сфере произошло неизбежное расширение разных видов культурной работы.
Журнализм и пресса опять значительно ожили, после запрещений таких органов, как «Современник» и даже полуславянофильское «Время» Достоевского. В беллетристике были еще налицо все наши корифеи. Критика и публицистика заметно оживились. Сатира, в лице Салтыкова, была в самом расцвете.
Театры были по-прежнему в тисках придворной привилегии, и в репертуаре Островский не создал школы хотя бы наполовину таких же даровитых последователей. Но музыка сильно двинулась вперед с русской «кучкой», а братья Рубинштейн заложили прочный фундамент музыкальной образованности и специальной выучки.
Университет не играл той роли, какая ему выпала в 61 году, но вкус к слушанию научных и литературных публичных лекций разросся так, что я был изумлен, когда попал в первый раз на одну из лекций по русской литературе Ореста Миллера в Клубе художников, долго помещавшемся в Троицком переулке (ныне — улице), где теперь «зала Павловой».
Этот клуб, созданный кружком художников и литераторов в мое отсутствие, пришелся очень по вкусу петербуржцам, и его популярность поднялась, главным образом, от публичных лекций. Рядом с Ор. Миллером читал там проф. Сеченов по физиологии и собирал огромную аудиторию; читали и другие, например, проф. Градовский, тогда вошедший в большую моду в Петербурге и как лектор, и как самый выдающийся публицист газеты «Голос». Такого клуба не находил я и за границей, ни в Париже, ни в Вене. В нем было тогда и занимательно, и разнообразно, и весело; давались спектакли, танцевальные вечера, обеды, ужины, ставились живые картины.
Постом я должен был участвовать в одном литературном утре, данном в Клубе художников с какой-то таинственной анонимной целью, под которой крылся сбор в пользу ни более ни менее как гарибальдийцев. Устраивала красивая тогда дама, очень известная в литературных и артистических кружках, которую тогда все называли «Madame Якоби».
От нее я узнал подробности о болезни и смерти бедного А. И. Бенни, взятого в плен папскими солдатами. Она ухаживала за ним в римском госпитале, где он и скончался.
На этом утре я прочел заключительную главу из «Солидных добродетелей». В публике был и М. Е. Салтыков. Он подошел ко мне до моего появления на эстраде и начал очень гневно и резко отговаривать меня от участия в организации нового клуба, идея которого принадлежала А. Г. Рубинштейну.
В ту зиму был в Петербурге и Тургенев. Его вызвали по одному делу Третьего отделения, когда его кто-то оговорил и он должен был дать от себя письменные показания. Мы с ним свиделись и попали на первое совещание о новом Клубе, задуманном Рубинштейном. Тогда я и познакомился с Антоном Григорьевичем и впервые слышал его игру не на эстраде концертного зала, а в маленьком кружке. Он получил от великой княгини Елены Павловны позволение собираться в помещении Михайловского дворца в известные дни для литературных и артистических вечеров.
На совещании были, кроме Рубинштейна, Тургенев, друг его Анненков, В. В. Самойлов, несколько художников и музыкантов. Я был приглашен также как учредитель. А после ужина А. Г. угостил нас своей вдохновенной игрой.
Так вот Салтыков, не явившийся на это совещание, стал разносить эту идею, которую он называл разными нецензурными именами.
— Не ходите вы туда! Это — гадость, холопство! Это пахнет… вы знаете чем?
И он еле-еле успокоился. Я с ним спорить не стал, тем более, что из этой, в сущности, весьма неплохой мысли ничего не вышло. Мы собирались раза два у Самойлова, но до основания клуба дело не дошло. Тургенев уехал вскоре за границу, а Рубинштейн почему-то больше нас не собирал.
Позднее, но в том же году, в фойе Большого театра я услыхал от Анненкова новость, что Виардо «заставила» Тургенева покинуть Баден-Баден и перевезла его в Париж, после того как пруссаки так разгромили Францию.
— А вы знаете, как он недолюбливал французиков. Для него это будет большой жертвой.
Но он сжился с Парижем и даже вошел в такое приятельство с «французиками», какого не водил почти ни с кем в Петербурге. С Салтыковым он позднее стал ладить, а с Некрасовым уже давно не видался и никогда о нем в разговоре со мною не упоминал.
Вскоре по приезде я столкнулся с А. И. Урусовым, которого не нашел в Москве.
Это было в маскараде, в одном из клубов. Он ходил с маской очень роскошной фигуры и говорил с ней все время по-немецки. Кажется, эта особа и была впоследствии его женой. Когда мы встретились с ним и обменялись несколькими словами, я мгновенно зачуял в нем уже не того Урусова, с которым я еще из Парижа приятельски и с таким интересом к нему вел переписку. В нем уже слишком давал себя знать и чувствовать успех. Он уже попал в московские знаменитости. И тон его, и франтоватость, и золотые цепи с брелоками — все говорило о том, что он потерял прежнюю милую простоту.
Может быть, он охладел ко мне в силу еще каких-нибудь мне неизвестных причин, но между нами и на письмах не выходило никакой размолвки, а не видались мы с декабря 1866 года, то есть более четырех лет. Он еще наезжал постом в Петербург, и мы с ним провели несколько вечеров, мне с ним было весело, но задушевности отношений уже недоставало.
То дело, за которое он попал в ссылку в Лифляндскую губернию, случилось позднее. И года его ссылки, а потом прокурорской службы, совпали с моим новым трехлетним отсутствием из России, и я возобновил наше знакомство уже в Варшаве. Из ссылки и потом из Риги он ко мне не писал до самого нашего свидания в Варшаве, где я его нашел в должности товарища прокурора.
В течение великопостного сезона театры тогда закрывались, а давались только живые картины. Клуб художников привлекал меня в члены комитета и как лектора. Тогда среди его старшин и распорядителей выделялись два типичных петербуржца: В. И. Аристов и М. И. Семевский.
Многие, вероятно, и теперь помнят Аристова в качестве устроителя всевозможных спектаклей, вечеров, чтений и праздников. Я с ним участвовал в любительских спектаклях еще в начале 60-х годов и нашел его все таким же — с наружностью отставного военного, при длинных усах и с моноклем в глазу. Никто бы не сказал, что он по происхождению и воспитанию был из духовного звания и, кажется, даже с званием магистра богословия. Где-то он служил и в торжественных случаях надевал на шею орденский крест.
Всегда в хлопотах, но с неизменным самообладанием и немного прибауточным жаргоном, он олицетворял своей личностью для большой публики весь Клуб художников и вообще увеселительно-художественный Петербург. Есть портрет его работы Константина Маковского — как раз из той эпохи. Он представлен в профиль, как он смотрит в отверстие кулисы, с своим моноклем в глазу.
Но не он один был заправилой в клубе. В комитете председательствовал М. И. Семевский, тоже мой старый знакомый. Я помнил его еще гвардейским офицером, когда он в доме Штакеншнейдера отплясывал мазурку на том вечере, где я, еще студентом, должен был читать мою первую комедию «Фразеры», приехав из Дерпта на зимние вакации.
Михаил Иванович в это время уже сделал себе имя «по исторической части» и был уже издатель-редактор «Русской старины». Он тоже считал себя прекрасным чтецом и даже участвовал в спектаклях. С Аристовым они наружно ладили, но между ними был всегда тайный антагонизм. Семевский умел первенствовать, и на него косились многие члены комитета и, когда я поступил в него, то под шумок стали мне жаловаться на него.
Со мною он был внимателен и любезен и всячески показывал мне, что он считает мое участие весьма полезным и лестным для клуба. Он тотчас же устроил те публичные лекции по теории театрального искусства, которые я прочел в клубе. Они входили в содержание моей книги, которую я обработал к 1872 году и издал отдельно.
Тогда такой сюжет публичных лекций был внове, и я не думаю, чтобы кто-нибудь раньше меня выступал с такими лекциями. Публика была больше клубная, и читал я по определенным дням. Сколько помню, мне платили какой-то гонорар, но я не помню, чтобы артисты русской труппы или воспитанники тогдашнего училища посещали эти лекции.
Из актеров членом комитета состоял И. Ф. Горбунов, часто исполнявший с эстрады свои рассказы, а из художников помню Микешина и архитекторов Щедрина и Правке, которого, уже стариком, нашел в Риме, где он поселился в конце 90-х годов.
Мне, конечно, хотелось бы сделать для русского театра И; преподавания что-нибудь более существенное, но тогда все еще царила придворная привилегия, с дирекцией у меня не было никаких сношений. Знаменитый П. С. Федоров (прозванный Губошлепом) не был уже начальником репертуара, а сценой заведовал некий Лукашевич, чиновник дворцового ведомства, с наружностью польского ксендза; в театральном комитете заседали какие-то ископаемые, и к этим годам относится тот факт, что одна комедия Островского была забракована комитетом.
Пьес за все четыре с лишком года, проведенных за границей, я не писал и, вернувшись, стоял совершенно вдалеке от театральной сферы. Но я в 1868 году, когда жил в Лондоне, мог попасть в заведующие труппой Александрийского театра.
Умер тогда режиссер Воронов, и Краевский написал мне, что начальник репертуара Федоров (он еще тогда здравствовал) предложил мне место с 3000 рублей оклада и бенефисом, как полагалось тогда по штату. Я ответил, что в принципе я принял бы это предложение, но с двумя условиями: во-первых, вместо бенефиса прибавку к окладу, а главное, полную художественную автономию и место преподавателя в старшем классе Театральной школы. Дело затянулось под тем предлогом, что тогдашний директор еще не вернулся из-за границы. Так из этого ничего и не вышло. И чтобы покончить с этой материей, забегу года на четыре вперед. Тогда, тоже постом, я читал публичные лекции в том же Клубе художников, и ко мне явился туда бывший адъютант варшавского генерал-губернатора с предложением от него принять место Директора варшавских театров. Этот адъютант, назначенный куда-то вице-губернатором, был не кто иной, как печальной памяти петербургский градоначальник фон Валь. Я попросил день на «размышление» и не принял места по мотивам, которые считал для себя обязательными, несмотря на то, что я так симпатично относился к варшавской труппе тамошнего драматического театра.
К весне я внезапно заболел, перебрался на Васильевский остров и, полубольной, доканчивал повесть «Поддели», которую диктовал тому полячку, кого пристроил к Коршу.
Мой врач настоял на том, что мне необходимо ехать за границу, и вот я опять на пути к Парижу.
Не думал я, что опять попаду в Париж… и когда? После его двойной осады и разорения.
Мне нужно было посоветоваться с врачами, пробыть в Париже не больше двух недель и проехать в северную Италию, а оттуда пробраться в Вену, где и заняться серьезнее своим лечением.
Вид Парижа схватил меня за сердце, особенно некоторых его руин. Тюльери стоял в пепелище, окраины около укреплений разорены, бульвары еще пустые.
Я остановился в Grand Hotel'e, где во время осады помещался госпиталь, и во всех коридорах стоял еще больничный запах. Зато было дешево. Я платил за большую комнату всего 5 франков в сутки. Но через несколько дней я перебрался в меблированные комнаты тут же поблизости, на бульвар Капуцинов.
Целыми днями бродил я и ездил по разным кварталам Парижа, и чувство жалости к этому городу, которому я лично был многим обязан, все росло во мне.
Над членами Коммуны происходил тогда суд в Версальском военном суде. Я туда ездил и был на знаменитом заседании, когда один из вожаков Коммуны был приговорен к расстрелянию за одну записку на клочке бумаги, где стояли слова: «Flambez finances». Это значило: «Подожгите здание министерства финансов».
Тут я видел таких известных членов правительства Коммуны, как живописец Курбе и журналист Паскаль Груссе, бывший у Коммуны министром иностранных дел.
Рошфора, попавшего также в вожаки Коммуны, тут не судили. Он был приговорен к ссылке в Новую Каледонию, откуда и бежал впоследствии. Во время войны он перед тем, как попасть во временное правительство после переворота 4 сентября, жил как эмигрант в Брюсселе, где я с ним тогда и познакомился, только теперь точно не могу сказать — в ту ли осень или несколько раньше.
Он мне не особенно понравился. Его огромная тогда популярность как создателя памфлетного еженедельника «Lanterne» раздула его тщеславие. Его тон, язык, манера держать себя — все это было бульварно-парижское, и я сомневался, чтобы в нем были стойкие демократические принципы, что и оказалось совершенно верным, когда он сделался буланжистом и крайним националистом, а как сатирик и остроумец пережил себя и теперь окончательно выдохся.
Маленький хитроумный Тьер спасал тогда Францию и буржуазную республику. Под его президентством генерал Галифе, усмиритель Коммуны, опозорил себя беспримерной жестокостью, напоминавшей времена герцога Альбы в Нидерландах и Бельгии. Я до сих пор не могу без глубокого негодования вспомнить, как он, когда вел партию пленных коммунаров из Парижа в Версаль, приказал остановить ее и тут же на месте расстрелять несколько сот без всякого разбирательства. А ведь все они были военнопленные и взяты с оружием в руках. И Гамбетта впоследствии ладил с ним, и он был позднее военным министром демократической республики!
Какого же суда можно было ждать от военного трибунала, приговорившего троих вожаков Коммуны к расстрелу?
Никогда не забуду я физии и всей повадки того майорины, который исполнял роль прокурора на том заседании, когда он требовал смерти того, кто написал два слова на клочке бумаги: «Flambez finances!»
Вся картина этого суда, скудная публика, полиция, молодые адвокаты, с которыми я выходил из заседания, их разговоры и даже шутки, мало подходившие к такому трагическому моменту, — все это еще сохранилось в памяти в красках и образах. И весь пустой, казарменный Версаль, где тогда палата заседала в бывшем придворном театре времен Людовиков.
Я и там побывал и вынес такое впечатление, что все это представительство было такое же театрально-лживое, как и мишурная отделка этой подновленной зады спектаклей.
Состав депутатов дышал злостью реакции обезумевших от страха «буржуев». Гамбетта был как бы в «безвестном отсутствии», не желая рисковать возвращением. Слова «республиканская свобода» отзывались горькой иронией, и для каждого ясно было то, что до тех пор, пока страна не придет в себя, ей нужен такой хитроумный старик, как автор «Истории Консульства и Империи».
И Парижу надо было оправиться, а всей стране стряхнуть с себя позор военной оккупации немцев, то есть заплатить им пять миллиардов, что Тьер и выполнил блистательно.
Но он бы не смог это сделать в такой короткий срок, если б у Франции, даже и разгромленной, не было столько жизненных ресурсов, если б она не была преисполнена мелких собственников, привыкших копить и копить. Знаменитые «bas de laine» — «шерстяные чулки» мужиков и средней руки горожан и выручили разоренную Францию и дали Тьеру возможность высылать вагон за вагоном в Берлин, полные золотом.
Немецкие отряды еще кое-где стояли, но я уже нигде их не видал на своем пути во Франции и из Парижа на юг, в северную Италию, а это было всего через несколько месяцев после взятия Парижа немцами.
Из своих парижских собратов я отыскал только Франциска Сарсе.
То, в каком я нашел его настроении, в той же квартире, одного, за завтраком, у стола, который был покрыт даже не скатертью, а клеенкой, было чрезвычайно характерно для определения упадка духа тогдашних парижан, да и вообще массы французов. Я не ожидал такой прострации, такого падения всякой национальной бодрости. И в ком же? В таком жизнерадостном толстяке, как «дяденька», как его позднее стали звать в прессе, с его оптимизмом и галльским юмором.
— Nous sommes une nation, — повторял он любимое французами нецензурное слово.
Потом, через год, много через два года, и он пришел опять в прежнее свое настроение, но тогда на него жалко было смотреть. Весь его мир сводился ведь почти исключительно к театру. А война и две осады Парижа убили, хотя и временно, театральное дело. Один только театр «Gymnase» оставался во все это время открытым, даже в последние дни Коммуны, когда версальские войска уже начали проникать сквозь бреши укреплений.
Мне это рассказывала артистка театра «Gymnase» madame Pasca, которую я стал видать на сцене со второго моего парижского сезона.
Она мне сразу показалась очень своеобразной актрисой, свободной от рутины тогдашней игры большинства женских «первых сюжетов». Она прямо дебютировала в ответственной роли в какой-то новой пьесе, где она не могла еще выказать себя вполне. Ее первым крупным успехом была роль «Фанни Лир» в жанровой комедии, где она играла английскую авантюристку с сильным характером. Дюма-сын очень заинтересовался ее талантом и поручил ей очень ответственную роль матери в «Les idees de madame Aubray». А потом она создала героиню в пьесе Сарду «Фернанда».
Тогда, в те зимы 1866–1870 годов, я с ней не был знаком, знал, что она не из театральных сфер, в консерватории не училась, а пришла из жизни. Она была замужняя дама из хорошей буржуазии, не парижанка, и мне кто-то сообщил, что она имела несчастье выйти за человека, который оказался потом бывшим уголовным преступником, отсидевшим свой тюремный срок.
Узнав, что Дирекция наших императорских театров пригласила ее на несколько лет в Михайловский театр с сентября 1871 года, я отправился к ней знакомиться и поговорить о ее дебютах.
Нашел я ее в небольшой, изящно обставленной квартире, где-то далеко, отрекомендовался ей как друг театра и большой ее почитатель, отсоветовал ей брать для первого появления перед петербургской публикой роль Адриенны Лекуврер, которую она, может, играла (я этого не помню), но, во всяком случае, не в ней так выдвинулась в «Gymnase» в каких-нибудь два-три сезона, и после такой актрисы, как уже тогда покойная Дескле, которую в Брюсселе открыл все тот же Дюма. Дескле как раз перед Паска сделалась любимицей Парижа, и ее игра тогда явилась прямо откровением по своей правде, задушевности, блеску и грации. Она была прямой провозвестницей такой актрисы, как Режан, которая тогда еще не выступала.
Я прямо сказал Паска:
— Возьмите эти три роли: Фанни Лир, героиню «Фернанды» и баронессу д'Анж в «Demi-Monde» Дюма.
Она их и сыграла, но после Адриенны, в которой не понравилась, а захватила публику Михайловского театра со второй роли, в «Фанни Лир», что я ей и предсказывал.
Уже и тогда Паска была не первой молодости, но как женщина еще очень интересна. Те, кто ее помнят по Петербургу — а таких еще немало, — наверно, будут того мнения, что такой «интересной» актрисы не только по игре, но и по наружности они потом уже не видали в Петербурге.
Мы с ней простились, сказав друг другу: «До свидания в Петербурге», — где я уже и нашел ее в начале осени.
Мои парижские переживания летом 1871 года я положил на бумагу в ряде статей, которые приготовил позднее для «Отечественных записок» под заглавием «На развалинах Парижа». Первые две статьи содержали мои личные впечатления, а третью — очерки истории Коммуны — редакция не решилась пустить «страха ради цензорска», и ее «рукопись» так и погибла в «портфеле» редакции.
Эту еще единственную тогда эпопею Коммуны я набросал по выпускам книги, которые при мне и выходили в Париже. Авторы ее Ланжалле и Каррьер, приятели Вырубова и М. М. Ковалевского, тогда еще безвестные молодые люди, составили свой труд по фактическим данным, без всякой литературной отделки, суховато, но дельно и в объективном, очень порядочном тоне, с явной симпатией тому, что было в идее Парижской коммуны двигательного и справедливого.
Кроме этих статей о разоренной и униженной Франции, я гораздо позднее, у Некрасова же, напечатал этюд о книжке Эдмона Абу, который был арестован в Эльзасе после его завоевания немцами. Этюд этот я озаглавил «На немецком захвате». Он был напечатан целиком и редакцию ничем не смутил!
Свою поездку по итальянским озерам, куда я попадал еще в первый раз в моей жизни, я уже рассказывал в вступлении к книге «Вечный город» и здесь повторяться не буду.
Это был прекрасный антракт между, в общем, тяжелыми настроениями в Париже и случайным житьем в Вене, исключительно для лечения.
Там я еще нашел моего бывшего секретаря Г-ва, о котором рассказывал выше, перед его переселением в Прагу. Тогда бедняга еще надеялся как-нибудь найти себе порядочный заработок и не предвидел, что в этой же Вене он найдет добровольную смерть в волнах Дуная.
В Вене я нашел и мою приятельницу Агнессу П. — уже женой того поляка Н-ы, франтоватенького учителя французского языка, за которого она вышла совсем не по страсти.
Во время войны она мне еще писала из родного своего города Майнца, и где-то я получил от нее письмо, в котором она меня извещала, что она собирается повенчаться, «und zwar mit N-na» (и именно с N-na) — добавляла она характерной фразой, с этим архинемецким словом «zwar». Не знаю, было ли это нечто вроде вопросного пункта, направленного на меня, тогда еще свободного холостяка, но в Вене я нашел ее, по-видимому, довольной своим «папа», в хорошенькой квартирке, очень приветливой, с тоном доброй знакомой, которая действительно рада моему приезду.
Они с мужем предложили мне у них обедать, на что я согласился только на условиях платного пансионера. При ней состояла ее сестра, не первой молодости девушка, Анна, свежая, довольно даже эффектная, очень простая и неглупая, с юмором.
Мы с ней очень скоро сошлись, но в пределах приятельства — не больше. И вдруг я получаю от господина Н-ны большое письмо, где он говорит, что Анна находится в недоумении — какие у меня намерения на ее счет? А у меня ровно никаких намерений не было, и все это отзывалось матримониальным подходом плутоватого полячка и было сделано им без ведома своей жены — чрезвычайно деликатной и корректной женщины. Я ей о письме ее мужа ничего и не сообщил; и, сколько помню, дал ему понять, что я на такую удочку не пойду.
Вскоре я собрался в Россию.
Это было уже в начале иностранного сентября.
Из русских ко мне явился сам отрекомендоваться как земляку, нижегородцу и бывшему казанскому студенту — молодой магистрант химии Т-ров, теперь крупный администратор в министерстве финансов после долгой карьеры профессора химии.
Была у меня и другая мимолетная встреча на Kazthirerstrasse с коротеньким разговором, который в моей интимной жизни сыграл роль гораздо более серьезную, чем я мог бы вообразить себе. Каких-то два господина ехали в карете, и один из них, приказав «фиакру» (так в Вене называют извозчиков) остановиться, стал громко звать меня:
— Петр Дмитриевич!
Я его легко вспомнил. Это был некто П. П. Иванов, тогдашний акцизный управляющий в Нижнем, с которым я был знаком еще с начала 60-х годов. А рядом с ним сидел в карете седой старик с бородой, — и он также оказался моим еще более старым знакомым. Это был генерал М. И. Цейдлер, когда-то наш нижегородский полицеймейстер, из гродненских гусар, и товарищ по юнкерскому училищу с Лермонтовым.
Иванов уже искал меня, узнав от кого-то, что я мог быть в это время в Вене, возвращаясь в Петербург. У него была ко мне просьба.
— Я хочу вас просить, Петр Дмитриевич, как писателя, работающего в петербургских газетах, принять участие в молодой артистке, родной племяннице моего товарища по Московскому университету С. Е. Калмыкова. Она училась сценическому искусству в Париже и дебютировала в Париже в театре «Vaudeville».
— Под псевдонимом Delnord, — добавил я.
— Да, да!
Он ничего не знал про то, как я в фельетоне «С Итальянского бульвара» сурово оценил тогда ее игру. Все это я ему тут же объяснил.
— Ничего. Это дело прошлое. Теперь она получила прямо ангажемент в Александрийский театр, и этой осенью будет выступать. Ее пригласили на первое амплуа. Пожалуйста, поддержите.
Обещать безусловную поддержку я не мог; но сказал, что буду рад изменить свое мнение о молодой артистке, которая, конечно, будет более на месте на русской сцене, если она в Париже не разучилась родному языку.
И эта русская артистка сделалась через год с небольшим моей женой, о чем я расскажу ниже. Но рецензий я о ней так и не писал, потому что в сезон 1871–1872 года я ни в одной газете не состоял театральным критиком, и я был очень доволен, что эта «чаша» отошла от меня. Может быть, будь я рецензентом и в Петербурге, мы бы никогда не сошлись так быстро, не обвенчались бы и не прожили целых 38 лет.
И опять Петербург. И опять надо было впрягать себя в ту же упряжь бытописателя и хроникера русского общества.
Газетная работа с уходом от Корша от меня отошла. С «Голосом» уже не было никаких дальнейших сношений. Из журналов мой базис для беллетристики — были «Отечественные записки» и отчасти «Дело» Благосветлова, где я позднее писал и о театре.
То, над чем я за границей работал столько лет, принимало форму целой книги. Только отчасти она состояла уже из напечатанных этюдов, но две трети ее я написал — больше продиктовал — заново. Те лекции по мимике, которые я читал в Клубе художников, появились в каком-то журнальце, где печатание их не было доведено до конца, за прекращением его.
С дирекцией я никаких связей не имел, да и порядки, царившие на русской драматической сцене, были все те же. Придворная привилегия душила всякую попытку частной сцены. В труппе Александрийского театра не было уже Линской, но Павла Васильева я еще застал; Самойлов доживал свой век, и первой актрисой значилась Струйская, которую я помнил почти что выходной актрисой. Она была очень старательная полезность, но не больше. Ее выдвинул репертуар Дьяченко. И с роли в пьесе «Светские ширмы» она заняла положение «премьерши». Лично я с ней никогда знаком не был.
За мое отсутствие во время разрастания оперетки, овладевшей и Александрийским театром, выдвинулись Лядова, бывшая танцовщица, и ее партнер, актер Монахов.
Я его нашел уже в зиму 1871–1872 года молодым актером на первые роли в комедии. Вскоре по приезде я с ним познакомился и нашел в нем развитого малого с университетским образованием, без выгодных внешних средств, но умного, наблюдательного, с своеобразной манерой держать себя на сцене, очень способного и для так называемой «высокой» комедии. Это был уже любимец «Александринки», где он выступал во всяких ролях, а по клубам вызывал шумные приемы пением «куплетов». Он и опереточным персонажам умел придавать нечто более тонкое, как, например, роли губернатора (то есть вице-короля, в подлиннике) в оффенбаховской «Периколе».
После смерти Лядовой опереточной примадонной была Кронеберг, из второстепенных актрис Московского Малого театра, из которой вышла великолепная «Прекрасная Елена». У ней оказалось приятное mezzo-сопрано, эффектность, пластика и прекрасная сценичная наружность. Петербург так ею увлекался, что даже строгие музыкальные критики, вроде Владимира Стасова, ходили ее смотреть и слушать и писали о ней серьезные статьи.
В репертуаре русского театра не было перемены к лучшему. Островский ставил по одной пьесе в год и далеко не лучшие вещи, к которым я как рецензент относился — каюсь — быть может, строже, чем они того заслуживали, например, хотя бы к такой вещи, как «Лес», которую теперь дают опять везде, и она очень нравится публике.
Та требовательность, какую мы тогда предъявляли, объяснялась, вероятно, двумя мотивами: художественной ценой первых пьес Островского и тем, что он в эти годы, то есть к началу 70-х годов, стал как бы уходить от новых течений русской жизни, а трактование купцов на старый сатирический манер уже приелось. В Москве его еще любили, а в Петербурге ни одна его бытовая пьеса не добивалась крупного успеха.
Гораздо сильнее заинтересовал он постановкой своей большой драматической хроники «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», которая и шла в сезон 71–72 года. Самозванца играл Монахов, Шуйского — Павел Васильев. Монахов задумал Самозванца умно и держался очень своеобразного тона ополяченного авантюриста, делал фигуру лжецаря интересной и живой.
Павел Васильев к тому времени как-то оселся и отяжелел, стал забывать, что он прежде всего был комик, считал себя чуть не трагическим актером и серьезно готовил не только Ричарда III (он мне читал отрывки), но и Гамлета.
Мы с ним возобновили старое знакомство, но мне — увы! — нечего было предложить ему. У меня не было никакой новой пьесы, когда я приехал в январе 1871 года, а та комедия, которую я написал к осеннему сезону, на сцену не попала. Ее не пропустил «Комитет», где самым влиятельным членом был Манн, ставивший свои комедии на Александрийском театре.
Мою вещь брал себе на бенефис Монахов. Эта вещь никогда не была и напечатана. Она называлась «Прокаженные и чистые» — из жизни петербургской писательско-театральной богемы. Я ее читал у себя осенью 1871 года нескольким своим собратам, в том числе Страхову и Буренину, который вскоре за тем пустил свой первый памфлет на меня в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, придя ко мне, сел на диван и воскликнул:
— Что же, виноват! Еже писах-писах!
После того мы еще довольно долго были с ним знакомы, и только когда он сделался мне слишком антипатичным своим злоязычием и сплетнями, я разнес его раз на прогулке на Невском в присутствии старика Плещеева, и с тех пор в течение почти сорока лет я ему не кланялся, а он продолжал награждать меня своими памфлетами и даже пасквилями.
И его приятель Суворин удостаивал меня в печати своих выходок, не менее злобных и бранчивых.
Эта травля вызвала один пикантный эпизод из моей тогдашней еще холостой жизни. Я получил французскую записку от какой-то анонимной дамы, которая просила меня приехать в маскарад Большого театра. Она была заинтересована тем, что меня так травят эти два петербургских остроумца. Но она назвала их первыми слогами их фамилий, и по-французски это выходило так: «Bou et les Sou». Но намерение ее было поиграть над этими слогами, чтобы вызвать во мне представление о boue, то есть грязи, и о sou, то есть медном гроше.
Сезон и тогда, в общем, носил такую же физиономию, как и в последнюю мою зиму 1864–1865 года: те же театры, те же маскарады в Большом, Купеческом и Благородном собрании, только больше публичных лекций, и то, что вносил с собою оживляющего Клуб художников, где я позднее прочел три лекции о «Реальном романе во Франции», которые явились в виде статьи у Некрасова.
Тогда и о Флобере знали еще у нас очень немного, а тем паче о менее крупных талантах. Но интерес к французской драматургии поддерживал Михайловский театр, где опять сложилась очень хорошая труппа, которую украсила собою новая любимица публики, Паска. Ее соперницей была Деляпорт, тоже когда-то ingenue театра «Gymnase», имевшая уже в петербургской барской публике множество поклонников и даже поклонниц.
С Паска я тотчас же возобновил парижское знакомство, стал у нее часто бывать и у нее сошелся главным образом с Адольфом Дюпюи и с четой Вормсов.
У Паска бывали журфиксы по пятницам. Она приглашала к себе и запросто пообедать вместе с ее товарищами по сцене. Жила она в доме на Михайловской площади, против сквера, на углу Итальянской, со стороны Екатерининского канала. И Дюпюи приглашал к себе пообедать в меблированные комнаты на Невском, против Гостиного, кажется и теперь существующие.
В Петербурге он и развился в прекрасного жанрового актера для комедии. Единственный его недостаток был скороговорка, от которой он так и не мог отрешиться. В Париже, куда он позднее переселился, он сейчас же был оценен как первоклассный актер, сделался украшением театра «Vaudeville», первым его сюжетом и потом даже содиректором.
У себя дома он был гостеприимный хозяин, всегда веселый и остроумный, без актерской хвастливости и позы. Тогда он уже руководил любительскими спектаклями в Аничковом дворце у наследника (впоследствии Александра III), и в его труппе первым комиком был И. А. Всеволожский, попавший в новое царствование в директоры императорских театров.
Вормс — первый любовник, который брал темпераментом, умной, нервной игрой, — в жизни не был занимателен и держался слишком серьезного тона. Но он, не в пример своим товарищам, один выучился читать и писать по-русски. И он доразвил свое дарование в Петербурге, и сразу в Париже попал в сосьетеры «Французской комедии».
То, что я не был фельетонистом в петербургский сезон 1871–1872 года, хотя и жил очень бойкой жизнью, оставляло мне более досуга для работы над романом, который я начал с осени.
Это были «Дельцы». Я их задумал в обширных размерах. Тогда редакции не боялись больших романов и охотно брали их, даже и от начинающих писателей. А я тогда был писателем уже около десяти лет, действовавшим как романист с января 1862 года, когда стал печататься «В путь-дорогу». Я решил, что «Дельцы» будут иметь четыре части, или «книги», как я любил тогда называть, по десяти листов в каждой. Не предвидел я, что работа над этой вещью так затянется из-за моего нездоровья и, начатая в октябре 1870 года в Петербурге, будет кончена в начале 1873 года за границей.
Некрасов после «Солидных добродетелей» стал мне платить по 100 рублей за лист с рассказа «Посестрие». Такой гонорар считался тогда очень хорошим. Его получала такая писательница, как Хвощинская, когда я издавал «Библиотеку» еще в половине 60-х годов. Из молодых моих сверстников самый талантливый — Глеб Успенский вряд ли и тогда получал значительно больше.
Тогда я еще прибегал и для беллетристики к диктовке. Так и «Дельцов» я начал диктовать одной барышне-москвичке, рекомендованной мне А. Н. Плещеевым.
Вопрос о моей «диктовке» сделался в нашей биографической литературе своего рода легендой. И я хочу здесь еще раз поговорить об этом. До сих пор преобладает мнение, что я всегда и все диктовал — до последних лет. Это неправда.
Я уже имел случай касаться выше этой легендарной версии и здесь вкратце подведу итоги моей диктовке.
Статьи и книги я почти всегда диктовал, до самых последних лет, когда жил в России; но за границей не диктую газетных и журнальных статей никому и нигде, а их набралось бы за двадцать лет несколько томов. Беллетристические вещи, романы и повести я диктовал только до 1873 года, и то не все. Продиктованы были некоторые части «В путь-дорогу», «Земские силы», «В чужом поле», «Жертва вечерняя» — все в Париже. Но «Солидные добродетели» все были написаны, а не продиктованы; из «Дельцов» — первая часть и главы остальных. Вот и все. Начиная с романа «Полжизни», написанного в Италии летом и осенью 1873 года, все романы, повести и даже рассказы были написаны собственной рукой, стало быть за период времени в 37 лет.
Прежде редакторы печатали ваши вещи, имея в руках одну часть, а иногда и несколько глав. Так печатались и «В путь-дорогу», и «Солидные добродетели», и «Дельцы». Но с 1873 года, когда я стал работать в «Вестнике Европы» у М. М. Стасюлевича, это было уже невозможно. Вы должны были представить ему все произведение, хотя бы в нем было до 35 листов (как, например, в моем «Василии Теркине»). Это приучило меня к более систематической работе, и так длилось с 1873 года до половины первого десятилетия XX века, то есть более тридцати лет.
И ни одной строки беллетристики из всего, что я печатал в «Вестнике Европы», не было продиктовано мною, что не мешало, однако, легенде о моей исключительной диктовке укрепиться и перейти в общее место.
В октябре 1871 года в том же Клубе художников старшина Аристов познакомил меня с С. А. Зборжевской (по театру Северцевой), которая сделалась через год моей женой.
Из ее дебютов на Александрийском театре я был перед тем на одном из них, в комедии Манна «Говоруны». Она играла роль светской женщины — неплохо, но и не так, чтобы я признал в ней несомненное дарование.
Ее сценические средства были прекрасны: красивое лицо, рост, фигура, изящные туалеты. Но чувствовалось во всем, что она не рождена для сцены, что у ней нет темперамента, что театр не нужен ей, как он нужен для прирожденных актрис. На публику она мало действовала, пресса относилась к ней очень сдержанно, и самый влиятельный тогда рецензент Суворин не находил ее приобретением для русской труппы, а между тем она была прямо приглашена на первые роли с большим окладом и бенефисом.
Наша встреча в клубе произошла во время маскарадного бала. Она была в маске и домино. Аристов представил меня; фамилии маски он не назвал, но, дав понять, кто она, оставил нас в одной из гостиных.
Между нами, связанными тяжелыми воспоминаниями о моей строгой парижской рецензии, сразу же завязался очень живой разговор. Она не стала скрывать, кто она, вспомнила про Париж, но уже без всякой горечи; я стал ее расспрашивать, где она играла после Парижа. Она провела зиму 1869–1870 года в Италии, в известной тогда труппе Мен <…> играла в Риме, Неаполе, Флоренции, Вене, а летом получила ангажемент в Россию. Перед тем, как покинуть Париж, она потеряла мать, и эта кончина поразила ее так, что она едва пережила этот удар.
Этот рассказ был такой трепетный, что мы в тот же вечер, начав полуврагами, кончили нашу беседу поздней ночью в дружеском тоне. Актриса и тогда не могла меня привлечь, несмотря на ее наружность, но я сразу распознал хорошего человека, и наше сближение пошло быстро.
Я мог бы быть очень полезен ей моей театральной опытностью, но я не мог дать ей того, что составляет основу и тайну таланта. На светское амплуа из нее выработалась бы хорошая полезность.
То, что она сыграла в течение зимнего сезона 1871–1872 года, не выдвинуло ее настолько, чтобы она заняла прочное место в труппе. Кроме двух комедий Манна («Говоруны» и «Паутина»), она играла в переводной довольно-таки заигранной пьесе «Любовь и предрассудок», в переводной же мелодраме «Преступление и наказание» Бело (по-французски: «Драма на улице Мира»), в которой в тот же сезон выступала и Паска, играла и Марину Мнишек в хронике Островского — партнершей Монахова, а в свой бенефис, уже весной, поставила какие-то жанровые пьесы. Но все это было для нее не «выигрышное», и я не стал поддерживать в ней самообольщения; оно, впрочем, и не владело ею. Она смотрела на театр как на профессию, к которой долго готовилась в Париже, и надеялась, что из нее все-таки выйдет полезная исполнительница.
Были, однако, и у нее в публике посетители и посетительницы Александрийского театра, находившие, что она для светских ролей имеет такие данные и такую выработку дикции, каких не было ни у одной из ее сверстниц.
Сезон прошел и для нее и для меня пестро, с неизбежными волнениями за нее, с моей усиленной работой, с участием в литературно-клубной жизни Петербурга.
Я жил тогда в garni дома, сделавшегося историческим, на углу Невского и одной из Садовых. В нем позднее произошел взрыв, направленный из молочно-сырной лавки, где Желябов с товарищами готовил свою адскую машину.
Мои знакомства в литературном мире расширились; но, кроме Некрасова и Салтыкова, не было тогда других писателей одинакового ранга. Я встречался с Григоровичем, Полонским, изредка с Майковым; Достоевского же нигде почти не видал, а личного знакомства и раньше с ним не водил. Из молодых, кроме Гл. Успенского, я чаще видался с Михайловским и бывал на его вечерах с шумными ужинами. Он тогда делался уже любимцем молодежи, но как критики ни он, ни Скабичевский не имели такого обаяния на молодую публику, как 10–12 лет перед тем Добролюбов и Писарев.
Вообще тот сезон ничем не выделялся в смысле новых движений в тогдашней интеллигенции.
Но мне как романисту открылся новый мир тогдашнего делячества. Я лично не принимал, конечно, участия в тогдашней лихорадке концессий и всяких грюндерских спекуляций, но многое я помнил еще из первых 60-х годов и наметил, задумывая своих «Дельцов», три главных типа: такого дельца, как Саламатов, моделью которого мне послужил уже тогда знаменитый Н. И. С-шев, только недавно умерший, и затем двух молодых карьеристов — одного инженера (Малявский) и другого адвоката (Воротилин).
Мой давнишний знакомый Е. И. Рагозин, брат известного на Волге дельца В. И-ча, тогда поселился в Петербурге, заведуя конторой пароходства своего брата, и впоследствии принял участие в издании «Недели», где издательницами были госпожа Конради, а потом Гайдебурова. От него я также много слышал подробностей о тогдашнем деляческом мире, но в мой роман я ввел, кроме бытовых сцен, и любовную фабулу, и целую историю молодого супружества, и судьбу вдовы эмигранта с девочкой вроде Лизы Герцен, перенеся их из-за границы в Россию.
Если б моя личная жизнь после встречи с С. А. Зборжевской не получила уже другого содержания, введя меня в воздух интимных чувств, которого я много лет был совершенно лишен, я бы имел больше времени для работы романиста и мои «Дельцы» не затянулись бы так, что я и через год, когда с января 1872 года роман стал появляться в «Отечественных записках», не довел его еще далеко до конца и, больной, уехал в ноябре месяце за границу.
Но это было уже после нашей свадьбы, бывшей в ноябре 1872 года. Я венчался в Троицком соборе и был так еще слаб, что мне поставили кресло во время венчания.
Вернувшись летом из Гельсингфорса, где я простудился, я заболел, и одна часть «Дельцов» была мною написана в постеле, но я должен был торопиться, чтобы получить гонорар (Некрасов аванса мне не предложил) — иметь средства на поездку.
Моей невесте этим временем было отказано от места. По ее условию ее ангажемент был только пробный, на один год. Она было думала поехать играть в провинцию и вошла в переговоры с дирекцией виленского театра, которым заведовал генерал Цейдлер; но мы решились соединить свою судьбу, и она пошла на риск замужества с больным писателем, у которого, кроме его пера и долгов, тогда ничего не было. Но мы уже привязались друг к другу, и с тех пор 40 лет делим и радость и горе, и не имели еще повода жалеть, что согласились в ноябре 1872 года быть мужем и женой. Жене моей сейчас же пришлось делаться сестрой милосердия. Больного повезла она меня зимой, почти калеку, с особым аппаратом для моей правой ноги.
Мы остановились в Варшаве, где я повидался с своими приятелями. Ни Берг, ни Иванюков не были еще женаты. Там я был еще пободрее; но по приезде в Прагу, куда меня звал мой бывший секретарь полечиться у тамошних профессоров, я стал хиреть, явилась лихорадка, кашель, ночные испарины.
Меня лечил молодой профессор терапии, ходил ко мне и мой товарищ по Дерпту Л-ский, в то время уже доцент Киевского университета.
В Праге, в отельной комнате, сразу ото всего оторванные и с очень тяжелой перспективой, с кое-какими деньгами и с необходимостью опять усиленно писать, доканчивая «Дельцов», встретили мы Новый русский год.
Мой врач сам находил, что мне не следует заживаться в холодной и сырой Праге, и послал меня в тирольский курорт Меран.
Так подошел для меня исход 1872 года, начавшегося любовью и бойкой жизнью столичного сезона и кончившегося в болезни и тревоге за ближайшее будущее — уже не одного меня, а нас обоих.
От Герцена до Толстого (Памятка за полвека)
I
Полвека и даже больше проходит в моей памяти, когда я сближаю те личности и фигуры, которые все уже кончили жизнь: иные — на каторге, другие — на чужбине. Судьба их была разная: одни умирали в Сибири колодниками (как, например, М. Л. Михайлов); а другие не были даже беглецами, изгнанниками (как Г. Н. Вырубов), но все-таки доживали вне отечества, превратившись в «граждан» чужой страны, хотя и по собственному выбору и желанию, без всякой кары со стороны русского правительства.
Один в этом списке Л. Н. Толстой кончил дни свои на родине и никогда не покидал ее как изгнанник. Но разве он также не был «нелегальным» человеком в полной мере? И если его не судили и не сослали без суда, то потому только, что власть боялась его популярности и прямо не преследовала его, но все-таки он умер официально отлученным от государственно-полицейской православной церкви.
В тех воспоминаниях, какие я здесь предлагаю, сгруппирована добрая дюжина имен. Это люди, принадлежащие к различным поколениям. Те два писателя, каких я поставил на двух крайних концах, — Герцен и Толстой — были старше меня, как и некоторые другие в этой группе: Герцен — на целых двадцать четыре года, а Толстой — только на восемь лет; он родился в 1828 году (также в августе), я — в 1836 году. И другие, серьезно пострадавшие или только очутившиеся в изгнании, принадлежали к старшему, сравнительно со мною, поколению, как например: Чернышевский, Лавров, Михайлов. С одним эмигрантом, умершим на чужбине, с В. И. Жуковским, я был ближайший сверстник, старше его, быть может, на два, на три года. Случилось так, что я держал вместе с ним экзамен в Петербургском университете в сентябре 1861 года, перед самым закрытием его после студенческих волнений. Один эмигрант был моложе меня — Ткачев. Кажется, он один из самых молодых в этой группе.
Расскажу я о них не в хронологическом порядке моего личного или заочного знакомства с ними, а по их значению для всей нелегальной России, почему и начинаю с Герцена, хотя сошелся я с ним только в зиму 1869–1870 года в Париже. А таких эмигрантов из ссыльных, как Михайлов, Чернышевский, Лавров, Жуковский, Ткачев — знал гораздо раньше, еще с 1860 года и даже еще раньше, как, например, Михайлова: с ним я встречался еще тогда, когда я начинающим драматургом привез в Петербург свою первую комедию. Это было в кабинете Я. П. Полонского, одного из редакторов журнала «Русское слово».
II
Герцен!
Нет личности и фигуры в нелегальном мире русской интеллигенции более яркой и даровитой, чем этот москвич 30-х годов, сочетавший в себе все самые выдающиеся свойства великорусской натуры, хотя он и был незаконное чадо от сожительства немки с барином из рода Яковлевых, которые вместе с Шереметьевыми и Боборыкиными происходят от некоего Комбиллы, пришедшего «из Прусс» (то есть от балтийских славян) со своей дружиной в княжение Симеона Гордого.
На всем моем долгом веку я не встречал русского эмигранта, который по прошествии более двадцати лет жизни на чужбине (и так полной всяких испытаний и воздействий окружающей среды) остался бы столь ярким образцом московской интеллигенции 30-х годов на барско-бытовой почве. Стоило вам, встретившись с ним (для меня это было мельком в конце 1865 года в Женеве), поговорить десять минут, или только видеть и слышать его со стороны, чтобы Москва его эпохи так и заиграла перед вашим умственным взором Вся посадка тела и головы, мимика лица, движения, а главное — голос, манера говорить, вся музыка его интонаций — все это осталось нетронутым среди переживаний долгого заграничного скитальчества.
Из тогдашних русских немного моложе его был один, у кого я находил всего больше если не физического сходства с ним, то близости всего душевного склада, манеры говорить и держать себя в обществе: это было у К. Д. Кавелина, также москвича почти той же эпохи, впоследствии близкого приятеля эмигранта Герцена. Особенно это сказывалось в речи, в переливах голоса, в живости манер и в этом чисто московском говоре, какой был у людей того времени. Они легко могли сойти за родных даже и по наружности.
На Александре Ивановиче, как известно, житье за границей больше всего отличало в его стиле в виде частого употребления не совсем русских оборотов и иностранных слов, которые он переделывал на свой лад. В этом он был более «эмигрант», чем многие наши писатели, начиная с Тургенева; а ведь тот, хоть и не кончил дни свои в политическом изгнании, но умер также на чужбине и, в общем, жил за границей еще дольше Герцена, да еще притом в тесном общении с семьей, где не было уже ничего русского. И в его печатном языке не видно того налета, какой Герцен стал приобретать после нескольких лет пребывания за границей с конца 40-х годов, что мы находим и в такой вещи, как «С того берега» — в книге, написанной вдохновенным русским языком, с не превзойденным никем жанром, блеском, силой, мастерством диалектики. Но и тут вы уже наталкиваетесь на следы влияний жизни среди иностранцев.
III
Когда я сходился с Герценом осенью 1869 года, он по внешности был почти таким, каким является на портрете работы художника Ге, экземпляр которого принадлежал когда-то Евгению Утину и висел у него на квартире еще до его женитьбы.
Красивым его лицо нельзя было назвать, но я редко видал более характерную голову с такой своеобразной, живой физиономией, с острыми и блестящими глазами, с очертаниями насмешливого рта, с этим лбом и седеющей шевелюрой. Скульптор Забелло сумел схватить посадку головы и всю фигуру со сложенными на груди руками в статуе, находящейся на кладбище в Ницце, только, как это вышло и на памятнике Пушкина в Москве, Герцен кажется выше ростом. Он был немного ниже среднего роста, не тучной, но плотной фигуры.
Истинным духовным удовольствием были для всех, кто пользовался его обществом, те беседы, которые так согревались и скрашивались его искрометным умом, особенно за столом в ресторане или в кафе за стаканом грога. Редко можно было встретить такого собеседника даже и среди французов или южан — итальянцев и испанцев. При таком темпераменте рассказчика и, когда нужно, оппонента, защитника своих идей, Герцен, конечно, овладевал беседой, и при нем трудно было другому вставить что-нибудь в общий разговор. И он не знал устали, мог просидеть за столом до петухов, и беседа под его обаянием все разгоралась.
По-французски он говорил бойко, так же как и писал; но мы и тогда находили, что он все-таки остался в своем произношении и манере говорить москвичом 40-х годов, другими словами: он произносил по-французски, а думал по-русски.
О его последней болезни и смерти я писал в свое время и резюмировал итоги нашего знакомства в книге «Столицы мира». А писателем я занимаюсь во втором (еще не изданном) томе моего труда о романе в XIX столетии в двух отдельных главах «Личность и судьба писателя» и «Главные вехи русского романа». Повторяться я не хочу, хотя и очень нелегко отрываться от памяти о таком «эмигранте», как Герцен, об этом, без сомнения, даровитейшем и типичнейшем москвиче, который так страстно и преданно выступал бойцом за все, что Запад Европы написал на своем освободительном знамени.
Не могу не повторить того, что мы уже чуяли тогда в Герцене под блеском его беседы затаенную грусть, тяжкое сознание того факта, что прервалась его героическая эпопея, когда «Колоколом» зачитывалась вся Россия. Он начал тосковать от своей жизни скитальца как бы без определенного призвания, который видел, что и в Европе его идеи точно сданы в архив. А ведь это было всего за год до падения Второй империи.
Умер он в январе 1870 года (по новому стилю), когда ему шел всего пятьдесят восьмой год.
IV
Александр Иванович был первый эмигрант (и притом с такой славой и обаянием на тогдашнюю передовую Россию), которому довелось испытать неприязненные нападки от молодых русских, бежавших за границу после выстрела Каракозова.
До того Герцен оставался единственным эмигрантом на виду, вплоть до прекращения лондонского издания «Колокола». А тут явились «нигилисты» новой формации, и они сразу повели против него подкопы; кончилось это тем, что он принужден был, защищая себя, «отчитать» их в печати, показать всю суть их поведения. Для них Герцен — автор «С того берега», водрузивший на чужбине первый вольный русский станок, издатель «Колокола», поднявший до такой высоты наше общественное самосознание, — все это как бы уже не существовало, и они явились в роли самозваных судей его личности и поведения. Но разлад начался раньше, со свидания с ним в Лондоне Чернышевского, тогда уже властителя дум самого крайнего слоя русской молодежи.
Они не понравились друг другу и не могли понравиться. Чернышевский приехал с претензией поучать Герцена, на которого он смотрел как на москвича-либерала 40-х годов, тогда как себя он считал провозвестником идей, проникнутых духом коммунизма. Когда я познакомился с Герценом, я понял, до какой степени личность, и весь душевный склад, и тон Чернышевского должны были неприятно действовать на него.
С Чернышевским я лично знаком не был; но я начал свое писательство в Петербурге в годы его популярности, и мне как фельетонисту журнала «Библиотека для чтения» (который я позднее приобрел в собственность) привелось говорить о тех полемических походах, какие Чернышевский вел тогда направо и налево. Я слышал его публичную беседу, посвященную памяти Добролюбова, только что перед тем умершего. Тема этой беседы была; желание показать публике, что Добролюбов не был нисколько выучеником его, Чернышевского, что он очень быстро занял в «Современнике» самостоятельное положение. Намерение было великодушное и говорило как бы о скромности лектора; но тон беседы, ее беспрестанные обращения к аудитории, то, как он держал себя на эстраде, его фразеология и вплоть до интонаций его голоса — все, по крайней мере во мне, не могло вызвать ни сочувствия, ни умственного удовлетворения. Сиди среди его слушателей Герцен, я думаю, что его впечатление было бы такое же.
Чернышевский и Герцен — это были продукты двух эпох, двух обществ, двух интеллигенций. И оценка Герцена Чернышевским была тем зарядом, которым зарядились новые эмигранты и довели себя до тех беспощадных обличений, какими наградил их Герцен.
V
В нашей эмиграции более чем за полвека не было другого примера той нежной и глубокой дружбы, какая соединяла таких двух приятелей, как Герцен и Николай Огарев.
Это была не только у нас, но и во всей Европе совершенно исключительная душевная связь. Известно из воспоминаний Герцена («Былое и думы»), как зародилась эта дружба и через какие фазы она перешла. На Воробьевых горах произошла клятва во взаимной приязни двух юношей, почти еще отроков. Тогда уже в них обоих жили задатки будущих «свободолюбцев», намечена была их дальнейшая судьба общественных борцов, помимо их судьбы как писателей.
Оба рано выступили в печати: один — как лирический поэт, другой — как автор статей и беллетристических произведений. Но ссылка уже ждала того, кто через несколько лет очутился за границей сначала с русским паспортом, а потом в качестве эмигранта. Огарев оставался пока дома — первый из русских владельцев крепостных крестьян, отпустивший на волю целое село; но он не мог оставаться дольше в разлуке со своим дорогим «Сашей» и очутился наконец в Лондоне как ближайший участник «Колокола».
Влияние Огарева на общественные идеи Герцена все возрастало в этот лондонский период их совместной жизни. То, что в Герцене сидело с молодых лет народнического, — преклонение перед крестьянской общиной и круговой порукой, — получило при участии Огарева в «Колоколе» характер целой доктрины, и не будь Огарев так дорог своему другу, вряд ли бы тот помещал в своем журнале многое, что появлялось там с согласия и одобрения главного издателя.
Про Огарева у нас мало писали. И его поэтическое дарование стали оценивать только в самое последнее время. Перипетии их дружбы с Герценом тоже не были освещены в печати во всех подробностях. Не соединяй их такая нежная дружба, в их интимной судьбе случилось нечто, что, вероятно бы, заставило и приятелей разойтись. Вторая жена Огарева стала подругой Герцена. От него у нее была дочь Лиза, которая формально считалась Огаревой; но была, несомненно, третья по счету дочь Александра Ивановича. Но это не охладило того чувства, каким дышал Герцен к своему «Коле» вплоть до последних минут своей жизни. Когда он умирал в Париже, он не переставал беспокоиться, не пришла ли депеша от его Коли. Это дало мне как беллетристу мотив рассказа, появившегося в газете под заглавием «Последняя депеша»…
Да, такой дружбы не было в русской эмиграции, да и во всей писательской среде.
VI
Огарева видел я всего раз в жизни, и не в Лондоне или в Париже, а в Женеве, несколько месяцев после смерти Герцена, во время Франко-прусской войны. Он не приезжал в Париж в те месяцы, когда там жил Герцен с семьей, а оставался все время в Женеве, где и А. И. жил прежде домом по переезде своем из Англии.
И вот жизнь привела меня к встрече с Огаревым именно в Женеве, проездом (как корреспондент) с театра войны в юго-восточную Францию, где французские войска еще держались. И я завернул в Женеву, главным образом вот почему: туда после смерти Герцена перебралась его подруга Огарева со своей дочерью Лизой, а Лиза в Париже сделалась моей юной приятельницей; я занимался с нею русским языком, и мы вели обширные разговоры и после уроков, и по вечерам, и за обедом в ресторанах, куда Герцен всегда брал ее с собой.
Лиза была не по летам развитая девочка: в двенадцать лет похожа была на взрослую девицу по разговору, хотя по внешности не казалась старше своих лет; с миловидностью почему-то английского типа, с двумя выдающимися зубами верхней челюсти, с забавным англо-французским акцентом, когда говорила по-русски, со смесью детскости, с манерами и тоном взрослой девицы. Она не говорила Герцену «папа», а называла его и в его присутствии «Александр Иваныч», с сильной картавостью.
Мне захотелось по пути повидаться с этой милой «подружкой», которая позднее послужила мне моделью в романе «Дельцы» (а после ее самоубийства уже взрослой девушкой я посвятил ее памяти рассказ «По-русски», в виде исповеди матери).
Точно какая фея послала мне Лизу, когда я, приехав в Женеву, отыскивал их квартиру. Она возвращалась из школы с ученической сумкой за плечами и привела меня к своей матери, где я и отобедал. С ее матерью у меня в Париже сложились весьма ровные, но суховатые отношения. Я здесь не стану вдаваться в разбор ее личности; но она всегда при жизни Герцена держала себя с тактом в семье, где были его взрослые дочери, и женой она себя не выставляла.
Обедать пришел и Огарев. Тогда (то есть в конце 1870 года) это был сильно опустившийся больной человек, хотя еще не смотрел стариком, с черными волосами, без заметной седины. Не одному мне было известно, что он давно страдал русским недугом алкоголизма. За столом он упорно молчал, и я не помню, чтобы он сказал хоть что-нибудь такое, что могло бы сохраниться в моей памяти. Впечатление производил он довольно тяжкое. Я знал уже и раньше, что он находится в сожительстве с англичанкой, скромной девушкой, которая ходила за ним, как сиделка. Прежнего Огарева — поэта и политического писателя не осталось и следа в этом «живом трупе». Но какая игра судьбы, которая свела бывших супругов за этим обедом, где хозяйка приготовила для нас русские щи!
VII
Отступая несколько назад, я приведу подробности моего личного знакомства с М. А. Бакуниным, этим первоначальным насадителем анархизма, в котором он очутился выучеником Прудона, в Париже в конце 40-х годов. Оба они были воинствующие гегельянцы, и Бакунин после фанатического оправдания всякой действительности (когда сам начитывал Белинскому гегельянскую доктрину) успел превратиться сначала в революционера на якобинский манер и произвести бунт у немцев, был ими захвачен и выдан русскому правительству, насиделся в сибирской ссылке и бежал оттуда через Японию в Лондон, где состоял несколько лет при Герцене и в известной степени влиял на него, особенно в вопросе о польском восстании. Если популярность Герцена покачнулась в России, то именно из-за польского восстания, и в этом главным виновником надо было считать все того же Бакунина.
В Лондоне я к Герцену не ездил, и первое мое пребывание там относится к лету 1867 года, когда Герцен с Огаревым и Бакуниным перебрались уже на континент.
О Бакунине я и раньше слыхал часто и помногу от разных посетителей Герценовой гостиной в Лондоне, в том числе от А. Ф. Писемского, который прекрасно передавал его тон и даже интонации его зычного, как бы протодьяконского голоса (хотя он и ничего общего с духовным званием не имел, а был и остался характерным российским дворянином, тверским экс-помещиком и московским интеллигентом 30-х годов).
Он стал ездить на те конгрессы «Мира и свободы», которые собирались в конце 60-х годов в Швейцарии. Первый состоялся в Женеве. Я на него не попал, но попал на второй и на третий конгрессы, бывшие в Берне и в Базеле. Тогда-то я и познакомился с этим страшным упразднителем всей цивилизации по рецепту непримиримого анархизма.
Об этих встречах мне приходилось уже говорить в моих воспоминаниях, и я не хотел бы здесь повторяться. Но как же не сказать, какая живописная и архирусская бытовая фигура являлась в лице этого достолюбезного Михаила Александровича? Таких и на Руси его эпохи не нашлось бы и полдюжины.
Все в нем дышало дворянским побытом, все: и колоссальная фигура, и жест, и голос, и язык, и манера одеваться. На нем еще менее, чем на Герцене, отличала долгая жизнь за границей.
VIII
С Бакуниным, как я сказал, мы видались на обоих съездах в Берне и Базеле. Он был уже хорошо знаком с моим покойным приятелем Г. Н. Вырубовым; тот тоже приезжал на эти съезды и даже выступал на них как оратор.
Создатель европейского анархического Интернационала, когда-то гвардейский офицер и тверской помещик, обладал прирожденным красноречием. По-русски он при мне не произносил речей, но по-французски выражался красиво, а главное — сочно и звучно своим протодьяконским басом.
В памяти моей сохранилась такая забавная подробность. Когда Бакунин (это было на Бернском съезде) с кафедры громовым голосом возгласил, что в России «все готово к политико-социальной революции», мы с Вырубовым переглянулись, особенно после заключительной фразы, будто бы «таких, как он, в России найдется до сорока тысяч».
В коридоре Вырубов остановил его и говорит:
— Михаил Александрович, побойтесь Бога! Да таких, как вы, не только сорока тысяч не найдется у нас, а даже и двоих-троих.
Бакунин добродушно рассмеялся своим могучим грудным смехом. Вообще он, хоть и был жесток в своих полемиках, обезоруживал добродушием и какой-то неумирающей наивностью. Нельзя было хмуриться на него и за то, что он проповедовал.
Все это уже прошлое, и теперь Бакунин, наверно, на оценку наших экстремистов, являлся бы отсталым старичиной, непригодным для серьезной пропаганды. Тогда его влияние было еще сильно в группах анархистов во Франции, Италии и даже Испании. Но он под конец жизни превратился в бездомного скитальца, проживая больше в итальянской Швейцарии, окруженный кучкой русских и поляков, к которым он всегда относился очень благосклонно.
Вот еще одна подробность из дней Бернского съезда. Сидели мы рядом с Вырубовым в коридоре; проходит Бакунин своим грузным, скрипучим шагом и, кивая на нас головой, кидает во всеуслышание:
— Вот сидят попы науки.
Так он называл сторонников позитивной философии.
Но в его анархизме было много такого, что давало ему свободу мнений; вот почему он и не попал в ученики к Карлу Марксу и сделался даже предметом клеветы: известно, что Маркс заподозрил его в роли агента русского правительства, да и к Герцену Маркс относился немногим лучше.
После съезда в Базеле больше мы с Бакуниным не встречались. Меня потянуло на родину; а из отечества я отсутствовал более четырех лет!
IX
Надо опять отступить назад к моменту освобождения крестьян, то есть к марту 1861 года, так как манифест был обнародован в Петербурге не 19 февраля, а в начале марта, в воскресенье на Масленице. Тогда я проводил первую свою зиму уже писателем, который выступил в печати еще дерптским студентом в октябре предыдущего 1860 года.
В Дерпте, где я в течение целых пяти лет изучал химию, естественно-медицинские науки, я выпускного экзамена не держал и решил приобрести кандидатский диплом по юридическому факультету, для чего и записался на второе полугодие 1860–1861 года в число вольных слушателей Петербургского университета. Это сблизило меня с несколькими кружками студентов и в том числе с одним очень передовым, где вожаком считался Николай Неклюдов (впоследствии сановник, товарищ министра внутренних дел) и некий Михаэлис, брат г-жи Шелгуновой, а чета Шелгуновых состояла в близком приятельстве с известным уже писателем М. Л. Михайловым.
Он как политический деятель прошел очень быстро, почти мгновенно. Не только теперь о нем многие забыли, но и тогда его тяжкая судьба (каторжные работы) разразилась совершенно внезапно. Даже в тогдашнем Петербурге его знали мало, а если и знали, то как писателя, беллетриста и автора литературных статей, а не как политического агитатора. У него тогда (то есть к году его процесса) было уже прошлое как у писателя, и довольно большое. Он еще в 50-х годах сделал себе имя как беллетрист и печатался в лучших журналах — в «Современнике» и в «Отечественных записках». Его перу принадлежал и обширный бытовой роман из актерского мира в провинции «Перелетные птицы».
Эпоха реформ произвела в его внутреннем «я» быстрый переворот. Он из беллетриста и стихотворца (как известный уже переводчик песен Гейне) превратился в работника по экономическим вопросам, по политике и публицистике, сделался сторонником самых тогда «разрывных» идей, почитателем таких мыслителей, как Сен-Симон, Луи-Блан, Прудон. Его потянуло за границу и сильнее всего в Лондон, к Герцену. Эта поездка решила его судьбу. Там он и сделался более пылким революционером и оттуда привез с собою ту прокламацию, которая загубила его. Он ее пустил в ход как раз после манифеста 19 февраля и оставался сам в Петербурге вместо того, чтобы переждать и, может быть, совсем не явиться на родину.
X
Тут я должен опять зайти к годам моего отрочества. Это было в Нижнем в конце 40-х годов. Я учился в тамошней гимназии до 1853 года, жил и воспитывался в доме моего деда. И тогда уже я знал, что в нашем городе проживает некто Михайлов, племянник советника соляного правления, который ездил с визитами к моему деду; но этот племянник в наш дом вхож не был. С ним водил знакомство по клубу мой дядя, брат матери, человек умный, с образованием, любознательный и общительный. От него я, вероятно, и слыхал впервые про этого Михайлова; видал его только на улице и даже, вопреки моей большой близорукости, разглядел, что он отличался выдающейся некрасивостью лица: что-то инородческое, донельзя не «авантажное», как говорили еще тогда в провинции.
Эти Михайловы были сибиряки или из Приуральского края, чем и объяснялась его такая инородческая некрасивость, но от дяди я знал, что он «из университетских», очень умный, веселый и речистый остряк и уже тогда пописывал. Несколько позднее я стал читать и его рассказы и повести. Один из этих рассказов до сих пор остается у меня в памяти — «Кружевница», вместе с содержанием и главными лицами его романа «Перелетные птицы». В нем я узнавал актеров и актрис тогдашнего Нижегородского театра: первый актер Милославский, впоследствии известный антрепренер на юге, и сестры Стрелковы (в романе они называются Бушуевы), из которых старшая Ханея Ивановна попала в Московский Малый театр и играла в моей комедии «Однодворец» уже в амплуа старух, нося имя своего мужа Таланова. Мы — гимназисты, жадные до чтения журналов, — приписывали Михайлову и ряд очень бойких очерков бытовой жизни на Нижегородской ярмарке в журнале «Москвитянин».
У нас с Михайловым были встречи в конце 1858 года и в начале 1861 года, и оба раза в Петербурге.
В первый раз это случилось в кабинете Я. П. Полонского, тогда одного из редакторов кушелевского журнала «Русское слово». К нему я попал с рукописью моей первой комедии «Фразеры», которая как раз и погибла в редакции этого журнала и не появлялась никогда ни на сцене, ни в печати. На сцену ее не пустила театральная цензура.
У Полонского я и нашел Михайлова и в первый раз в жизни мог поближе разглядеть его, слышать его голос и манеру вести разговор. На мои слова, что я и раньше видал его, Полонский (они были на «ты») воскликнул:
— Где же? Наверно, в каком-нибудь неприличном месте?
Оба они рассмеялись. И это приятельское замечание и тогда меня не особенно покоробило. Я уже из Нижнего вывез такое мнение, что Михайлов, несмотря на свою архинекрасивую внешность, имел репутацию любителя женского пола и считался автором довольно-таки эротических куплетов на тему о жизни девиц в веселой слободке на Нижегородской ярмарке.
XI
Позднее, когда я уже жил в Петербурге, молодым писателем, я всего на несколько минут столкнулся с ним у Писемского. Я шел к нему в кабинет, а Михайлов выходил оттуда.
Писемский, лежа на клеенчатом диване, как всегда в халате и с раскрытым воротом ночной рубашки, говорил мне:
— Вот сейчас Михайлов спрашивает меня: «Алексей Феофилактович, куда у меня литературный талант девался? А ведь я писал и рассказы и романы». А я ему в ответ: «Заучились, батюшка, заучились, все вопросами занимаетесь, вот талант-то и улетучился».
И это было, в сущности, верно. Идеи, социальные вопросы, политические мечты и упования отвлекли его совсем от интересов и работы беллетриста.
В третий и последний раз я нашел его случайно в том студенческом кружке, где вожаком был Михаэлис, его приятель и родной брат г-жи Шелгуновой.
Целая компания молодежи сидела вокруг самовара вечерком и среди них — Михайлов. В руках его был экземпляр манифеста об освобождении крестьян. Он жестоко нападал на него, не оставлял живой ни одной фразы этого документа, написанного велеречиво с приемами семинарского красноречия и чиновничьего стиля. Особенно доставалось фразе, которую приписывали тогда московскому митрополиту Филарету: «от проходящего до проводящего».
Вся эта компания была настроена очень радикально, прямо бунтарски. И, кажется, тогда же я и видел листок той прокламации, которая погубила Михайлова. Получил ли я этот листок от самого автора или от его приятеля Михаэлиса, не припомню. Но я больше с Михайловым уже не встречался.
На нынешнюю оценку, содержание и тон этого документа были бы признаны совсем не такими ужасными: повели бы за собою ссылку, пожалуй, и в места довольно-таки отдаленные, но вряд ли каторжные работы на долголетний срок с лишением всех прав состояния.
По Петербургу ходила потом запрещенная фотографическая карточка, где Михайлов сидит на барабане, когда его только что остригли, в солдатской шапке и в сером арестантском балахоне; портрет очень похожий, с его инородческими глазами и всем обликом сибирского уроженца.
Успех этой карточки показывал, что в петербургской публике им уже интересовались. Но кто? Исключительно, я думаю, молодежь. Я не помню, чтобы его процесс и приговор волновали всех. Во всяком случае, гораздо меньше, чем впоследствии процесс и гражданская казнь Чернышевского.
Но этот быстрый поворот в судьбе писателя-беллетриста показывал, какой толчок дало русской более восприимчивой интеллигенции то, что «Колокол» Герцена подготовлял с конца 50-х годов.
Если Чернышевский мог во время своего процесса упорно отстаивать свою невиновность, то Михайлову было труднее отрицать, что он составитель прокламации. А Чернышевский был приговорен к каторге только по экспертизе почерка его письма к поэту Плещееву; ее производили сенатские обер-секретари, да и они далеко не все признали тождество с его почерком.
XII
Из той же полосы моей писательской жизни, немного позднее (когда я уже стал издателем-редактором «Библиотеки для чтения»), всплывает в моей памяти фигура юного сотрудника, который исключительно работал тогда у меня как переводчик.
Я дал ему перевести как можно скорее только что вышедшую тогда брошюру Дж. Ст. Милля «Об утилитаризме». Мой юный сотрудник перевел ее в два дня, и когда я послал ему гонорар с секретарем редакции, тот передал мне, что его самого он не застал, а гонорар передал его матери, которая, провожая его, сказала:
— Мой Петинька уж так старается для Петра Дмитриевича.
И это «Петинька» был не кто иной, как впоследствии жестокий нигилист, критик и эмигрант-революционер Петр Ткачев. Это был тогда недоучившийся студент самого скромного вида и тихого тона. У меня в журнале он не приспускал еще себя к литературной и публицистической критике. И я не помню, чтобы он часто посещал редакцию. Его перевод этюда Милля постигла печальная участь. Тогда все статьи философского содержания шли на цензорский просмотр в «лавру», их читал какой-то обскурант-монах, да еще имевший репутацию сильно выпивающего. И он такую невиннейшую вещь перекрестил красными чернилами всю без остатка.
Ткачев поступил в дальнейшую радикальную выучку к Благосветлову, редактору «Русского слова», а потом журнала «Дело». Там и выработался из него самый суровый и часто бранчивый критик писаревского пошиба, но еще бесцеремоннее в своих приемах и языке. Он, как известно, доходил до того, что Толстого, автора «Войны и мира», называл именем юродивого — Ивана Яковлевича Корейши!
В Ткачеве уже и тогда назревал русский якобинец на подкладке социализма, но еще не марксизма. И его темперамент взял настолько вверх, что он вскоре должен был бежать за границу, где и сделался вожаком целой группы русских революционеров, издавал журнал, предавался самой махровой пропаганде… и кончил убежищем для умалишенных в Париже, где и умер в половине 80-х годов. Про него говорили, что он стал неумеренно предаваться винным возлияниям. Это, быть может, и ускорило разложение его духовной личности.
Вот что вышло из тихонького трудолюбивого студентика, из того «Петиньки», мать которого радовалась, что он так усердствовал, переводя брошюру Милля.
Ни в Петербурге, до моего отъезда из России в сентябре 1865 года, ни за границей я его не встречал больше; а его деятельность мало привлекала меня. В нем умер осколок того материалистического нигилизма и демагогического якобинства, из которых ничего плодотворного, истинно двигательного не вышло ни для людей его поколения, ни для дальнейших генераций, даже и среди эмигрантов.
XIII
Другая, совсем иных размеров фигура выплывает в памяти, опять из той же полосы моего петербургского писательства и редакторства.
Это был сам Петр Лаврович Лавров, тогда артиллерийский ученый полковник, а впоследствии знаменитый беглец из ссылки и эмигрант, живший долго в Париже после усиленной пропаганды своих идей, ряда изданий и попыток организовать революционные центры в двух столицах мира — Лондоне и Париже.
В первый раз мне привелось видеть его, когда я, еще дерптским студентом, привозил свою первую комедию «Фразеры» (как уже упоминал выше) в Петербург, и попал я к Я. П. Полонскому, одному из редакторов «Русского слова». Полонский жил тогда со своей молоденькой первой женой (русской парижанкой, дочерью псаломщика Устюшкова) в доме известного архитектора Штакеншнейдера и привел меня из своей квартиры в хозяйский обширный апартамент, где по воскресеньям давали вечера литературно-танцевальные. Там я впервые видел целый выбор тогдашних писателей: поэта Бенедиктова, Василия Курочкина, М. Семевского (еще офицером Павловского полка) и даже Тараса Шевченко, видом настоящего хохла-чумака, но почему-то во фраке, который уже совсем не шел к нему.
Полонский заставил меня дочитать мою комедию среди целого общества в гостиной, где преобладали дамы и девицы. И когда я уже кончал чтение последнего акта, вошел рослый, очень плотный рыжий полковник в сопровождении своей супруги. Это и был Лавров.
Когда потом я перешел в кабинет, где сидели литераторы, случился такой инцидент: Лавров, войдя в кабинет и не заметив меня, сидевшего в углу, громко спросил Полонского своим картавым голосом:
— А как вы находите эту комедию дерптского студента?
Раньше, еще в Дерпте, я стал читать его статьи в «Библиотеке для чтения», все по философским вопросам. Он считался тогда «гегельянцем», и я никак не воображал, что автор их — артиллерийский полковник, читавший в Михайловской академии механику. Появились потом его статьи и в «Отечественных записках» Краевского, но в «Современнике» он не писал, и даже позднее, когда я с ним ближе познакомился, уже в начале 60-х годов, не считался вовсе «нигилистом» и еще менее тайным революционером.
Как только я сделался издателем-редактором «Библиотеки для чтения», я предложил ему взять на себя отдел иностранной литературы. Он писал обзоры новых книг, выходивших по-немецки, по-английски и по-французски. Каждый месяц из книжных магазинов ему доставляли большие кипы книг; он подвергал их слишком быстрому просмотру, так что его обозрения получали отрывочный и малолитературный колорит.
Это сотрудничество повело к знакомству домами. Я бывал у него на вечеринках; у нас нашлось даже (через его племянника, блестящего правоведа) какое-то дальнее свойство от моей тетки, жившей тогда в Петербурге.
Так прошло два с чем-то года; весной 1865 года прекратилось издание моего журнала, и с 1865 по 1871 год я прожил за границей (с коротким приездом в Москву в 1866 году), и в эту полосу моей жизни я нигде с Лавровым не встречался.
XIV
Тогда-то и произошел крутой переворот в его судьбе. Из артиллерийского полковника и профессора академии он очутился в ссылке, откуда и бежал за границу, но это сделалось уже после того, как я вернулся в Петербург в январе 1871 года. В идеях и настроениях Лаврова произошло также сильное движение влево, и он из теоретического мыслителя, социолога и историка философии превратился в ярого врага царизма, способного испортить служебную карьеру и рисковать ссылкой.
Как я сейчас сказал, в это время меня не было в России. И в Париже (откуда я уехал после смерти Герцена в январе 1870 года) я не мог еще видеть Лаврова. Дальнейшее наше знакомство относится к тем годам Третьей республики, когда Лавров уже занял в Париже как вожак одной из революционных групп видное место после того, как он издавал журналы и сделал всем характером своей пропаганды окончательно невозможным возвращение на родину.
Он продолжал много работать и как теоретик, по истории идей и эволюции общества, брал на себя обширные труды, переводные и оригинальные; писал постоянно и в русские журналы анонимно, и под псевдонимами. В этом ему помогали, оказывая материальную поддержку, его друзья и в России и за границей. Но когда я с ним видался в Париже (и у Г. Н. Вырубова, и у него на квартире), он мне казался уже сильно «сдавшим», как говорят москвичи, не в смысле верности делу эмиграции, но по своим физическим силам, бодрости и свежести душевной энергии. Он стал страдать глухотой, но в нем еще сохранились пылкость речи, увлекаемость и склонность к спорам. Сохранился и его голос, высокий и очень картавый. У Вырубова, когда мы с ним там обедали, он не вел себя как революционный вожак, хотя всегда и спорил с хозяином; но эти споры были больше теоретические.
Жил он в тесной квартирке в глубине двора на длиннейшей rue Saint-Jacques. Помню, я его нашел раз в обществе каких-то русских курсисток, они принесли ему ягод, до которых он был охотник. И, продолжая горячую беседу, он доставал вишни из пакета, ел их и выплевывал косточки.
Мое общее впечатление было такое: он и тогда не играл такой роли, как Герцен в годы «Колокола», и его «платформа» не была такой, чтобы объединять в одно целое массу революционной молодежи. К марксизму он относился самостоятельно, анархии не проповедовал; а главное, в нем самом не было чего-то, что дает агитаторам и вероучителям особую силу и привлекательность, не было даже и того, чем брал хотя бы Бакунин.
Собственно «лавровцев» было мало и в Париже, и в русских столицах. Его умственный склад был слишком идейный. Я думаю, что высшего влияния он достиг только своими «Историческими письмами». Тогда же и в Париже, а потом в Петербурге и Москве, как известно, наша молодежь после увлечения народничеством и подпольными сообществами ушла в марксизм или делалась социал-революционерами и анархистами-экспроприаторами, что достаточно и объявилось в движении 1905–1906 годов.
XV
Опять — несколько шагов назад, но тот эмигрант, о котором сейчас пойдет речь, соединяет в своем лице несколько полос моей жизни и столько же периодов русского литературного и общественного движения. Он так и умер эмигрантом, хотя никогда не был ни опасным бунтарем, ни вожаком партии, ни ярым проповедником «разрывных» идей или издателем журнала с громкой репутацией.
Это был Владимир Иванович Жуковский.
Впервые познакомился я с ним в коридорах Петербургского университета, когда мне привелось держать там экзамен на кандидата в сентябре 1861 года. Выходит, стало быть, что мы с ним ближайшие сверстники, если не ровесники: он был, вероятно, помоложе меня года на два, на три. Я был раньше (в годы моего студенчества в Казани) товарищем его старшего брата, Григория Ивановича, сделавшего потом блестящую судебную карьеру; он кончил ее званием сенатора.
Владимир Иванович попал в эмиграцию из-за горячего сочувствия польскому восстанию. Это послужило толчком дальнейшим его житейским мытарствам. В России он не сделался вожаком ни одной из тогдашних подпольных конспираций. Его платформа была сначала чисто политическая; а о марксизме тогда еще и разговоров не было среди нашей молодежи.
За границей я стал встречаться с ним опять в Швейцарии, где он поселился в Женеве и скоро сделался как бы «старостой» тогдашней русской колонии; был уже женат на очень милой женщине, которая ухаживала за ним, как самая нежная нянька.
А ухаживать надо было. Жуковский оставался весь свой век большим ребенком: пылкий, увлекающийся, податливый во всякое приятельство, способный проспорить целую ночь, участвовать во всякой сходке и пирушке. В нем жил гораздо больше артист, чем бунтарь или заговорщик. Он с детства выказывал музыкальное дарование, и из него мог бы выйти замечательный пианист, предайся он серьезнее карьере музыканта.
В Женеве он поддерживал себя материально, давая уроки и по общим русским предметам, и по фортепианной игре. Когда я (во время франко-прусской войны) заехал в Женеву повидаться с Лизой Герцен, я нашел его ее учителем. Но еще раньше я возобновил наше знакомство на конгрессах «Мира и свободы», всего больше на первом по счету из тех, на какие я попадал, — в Берне.
Тогда он держался группы приверженцев Бакунина, но я не знаю, был ли он убежденный и упорный анархист; скорее сомневаюсь в этом. Слишком он любил жизнь, культурность, все приманки общественности, которая ведь создана была почти исключительно «буржуями». И никогда я не слыхал, чтобы он что-нибудь проповедовал ярко разрушительное. К Бакунину он относился с полной симпатией, быть может, больше, чем к другим светилам эмиграции той эпохи, не исключая и тогдашних западных знаменитостей политического мира: В. Гюго, Кине, немецких эмигрантов — вроде, например, обоих братьев Фохт.
XVI
И так вот и скоротал он свой век, сидя все в Женеве, и представлял собою тип вечного студента 60-х годов. Не думаю, чтобы кто-нибудь брал его «всурьез» как заговорщика или влиятельного человека партии.
В последний раз виделись мы уже давно, зимой в Женеве. Это было в самом начале 90-х годов. Я тогда создавал свой большой роман «Перевал», который кто-то в печати назвал в шутку: «Сбор всем частям русской интеллигенции». В виде вступления я задумал главу, где один из героев романа вспоминает о том, как он ездил «прощаться» с обломками тогдашней русской эмиграции во французскую Швейцарию. Это проделал я сам. Направляясь зимой (это было под Новый год) на французскую Ривьеру, я навестил в Женеве и Лозанне несколько эмигрантов, доживавших там свои дни. В памяти моей остались две типичные фигуры: одна в Лозанне, другая в Женеве.
Лозаннский, уже пожилой эмигрант, жил в мансарде; потерял надежду вернуться на родину и переживал уже полную «резиньяцию», помирился с горькой участью изгнанника, который испытывал падение своих молодых грез и долгих упований. Но другой, в Женеве, из земских деятелей, оставался все таким же оптимистом. На прощанье он мне говорил, пожимая мне руку, с блеском в глазах:
— Вы будете надо мною смеяться; но я до сих пор верую в то, что вот сейчас подкатит к подъезду нашего дома тройка, возьмет меня и помчит на родину, освобожденную от ее теперешних оков.
Дожил ли он до этого радужного момента — не знаю: ведь это было более четверти века назад. Может, и дожил!
Жуковский прибежал ко мне в гостиницу (я останавливался в Hotel du Russie), и у нас сразу завязалась одна из тех бесконечных бесед, на какие способны только русские. Пролетело два, три, четыре часа. Отворяется дверь салона, и показывается женская фигура: это была жена милейшего Владимира Ивановича, все такого же молодого, пылкого и неистощимого в рассказах и длинных отступлениях.
— Простите, Петр Дмитриевич! — начала она с тихой и тонкой усмешкой, — я пришла напомнить Владимиру Ивановичу, что надо и вас пожалеть. Он, я думаю, совсем вас заговорил!
Я ее успокоил; она вскоре удалилась, а наша беседа протянулась еще на добрый час.
Плеханова (с которым я до того не был знаком) я не застал в Женеве, о чем искренно пожалел. Позднее я мельком в Ницце видел одну из его дочерей, подруг дочери тогдашнего русского эмигранта, доктора А. Л. Эльсниц, о котором буду еще говорить ниже. Обе девушки учились, кажется, в одном лицее. Но отец Плехановой не приезжал тогда в Ниццу, да и после я там с ним не встречался; а в Женеву я попал всего один раз, мимоездом, и не видал даже Жуковского.
XVII
На конгрессах «Мира и свободы» знакомился я и с другими молодыми эмигрантами, сверстниками Жуковского. Одного из них я помнил еще во время студенческих беспорядков в Петербургском университете, тотчас после моего кандидатского экзамена, осенью 1861 года. Это был Н. Утин, игравший и тогда роль вожака, бойкий, речистый, весьма франтоватый студент. С братом его, Евгением, я позднее водил многолетнее знакомство.
В Швейцарии Н. Утин считался тогда как бы главным адъютантом Бакунина. Он выступал, кажется, и на конгрессе в Базеле, на который я попал; но что он говорил с трибун, улетучилось из моей памяти. Я больше наблюдал ту «банду» (как ее называли), которая группировалась вокруг него: все из молодых дамочек и девиц. Одна была хорошенькая. Он держался как их староста. Какие между ними существовали отношения — распознать было нелегко. Они все говорили друг другу «ты» и употребляли особый жаргон, окликая себя: «Машка», «Сашка», «Варька»! Мне привелось долго вбирать в себя этот жаргон, очутившись с ними в одном вагоне уже после конгресса. Всю дорогу они желали «epater»(епатировать, ошеломлять как говорят французы) умышленной вульгарностью своих выражений. Дорогой они ели фрукты. И все эти дамы не иначе выражались, как:
— Мы лопали груши.
Или:
— Мы трескали яблоки.
Немало был я изумлен, когда года через два в Петербурге (в начале 70-х годов) встретился в театре с одной из этих дам, «лопавших» груши, которая оказалась супругой какого-то не то предводителя дворянства, не то председателя земской управы. Эта короста со многих слетела, и все эти Соньки, Машки, Варьки сделались, вероятно, мирными обывательницами. Они приучились выть по-волчьи в эмигрантских кружках, желая выслужиться перед своим «властителем дум», как вот такой Н. Утин.
Но и он — во что обратился с годами? Из «страшного» анархиста и коммуниста сделался дельцом, попал в железнодорожные воротилы, добился амнистии и приехал на место с крупным окладом в Петербург, где я с ним и столкнулся раз в Михайловском театре.
Он наметил движение, как бы желая подойти ко мне и протянуть мне руку, но я уклонился и сделал вид, что не узнал его. И тогда мне сразу и так ярко представился вагон и он посреди своих амазонок, вспомнился его тон вместе с самодовольной игрой физиономии; а также тот жаргон, какому он научил своих почитательниц, всех этих барынек и барышень, принявших добровольно прозвища Машек, Сонек и Варек.
XVIII
Вторую половину 60-х годов я провел всего больше в Париже, и там в Латинском квартале я и ознакомился с тогдашней очень немногочисленной русской эмиграцией. Она сводилась к кучке молодежи, не больше дюжины, — все «беженцы», имевшие счеты с полицией. Был тут и офицер, побывавший в польских повстанцах, и просто беглые студенты за разные истории; были, кажется, два-три индивида, скрывшиеся из-за дел совсем не политических.
То, что было среди них более характерного, то вошло в сцены тех частей моего романа «Солидные добродетели», где действие происходит в Париже. Что в этих портретных эскизах я не позволял себе ничего тенденциозно-обличительного, доказательство налицо: будь это иначе, редакция такого радикального журнала, как «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова, не печатала бы моей вещи. Но, разумеется, я не мог смотреть на эту эмиграцию снизу вверх; не мог даже считать ее чем-нибудь серьезным и знаменательным для тогдашнего русского политического движения. Тут собрался разный народ: «с борка да с сосенки». Это было тотчас после польского восстания и каракозовского выстрела. Трудно было и распознать в этой кучке что-нибудь вполне определенное в смысле «платформы». Было тут всего понемножку — от коммунизма до революционного народничества.
Группа в три-четыре человека наладила сапожную артель, о которой есть упоминание и в моем романе. Ее староста, взявший себе французский псевдоним, захаживал ко мне и даже взял заказ на пару ботинок, которые были сделаны довольно порядочно. Он впоследствии перебрался на французскую Ривьеру, где жил уроками русского языка, и в Россию не вернулся, женившись на француженке.
К этой же «мастерской» принадлежал, больше теоретически, и курьезный нигилист той эпохи, послуживший мне моделью лица, носящий у меня в романе фамилию Ломова. Он одно время приходил ко мне писать под диктовку и отличался крайней первобытностью своих потребностей и расходов.
Выражение из его жаргона, что отец и мать у него «подохли», — мною не выдумано. Он, вероятно, и не стал бы отрицать его. Совершенно неожиданно явился он ко мне в Нижнем, где он проживал, кажется, в виде поднадзорного обывателя. Это было уже гораздо позднее. Хмуро-добродушно он намекал мне в разговоре на то, что в моем романе имеется лицо, довольно-таки на него похожее. Но «идейных» разговоров я ни с ним, ни с его парижским товарищем не водил. Видал я их и у моего тогдашнего приятеля Наке, когда тот отсиживал в лечебнице, приговоренный за участие в каком-то заговоре, где оказалось наполовину провокаторов. Это было в конце наполеоновской эпохи.
Эта парижская эмиграция была только первая ласточка того наплыва русских нелегальных, какие наводнили Латинский квартал в Третью республику, в особенности с конца 80-х годов, а потом — после взрыва нашего революционного движения 1905 года.
XIX
Лондон в истории русской эмиграции сыграл, как известно, исключительную роль. Там был водружен первый по времени «вольный станок», там раздавался могучий голос Герцена; туда в течение нескольких лет совершалось и тайное и явное паломничество русских — не одних врагов царизма, а и простых обывателей: чиновников, литераторов, помещиков, военных, более образованных купцов.
Лондон долго не делался главным центром нашего политического изгнанничества. Герцен привлекал всех, но вокруг него сгруппировалась кучка больше западных изгнанников: итальянцев, мадьяр, поляков, немцев, французов. Из эмигрантов с именем были ведь только двое: Огарев и Бакунин. Остальные русские писатели, как Чернышевский или Михайлов, только наезжали. И с оставлением Герценом Лондона он потерял для русской свободной интеллигенции прежнюю притягательную силу. Кажется, первые годы после переезда Герцена на континент вряд ли осталась в Лондоне какая-нибудь политическая приманка; по крайней мере ни в 1867 году, ни в 1868 году (я жил тогда целый сезон в Лондоне) никто мне не говорил о русских эмигрантах; а я познакомился с одним отставным моряком, агентом нашего пароходного общества, очень общительным и образованным холостяком, и он никогда не сообщал мне ни о каком эмигранте, с которым стоило бы познакомиться.
Одного настоящего эмигранта нашел я, правда, в 1867 году, хотя по происхождению и не русского, но из России и даже прямо из петербургской интеллигенции 60-х годов. О нем у нас совсем забыли, а это была оригинальная фигура, и на ее судьбу накинут как бы флер некоторой таинственности.
Про него я упоминаю в моих лондонских очерках в книге «Столицы мира» и здесь вкратце напомню о нем. Это был А. И. Бенни (Бениславский), сын протестантского пастора из евреев и кровной англичанки, родившийся и воспитанный в русской Польше. Он рано выучился бойко говорить и писать по-русски, примкнул к нашему радикальному движению начала 60-х годов и отправился по России собирать подписи под всероссийским адресом царю о введении у нас конституции. Он сделался сотрудником газет и журналов и писал в моем журнале «Библиотека для чтения», был судим по какому-то политическому процессу и, как иностранец, подвергся высылке из России. Я его нашел в Лондоне в сезон 1867 года. Он знакомил меня с тогдашним литературным Лондоном; но ни о каких русских эмигрантах он мне ничего не говорил. Судьба этого неудачника довела до печального конца: шальная пуля папского зуава ранила его, когда он был корреспондентом при отряде Гарибальди. И он умер от своей раны в римском госпитале, сойдя в могилу с какой-то тенью подозрений, от которых его приятель Н. С. Лесков защищал его в особой брошюре, вышедшей вскоре после его кончины.
XX
Пролетело целых двадцать лет, и весной 1895 года я поехал в Лондон «прощаться» с ним и прожил в нем часть сезона.
В этот перерыв более чем в четверть века Лондон успел сделаться новым центром эмиграции. Туда направлялись и анархисты, и самые серьезные политические беглецы, как, например, тот русский революционер, который убил генерала Мезенцева и к году моего приезда в Лондон уже успел приобрести довольно громкое имя в английской публике своими романами из жизни наших бунтарей и заговорщиков.
В России я его никогда нигде не встречал, да и за границей — также. Он засел в Лондоне, как в самом безопасном для него месте. Тогда французская республика уже состояла в «альянсе» с русской империей, и такой видный государственный «преступник» был бы не совсем вне опасности в Париже. Он сравнительно скоро добился такой известности и такого значительного заработка как писатель на английском языке, что ему не было никакой выгоды перебираться куда-нибудь на материк — в Италию или Швейцарию, где тем временем самый первый номер русской эмиграции успел отправиться к праотцам: Михаил Бакунин умер там в конце русского июня 1876 года.
Моим чичероне по тогдашнему Лондону (где я нашел много совсем нового во всех сферах жизни) был г. Русанов, сотрудник тех журналов и газет, где и я сам постоянно писал, и как раз живший в Лондоне на положении эмигранта.
Ему хотелось, кажется, чтобы я познакомился с «устранителем» генерала Мезенцева. Я не уклонился от этой встречи и не искал ее. Между нами была та связь, что он стал также романистом (под псевдонимом Степняка), но я — грешный человек! — до тех пор не читал ни одной его строки. Так я и уехал из Лондона, не познакомившись с ним. Должно быть, судьбе не угодно было этого, потому что в то воскресенье, когда г. Русанов пригласил меня к себе (у него должен был быть еще и другой не менее известный изгнанник, князь Кропоткин), я уехал на остров Уайт (еще накануне) и нашел у себя по возвращении его письмо со вложением двух депеш: от Степняка и от князя Кропоткина, с которым я также до того нигде не встречался. Его личность, судьба и руководящая роль меня больше интересовали. И я был приятно изумлен, найдя в его-депеше к г. Русанову искреннее сожаление о том, что нездоровье помешало ему быть у него и познакомиться с автором тех романов… и тут стояло такое лестное определение этих романов, что я и теперь, по прошествии более двадцати лет, затрудняюсь привести его, хотя и не забыл английского текста.
Тем и завершилось мое знакомство с нелегальным Лондоном, и я точно не знаю, какую роль столица Великобритании играла для русской эмиграции в самые последние годы, вплоть до нашей революции.
XXI
Теперь, не покидая Франции, вспомню о знакомстве с теми эмигрантами, которые жили там подолгу. Один из них и умер в Ницце, а другой — в России.
Это были доктора Якоби и Эльсниц, оба уроженцы срединной России, хотя и с иностранными именами.
Первого из них я уже не застал в Ницце (где я прожил несколько зимних сезонов с конца 80-х годов); там он приобрел себе имя как практикующий врач и был очень популярен в русской колонии. Он когда-то бежал из России после польского восстания, где превратился из артиллерийского офицера русской службы в польского «довудца»; ушел, стало быть, от смертной казни.
Его старшего брата, художника В. И. Якоби, я знал еще с моих студенческих годов в Казани; умирать приехал он также на Ривьеру, где и скончался в Ницце в тот год, когда я туда наезжал.
Его брата, врача, звали Павел Иванович. Первая наша встреча случилась в Париже в конце 60-х годов в Латинском квартале у моего ближайшего собрата В. Чуйко, жившего тогда в Париже корреспондентом русских газет.
Я нашел этого, мне совсем незнакомого компатриота в самый разгар его разносов, направленных на личность и на политическую роль Герцена. Это было еще, кажется, до переселения Герцена в Париж. Я уже слыхал, что у него вышли столкновения и сцены с новой русской эмиграцией. Не зная фактической подкладки всей этой истории (дело вертелось, главным образом, около возвращения какого-то капитала), я не мог принять участия в этом разговоре; но весь тон Якоби, его выходки против личности Герцена мне весьма не понравились. Не знаю, остался ли он и позднее в таких же чувствах к памяти Герцена, но его разносы дали мне тогда оселок того, как наши эмигранты способны были затевать и поддерживать бесконечные распри, дрязги, устную и печатную перебранку.
Прошли года. К концу 1889 года, когда я стал проводить в Ницце зимние сезоны, доктора Якоби там уже не было. Он не выдержал своего изгнания, хотя и жил всегда и там «на миру»; он стал хлопотать о своем возвращении в Россию. Его допустили в ее пределы, и он продолжал заниматься практикой, сделался земским врачом и кончил заведующим лечебницей для душевнобольных.
Тогда я с ним встречался в интеллигентных кружках Москвы. Скажу откровенно: он мне казался таким же неуравновешенным в своей психике; на кого-то и на что-то он сильнейшим образом нападал, — в этот раз уже не на Герцена, но с такими же приемами разноса и обличения. Говорили мне в Ницце, что виновницей его возвращения на родину была жена, русская барыня, которая стала нестерпимо тосковать по России, где ее муж и нашел себе дело по душе, но где он оставался все таким же вечным протестантом и обличителем.
XXII
В Ницце годами водил я знакомство с А. Л. Эльсницем, уроженцем Москвы, тамошним студентом, который из-за какой-то истории во время волнений скрылся за границу, стал учиться медицине в Швейцарии и Франции, приобрел степень доктора и, уже женатый на русской и отцом семейства, устроился прочно в Ницце, где к нему перешла и практика доктора Якоби.
Вот тогда я с ним и познакомился, и знакомство это длилось до самой его смерти, случившейся в мое отсутствие.
Сын немца, преподавателя немецкого языка и литературы в московских учебных заведениях (а под старость романиста на немецком языке из русской жизни), А. Л. сделался вполне русским интеллигентом. И в своем языке, и в манерах, и в общем душевном складе он был им несомненно.
Специальное ученье и долгое житье в Швейцарии и Франции вовсе не офранцузили его, и в его доме каждый из нас чувствовал себя, как в русской семье. Все интересы, разговоры, толки, идеалы и упования были русские. Он не занимался уже «воинствующей» политикой, не играл «вожака», но оставался верен своим очень передовым принципам и симпатиям; сохранял дружеские отношения с разными революционными деятелями, в том числе и с обломками Парижской коммуны, вроде старика Франсе, бывшего в Коммуне как бы министром финансов; с ним я и познакомился у него в гостиной. Не думаю, чтобы его можно было считать правоверным марксистом, хотя в числе его ближайших знакомых водились и социал-демократы.
Сколько помню, он был близок с Плехановым, а дочь его дружила с одной из дочерей этого — и тогда уже очень известного — русского изгнанника, проживавшего еще в Швейцарии.
Как врач Эльсниц был скорее скептик, не очень верил в медицину и никогда не настаивал на каком-нибудь ему любезном способе лечения. Я его и прозвал: «наш скептический Эльсниц». И несмотря на это, практика его разрасталась, и он мог бы еще долго здравствовать, если б не предательская болезнь сердца; она свела его в преждевременную могилу. На родину он так и не попал.
В Ницце мы видались с ним часто; так же часто навещали мы М. М. Ковалевского на его вилле в Болье. С Ковалевским Эльсниц был всего ближе из русских. Его всегда можно было видеть и на тех обедах, какие происходили в русском пансионе, где в разные годы бывали неизменно, кроме Ковалевского, доктор Белоголовый с женой, профессор Коротнев, Юралов (вице-консул в Ментоне), Чехов, Потапенко и много других русских, наезжавших в Ниццу.
Старший сын Эльсница занял его место и как врач приобрел скоро большую популярность. Он пошел на французский фронт (как французский гражданин) в качестве полкового врача; а младший сын, как французский же рядовой, попал в плен; дочь вышла замуж за французского дипломата.
XXIII
В некотором смысле можно было бы отнести к эмиграции и таких двух русских, как покойные М. М. Ковалевский и Г. Н. Вырубов.
Ковалевский прожил лучшие свои годы за границей на вилле, купленной им в Болье в конце 80-х годов. Может быть, иной считал его также изгнанником или настоящим эмигрантом. Но это неверно. Он не переставал быть легальным русским обывателем, который по доброй воле (после его удаления из состава профессоров Московского университета) предпочел жить за границей в прекрасном климате и работать там на полной свободе. Для него как для ученого, автора целого ряда больших научных трудов, это было в высшей степени благоприятно. Но нигде за границей он не отдавался никакой пропаганде революционера или вообще политического агитатора: это стояло бы в слишком резком противоречии со всем складом его личности.
О нем я пишу особенно в воспоминаниях, которые я озаглавил: «Жизнерадостный Максим». Наша долгая умственная и общественная близость позволяла мне говорить о нем в дружеском тоне, выставляя как его коренную душевную черту его «жизнерадостность».
Другой покойник в гораздо большей степени мог бы считаться если не изгнанником, то «русским иностранцем», так как он с молодых лет покинул отечество (куда наезжал не больше двух-трех раз), поселился в Париже, пустил там глубокие корни, там издавал философский журнал, там вел свои научные и писательские работы; там завязал обширные связи во всех сферах парижского общества, сделался видным деятелем в масонстве и умер в звании профессора College de France, где занимал кафедру истории наук.
Все это проделал по доброй воле, без малейшего давления внешних обстоятельств, мой долголетний приятель и единомышленник по философскому credo Г. Н. Вырубов, русский дворянин, помещик, дитя Москвы, сначала лицеист, а потом кандидат и магистрант Московского университета.
Очень редко бывает у нас, чтобы русский, не будучи беглецом, эмигрантом, нелегальным жителем, не имеющим гражданских прав в чужой стране (я таких в Париже не знавал ни одного на протяжении полувека), кто бы, как Вырубов, решив окончательно, что он как деятель принадлежит Франции, приобрел звание гражданина республики и сделал это даже с согласия русского правительства. Еще незадолго до того в турецкую войну он приезжал в Россию и заведовал санитарным отрядом на Кавказе, за что получил орден Владимира, а во Франции был, кажется, еще раньше награжден крестом Почетного легиона.
О нем следовало бы поговорить в разных смыслах, а здесь я привел его имя потому, что и он фактически принадлежал к эмигрантам, если посмотреть на этот термин в более обширном значении. Можно только искренно пожалеть, что такая замечательная личность была слишком малоизвестна в России, даже и в нашей пишущей среде.
XXIV
В заголовке этих воспоминаний стоит также имя Толстого.
— Какой же он эмигрант? — спросят меня.
В прямом смысле, конечно, нет; но если взять всю совокупность его деятельности за последние двадцать лет его жизни, его пропаганду, его credo неохристианского анархиста чистой воды, то — не будь он Лев Николаевич Толстой, он давно бы очутился в местах «довольно отдаленных», откуда мог бы перебраться и за границу. Весь его умственный, нравственный и общественный склад был характерен для самого типичного эмигранта.
Наша полицейская власть даже и его желала бы заставить молчать и лишить свободы. Единственный из всех, когда-либо живших у нас писателей, он был отлучен синодом от церкви. И в редакционных сферах не раз заходила речь о том, чтобы покарать его за разрушительные идеи и писания.
Можно сказать, что и в среде наших самых выдающихся эмигрантов немного было таких стойких защитников своего исповедания веры, как Толстой. Имена едва ли только не троих можно привести здесь, из которых один так и умер в изгнании, а двое других вернулись на родину после падения царского режима: это — Герцен, Плеханов и Кропоткин.
С Толстым я был лично знаком, но давно уже с ним не видался. Вполне сочувственного отношения к его проповеди я не мог разделять и не видел серьезного мотива являться к нему в качестве гостя или репортера в Ясную Поляну. Но наши сношения оставались чрезвычайно мягкими и благодушными. Я не видал между нами ни малейшего повода к какому-либо личному неудовольствию, к каким-либо счетам. Напротив, Толстой (насколько мне было это известно из разговора с его ближайшими последователями) всегда относился ко мне как к собрату-писателю с живым интересом и доказал это фактом, небывалым в летописи того «разряда» Академии, где я с 1900 года состою членом.
Покойный профессор Сухомлинов, бывший тогда «председательствующим» в нашем отделении, вскоре после моего избрания сообщил мне, что Толстой, которому надо было поставить шесть имен для трех кандидатов, написал шесть раз одно имя, и это было — мое.
В конце прошлого, 1916 года я задумал и кончил этюд: «Толстой как вероучитель», где я даю мою объективную и, смею думать, беспристрастную оценку его натуры, мировоззрения и всего его credo с точки зрения научно-философского анализа и синтеза.
В первой половине этого «опыта оценки» я привожу все то, что у меня осталось в памяти о человеке, о моих встречах, беседах и наблюдениях над его жизнью и обстановкой в Москве в начале 80-х годов, когда я только и видался с Толстым.
Рагац (Швейцария)
Июнь 1917 года.
Памяти П. Д. Боборыкина
В лице только что скончавшегося П. Д. Боборыкина исчезла видная фигура, вносившая оживление во всякую среду, в которой она вращалась; исчез европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, на которую он смотрел без рабского перед нею восхищения, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности.
Король Лир называет себя «королем от головы до ног». Боборыкин мог бы с полным правом сказать про себя, что он «литератор с головы до ног» — от молодых ногтей до последних лет жизни, когда к его имени неизменно стал присоединяться эпитет «маститый». На могиле его в Ментоне, вдали от родины, которую он знал и любил, следует написать одно слово — «Литератор», так как он был у нас один из немногих писателей, который, несмотря на житейские испытания, умел отвоевать себе полную независимость от всякого служебного заработка. Пред ним — чрезвычайно одаренным лингвистом, с широкими естественнонаучными и медицинскими знаниями, с богатым знакомством с движением человеческой мысли в различных областях, с отзывчивостью на правовые и общественные вопросы — могли быть открыты разнообразные пути живой и выдающейся деятельности. Но он пошел туда, «куда звал голос сокровенный», избрав бесповоротно и неуклонно тернистую стезю служения родной литературе. Отважно принятое им на себя в свои молодые годы издательство и редакторство «Библиотеки для чтения» подорвало то материальное обеспечение, с которым он вступил в жизнь. В 60-х годах этот журнал, после ловкого редакторства Сенковского, которого безуспешно заменили Дружинин и Писемский, был совершенно заслонен «Отечественными Записками» и «Современником» и стал неудержимо падать, разорив Боборыкина и обременив его на многие годы крупными долгами, требовавшими от него особого напряжения трудовой силы. И все-таки он остался верен литературе — ей одной. Отсюда, в значительной степени, его особенная писательская плодовитость, вызывавшая иногда иронические отзывы хозяев периодических изданий («Опять набоборыкал роман», — ворчал по его адресу Салтыков), что не мешало им нередко спешить купить его новое произведение, так сказать, «на корню». Однако то, что в творчестве своем он не мог свободно располагать своим временем и смотреть на него, обеспечив себя другими постоянными занятиями, лишь как на отхожий промысел, не отражалось на свойствах его таланта.
До конца жизни П. Д. стоял на своем посту наблюдателя и изобразителя сменявшихся общественных настроений, что требовало особой зоркости и не допускало промедления, так как надо было закрепить не то, что было, а что есть, не прошлое, а живую действительность настоящего. К этому настоящему он никогда не относился со спокойным созерцанием, без волнения и в некоторых случаях — справедливой тревоги. Это так соответствовало не только его темпераменту, выражавшемуся в быстрых движениях, восклицаниях, горячих спорах, но и в том, что его беседа, когда дело касалось его искренних убеждений или годами сложившихся мнений, отличалась, если можно так выразиться, особенною взрывчатостью. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня и ее отражение в жизни требуют большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и «повадка» представителей тех или других общественных слоев или кружков, внешний уклад жизни русских людей у себя и за границей изображены им с замечательной точностью и подробностями.
Будущий историк русской жизни, который захочет, подобно Гонкуру или Тэну в их описаниях старого французского общества, исследовать внешние проявления этой жизни, неминуемо должен будет обратиться к романам Боборыкина и в них почерпнуть необходимые и достоверные краски и бытовые черты. Торопливая плодовитость Боборыкина, несмотря на указанные мною ценные качества, несколько отражалась на существе его произведений, которые в будущем заинтересуют более историка быта и настроений, чем историка литературы. Спеша уловить общественное явление или настроение и изобразить его в мельчайших подробностях, П. Д. поневоле отступал от завета известного художника Федотова, который говорил:
«В деле искусства надо дать себе настояться, художник-наблюдатель то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть, нужно только уметь разливать вовремя». Покойный не имел времени давать себе настаиваться. Отсюда — тонкий анализ подробностей без синтеза целого и, как последствие этого, отсутствие ярких, цельных, остающихся в памяти образов, обращающихся в нарицательные имена, вроде Базарова, Обломова и т. п. Желание закрепить на своих страницах тот или другой характерный для своего времени тип увлекало Боборыкина из области творчества в слишком реальное и откровенное фотографирование, что создавало ему подчас больших недоброжелателей. А его любовь создавать новые словечки вызывала плоские насмешки, на которые, особенно в первое время его деятельности, была щедра наша газетная критика, умышленно забывавшая о положительных достоинствах его произведений. Отсутствие ярких образов искупается у Боборыкина блестящим и дышащим правдой изображением не отдельных лиц, а целых организмов, коллективные стороны которых оставляют целостное впечатление. Таков, например, его большой и лучший, по моему мнению, роман — «Китай-город». В этом отношении он очень напоминает Золя с его «Au bonheur des dames» и «Debacle», хотя оба эти романа появились, если я не ошибаюсь, позже «Китай-города». Нужно ли говорить о том благородстве мысли и о той твердой вере в задачи культуры и морали, которыми проникнуты произведения Боборыкина? Позитивист по миросозерцанию и либерал-шестидесятник по убеждениям, он последовательно оставался предан этому до гробовой своей доски, бодро неся свои преклонные годы и не проявляя никаких признаков моральной старости и безразличия к происходящему на мировой арене. И к людям он относился с сердечной добротой, не удовлетворяясь в личных сношениях простым знакомством, а стремясь сблизиться с теми, которых он уважал, почти до степени доверчивой дружбы. В этом отношении его постигали немалые разочарования, но он никогда не порицал виновников таковых, а, выражаясь канцелярским языком, «оставлял их без рассмотрения».
Когда наступит время для подробной биографии Боборыкина, конечно, придется коснуться и его фельетонов, в которых он высказывался уже лично от себя. В них найдется много ценных замечаний и глубоких соображений по вопросам научным и философским, причем он высказывался со смелой прямотою. Достаточно в этом отношении указать хотя бы на его фельетон «Новая группа людей», помещенный когда-то в «Новостях», в котором он, вооруженный большими знаниями по психопатологии, указывал на вредные последствия выдвигавшегося в то время псевдонаучного понятия о психопатии как основании для невменяемости и пагубное влияние слушания таких дел при открытых дверях суда на нервных юношей и истерически настроенных обычных посетительниц судебных заседаний. Эти его мысли совпали впоследствии со взглядом законодательства на необходимость предоставить суду право и возможность закрыть доступ в публичные заседания праздному и болезненно-восприимчивому любопытству.
Боборыкину часто приходилось прибегать к приемам так называемого натурализма, но и тут он не может заслужить упрека в преступлении границы между правдивым реализмом и порнографией. Сходя в могилу и оглядываясь на богатое литературное наследие, оставленное им, он не мог бы в этом отношении упрекнуть себя ни за одну страницу. Он часто изображал страсти в их последовательном развитии, но у него нельзя найти столь излюбленного у нас в последнее время изображения пороков.
Да будет легка земля этому доброму человеку, ревностно послужившему своей родине во всю меру своих сил и способностей.
1921
Именной указатель
Абдул Азис
Абу Э.
А-в (скрипач нижегородского театра)
Авдеев М. В.
Аверкиев Д. В.
Аврамов М. В.
Адельман Г.-Ф.
Акимова С. П.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Аксаков С. Т.
Александр II
Александр III
Алферьев
Альбов М. Н.
Амедей
Андреев Л. Н.
Андреевский И. Е.
Анненков П. В.
Антокольский М. М.
Антонович М. А.
Антропов Л. Н.
Анфантен Б. П.
Аракчеев А. А.
Арналь
Ариосто Л.
Аристов Е. Ф.
Арцыбашев М. П.
Асенкова В. Н.
Аскоченский В. И.
Асмус Г. М.
Атропов (студент Дерптского университета)
Б. (доктор из Казани)
Бабст И. К.
Базунов А. Ф.
Бакст В. И.
Бакст О. И.
Бакунин М. А.
Балакирев М. А.
Бальзак О. де
Бальмонт К. Д.
Бантышев А. О.
Баратынская А. Д.
Баратынский И. А.
Баррьер Т.
Басен Л.
Б-вин (московский студент)
Безобразов В. П.
Бейль А.
Белинский В. Г.
Белоголовый Н. А.
Белосельские-Белозерские
Бенедикс Р.
Бенедиктов В. Г.
Бенеке Ф.-Э.
Бенни А. И.
Бенни Ш.
Беранже П.-Ж.
Берви В. Ф.
Берг Н. В.
Берлиоз Г.
Бернардский Е.
Беррье П. А.
Бертон П. Ф.
Берцедиус И. Я.
Бетховен Л. ван
Бибикова А. И.
Бирон
Бидарев М.
Биддер Г.Ф.
Бисли Э. С.
Благовещенский Н. А.
Благосветлов Г. Е.
Блан Л.
Б-ны (помещики)
Боборыкин В. В.
Боборыкина А. Д.
Боборыкина С. А.
Боборыкина С. Л.
Богданов А. Ф.
Бодлер Ш.
Бозио А.
Бокалович
Боккачио Дж.
Бондуа П.
Бородин А. П.
Бороздина В.
Бороздина Е.
Боткин В. П.
Брадке Е. Ф.
БрайтДж.
Браманте Д.
Брандес Г.
Брассер А.
Брессан Ж. Б.
Бригге (братья)
Броган (сестры)
Броган О.
Брянский Я. Г.
Булахов П. П.
Булахова А. А.
Булгарин Ф. В.
Булич Н. Н.
Бульвер Э. Д.
Бурдин Ф. А.
Буренин В. П.
Буслаев Ф. И.
БутковЯ.П.
Бутлеров A. M.
Бутовский А. И.
Бутурлин М. П.
Бутурлина А. П.
Буффе М.
Бухгейм Р.
Буцковский Н. А.
Бушуев — см. Мемновов Г. Н.
Бюхнер Л.
В. (псаломщик в церкви русского посольства в Вене)
Вагнер Р.
Валевский А. Ф.
Валуев П. А.
Вальтер Ф.
Вальтер Ш.
Варнек К. А.
Васильае П. В.
Васильева С. В.
Васильева Е. Н.
Вейнберг П. И.
ВейльоЛ.
Вельтман А. Ф.
Веневитинов Д. В.
Веневитинова (Бирон)
Веневитинова A. M.
Венси А. И. де
Венский Д. А.
Берне В.
Верстовский А. Н.
Веселаго Ф. Ф.
Весеньев И. — см. Хвощинская СД.
Виардо П.
Вильде Н. Г.
Вильдебрант
Вильмессан
Виноградов В. И.
Владимиров Ю.
Владимирова Е. В.
Владыкин М. Н.
Волков Е. Е.
Волынский А. Л.
Вольнис Л.
Вольтер Ф. М.
Вольф М. О.
Вольф А.
Вонлярский В. А.
Воронов Е. И.
Воскобойников Н. Н.
Воскресенский А. А.
Всеволжский И. А.
Вырубов Г. Н.
Вырубова Н. Г.
Вышеславцева А. А.
Г. (корреспондент «Голоса» в Вене)
Галахов А. Д.
Галеви Л.
Галльмейер Ж.
Гальперин
Каминский И. Д.
ГамбеттаЛ.М.
Гарибальди
Гарин (Михайловский Н. Г.)
Гарнье-Пажес Л. А.
Гарридо Ф.
Гаррисон Ф.
Г-в (студент)
Ге Н. Н.
ГеббельХ.Ф.
Гегель Г. Ф.
Гейден П. А.
Гейне Г.
Гейстингер М.
Гемпель
Гензельт А. Л.
ГенслерИ.С.
Гербарт И. Ф.
Герцен А. И.
Герцен Л. — см. Огарева Е. А.
Гессе Г. И.
Гете И. В.
Гладстон В. Э.
Глазунов А. К.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Голенищев (откупщик-меценат)
Голицын Ю. Н.
Гольц Н. О.
Гольцев В. А.
Гонкур (братья)
Гончаров И. А.
Горбунов И. Ф.
Горлов И. Я.
Горький М.
Градовский А. Д.
Грановский Т. Н.
Гребенка Е. П.
Гревингк К. И.
Грибоедов А. С.
Григорович В. И.
Григорович Д. В.
Григорьев А. А.
Григорьев Н. П.
Григорьев П. Б.
Григорьев П. И.
Григорьев П. П.
Грильпарцер Ф.
Гринева-Крестовская (актриса)
Грузинский (князь)
Гумбольдт А.
Гусева Е. И.
Густав
Гуцков К.
Гюго В.
Гюйо Ж. М.
Дависон Б.
Дайон — Бусико
Даль В. И.
Данзас
Данте А.
Дарвин Ч.
Даргомыжский А. С.
Девриен Ф. Ф.
Делоне Л. А.
Делянов И. Д.
Деммерт Н. А.
Державин Г. Р.
Дешан
Дизраэли Б.
Диккенс Ч.
Добролюбов Н. А.
Доде А.
Дондерс Ф. К.
Дондукова М. Н.
Дондуковы
Дондуков— Корсаков В. М.
Дондуков — Корсаков М. А.
Дондукова — Корсакова М. М.
Достоевский М. М.
Достоевский Ф. М.
Дружинин А. В.
Дудкин — см. Озеров Д. И.
Дудышкин С. С.
Дусе К.
Дьяченко В. А.
Дюбюк А. И.
Дюма А. (отец)
Дюма А. (сын)
Дюмон
Дюрвиль Ж.-С.
Дюпюи А.
Дюр (супруги)
Е. (князь)
Евгения Монтихо
Егоров Н.
Екатерина II
Елачич Ф. О.
Елена Павловна
Елизавета Алексеевна
Елисеев Г. З.
Ешевский В. В.
Жане П.
ЖаненЖ.
Жерар Ш.-Ф.
Живокини В. И.
Жирарден Э.
ЖиряевА.С.
Жорж Занд
Жоффруа
ЖоховА.Ф.
Жуковский В. И.
Жулева Е. Н.
Жулковский А. Г.
Забелло П. П.
Загоскина (начальница Казанского института)
Загуляев М. А.
Зарин Е. Ф.
Зборжевская С. А. — см. Боборыкина С. А.
Зинин Н. Н.
Золя Э.
Зонненталь А.
Зубров П. И.
З-ч (студент Казанского университета)
Зыков С. П.
Иасент
Иван Грозный
Иванов (субъинспектор Казанского университета)
Иванов А. А.
Иванов Л. И.
Иванов Н. А.
Иванов П. П.
Ивановский И. А.
Иванюков И. И.
Излер
Иогансон Х. П.
Ирвинг Г.
Ирка — Матьяс
Кабе Э.
Кавалерова Е. М.
Кавелин К. Д.
Казначеев А. И.
Калинин Н.
Калошин (дипломатический представитель в Испании в 70-х гг.)
Калмыкова С. Е.
Кальцолари Г.
Камбек Л. Ф.
Каракозов Д. В.
Карамзин Н. М.
Каратыгин В. А.
Каратыгин П. А.
Карл XII
Карнович Е. П.
Кастеляро
Касторский М. И.
Катков М. Н.
Квадри (артистка-любительница)
Квадри (артист-любитель)
Кемц Ф. Л.
Кетчер Н. Х.
Киммель
Кине Э.
Киреевские (братья)
Киреевский П. В.
Киттары М. Я.
Клаус К. К.
Клод — Бернар
Ковалевский В. О.
Ковалевский М. М.
Коклен Б. К.
Колемина Ю. М.
Коллинс У.
Колосова А. М.
Кольцов А. В.
Комбилла А.
Кони И. С.
Кони А. Ф.
Конт О.
Контский Антон
Контский Аполлинарий
Корейша И. Я.
КорнельП.
Корш В. Ф.
Косица — см. Страхов Н. Н.
Косицкая Л. П.
Костомаров В. Д.
Костомаров Н. И.
Костюшко Ф.
Котельников П. И.
КошелевА.И.
Краевские (братья, сыновья А. А. Краевского)
Краевский А. А.
Крестовский В. — см. Хвощинская Н. Д.
Крестовский В. В.
Кронеберг — Лихачева З. Д.
Кроль Н. И.
Кропоткин П. А.
Крылов Н. И.
Крэкрофт
Кудрявцев П. Н.
Куинджи А. И.
Кукольник Н. В.
Купер Ф.
Куприн А. И.
Курочкин B. C.
Курочкин Н. С.
Кутульи
Кушелев — Безбородко Г. А.
Кшесинский Ф. И.
Кюи Ц. А.
Лаблаш Л.
Лабуле Э. Р.
Лавров М. И.
Лавров П. Л.
Ланге В. И.
Лапомерэ А.
ЛарошК.
Латышева (певица)
Лаубе Г.
Лаузер В.
Лафон Ш.-Ф.
ЛафонтенВ.
Лаферрьер А.
Лебедев В. А.
Лев XII
Левинский И.
Левитов А. И.
Ледрю — Роллен А.-О.
ЛежеЛ.
Лейкин Н. А.
Леман И. Г.
Лемениль (жена актера Лемениля)
Лемениль (актер франц. труппы в Петербурге)
Леонидов Л. Л.
Леонова Д. М.
Леонтьев П. М.
Леритье
Лермонтов М. Ю.
Леру П.
Лесков Н. С.
ЛессингГ.-Э.
Лещинский Б.
Либих Ю.
Лизавета Андреевна
Линдгрэн И. Г.
Линская Ю. Н.
Лист Ф.
Литтре Э.
Л-н (учитель гимназии)
Лобачевский Н. И.
Ломбразо Ч.
Лонгинов М. Н.
Лорье
Л-ский (дерптский студент)
Лугинин В. Ф.
Лукин Г. Г.
Лунин М. С.
Лунина Е. С.
Львова — Синецкая М. Д.
Льюис Д.-Г.
Лядова В. А.
Лясковский Н.Э
Майер Л.
Майков А. Н.
Маковский В.
Маковский К. Е.
Максимов А. М.
Максимов С. В.
Малышев П. И.
Мальвина
Марио Д.
Маркович Б. М.
Марковецкий С. Я.
Маркович М. А. (Марко — Вовчок)
Маркс А. Ф.
Маркс К.
Марло X.
Мартынов А. Е.
МедлерИ.Г.
Мезенцов Н. В.
Мей Л. А.
Меледин
Мелэнг Э. М.
Мельников П. И.
Мемновов Г. Н.
Мередит Д.
Мерославский Л.
Метьюс (супруги)
Микеланджело
Миллер В. Ф.
Миллер О. Ф.
Миллер Ф. Б.
Милль Д. С.
Милорадов А.
Милославский Н. К.
Минаев Д. Д.
Минин К. Т.
Михайлов М. Л.
Михайлов М. М.
Михайловский Н. К.
Михаэлис Е. П.
Мицкевич А.
Молешотт Я.
Молоствов В. П.
Мольер Ж. Б.
Морлей Дж.
Моцарт В.
Мочалов П. С.
Мунэ — Сюлли Ж.
Мунк
Муравьев А. Н.
Муравьева М. Н.
Мусин — Пушкин М. Н.
Мусоргский М. П.
Мясоедов Г. Г.
Н. (сын польского эмигранта)
Надеждин Н. И.
Наке А.
Наполеон I
Наполеон III
Непталь — Арно
Нарежный В. Т.
Нарышкина Н. И.
Натарова А. П.
Неклюдов И. А.
Неклюдов Н. А.
Некрасов Н. А.
Немчинов И. И.
Нессельроде Л. А.
Николай I
Нилус (братья)
Нильский А. А.
Новалис
Нордштрем И. А.
Огарев Н. А.
Огарев Н. П.
Огарева Е. А.
Огарева Н. А.
Одоевский В. Ф.
Ожье Э.
Озеров Д. И.
Оливье Э.
Ольдридж А.
Ольхин М. Д.
Онегин А. Ф.
Оренштеин С. С.
Орлова П. И.
Ортис (семья)
Островский А. Н.
Острогорский В. П.
Отто — см. Онегин А. Ф.
Оуэн Р.
Оффенбах Ж.
П. Агнесса
Павел I
Павлов П. В.
Павловский И. Я.
Палацкий Ф.
Пальчикова
Панаев И. И.
Паска
ПаткульА.В.
Пель П. А.
Пельт Н. И.
Перль К.
Перов В. Г.
Петипа
Петр I
Петрашевский М. В.
Петров О. А.
Петунников А. Н.
Печаткин В. П.
Печаткин Е. П.
Печерский — см. Мельников П. И.
Пешна П. Н.
Пикар Л. Э.
Писарев Д. И.
Писемский А. Ф.
Писемский П. А.
Пиунова Н. И.
Пиунова — Шмидгоф Е. Б.
Пишо
Платон
Плетнев П. А.
Плеханов Г. В.
Плещеев А. Н.
Погодин М. П.
Подобедова Н. И.
Пожарский Д. М.
Познякова — см. Федотова Г. Н.
Покровский М. П.
Полевой Н. А.
Полонский Я. П.
Полтавцев К. Н.
Помяловский Н. Г.
Попель Р.
Потехин А. А.
Потехин Н. А.
П-р (офицер)
Прево — Парадоль Л.
Прихунова А. И.
Прокофьева (актриса)
Прудон П. Ж.
Прянишников И. М.
П-ский (секретарь автора)
Путятин Е. В.
Пушкин А. С.
П-цкий (врач в Петербурге)
Пыпин А. Н.
Пятковский А. Я.
Рагозин Н. И.
Рагозин Е. И.
Раевский М. Ф.
Ранк А.
Рапацкий В.
Рашель Э.
Р-ва 3. (Ган Е. А.)
Рейсснер Э.
Рембрант X. ван Р
Реньо А.-В.
Репин И. Е.
Рескин Д.
Риго Р.
Рикур А.
Римский — Корсаков Н. А.
Ристори А.
Роберти Е. В. де
Ровинский П. А.
Роговиков С. — см. Оренштейн С. С.
Рольстон В.
Розберг М. П.
Росетги Д. Г.
Россини Дж. А.
Ростовская М. Ф.
Ростопчина Е. П.
Рошфор А.
Рубинштейн А. Г.
Рубинштейн Н. Г.
Руссо Ж. Ж. Р
Руэр Э.
Рыкалова Н. В.
Сабурова А. Т.
Садовский М. П.
Садовский П. М.
Салиас де Турнемир Е. В.
Салтыков М. Е.
Самарин И. В.
Самарин Ю. Ф.
Самойлов В. В.
Самойлова В. В.
Самойлова Н. В.
Сандукова Е. С.
Санковская Е. А.
Сансон Ж. И.
Сарду В.
Сарсе Ф.
Сатин Н. М.
Семевский М. И.
Сенковский О. И.
Сент-Бев Ш.-0.
Сервантес де Сааведра М.
Сетов И. Я.
Сеченов И. М.
Симон Ж.-Ф.
Симонов И. М.
Скабичевский A. M.
Скотт В.
Славин Н. А.
Славянский (Агренев) Д.А.
Славянский М. И.
Слепцов В. А.
Смирдин А. Ф.
Снеткова М. А.
Снеткова Ф. А.
Соколов М. П.
Соколова. В.
Соколова Е. П.
Солдатенков К. Т.
Соллогуб В. А.
Сосерн
Сосницкий И. И.
Софокл
Спасович В. Д.
Спенсер Г.
Спорова М. А.
Станкевич Н. В.
Станюкович К. М.
Стасов В. В.
Стасов Д. В.
Стасовы
Стасюлевич М. М.
Стахович А. А.
Стебнецкий — см. Лесков Н. С.
Степанов Н. А.
Стракош М.
Страхов Н. Н.
Стрелкова А. И.
Стрелкова Х. И.
Струйская М. П.
Стуколкин Т. А.
Стэнлей
Суворин А. С.
Суворова
Сухове — Кобылин А. В.
Сухомлинов М. И.
Сухонин П. П.
Сушков Н. В.
Сю Е.
Таландье Р. Г.
Таланова — см. Стрелкова Х. И.
Тальбо
Тальма Ф.-Ж.
Тамберлик Э.
Тарковский
Теккерей У.
Теннисон А.
Терри К.
Терри Э. А.
Тетар
Тик Л.
ТимашевА.Е.
Ткачев П. Н.
Токвиль А.
Толмачева Е. Э.
Толстой Л. Н.
Трубецкой В. А.
Трусов В. Н.
Тубино Д.
Тумпаков
Тур Е.
Тургенев И. С.
Тургенев Н. И.
Турунов М. Н.
Тьер А.
Тьерре
Тэн И.
Тютчева Ф. И.
Уайльд О.
Уваров С. Ф.
Улыбышев А. Д.
Ульянины
Урусов А. И.
Урусов М. А.
Успенский Г. И.
Успенский Н. В.
Утин Б. И.
Утин Е. И.
Утин Н. И.
Фавр Ж.
Фаргейль
Федоров М. П.
Федоров П. И.
Федоров П. С.
Федорова
Федосья Ивановна (подруга Островского)
Федотова Г. Н.,
Феликс Д.
Фелье О.
Фет А. А.
Фехнер Г. Т.
Фехтер К.
Филарет
Филипсон Г. И.
Флобер Г.
Фогель Г. Л.
Франк А.
Фрязин М.
Фюрст
Фурье Ш.
Хан Э. А.
Хвощинская Н. Д.
Хвощинская С. Д.
Ходзько А. Л.
Цветков
Цебрикова М. К.
Цейдлер М. И.
Цеэ М. К.
Чаев Н. А.
Чайковский П. И.
Чернышев И. Е.
Чернышевский Н. Г.
Черрито Ф.
Чехов А. П.
Читау А. М.
Чубинский П. П.
Чуйко В. В.
Шаль Ф.
Шаляпин Ф. И.
Шатобриан Ф. Р.
Шаховская (княгиня ниж. помещ.)
Шаховской (помещик)
Шевалье Э.
Шевченко Т. Г.
Шекспир У.
Шелгунова Л. П.
Шеншин А. А.
Шереметев Н. В.
Шереметев С. В.
Шиллер Ф.
Шимановский
Ширинский
Шихматов П. А.
Шифф С.
Шишкин И. И.
Шмидгоф Э. К.
Шмидт К.
Шнейдер Г.
Шопен Ф.
Шпильгаген Ф.
Штраус
Щапов А. П.
Щеглов Д. Ф.
Щедрин — см. Салтыков М. Е.
Щепкин М. С.
Щербань Н. В.
Эврипид
Эдельсон Е. Н.
Эдуард VII
Эйзерих
Элиот Д.
Эльсниц А. Л.
Энгельгардт А. Н.
Эрвинг — см. Ирвинг Г.
Эрдман И.-Ф.
Эсхил
Эттинген Г.
Юрьева — см. Кони И. С.
Яблочкин А. А.
Якоби В. И.
Якоби В. Н.
Якоби А. Н.
Якушкин П. И.




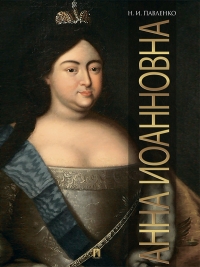
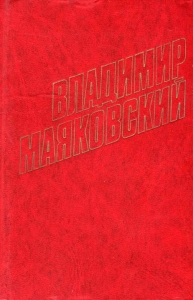
Комментарии к книге «За полвека», Петр Дмитриевич Боборыкин
Всего 0 комментариев